Адам Туз Всемирный потоп. Великая война и переустройство мирового порядка, 1916–1931 годы
Посвящается Эди
Большинство тревожащих вопросов рано или поздно попадают к историку. И они досаждают ему, не переставая тревожить, оттого, что государственные мужи перестали ими заниматься и отложили в сторону, посчитав их практически решенными…Удивительно, как историки, серьезно относящиеся к своему делу, могут спать по ночам.
Вудро Вильсон[1]Летопись завершена. Какое чувство возникает, когда переворачиваешь двухтысячную страницу, написанную г-ном Черчиллем? Благодарности. Восхищения. Может, некоторой зависти к его твердому убеждению в том, что границы, расы, патриотизм и, если надо, даже войны в конечном счете присущи человечеству, что позволяет ему видеть своего рода достоинство и даже благородство в событиях, которые для других представляются лишь кошмарной прелюдией, которой необходимо избегать.
Дж. М. Кейнс. Рецензия на книгу У. Черчилля «Мировой кризис. Последствия»[2]Расчленение Китая, ок. 1911 г.
Территориальные изменения в Европе в результате Первой мировой войны
Благодарности
Настоящая книга вышла в свет после моей совместной работы с Саймоном Уайндером и Клэр Александер. Я признателен им обоим, а также Уэнди Вольфу за то, что они подвигли меня на этот труд. Мои новые агенты в США Эндрю Уайл и Сара Шалфант были свидетелями того, как идет работа над проектом вплоть до его завершения. Зная, что юбилейный 2014 год будет насыщен событиями, Саймон, Марина Кемп, мой выпускающий редактор Ричард Мэйсон, составитель предметного указателя Дейв Крэддок и производственная группа издательства Penguin под руководством Ричарда Дагида приложили все усилия, чтобы «Великий потоп» был издан в кратчайшие сроки. Я глубоко благодарен им за дружелюбие, профессионализм и интерес к этому проекту.
Писать книги нелегко, но бывает, что одни книги даются труднее, чем другие. Эта книга оказалась непростой. Счастливы те, у кого есть готовые оказать помощь друзья и коллеги, и я отношу себя к числу таких счастливчиков. В Англии удача улыбнулась мне в лице таких людей, как Бернард Фулда, Мелисса Лейн, Крис Кларк, Дэйвид Рейнольдс и Дэйвид Элгертон, всегда готовых поддержать беседу или ознакомиться с рукописью. Еще большая удача поджидала меня, когда в 2009 году я переехал в Йельский университет, где не только обрел верных друзей, но и увидел сообщество интеллектуалов.
В любом сообществе действуют многочисленные связи. Прежде всего, я встретил поддержку группы блестящих аспирантов и моих будущих коллег, вдохновлявших меня и дающих мне силы, как этого ни делал никто прежде. Грэй Андерсон, Энер Барзилай, Кейт Брэкни, Кармен Деж, Стефан Ейч, Тед Фертик и Джереми Кесслер создали обстановку, в которой всестороннее обсуждение темы продолжалось непрерывно на протяжении всего времени, начиная с 2009 года. Сила и неусыпная энергия, двигавшие нашей группой, представлялись чем-то необычным. Этот опыт принес мне подлинную радость, и я горжусь им. Мне хотелось бы его продолжить.
В Йельском университете сложилась разнообразная интеллектуальная среда, и второй круг составили мои друзья и коллеги, занимающиеся вопросами мировой истории в Центре изучения проблем международной безопасности (International Security Studies, ISS) который в 2013 году перешел мне по наследству от великого Пола Кеннеди. Директору не обойтись без заместителей. Благодаря Аманде Бем, образцово выполнявшей обязанности заместителя директора ISS, я смог завершить работу над настоящей книгой в 2013 году. Это не значит, что весь ISS держится только за счет двух человек. Среди множества людей, занимающихся в Йельском университете вопросами мировой истории, особенно заметны мои коллеги Патрик Корс и Райен Ирвин, предшественник Аманды на посту заместителя директора ISS, чье влияние на настоящую книгу было особенно значительным.
И наконец, я хочу выразить благодарность коллегам на отделениях истории, политологии, германистики, а также на юридическом факультете за то, что они нашли время, чтобы поделиться со мной своим мнением об отдельных главах настоящей книги, принять участие в обсуждении, разделить со мной моменты вдохновения, просветления и приободрить меня. Благодаря Лауре Энгельстейн я чувствовал себя в Йеле как дома, она также поддержала мои взгляды по истории России. Тим Снайдер, Пол Кеннеди и Джей Уинтер принимали участие в обсуждении первоначального варианта книги. Джулия Адамс на своих семинарах по вопросам переходного периода организовала интереснейшие беседы. Каруна Мантена собрала заинтересованную аудиторию по вопросам, касающимся Индии и либерализма. Энтузиазм Скотта Шапиро и Ооны Хатауэй в вопросах международного права и мирных инициатив в рамках пакта Келлога – Бриана передавался всем. Джон Уитт был образцом дружеского общения ученых во время наших многочисленных встреч за ранним завтраком в кафе «Блю стейт». Беседы с Брюсом Акерманом помогли мне понять то, что я читал о Вильсоне. Пол Норт навел меня на мысль о необходимости осветить позиции реформистов в современной политике. Не могу представить себе более блистательную защитницу этих позиций, чем Шейла Бенхабиб. В ходе работы над книгой меня всегда вдохновляло доброжелательное отношение Яна Шапиро.
Помимо этого, были еще сменявшие друг друга группы студентов Йельского университета, которым я преподавал мировую историю в период между войнами. От них я услышал важные соображения и замечания. В первую очередь я имею в виду Бена Алтера, Коннора Кроуфорда, Бенджамина Даус-Хаберле, Эди Фишмана и Тео Суареса. Все они оставили свой след в тексте книги, в некоторых случаях в буквальном смысле. Ценное содействие в редакторской правке оказали Бен и Тео, а также Нед Дауни, Изабель Марин и мой надежный ассистент в ISS Игорь Бирюков.
Первые тезисы по данному проекту вне ставших мне родными стен Кембриджа и Йеля я представил на легендарном семинаре Ганса-Ульриха Велера в университете Билефельда. Участие в таком форуме было честью для меня. Перед этим я услышал очень полезные комментарии на семинаре по американской истории в Кембридже. В Британии я последний раз представлял свои тезисы на семинаре по истории в Бристольском университете, куда меня пригласил Джеймс Томпсон. Питер Хайс и Дебора Коэн предоставили мне возможность выступить в Северо-Западном университете, а Джефф Элей – на рабочей группе по вопросам фашизма в Нотр-Даме. Удовольствие от участия в семинаре в Йельском университете со мной разделили Чарли Брайт и Майкл Гейер. Незабываемой оказалась дискуссия, организованная в стенах университета Майами Домиником Рейллом и Германом Беком. На конференции по вопросам Великой депрессии, проходившей в Принстоне в начале 2013 года, Барри Эйхенгрин с непередаваемой деликатностью воспринял мои критические замечания по поводу «Золотых оков». И это вдохновило меня еще сильнее. В университете Пенсильвании Джонатан Штейнберг, Дан Рафф и Майкл Бордо придали мне больше уверенности в подходе к вопросу о господстве Америки в период между войнами. Доброжелательную поддержку Джонатана я ощущаю на протяжении всей своей карьеры уже почти 20 лет. Дружба с ним и с Марион Кант очень важна для меня. Гарольд Джеймс и другие участники состоявшегося в 2013 году в Национальном разведывательном совете в Вашингтоне обмена аналитическими данными открыли для меня новый мир обсуждения вопросов американской политики. В ходе семинара по политтехнологиям в период Великой войны 1900–1930 годов, состоявшегося в Центре углубленных исследований (IFK) в Вене, я ознакомился с крайне полезными для себя соображениями Хью Страхана, Джея Винтера и в который раз Майкла Гейера. Особой благодарности заслуживает Джари Элоранта за оказанную в последнюю минуту помощь с данными.
Двадцать два года назад, когда я был аспирантом Лондонской школы экономики, я познакомился с Франческой Карневали. В течение последующих лет мы обменивались друг с другом написанными текстами. Мы были очень близкими друзьями. И разумеется, Франческа была одной из первых, кому я показал черновики настоящей книги. Она и ее неподражаемый муж, Паоло Ди Матино, которого я имею честь считать своим другом и коллегой, дали мне возможность в полной мере оценить присущую им неуемную энергию, гостеприимство и любовь, каждый раз как я оказывался в Бирмингеме. Кончина Франчески стала невосполнимой потерей.
Франческа была устремлена вперед. Она находила умиротворение, занимаясь вопросами нового и грядущего. В 2009 году, встретив в Нью-Хейвене Анни Варек и Йейна Йорка, я заново узнал, что такое дружба. Они оба и их прекрасные сыновья Зев, Малахай и Леви сделали наши отношения необыкновенно теплыми и светлыми.
Бекки Конекин помогла мне на заключительном этапе работы над книгой, а я в свою очередь могу с гордостью сказать, что помог ей, когда она заканчивала свою блестящую работу, посвященную Ли Миллеру. Эта взаимность сопровождает наши отношения на протяжении почти 20 лет совместной жизни. Надеюсь, однажды и она будет гордиться тем, что мы сделали.
Эту книга я посвятил нашей любимой дочери Эди, которая всегда была светом моей жизни.
Нью-Хейвен, ноябрь 2013 годаВведение Всемирный потоп: Передел мирового порядка
В рождественское утро 1915 года Дэвид Ллойд Джордж, в прошлом радикальный либерал, а теперь министр по делам вооружений, предстал перед толпой встревоженных профсоюзных деятелей из Глазго. Он пришел сообщить им о том, что необходимо отправить еще одну партию призывников, и его выступление носило соответствующий моменту мрачный характер. Война, говорил он, ведет к переделу мира. «Это – всемирный потоп, это – конвульсии Природы… несущие с собой неслыханные перемены в социальной и индустриальной материи. Это – ураган, который с корнями выворачивает декоративные растения, окружающие современное общество. Это – землетрясение, переворачивавшее основы жизни в Европе. Это – сейсмическое возмущение из числа тех, вследствие которых страны либо делают бросок вперед, либо откатываются на целые поколения назад»[3]. Четыре месяца спустя его слова эхом отозвались по ту сторону линии фронта в выступлении германского рейхсканцлера Теобальда фон Бетмана-Гольвега. 5 апреля 1916 года, когда кровавая битва при Вердене шла уже шестую неделю, он раскрыл перед депутатами рейхстага суровую правду. Пути назад не было. «История не знает случаев возврата к статус-кво после столь драматических событий»[4]. Жестокость Великой войны изменила мир. К 1918 году в результате Первой мировой войны рухнули старые евразийские империи: Российская империя, империя Габсбургов и Османская империя. Китай был охвачен гражданской войной. К началу 1920-х годов карта Восточной Европы и Ближнего Востока была перекроена. Но эти видимые изменения, при всем их размахе и противоречивости, обретали свое полное значение в связи с другим, более глубоким, но не столь заметным сдвигом.
В результате Великой войны возник новый порядок, который, помимо стычек, происходивших между новыми государствами, и их показного национализма, сулил изменение основ в отношениях между великими державами: Британией, Францией, Италией, Японией, Германией, Россией и Соединенными Штатами. Для того чтобы понять масштаб и значение этого изменения баланса сил, требовалось геостратегическое и историческое воображение. Зарождающийся новый порядок во многом был обусловлен невидимым присутствием главного определяющего элемента – новой мощи Соединенных Штатов. И для тех, кто таким воображением обладал, перспективы этого тектонического сдвига превратились почти в навязчивую идею.
Зимой 1928/29 года, спустя десять лет после окончания Великой войны, каждый из трех современников, обладавших подобным воображением – Уинстон Черчилль, Адольф Гитлер и Лев Троцкий, – имел возможность оглянуться на то, что произошло. В первый день нового, 1929 года Черчилль, занимавший тогда должность министра финансов в правительстве консерваторов, возглавляемого Стэнли Болдуином, нашел время для того, чтобы завершить работу над «Последствиями» – заключительным томом его эпического повествования о Первой мировой войне под названием «Мировой кризис». Для тех, кто знаком с более поздними работами Черчилля, посвященными Второй мировой войне, этот последний том стал сюрпризом. Если после 1945 года Черчилль использовал выражение «вторая Тридцатилетняя война», говоря о продолжающейся войне с Германией как о едином историческом понятии, то в 1929 году он придерживался иного мнения[5]. Черчилль всматривался в будущее не с мрачной отстраненностью, а со значительной долей оптимизма. Казалось, что из беспощадной Великой войны родился новый мировой порядок. Глобальный мир был построен на основе двух великих региональных договоров: Европейском пакте о мире, начало которому было положено в Локарно в октябре 1925 года (подписан в Лондоне в декабре), и на Тихоокеанских договорах, подписанных на Вашингтонской морской конференции зимой 1921/22 года. Это были, как писал Черчилль, «прочные и нерушимые пирамиды-двойники, на которых стоял мир… поддержание которого обеспечивали ведущие страны мира и все их флотилии и армии». Эти соглашения стали основой мира, который так и не был достигнут в Версале в 1919 году. Они позволили заполнить пустоту, остававшуюся после Лиги Наций. «В истории еще надо поискать параллели подобным начинаниям», – отмечал Черчилль. «Надежды, – писал он, – теперь основываются уже на более прочном фундаменте… Ужас перед только что закончившейся войной будет еще долго сохраняться, и в этот благословенный промежуток времени великие нации смогут предпринять дальнейшие шаги к созданию всемирной организации, с полной уверенностью, что предстоящие трудности окажутся не больше тех, какие они уже сумели превозмочь»[6].
Неудивительно, что для взглядов Гитлера и Троцкого на историю, спустя десять лет после окончания войны, были характерны совсем другие выражения. В 1928 году Адольф Гитлер, ветеран войны и незадачливый заговорщик, превратившийся в политика, участвовавший во всеобщих выборах и проигравший их, вел переговоры с издателями о продолжении своей первой книги, Mein Kampf. Во вторую книгу он намеревался включить свои речи и статьи начиная с 1924 года. Но продажи его книги в 1928 году, как и его результаты на выборах, вызывали разочарование, поэтому рукописи Гитлера так и остались неизданными. До нас они дошли в виде «Второй книги» (Zweites Buch)[7]. Лев Троцкий, в свою очередь, располагал достаточным временем для того, чтобы писать и размышлять: проиграв Сталину, он сначала был выслан в Казахстан, а затем, в феврале 1929 года, в Турцию, откуда продолжал комментировать революционные события, принявшие столь катастрофический оборот после смерти Ленина в 1924 году[8]. Черчилль, Троцкий и Гитлер представляют собой несочетаемую, если не сказать антипатическую компанию. Некоторые даже могут счесть провокацией то, что они упоминаются вместе. Конечно, они не были равными ни как писатели, ни как политики, ни как интеллектуалы или носители морали. Но тем более удивительным представляется то, насколько дополняет друг друга видение событий мировой политики конца 1920-х годов каждым из них.
Гитлер и Троцкий видели ту же реальность, что и Черчилль. Они тоже полагали, что Первая мировая война открыла новый этап «организации мира». Но там, где Черчилль воспринимал эту новую реальность как повод для торжества, коммунисту- революционеру, каким был Троцкий, или национал-социалисту, каким был Гитлер, эта реальность сулила по меньшей мере историческое забвение. На первый взгляд, мирные договоренности 1919 года могли казаться развитием логики суверенного самоопределения, сложившейся в европейской истории в конце Средневековья. В XIX веке эта логика привела к возникновению новых национальных государств на Балканах, к объединению Италии и Германии. Теперь, с развалом Османской, Российской и Габсбургской империй, эта логика достигла высшей точки своего развития. Рост числа суверенных государств сопровождался выхолащиванием сущности суверенитета[9]. Великая война привела к бесповоротному ослаблению всех воюющих европейских стран, даже наиболее сильных из них, даже стран- победительниц. В 1919 году Французская республика отмечала свою триумфальную победу над Германией в Версале, во дворце «короля-солнца», но это не могло скрыть того, что Первая мировая война положила конец притязаниям Франции на звание державы мирового масштаба. Менее крупным национальным государствам, возникшим в предыдущем веке, война нанесла еще более серьезную травму. В период 1914–1919 годов Бельгия, Болгария, Румыния, Венгрия и Сербия находились на грани национального исчезновения, по мере того как военная удача оказывалась то на одной, то на другой стороне. В 1900 году кайзер опрометчиво требовал для своей страны места на мировой арене. Двадцать лет спустя Германия была ослаблена настолько, что вступила в спор с Польшей по вопросу о границе в Силезии, а наблюдал за этим спором японский виконт. Германия, скорее всего, превратилась из субъекта в объект Weltpolitik. Италия вступила в войну на стороне победителей, но, несмотря на торжественные заверения союзников, заключение мира лишь подчеркнуло ее ощущение принадлежности к странам второго разряда. Если в Европе и был победитель, то это была Британия, отсюда и радужные оценки Черчилля. Однако Британия господствовала не как европейская держава, а как страна, стоявшая во главе мировой империи. Для современников чувство, что Британская империя закончила войну сравнительно неплохо, лишь подтверждало вывод о том, что эпоха властвования Европы подошла к концу. В век мирового господства политические, военные и экономические позиции Европы безвозвратно отодвигались на периферию[10].
Единственной страной, вышедшей из войны без единой видимой царапины и значительно более могучей, чем прежде, были Соединенные Штаты. На самом деле, превосходство США было настолько подавляющим, что, казалось, вновь вставал вопрос, исключенный из истории Европы в XVII веке. Представляли ли собой США всеобъемлющую, всемирную империю, сходную с той, которую однажды грозили создать католики Габсбурги? Вопрос будет оставаться открытым в течение последующего столетия[11]. К середине 1920-х годов Троцкому казалось, что «балканизированная Европа» оказалась «в том же положении по отношению к Соединенным Штатам», которое однажды в предвоенный период занимали страны Юго-Восточной Европы по отношению к Парижу и Лондону[12]. У них присутствовали внешние атрибуты суверенитета, но сам суверенитет отсутствовал. В 1928 году Гитлер предостерегал, что если политические лидеры Европы не пробудят население своих стран от их обычного «политического безрассудства», то «угроза мирового господства Североамериканского континента» низведет все эти страны до положения Швейцарии или Голландии[13]. Черчилль из Уайт-холла воспринимал эту точку зрения не как спекулятивный взгляд на историю, а как практическую реальность такой власти. Как мы увидим, в 1920-х годах правительство Британии вновь и вновь будет сталкиваться с тем болезненным фактом, что Соединенные Штаты представляют собой силу, не похожую ни на какую другую. Эта сила появилась довольно неожиданно, в виде нового «супергосударства», обладающего правом вето в вопросах финансов и безопасности прочих ведущих стран мира.
Определение географических границ становления нового мирового порядка представляет собой главную задачу настоящей книги. И решение этой задачи требует особого подхода, ведь Америка заявила о своей мощи необычным способом. В начале XX века американское руководство не было склонно считать свою страну военной державой, кроме как на основных океанских маршрутах. Влияние США зачастую было косвенным и носило форму скрытой потенциальной силы, а не ее непосредственного явного присутствия. Но тем не менее это влияние было реальным. Центральная задача настоящей книги – выявление путей, по которым мир в ходе борьбы за формирование нового порядка пришел к тому, чтобы принять новую центральную роль Америки. Эта борьба всегда шла по нескольким направлениям: в экономике, военных вопросах и политике. Она началась непосредственно во время войны и продолжилась после ее окончания в 1920-х годах. Верное понимание этих событий важно для того, чтобы понять истоки «Пакс Американа», продолжающего определять современное положение в мире. Это также важно для понимания масштабов «второй Тридцатилетней войны», на которую Черчилль будет оглядываться уже с 1945 года[14]. Внезапная эскалация насилия 1930-х и 1940-х годов стала проверкой силы, которой, как полагали поднявшие против нее мятеж, они противостояли. Именно этот едва заявивший о себе потенциал грядущего доминирования американской капиталистической демократии стал общим фактором, побудившим Гитлера, Сталина, итальянских фашистов и их японских партнеров к столь решительным действиям. Их враги зачастую были невидимы и неуловимы. Им приписывались заговоры, окутавшие мир зловещей паутиной влияния. Многое выглядело нарочито случайным и беспорядочным. Но если мы хотим понять, каким образом в период Первой мировой войны и после нее были заложены основы крайне жестокой политики периода между войнами, то должны серьезно отнестись к этой диалектике порядка и мятежа. Наше понимание таких движений, как фашизм или советский коммунизм, будет далеко неполным, если мы попытаемся свести их к понятным обычным проявлениям расизма и империализма в современной европейской истории или будем рассматривать их в ретроспективе, начиная с невероятного периода 1940–1942 годов, когда они победоносно маршировали по Европе и Азии и казалось, что будущее принадлежит им. Все вожди национал-социалистической Германии, империалистической Японии и Советского Союза, как бы ни пытались утешить себя доморощенными фантазиями их последователи, считали себя мятежниками, решительно восставшими против мощного деспотического мирового порядка. При всем их бахвальстве в 1930-е годы они считали, что западные державы не слабы, а ленивы и лицемерны. За показной моралью и панглоссианизмом западных держав скрывалась жесткая сила, позволившая сокрушить Германскую империю и грозившая сохранить такое положение навсегда. Для того чтобы предотвратить столь ужасный конец, требовались невероятные усилия, которые в свою очередь требовали особого риска[15]. Мятежники извлекли чудовищный урок из событий мировой политики в период с 1916 по 1931 год, о которых и пойдет речь в настоящей книге.
I
Какие главные элементы лежали в основе нового порядка, который был столь ужасен в глазах его потенциальных врагов? Принято считать, что новый порядок имел три аспекта: моральный авторитет, военная мощь, на которую он опирался, и экономическое превосходство.
В глазах многих ее участников Великая война началась как столкновение империй, как классическая война великих держав, а завершилась событием, несущим значительно больший моральный и политический заряд, – триумфальной победой коалиции, провозгласившей себя лидером нового мирового порядка[16]. Возглавляемая американским президентом «война за то, чтобы положить конец всем войнам» была доведена до победного конца для поддержания верховенства международного права и низвержения авторитаризма и милитаризма. По замечанию одного японского наблюдателя, «капитуляция Германии бросила вызов самим основам милитаризма и бюрократии. Естественным следствием стала политика, отвечающая интересам народа, отражающая волю народа, а именно – демократии (minponshugi), мысли о которой, подобно стремлению в рай, охватили весь мир»[17]. Образ, выбранный Черчиллем в качестве характеристики нового порядка – «пирамиды-близнецы мира, возвышающиеся твердо и непоколебимо», – говорит сам за себя. Пирамиды – это не что иное, как величественные памятники слияния духовной и материальной силы. Для Черчилля они являли яркую аналогию с тем, сколь грандиозным в глазах современников представлялся проект цивилизованного переустройства мировой власти. Характерно, что Троцкий описывал картину в гораздо менее возвышенных тонах. Если верно то, что внутренняя политика и международные отношения впредь не могут существовать раздельно, то, считал он, их можно свести к единой логике. Вся «политическая жизнь», даже таких стран, как Франция, Италия и Германия, вплоть до «смены партий и правительств будет определяться в последнем счете волей американского капитала…»[18] С присущим ему сарказмом Троцкий говорит не о торжественном величии пирамид, а о нелепом спектакле, в котором чикагские мясозаготовщики, провинциальные сенаторы и производители сгущенного молока читают лекции французскому премьер-министру, британскому министру иностранных дел или итальянскому диктатору о благах разоружения и мира во всем мире. Это были неотесанные предвестники американского стремления к «мировому господству», со своими интернационалистскими идеалами мира, прогресса и прибыли[19].
Но при всей нелепости форм ставки на морализацию и политизацию международных отношений были чрезвычайно высокими. Со времен религиозных войн XVII столетия общепринятой в международной политике и международном праве стала глухая стена между внешней и внутренней политикой. Общепринятые нормы морали и толкование законов отдельно взятой страной считались неуместными в дипломатии и войнах великих держав. Разрушая эту стену, архитекторы новой «мировой организации» вполне осознанно играли роль революционеров. На деле, к 1917 году их революционные цели становились все более очевидными. Смена режима превратилась в одно из предварительных условий переговоров о перемирии. В Версале вина за развязывание войны была возложена на кайзера, которого объявили преступником. Вудро Вильсон и страны Антанты вынесли смертный приговор Османской империи и империи Габсбургов. К концу 1920-х годов, как мы увидим, «агрессивная» война была объявлена вне закона.
Но какими бы привлекательными ни казались эти либеральные заповеди, в них поднимались фундаментальные вопросы. Что давало странам-победительницам право подобным образом низвергать закон? Разве право заключается в силе? В чем состоял исторический смысл сделанных ими ставок? Возможно ли на основе подобных претензий формировать долгосрочную основу мирового порядка? Мысль о возможной войне ужасна, но означало ли заявление об установлении прочного мира твердое обязательство сохранения статус-кво, независимо от его легитимности? Черчилль мог себе позволить быть оптимистом. Его страна на протяжении длительного времени входила в число наиболее успешных предпринимателей, орудовавших на ниве морали и законности. Но что, если (как один немецкий историк сформулировал в 1920-х годах) какая-то страна оказывалась в числе бесправных, в числе нижних сословий нового порядка, подобно феллахам, оказавшимся посреди пирамид мира?[20]
Подлинных консерваторов мог устроить только перевод часов назад. Они требовали развернуть поезд либерального морализаторского обустройства мира и вернуть международные отношения к идеальному образу европейского публичного права (Jus Publicum Europaeum), в котором европейские суверены жили бы одной семьей в условиях неподсудной и лишенной иерархической подчиненности анархии[21]. Но это был не просто исторический миф, имевший мало общего с реалиями мировой политики в XVIII и XIX столетиях. В нем игнорировалось то, о чем в своем послании рейхстагу весной 1916 года говорил Бетман-Гольвег. После этой войны пути назад не было[22]. Имевшиеся альтернативные варианты были еще жестче. Первый из них состоял в конформизме нового типа. Второй – в мятеже, на который сразу после войны решился Бенито Муссолини. Создав в марте 1919 года в Милане фашистскую партию, он назвал зарождающийся новый порядок «мошенничеством напыщенных богатеев», подразумевая Британию, Францию и Америку, направленным «против пролетарских наций», под которыми он имел в виду Италию, и имевшим целью «закрепить навсегда существующее в мире равновесие…»[23] Вместо возврата к некоему воображаемому ancien régime (старому режиму), он обещал дальнейшую эскалацию. За всей этой неприглядной политизацией международных отношений скрывался все тот же неразрешимый конфликт ценностей, который породил смертельную жестокость религиозных войн XVII столетия и революционной борьбы конца XVIII века. Ужасы Первой мировой войны должны были привести либо к прочному миру, либо к еще более радикальной жестокой войне.
И хотя опасность подобной конфронтации была очевидной, степень риска зависела не только от поднявшейся волны протеста и восставших друг против друга идеологий. В конечном счете риск, связанный с поисками путей установления и поддержания нового мирового порядка, определялся тем, в какой степени приемлемым окажется предлагаемый моральный порядок для того, чтобы получить всеобщую поддержку, зависящую как от достоинств самого этого порядка, так и от силы, необходимой для его сохранения. После 1945 года в период холодной войны между США и СССР мир воочию увидит логику конфронтации, доведенной до крайней степени. Две международные коалиции, руководствовавшиеся антагонистическими идеологиями, обладали огромным арсеналом ядерного оружия и грозили человечеству гарантированным взаимным уничтожением. Многие историки желают видеть в событиях 1918–1919 годов, когда Вильсон противостоял Ленину, прообраз холодной войны. Даже при кажущейся правомерности подобной аналогии она не соответствует действительности, хотя бы потому, что в 1919 году еще не существовало ничего похожего на симметрию, сложившуюся в 1945 году[24]. К ноябрю 1918 года на колени была поставлена не только Германия, но и Россия. Баланс мировой политики в 1919 году напоминал однополярный мир 1989 года в значительно большей степени, чем разделенный мир 1945 года. Если идея переустройства мирового порядка вокруг одного центра силы и общего набора либеральных «западных» ценностей представлялась радикальным историческим изменением, то это именно она стала причиной того, что результаты Первой мировой войны оказались столь драматичными.
Поражение 1918 года было тем более горьким для Центральных держав, что, как мы увидим, в ходе Первой мировой войны военная инициатива неоднократно переходила от одной стороны к другой. Благодаря превосходной штабной работе кайзеровским генералам нередко удавалось добиться превосходства на отдельных направлениях и угрожать прорывами: в 1915 году в Польше, при Вердене в 1916 году, на итальянском фронте осенью 1917 года, на Восточном фронте уже весной 1918 года. Но эти драматические события на полях сражений не должны отвлекать нас от скрытой за ними логики войны. Центральные державы имели действительное превосходство лишь по отношению к России. Развитие событий на Западном фронте в период с 1914 года и до лета 1918 года было удручающим. Это можно объяснить одним главным фактором: соотношением имевшимися в распоряжении сторон военной техники и снаряжения. С лета 1916 года начались огромные поставки из-за океана, что позволяло британской армии удерживать европейские поля сражений, и требовалось лишь время для того, чтобы Центральные державы утратили свое превосходство на любом из направлений. Это была борьба на истощение. Сопротивление продолжалось вплоть до последних дней ноября 1918 года, однако провал был почти повсеместным. Когда великие державы собрались в Версале на первой такого рода международной ассамблее, Германия и ее союзники были повержены. В последующие месяцы их армии, некогда вызывавшие чувство гордости, были расформированы. Франция и ее союзники в Центральной и Восточной Европе хозяйничали на европейской сцене. Но это было, как хорошо понимали французы, лишь началом. В ноябре 1921 года, в 3-ю годовщину прекращения огня, члены закрытого клуба руководителей стран впервые собрались в Вашингтоне, чтобы принять новый мировой порядок, который Америка изложила с небывалой ясностью. На Вашингтонской морской конференции сила измерялась в боевых кораблях, которые, по насмешливому выражению Троцкого, распределялись «по карточкам»[25]. Не было уже ни двусмысленности, наблюдавшейся в Версале, ни туманных фраз, содержащихся в Уставе Лиги Наций. Распределение геостратегических сил выглядело как соотношение 10:10:6:3:3. Список возглавляли Британия и США, получившие равный статус, как единственные истинно мировые державы, присутствующие в открытых водах. На третьем месте находилась Япония, которой дозволялось действовать лишь в одном, Тихом, океане. Франция и Италия ограничивались прибрежными водами Атлантического океана и Средиземным морем. Ни одна страна, кроме этих пяти, в балансе учтена не была. Германия и Россия даже не рассматривались в качестве участников конференции. Казалось, в этом и состоял окончательный результат Первой мировой войны: всеобъемлющий мировой порядок, при котором стратегические силы распределялись строже, чем сегодня ядерные вооружения. Этот переворот в международных отношениях, отмечал Троцкий, был аналогичным тому, который произвел Коперник, переписавший космологию Средневековья[26].
Вашингтонская морская конференция наглядно продемонстрировала силу, готовую обеспечить поддержание нового мирового порядка, но уже в 1921 году были сомневающиеся в том, смогут ли «замки из стали» эпохи боевых кораблей представлять собой оружие в будущем. Подобные аргументы, однако, оставались без внимания. Боевые корабли, независимо от их боевых качеств, были самыми дорогостоящими и технологически сложными инструментами мирового господства. Лишь наиболее богатые страны могли позволить себе обладать военно-морскими флотилиями и использовать их. Америка даже не стала строить всех положенных ей по квоте кораблей. Было достаточно того, что все понимали, что она в состоянии это сделать. Мощь Америки определяла экономика, а военная сила была лишь побочным продуктом. Троцкий не только признавал это, но и с удовольствием дал такому положению качественную оценку. В эпоху острой мировой конкуренции темное искусство сравнительного измерения экономик было распространенным занятием. В 1872 году, считал Троцкий, национальные состояния США, Великобритании, Германии и Франции были примерно равны, при этом каждая из стран располагала 30–40 млрд долларов. Спустя 50 лет стал очевидным огромный разрыв. Послевоенная Германия была доведена до нищеты и, по мнению Троцкого, стала беднее, чем была в 1872 году. Напротив, «Франция примерно вдвое богаче (68 млрд), Англия также (около 89 млрд), а национальное достояние Соединенных Штатов скромно оценивается сейчас в 320 млрд долларов»[27]. Эти цифры были умозрительными. Но никто не оспаривал того, что к ноябрю 1921 года, когда проходила Вашингтонская морская конференция, задолженность британского правительства перед американскими налогоплательщиками составляла 4,5 млрд долларов, Франция была должна Америке 3,5 млрд долларов, а Италия – 1,8 млрд долларов. Платежный баланс Японии серьезно ухудшался, и Япония с нетерпением ожидала поддержки от Дж. П. Моргана. В то же время 10 млн граждан Советского Союза оставались живы благодаря помощи голодающим, поступающей из США. Никогда еще ни одной другой стране не удавалось достичь подобного глобального экономического превосходства.
Рис. 1. Валовый внутренний продукт империй (паритет покупательной способности, в долларах 1990 г.)
Если обратиться к современным статистическим данным для построения графика развития мировой экономики начиная с XIX века, то станет вполне очевидным, что ход развития можно разделить на две части (рис. 1)[28]. С начала XIX века Британская империя представляла собой крупнейшую экономику мира. В 1916 году, когда состоялись битвы при Вердене и на Сомме, США обогнали Британскую империю по общему объему выпущенной продукции. С тех пор и до начала XXI века мощь американской экономики считалась решающим фактором формирования мирового порядка.
Всегда существовал соблазн, особенно у британских авторов, считать XIX и XX столетия периодом передачи по наследству США британского господства[29]. Это лестно для Британии, но не соответствует действительности, так как наследование предполагает преемственность проблем мирового порядка и средств их разрешения. Проблемы мирового порядка, возникшие в результате Первой мировой войной, не имели ничего общего с проблемами, решением которых прежде занимались британцы, американцы или кто-либо еще. Но есть и другой момент: американская экономическая мощь количественно и качественно отличалась от того, чем когда-либо располагала Британия.
Британское экономическое превосходство разворачивалось внутри «мировой системы», созданной Британской империей, раскинувшейся от Карибского бассейна до Тихого океана, оно росло благодаря свободной торговле, миграции и экспорту капитала на просторах «неформального» пространства[30]. Британская империя создала матрицу для развития экономики всех остальных стран, которая позволила раздвинуть границы глобализации в конце XIX века. Появление крупных стран-конкурентов привело к тому, что некоторые из ученых-приверженцев империи и сторонников «Великой Британии» стали выступать за превращение этого разнородного конгломерата в единый замкнутый экономический блок[31]. Но благодаря устоявшейся британской традиции свободной торговли преференциальный имперский тариф был установлен лишь в разгар Великой депрессии. США, а не Британская империя располагали всем, к чему стремились ярые сторонники имперских преференций. США складывались как совокупность разнородных колониальных поселений, которая в начале XIX века превратилась в экспансионистскую хорошо объединенную империю. В отличие от Британской империи Американская республика стремилась включить в состав федерации новые южные и западные территории. В условиях изначально существовавших в XVIII веке расхождений между свободным Севером и рабовладельческим Югом этот интеграционный процесс был чреват опасностями. В 1861 году, не дожив до своего столетия, стремительно развивавшаяся американская государственность рассыпалась в результате ужасной гражданской войны. Спустя четыре года Союз был сохранен, однако цена этого, если учитывать пропорции, была не менее ужасной, чем та, которую заплатили основные воюющие стороны в Первой мировой войне. Немногим больше чем 50 лет спустя, в 1914 году, американский политический класс состоял из людей, переживших в детстве ужасы этой кровопролитной войны. Понять ставки в мирной политике администрации Вудро Вильсона можно, лишь осознав, что 28-й президент США возглавлял первый кабинет демократов-южан, который взял на себя управление страной со времен Гражданской войны. Свое восхождение они воспринимали как подтверждение примирения белой Америки и воссоздания американского национального государства[32]. Заплатив кошмарную цену, Америка превратилась в нечто, не имевшее аналогов. Она уже не была хищнически продвигающейся на запад империей. Но она не стала и неоклассическим идеалом «города на холме» Томаса Джефферсона. Это было нечто, считавшееся невозможным по меркам классической политической теории, – единая федеральная республика континентального масштаба, национальное государство огромного размера. Между 1865 и 1914 годами, получая прибыль от рынков, транспорта и сетей связи британской мировой системы, экономика США росла быстрее любой другой экономики за всю предшествовавшую историю. Занимая выгодные позиции на побережье двух величайших океанов, страна обладала уникальными притязаниями и возможностями оказывать влияние в глобальном масштабе. Называть ее преемницей британского господства означает согласиться с теми, кто в 1908 году упорно называл «Модель Т» Генри Форда «безлошадной повозкой». Этот ярлык был не столько ошибочным, сколько безнадежно устаревшим. Это была не преемственность. Это была смена парадигмы, совпавшая с принятием Соединенными Штатами отличной от других концепции мирового порядка.
В этой книге многое будет сказано о Вудро Вильсоне и его преемниках. Но самая основная мысль формулируется просто. Стратегия Соединенных Штатов, которые сформировались как национальное государство, получившее выход на мировую арену в процессе экспансии, имевшей наступательный континентальный размах, но сумевшее избежать конфликта с другими ведущими державами, отличалась и от стратегии старых держав, таких как Британия и Франция, и от стратеги недавно возникших новых конкурентов, таких как Германия, Япония и Италия. Появившись на мировой арене в конце XIX века, Америка быстро осознала свою заинтересованность в прекращении напряженного мирового соперничества, которое начиная с 1870-х годов определяло новый век мирового империализма. Правда, в 1898 году американский политический класс предпринял набег, совершив заморское вторжение в ходе испано-американской войны. Но после столкновения с реалиями имперского правления на Филиппинах энтузиазм быстро исчез, и на смену ему пришла более основательная стратегическая логика. Америка не могла оставаться оторванной от живущего в XX столетии мира. Построение крупного флота станет принципиальной основой американской военной стратегии вплоть до создания стратегических военно-воздушных сил. Америка будет следить за тем, чтобы ее соседи в Карибском бассейне и в Центральной Америке «вели себя правильно», а доктрина Монро, исключающая вторжение в Западное полушарие извне, выполнялась. Другие державы не допускались. Америка будет создавать базы и промежуточные пункты, позволяющие ей демонстрировать свою силу. Но без одного Америка может прекрасно обойтись, а именно без разносортных беспокойных колониальных владений. В этой простой, но важной позиции и состояло основное отличие континентальных Соединенных Штатов от так называемого либерального империализма Британии[33].
Истинная логика американской мощи была сформулирована между 1899 и 1902 годами в трех «Записках», в которых госсекретарь Джон Хэй впервые дал общее определение так называемой политики открытых дверей. В качестве основы нового мирового порядка в этих «Записках» предлагался один внешне простой, но далеко идущий принцип: равенство возможностей доступа к товарам и капиталу[34]. Здесь важно понять, чем это не являлось. Политика открытых дверей не призывала к свободе торговли. Среди крупных экономик американская носила наиболее протекционистский характер. США не выступали за конкуренцию ради конкуренции как таковой. Втайне ожидалось, что после открытия дверей американские экспортеры и банкиры оттеснят всех своих соперников. В конечном счете политика открытых дверей должна была подорвать исключительность европейских имперских владений. Но США не были заинтересованы в нарушении имперской расовой иерархии или глобального цветного барьера. Торговли и инвестиции требовали порядка, а не революций. На что определенно была направлена американская стратегия, так это на подавление империализма, под которым понималось не колониальное продвижение продукции, не расовое господство белого человека над людьми с другим цветом кожи, а эгоистичное и жесткое противостояние Франции, Британии, Германии, Италии, России и Японии, которое несло угрозу разделения единого мира на отдельные сферы интересов.
Война сделала бы президента Вудро Вильсона знаменитостью мирового значения, его провозгласили бы великим первопроходцем и пророком либерального интернационализма. Но основными элементами его программы были предсказуемые дополнения логики политики открытых дверей, обеспечивающей мощь Америки. Вильсон стремился к роли мирового арбитра, обеспечению свободы морей и ликвидации дискриминации в торговой политике. Он хотел, чтобы Лига Наций положила конец соперничеству империй. Это была антивоенная, постимпериалистическая повестка дня страны, убежденной в том, что она находится в шаге от мирового влияния, которое достижимо применением мягкой силы – экономики и идеологии[35]. Осталось недооцененным, однако, то, насколько далеко был готов пойти Вильсон, чтобы продвигать вопрос обеспечения американского господства в противовес всем оттенкам европейского и японского империализма. Как будет показано в начале настоящей книги, когда Вильсон в 1916 году вел Америку к передовым рубежам мировой политики, его задача состояла не в том, чтобы в Первой мировой войне победила «нужная» сторона, а в том, чтобы не победила ни одна из сторон. Он отказался от каких-либо открытых связей с Антантой и делал все от него зависящее, чтобы противостоять эскалации войны, к которой стремились Лондон и Париж и которая, как они надеялись, должна была привести Америку на их сторону. Лишь мир без победы – цель, которую он провозгласил в своей беспрецедентной речи в Сенате в январе 1917 года, – мог обеспечить США положение действительно непререкаемого арбитра в международных делах. В настоящей книге утверждается, что, несмотря на провал этой политики уже весной 1917 года и на то, что Америка при всем ее нежелании была втянута в Первую мировую войну, эта цель оставалась основной для Вильсона и его преемников вплоть до 1930-х годов. И именно в этом ключ к ответу на следующий вопрос. Если США стремились к тому, чтобы создать мир открытых дверей, имея в своем распоряжении огромные ресурсы для достижения этой цели, то почему развитие событий пошло совсем по другому руслу?
II
Этот вопрос крушения либерализма является классическим вопросом историографии периода между войнами[36]. В настоящей книге утверждается, что этот вопрос обретает совершенно иное звучание, если начать с оценки того, насколько значительным было превосходство возглавляемых Британией и США победителей в Первой мировой войне. Учитывая события 1930-х годов, об этом очень легко забыть. А ведь очевидный ответ на этот вопрос, данный пропагандистами доктрины Вильсона, говорил об обратном[37]. Они предвидели провал Версальской мирной конференции еще до того, как она состоялась. Они говорили о Вильсоне, своем герое, в самых трагических тонах, тщетно пытаясь показать его непричастность к махинациям Старого Света. Неотъемлемой частью этой сюжетной линии была демонстрация отличия американского пророка либерального будущего от коррумпированного Старого Света, к которому он обратился со своим посланием[38]. В конце концов Вильсон поддался силам этого Старого Света, возглавляемого империалистами Британии и Франции. Результатом стало заключение «плохого» мира, который в свою очередь вызвал осуждение Сената США и значительной части общественности не только в Америке, но и во всех англоговорящих странах[39]. Дальше было еще хуже. Арьергардные действия, предпринятые силами старого порядка, не просто преградили путь реформам. Они распахнули двери перед еще более кровожадными демонами от политики[40]. Европа разрывалась между революцией и жестокой контрреволюцией, когда Вильсон обнаружил, что в предзнаменовании холодной войны он противостоит Ленину. Коммунисты всех оттенков представляли собой крайне правые силы. Сначала в Италии, затем по всему континенту и в наиболее смертельно опасной форме в Германии на первый план выдвигался фашизм. Жестокое, все в большей степени приобретавшее расовый и антисемитский оттенок развитие кризиса 1917–1921 годов навязчиво предвещало еще больший кошмар 1940-х годов. Старому Свету некого винить за эту катастрофу, кроме самого себя. Европа, верным учеником которой оказалась Япония, действительно была «темным континентом»[41].
Эта сюжетная линия наполнена особым драматизмом и породила заметное количество исторической литературы. Но помимо пользы для историографии она важна и как источник информации об аргументах, звучащих из-за океана и имеющих отношение к политическим решениям периода, начавшегося на смене веков. Мы увидим, что позиции администрации Вильсона и его преемников-республиканцев, вплоть до Герберта Гувера, во многом определялись именно таким пониманием истории Европы и Японии[42]. Такой критический подход устраивал не только американцев, но и многих европейцев. Вильсон предложил аргументы, которые радикальные либералы, социалисты и социал-демократы в Британии, Франции, Италии и Японии могли использовать против политических оппонентов в своих странах. Именно во время Первой мировой войны и после ее окончания Европа открыла для себя новое понимание собственной «отсталости», увидев ее в зеркале американской мощи и пропаганды, и это понимание лишь усилилось после 1945 года[43]. Но сам факт того, что эта концепция «темного континента», яростно сопротивлявшегося силам прогресса, действительно имела историческое влияние, несет в себе риск для историков. Бесславный провал принципов Вильсона имел долгосрочные последствия. Созданная Вильсоном конструкция исторического периода между двумя войнами оставила след в столь многочисленных источниках, что требуются сознательные и последовательные усилия, чтобы держаться от них подальше. Вот почему столь важны коррективы, содержащиеся в свидетельствах участников столь разнородного трио, с которых мы начали, – Черчилля, Гитлера и Троцкого. Их взгляды на последствия войны очень во многом различны. Они были убеждены, что в международных отношениях произошли фундаментальные перемены. Они также сходились в том, что условия этого перехода диктовали Соединенные Штаты, а Британия с готовностью способствовала этому. Если за кулисами и действовала диалектика радикализации, способная открыть двери истории мятежникам-экстремистам, то в 1929 году ни Троцкий, ни Гитлер ничего о ней не знали. Для того чтобы лавина мятежа тронулась с места, потребовался второй острейший кризис – Великая депрессия. Именно понимание того, что они столкнулись с могучими оппонентами, привело в движение жестокую смертоносную энергию, которую получившие свой шанс экстремисты направили против послевоенного мироустройства.
Это подводит нас к другому распространенному объяснению катастрофы, произошедшей в период между войнами, состоящему в кризисе теории гегемонистской стабильности[44]. И это объяснение начинается с того же, с чего начали мы, а именно с сокрушительной победы Антанты и США в Первой мировой войне. Но вопрос ставится не о том, почему США встретили сопротивление на основном направлении, а о том, почему победители, получившие столь значительный перевес в силах в результате Великой войны, не достигли своих целей. В конце концов, их преимущество не было воображаемым, а победа в 1918 году не была случайной. В 1945 году подобная коалиция сил добьется еще более полного разгрома Италии, Германии и Японии. Более того, после 1945 года США приступят к созданию очень успешного политического и экономического порядка[45]. Что пошло не так после 1918 года? Почему политика США в Версале оказалась бесплодной? Почему мировая экономика рухнула в 1929 году? Помня, чем начинается настоящая книга, мы не можем уйти от этих вопросов, а они продолжают звучать и сегодня. Почему «Запад», имея на руках выигрышную комбинацию, не сыграл лучше? Куда делась способность управлять и руководить?[46] С учетом подъема Китая эти вопросы обретают очевидную значимость. Проблема состоит в выборе правильного стандарта, в соответствии с которым можно судить о данном провале и искать убедительные объяснения того, почему богатым и могущественным демократиям так серьезно не хватает воли и рассудительности.
Цель настоящей книги состоит в том, чтобы найти синтез объяснений, предлагаемых двумя школами: школой «темного континента» и противостоящей ей школой «краха либеральной гегемонии». Но такой синтез не означает попытки смешать и совместить элементы, представленные с обеих сторон. Вместо этого в настоящей книге делается попытка открыть эти две основные школы исторической аргументации для третьего вопроса, который позволит выявить общее для них белое пятно. В исторических схемах, предлагаемых моделями и «темного континента», и «краха гегемонии», существует тенденция вуалировать радикальное изменение положения, с которым столкнулись мировые лидеры в начале XX столетия[47]. Это белое пятно заложено в примитивной схеме «Новый Свет – Старый Свет» школы «темного континента». В ней «внешним силам» приписываются новизна, открытость и прогресс, будь это США или революционный Советский Союз. При этом деструктивная сила империализма невнятно идентифицируется со Старым Светом или с ancien régime, с эпохой, которая в ряде случаев прослеживается вплоть до времен абсолютизма, а то и еще дальше – до глубин кровопролитной истории Европы и Восточной Азии. Таким образом, катастрофы XX века объясняются отсылкой к мертвому грузу прошлого. В модели «краха гегемонии» кризис периода между войнами объясняется иначе. Но это объяснение имеет еще больший исторический размах и еще меньше заинтересовано в признании того, что начало XX века могло действительно стать по-настоящему новой эрой. Наиболее убедительная версия этого аргумента состоит в том, что экономика капиталистического мира начиная со своего зарождения в 1500-х годах зависела от центральной стабилизирующей силы, будь то города-государства в Италии, монархия Габсбургов, Голландская республика или Викторианский королевский флот. Периоды передачи власти между этими господствующими силами обычно совпадали с периодами кризисов. Кризис, разразившийся в период между войнами, оказался просто последним по времени разрывом, образовавшимся в период, когда на смену британскому господству пришло господство США.
Но ни одна из этих концепций не в состоянии объяснить беспрецедентный темп, размах и жесткость изменений, происходивших в международных делах в период с конца XIX столетия. Как быстро поняли современники, значительная конкуренция в «мировой политике», развернувшаяся между великими державами в конце XIX века, не представляла собой стабильную давно устоявшуюся систему[48]. Она не была узаконена ни традициями династий, ни присущей ей «естественной» стабильностью. Эта конкуренция носила взрывоопасный, угрожающий, всепоглощающий и истощающий характер, и к 1914 году она существовала всего лишь несколько десятилетий[49]. Термин «империализм» не принадлежал к лексикону находящегося в почтенном возрасте, но коррумпированного ancien régime, а был неологизмом, получившим широкое распространение лишь около 1900 года. В нем крылись новые перспективы нового явления – перекройки политической структуры всего мира в условиях неограниченной военной, экономической, политической и культурной конкуренции. Таким образом, модели «темного континента» и «краха гегемонии» построены на ошибочных допущениях. Современный глобальный империализм представлял собой новую радикальную силу и не был пережитком старого мира. По тому же отличительному признаку беспрецедентной представлялась проблема установления мирового господства «после империализма». Масштабы проблемы мирового порядка в ее современной форме сначала проявились в Британии в последние десятилетия XIX века, когда обширная имперская система встретилась с вызовами в сердце Европы, в Средиземноморье, на Ближнем Востоке, Индийском субконтиненте, огромных просторах России, Центральной и Восточной Азии. Британия связала эти регионы в глобальную систему и тем самым синхронизировала происходящие в них кризисы. Британии не удавалось успешно действовать в сложившейся ситуации, и она была вынуждена прибегнуть к ряду стратегических импровизаций. Чувствуя угрозу растущего влияния Германии и Японии, Британия оставила свои заокеанские владения и сосредоточилась на достижении лучшего взаимопонимания в европейских и азиатских вопросах с Францией, Россией и Японией. Возглавляемая Британией Антанта в конце концов добилась бы победы в Первой мировой войне, но лишь при условии дальнейшего усиления и распространения ее стратегической вовлеченности в мировые события через глобальные связи Британской и Французской империй и расположенных на противоположных берегах Атлантики Соединенных Штатов. Таким образом, война привела к возникновению не встречавшейся ранее проблемы мирового экономического и политического порядка, при этом исторической модели мирового господства, которая могла бы способствовать решению этой проблемы, не существовало. Начиная с 1916 года британцы сами предпринимали попытки интервенции, координации и стабилизации, чего никогда не позволили бы себе в период расцвета Викторианской империи. Еще никогда история Британской империи не была столь тесно взаимосвязана с мировой историей, что волей-неволей привело к сохранению этого хитросплетения и в послевоенный период. Как мы увидим, несмотря на ограниченность имеющихся ресурсов, правительство Ллойда Джорджа в послевоенные годы выступало в довольно необычной для него роли стержня европейских финансов и дипломатии. И это тоже стало причиной его падения. Череда кризисов, достигшая высшей точки в 1923 году, положила конец карьере Ллойда Джорджа как премьер-министра и показала всем ограниченность британского господства. Была только одна сила, если таковая существовала вообще, которая могла взять на себя эту роль – новую роль, за которую еще ни одна страна не пыталась всерьез взяться, – Соединенные Штаты.
В поездку по Европе в декабре 1918 года президент Вильсон взял с собой команду географов, историков, политологов и экономистов, которые должны были представить ему вразумительную новую карту мира[50]. Ведущие державы были охвачены волной беспорядков, вызванных войной. Война привела к тому, что на просторах всей Евразии царил небывалый вакуум. Из многовековых империй выжили лишь Китай и Россия. Первым оправилось Советское государство. Но соблазн толковать «сдержанность» в отношениях, существовавшую между Вильсоном и Лениным в 1918 году, как прелюдию холодной войны представляет собой еще один пример отказа от того, чтобы признать исключительным положение, сложившееся в результате войны. Конечно, после 1918 года угроза большевистской революции занимала умы консерваторов всего мира. Но это был страх гражданской войны и анархических беспорядков, и во многом это была воображаемая опасность. Ее никоим образом нельзя сравнить с внушающим страх военным присутствием сталинской Красной армии в 1945 году или даже со стратегическим значением царской России до 1914 года. Ленинский режим выжил в революции, пережил поражение от Германии и Гражданскую войну, но находился на грани краха. На протяжении 1920-х годов коммунизм действовал с позиций обороны. Спорным остается вопрос о паритете сил США и СССР даже в 1945 году. Если взглянуть на предыдущее поколение, то отношение к Вильсону и Ленину как к равным свидетельствует о неспособности осознать одну из действительно определяющих особенностей ситуации – обвальное падение мощи России. В 1920 году Россия была столь ослаблена, что Польская республика, которой тогда не исполнилось и двух лет, решила, что настало время для вторжения. Красная армия оказалась достаточно сильна для того, чтобы противостоять этой угрозе. Но когда Советы двинулись в западном направлении, то потерпели сокрушительное поражение в окрестностях Варшавы. Отличие от эпохи пакта между Гитлером и Сталиным и от периода холодной войны совершенно очевидно.
В условиях поразительного вакуума власти в Евразии, от Пекина до Балтии, вряд ли было удивительным, что наиболее агрессивно настроенные представители интересов империализма в Японии, Германии, Британии и Италии почувствовали ниспосланную свыше возможность для расширения своих территориальных владений. Не сдерживаемые ничем устремления самых ярых империалистов, входящих в состав правительств Ллойда Джорджа, генерала Людендорфа в Германии или Гото Симпея в Японии, дают обширный материал для сюжета, отвечающего модели «темного континента». Но при всей очевидной жесткости их воззрений мы должны внимательно отнестись к нюансам их разговоров о войне. Такой человек, как Людендорф, не питал иллюзий насчет того, что его великая концепция общего передела Евразии была проявлением традиционного искусства государственного управления[51]. Он оправдывал масштаб своих устремлений именно тем, что мир вступал в новую радикальную фазу, в последнюю или предпоследнюю стадию окончательной глобальной борьбы за власть. Подобные ему люди не были выразителями идей ancien régime. Они зачастую весьма критически относились к традиционалистам, которые во имя сохранения баланса и законности не решались использовать исторические возможности. Не будучи выразителями идей старого мира, наиболее ярые противники нового либерального мирового порядка сами были новаторами-футуристами. При этом они не были реалистами. Общепринятое различие между идеалистами и реалистами представляется слишком большой уступкой оппонентам Вильсона. Может, Вильсон и был оскорблен, но и империалисты оказались застигнутыми врасплох. Уже в ходе войны проблемы, присущие любой действительно помпезной программе экспансии, оказались более чем очевидны. Как мы увидим, уже через несколько недель после ратификации в марте 1918 года Брест-Литовского договора о заключении окончательного империалистического мира он был отвергнут теми, кто его создал, когда они обнаружили, что пытаются преодолеть противоречия своей собственной политики. Японские империалисты исходили бессильной злобой из-за отказа своего правительства принять решительные меры для подчинения всего Китая. Наиболее успешными империалистами были британцы, чья основная зона экспансии находилась на Ближнем Востоке. Но это и правда было исключением, подтверждающим правило. В разгар противостояния британских и французских империалистов во всем регионе царил хаос. Первая мировая война и ее последствия превратили Ближний Восток в источник постоянных волнений, которым он остается до нашего времени[52]. На более надежной оси правления Британской империи в таких белых доминионах, как Ирландия и Индия, основная политическая линия состояла в отступлении, предоставлении автономии и самоуправления. Эта линия проводилась непоследовательно и с видимым нежеланием, тем не менее ее направление было безошибочным.
И хотя знакомая сюжетная линия краха политики Вильсона изображает президента США загнанным в ловушку необузданной агрессии старого воинственного империализма, в действительности бывшие империалисты самостоятельно приходили к выводу о необходимости поиска новой стратегии, отвечающей требованиям новой эпохи, пришедшей на смену эпохе империализма[53]. Несколько ключевых фигур олицетворяли собой этот новый raison d’état (национальный интерес). Густав Штреземан наладил сотрудничество Германии со странами Антанты и с США. Британский министр иностранных дел Остин Чемберлен, старший сын Джозефа Чемберлена, ярого националиста эдвардианского периода, разделил с министром иностранных дел Штреземаном Нобелевскую премию мира за вклад в урегулирование в Европе. Третьим человеком, получившим Нобелевскую премию за Локарнские соглашения, был министр иностранных дел Франции Аристид Бриан, бывший социалист, чьим именем был назван пакт 1928 года, объявлявший агрессивные войны вне закона. Кидзюро Сидэхара, министр иностранных дел Японии, олицетворял собой новый подход к безопасности в Восточной Азии. Все они ориентировались на США, считая, что именно эта страна является ключом к установлению нового порядка. Однако чрезмерное отождествление этих перемен с конкретными людьми, сколь значительными бы они ни были, ведет к неправильному пониманию происходившего. Эти люди, выступавшие носителями перемен, нередко совершали противоречивые поступки, разрываясь между своими личными пристрастиями к старым методам ведения политики и тем, что они считали императивами новой эры. Именно представление о том, что новый порядок создается на основе более надежной, чем сила отдельно взятой личности, придавало людям, подобным Черчиллю, уверенность в прочности нового порядка и приводило в уныние Гитлера и Троцкого.
Соблазнительно было бы соотнести эту новую атмосферу 1920-х годов с «гражданским обществом» и множеством международных неправительственных организаций, выступающих за мир, которые появлялись накануне Первой мировой войны[54]. Однако склонность к отождествлению новаторского морального предпринимательства с международными обществами в защиту мира, всемирными конгрессами экспертов, энтузиазмом международного женского движения за солидарность или с разнообразной деятельностью активистов, выступающих против колониализма, косвенным образом ведет к возрождению давнего стереотипа о том, что отзвуки империализма неизбежно будут слышны в биении сердца власти. Напротив, беспомощность движения за мир позволяет циникам-реалистам настойчиво утверждать, что в конечном счете только власть имеет значение. В настоящей книге предлагается другой подход. В ней делается попытка определить главный сдвиг в представлениях о власти, происходящий не во вне, а внутри самой машины управления, во взаимодействии военной силы, экономики и дипломатии. Как мы увидим, это наиболее очевидно проявилось в случае Франции, на долю которой выпала самая большая порция клеветы, адресованной «старым мировым державам». Мы увидим, как после 1916 года Париж, вместо того чтобы переживать старые обиды, стремился к созданию нового, ориентированного на Запад атлантического союза с Британией и США. Такой союз позволил бы ему освободиться от неприятной для него ассоциации с царским самодержавием, на помощь которого Франция рассчитывала начиная с 1890-х годов, полагаясь на сомнительные обещания гарантий безопасности. Такой союз позволил бы привести внешнюю политику Франции в соответствие с ее республиканской конституцией. Это стремление к созданию атлантического союза стало новой задачей французской политики, которая после 1917 года свела вместе таких людей, как Жорж Клемансо и Раймон Пуанкаре.
В Германии выделялась фигура Густава Штреземана, великого государственного деятеля периода стабилизации Веймарской республики. В период начиная с разгара рурского кризиса 1923 года Штреземан, без сомнения, сыграл решающую роль в сохранении ориентации Германии на Запад[55]. Но, будучи националистом и сторонником Бисмарка, он с опозданием и большим трудом адаптировался к условиям новой международной политики. Политической силой, оказывавшей поддержку каждой из его знаменитых инициатив, была широкая парламентская коалиция, с которой Штреземан в период ее возникновения был на штыках. Три партии, входившие в коалицию, – социал-демократы, христианские демократы и прогрессивные либералы, – представляли ведущие демократические силы в предвоенном рейхстаге. Все три в свое время были заядлыми противниками Бисмарка. Вместе их свели в июне 1917 года под руководством популиста христиан-демократа Маттиаса Эрцбергера катастрофические последствия военной кампании германских подводных лодок против США. Как мы увидим, первое испытание новой политики этих партий состоялось уже зимой 1917/18 года. В то время как Ленин пытался заключить мир, эта коалиция в рейхстаге делала все от нее зависящее, чтобы противостоять оголтелому экспансионизму Людендорфа и сформировать то, что, как они надеялись, станет легитимным, а значит, устойчивым господством на Востоке. Печально известный Брест-Литовский договор сравнивается в настоящей книге с Версальским договором не как акт мщения, а как демонстрация того, что он также оказался «хорошим миром, который обернулся бедой». Споры в Германии вокруг победоносного мирного Брест-Литовского договора как важной увертюры новой эры в мировой политике были характерными в том плане, что почти в равной мере относились и к внутреннему устройству Германии, и к международным отношениям. Именно отказ кайзеровского режима от обещанных реформ внутри страны и от новой жизнеспособной дипломатии подготовил почву для революционных событий осени 1918 года. Как мы увидим, после поражения Германии на Западном фронте большинство в рейхстаге осмелилось не единожды, но трижды в период с ноября 1918 года по сентябрь 1923 года поставить будущее своей страны в зависимость от западных держав. Начиная с 1949 года и до сих пор прямые потомки этого большинства в рейхстаге – Христианско-демократический союз, Социал- демократическая партия (СДП) и Свободная демократическая партия – остаются главной опорой демократии в Федеративной Республике и ее приверженности Европейскому проекту.
В этой взаимосвязи внутренней и внешней политики и в выборе между радикальным бунтом и политикой согласия прослеживается любопытное сходство между положением, сложившимся в Германии и Японии в начале XX века. В 1850 году, когда Японии грозило прямое подчинение иностранному господству и она была вынуждена противостоять России, Британии, Китаю и США как потенциальным противникам, Япония ответила тем, что перехватила инициативу и приступила к выполнению программы реформ внутри страны и начала проводить агрессивную внешнюю политику. Именно высокая эффективность и смелость, проявленные при проведении этого курса, дали основание называть Японию «Пруссией Востока». Но при этом слишком легко забывается, что в качестве противовеса этому курсу всегда выступала другая тенденция: обеспечение безопасности путем подражания, альянсов и сотрудничества – японская традиция новой дипломатии Касумигасэки[56]. Это было сделано сначала путем установления партнерских отношений с Британией в 1902 году, а затем за счет заключения временного стратегического соглашения с США. Одновременно в Японии происходили изменения внутриполитического характера. Соединение демократизации с мирной внешней политикой Японии давалось ничуть не легче, чем любой другой стране. Но и во время, и после Первой мировой войны складывавшаяся в Японии многопартийная политическая система выступала в роли действенного противовеса авторитету военных. Однако именно значение этой взаимосвязи вело к росту ставок. К концу 1920-х годов те, кто выступал за конфронтационный внешнеполитический курс, одновременно требовали революции внутри страны. Именно в 1920-х годах, эпоху Тайсё, была особенно очевидной биполярная природа политики, проводимой в период между войнами. До тех пор, пока западные державы занимали ведущие позиции в мировой экономике и обеспечивали мир в Восточной Азии, преимущество было на стороне японских либералов. Если бы эта военная, экономическая и политическая структура разрушилась, то сторонники империалистической агрессии не преминули бы воспользоваться предоставленной им возможностью.
Такая интерпретация событий показывает, что в противоположность выводам, предлагаемым в модели «темного континента», ужасы Великой войны привели в первую очередь не к двустороннему соперничеству между проектами, которые осуществляли США и СССР в период холодной войны, и не к тому, что сбылись не менее анахроничные прогнозы о трехстороннем противостоянии между американской демократией, фашизмом и коммунизмом. Война привела к тому, что начался многосторонний, полицентричный поиск стратегии умиротворения. И в поиске этих путей все великие державы в своих расчетах ориентировались на один ключевой фактор – Соединенные Штаты. Именно этот конформизм был причиной столь мрачного настроения Гитлера и Троцкого. Оба надеялись на то, что Британская империя все же бросит вызов Соединенным Штатам. Троцкий предвидел новую войну между империалистическими странами[57]. Гитлер в Mein Kampf уже ясно выразил свое желание создать англо-германский союз против Америки и темных сил мирового еврейского заговора[58]. Но, несмотря на шумные заявления правительств консерваторов в 1920-х годах, англо-американская конфронтация не имела больших перспектив. Пойдя на стратегическую уступку чрезвычайной важности, Британия мирно переуступала свое верховенство Соединенным Штатам. Развитие демократии в Британии под давлением лейбористов на правительство лишь усилило этот импульс. Оба кабинета лейбористов, возглавляемых Рамсеем Макдональдом в 1924 году и 1929–1931 годах, были решительно ориентированы на Атлантический союз.
И все же, несмотря на общее согласие, мятежным силам еще предстояло использовать свой шанс, что возвращает нас к основному вопросу, который поставили историки из числа сторонников модели «краха гегемонии». Почему западные державы утратили свое влияние столь необычным образом? В конечном счете ответ следует искать в том, что США оказались не готовы к сотрудничеству с Францией, Британией, Германией и Японией в обеспечении стабильности и жизнеспособности мировой экономики и в создании новых органов коллективной безопасности. Очевидно, что совместное решение этих взаимосвязанных проблем экономики и безопасности требовалось для того, чтобы избежать тупиковой ситуации, сложившейся в век империалистического соперничества. Прошедшим через период жестокости и насилия Франции, Германии, Японии и Британии грозила опасность еще больших разрушений в будущем, и они понимали это. Но не менее очевидным было и то, что только США могли обеспечить новый порядок. Подобный акцент на ответственности Америки указывает не на возврат к упрощенной истории американского изоляционизма, а на необходимость адресовать этот вопрос самим Соединенным Штатам[59]. Чем же можно объяснить нежелание Америки ответить на проблемы, связанные с последствиями Первой мировой войны? Именно в этой точке должен быть завершен синтез моделей «темного континента» и «краха гегемонии». Настоящий синтез требует не только понимания абсолютной новизны проблем мирового господства, вставших перед США после Первой мировой войны, но и того, что другие державы также были заинтересованы в поиске нового порядка, выходящего за рамки империализма. Третьим ключевым моментом оказывается то, что выход Америки на современную арену, который в большинстве работ, посвященных мировой политике XX века, представляется простым и легким, имел точно такой же насильственный, дестабилизирующий и противоречивый характер, как и у любого другого государства мировой системы. И правда, если учесть скрытый раскол внутри бывшего колониального общества, существовавший со времен начала работорговли в атлантическом треугольнике, и то, как этот раскол нарастал в ходе насильственного захвата земель Запада, освоение которых происходило за счет массовой миграции из Европы, зачастую при обстоятельствах, травмирующих людей, вынужденных затем постоянно находится в движении, чтобы не отстать от развития капитализма, то станет ясно, насколько серьезными были проблемы вхождения Америки в современность.
Попытки примирения с этим мучительным опытом XIX столетия привели к возникновению идеологии, ставшей общей для всех, независимо от партийной принадлежности, а именно – идеологии исключительности[60]. В век откровенного национализма речь шла не об уверенности американцев в исключительности судьбы своей страны. В XIX веке ни одна уважающая себя страна не обходилась без ощущения своей провиденциальной миссии. Но примечательно то, в сколь необычной степени укрепился и заявил о себе американский эксепционализм именно в тот момент после окончания Первой мировой войны, когда все остальные крупные державы мира пришли к пониманию взаимосвязанности и взаимозависимости своего положения. Внимательно изучив риторику Вильсона и других американских государственных деятелей того периода, мы увидим, что «главным источником прогрессивного интернационализма… является сам национализм»[61]. Таковым было их понимание богоизбранности Америки и ее роли как образца для подражания, которое они хотели навязать миру. Когда ощущение провиденциальной роли Америки было подкреплено значительной мощью, как это произошло после 1945 года, оно превратилось в подлинно преобразующую силу. В 1918 году основные элементы этой силы уже существовали, но ни администрация Вильсона, ни ее преемники не говорили об этом вслух. И теперь вопрос возвращается уже в новой форме. Почему в начале XX столетия идеология исключительности не была поддержана эффективной масштабной стратегией?
Мы подходим к выводу, навязчиво напоминающему вопрос, который стоит перед нами и сегодня. Стало общепринятым, особенно у европейских историков, описывать начало XX века как период прорыва американской современности на мировую арену[62]. Но, как утверждается в настоящей книге, новизна и динамизм существовали рядом с глубоким непреходящим консерватизмом[63]. Перед лицом истинно радикальных перемен американцы цеплялись за конституцию, которая уже к концу XIX века была самой старой действующей системой республиканских взглядов. Эта конституция, как отмечали многие критики внутри страны, во многом не отвечала требованиям современного мира. При всей сплоченности Америки после Гражданской войны, при всем экономическом потенциале, в начале XX века федеральное правительство США было рудиментарным, конечно в сравнении с «большим правительством», которое после 1945 года столь эффективно выполняло роль столпа мирового господства[64]. После Гражданской войны прогрессивные элементы всех политических окрасок и цветов поставили перед собой задачу построения в Америке более действенного государственного механизма. Безотлагательность решения этой задачи подтверждалась массовыми волнениями, последовавшими за экономическим кризисом 1890-х годов[65]. Было необходимо сделать что-то для защиты Вашингтона от вызывавшего тревогу роста воинственности, угрожавшего не только порядку внутри страны, но и международному положению Америки. Это была одна из основных задач, стоявших как перед администрацией Вильсона, так и перед ее предшественниками-республиканцами в начале XX столетия[66]. Но если Тедди Рузвельт и ему подобные считали военную силу и войну мощными векторами последовательного государственного строительства, Вильсон противился движению по этой избитой тропе Старого Света. Мирная политика, которой он следовал до весны 1917 года, представляла собой отчаянное стремление защитить программу внутренних реформ от яростных политических страстей и изнурительного социального и экономического гнета войны. Но все было напрасно. Провальное завершение второго президентского срока Вильсона в 1919–1921 годах свидетельствовало о неудаче первой из предпринятых в XX веке серьезных попыток преобразования федерального правительства США. Это повлекло за собой не только крах Версальского мирного договора, но и невиданный ранее экономический шок – мировую депрессию 1920-х годов, наверное, самое недооцененное событие в истории XX столетия.
Если мы будем помнить об этих структурных особенностях американской конституции и политической экономии, то идеология эксепционализма предстанет пред нами в более выгодном свете. При всей пышности речей об исключительных достоинствах и провиденциальной важности американской истории эта идеология несла в себе мудрость Бёрка, глубоко укоренившееся в американском политическом классе понимание существенного несоответствия беспрецедентных вызовов на международной арене начала XX века и весьма ограниченных возможностей государства, во главе которого этот класс стоял. Идеология исключительности несла в себе память о том, что совсем недавно страну разрывала на части гражданская война, о том, насколько разнороден ее этнический и культурный состав и с какой легкостью наследственная слабость республиканской конституции может вылиться в застой или в полномасштабный кризис. За желанием держаться подальше от разрушительных сил, вырвавшихся на свободу в Европе и Азии, скрывалось понимание ограниченных возможностей государственного устройства Америки, несмотря на ее сказочные богатства[67]. При всей своей устремленности вперед, прогрессисты поколения Вильсона и Гувера были глубоко убеждены в необходимости не радикального расширения этих возможностей, а сохранения преемственности истории Америки и согласования ее с новым порядком, зарождавшимся в стране с окончанием гражданской войны. В этом и заключается главная ирония начального периода XX века. В самом центре стремительно развивающейся, ориентированной на Америку мировой системы действовало государственное устройство, основанное на консервативном понимании собственного будущего. Не случайно Вильсон описывал свою задачу, используя терминологию защиты, когда говорил о необходимости обезопасить мир для демократии. Не случайно определяющим девизом 1920-х годов была «нормальность». Давление, которое такая ситуация оказывала на тех, кто хотел сделать свой вклад в проект «мировой организации», красной нитью проходит через настоящую книгу. Эта нить соединяет момент в январе 1917 года, когда Вильсон пытался положить конец самой разрушительной войне, которая когда-либо велась и завершилась миром без победы, с пропастью Великой депрессии, разразившейся спустя 14 лет, когда всепоглощающий кризис начала XX века настиг свою последнюю жертву – Соединенные Штаты.
Бурные кровавые события, описанные на страницах настоящей книги, перевернули славную историю событий, происходивших в XIX веке в различных странах, с ног на голову. Смерть и разрушение разбили сердца всех оптимистично настроенных философов-викторианцев в истории: либералов, консерваторов, националистов и даже марксистов. Но какие выводы можно извлечь из этой катастрофы? Для одних она знаменовала собой конец какого-либо смысла истории, крушение всех идей прогресса. Это можно было либо воспринимать с фатализмом, либо считать лицензией на спонтанные действия любого рода. Другие приходили к более трезвым заключениям. Развитие имело место (может быть, даже прогресс, при всей его противоречивости), но оно оказалось более сложным, носило характер более насильственный, чем кто-либо ожидал. Вместо аккуратной сцены, спроектированной теоретиками XIX века, история обрела форму, которую Троцкий назовет «неравномерным и сложным развитием», неясной связью событий, действующих лиц и процессов, развивающихся с различной скоростью, где направления движения каждого из них связаны друг с другом загадочным образом»[68]. «Неравномерное и сложное развитие» – не очень элегантное выражение. Но оно вполне соответствует истории, о которой мы говорим, – как международных отношений, так и взаимосвязанного политического развития различных стран, расположившихся по всему Северному полушарию, от Соединенных Штатов до Китая через Евразию. Для Троцкого это выражение определяло метод и исторического анализа, и политического действия. В нем выражена его стойкая убежденность в том, что, хотя история и не дает никаких гарантий, она не лишена логики. Успех зависит от остроты исторического интеллекта человека, позволяющего ему разглядеть уникальный момент и воспользоваться его возможностями. Аналогичным образом Ленин считал ключевой задачей теоретика революции выявление и нанесение удара по наиболее слабым звеньям в «цепи» империалистических держав[69].
Писавший в 1960-х годах политолог Стенли Хоффманн, встав на позиции не революционеров, а правительств, предложил скорее более графический образ «неравномерного и сложного развития». Он описал державы, большие и малые, как членов «бандитской цепочки», коллектива, скованного одной цепью и рыскающего в разных направлениях[70]. Заключенные обладали различным телосложением. Некоторые были более других склонны к насилию. Одни были целеустремленными. В других уживались различные черты характера. Каждый из них боролся с собой и с другими. Каждый мог пытаться доминировать во всей этой цепочке либо сотрудничать с другими. Каждый из них был самостоятельным настолько, насколько это позволяла длина цепи, но в конечном счете они были скованы друг с другом. Какой бы из этих образов мы ни выбрали, смысл останется тем же. Столь взаимосвязанную динамичную систему можно понять, лишь изучая систему в целом, отслеживая ее движение во времени. Для того чтобы понять ее развитие, необходимо дать ее описание. В этом и состоит задача настоящей книги.
Часть I Евразийский кризис
1 Война на чаше весов
Из окопов Западного фронта Великая война могла показаться позиционной – бои развертывались на линии, протяженностью в несколько миль, а потери исчислялись сотнями тысяч жизней. Но эта перспектива была обманчивой[71]. На Восточном фронте и в войне против Османской империи линия фронта постоянно изменялась. На Западе линия фронта едва двигалась, но это затишье было результатом сосредоточения значительных сил, находящихся в опасном равновесии. Месяц за месяцем инициатива переходила от одной стороны к другой. В наступившем 1916 году страны Антанты планировали разгромить Центральные державы путем концентрических наступательных операций, выполнение которых возлагалось последовательно на французскую, британскую, итальянскую и русскую армии. 21 февраля, не дожидаясь наступления противника, германская армия перехватила инициативу и перешла в наступление под Верденом. Нанося удар по ключевой точке в цепи французских укреплений, немцы рассчитывали насмерть обескровить силы Антанты. К началу лета в битве не на жизнь, а на смерть было уничтожено более 70 % французской армии, что грозило превратить стратегию направленных концентрических наступательных операций Антанты в нечто немногим большее, чем серия экстренных спасательных акций. В мае 1916 года, для того чтобы вернуть инициативу, Британия согласилась провести свое первое крупное наземное наступление в этой войне в районе реки Сомы.
Пока военные, выбиваясь из последних сил, вели боевые действия, дипломаты срочно изыскивали способы втянуть в водоворот событий все новые страны. В 1914 году Австрия и Германия привлекли на свою сторону Болгарию и Османскую империю. В 1915 году Италия выступила на стороне сил Антанты.
Япония вступила в войну в 1914 году, захватив концессии Германии в китайском Шаньдуне. К концу 1916 года Британия и Франция привлекли японский флот, базировавшийся в Тихом океане, к участию в эскорте, защищавшим Восточное Средиземноморье от австрийских и германских подводных лодок. Огромные суммы наличными и все возможные способы дипломатического давления были использованы для того, чтобы воздействовать на последнюю европейскую страну, сохранявшую нейтралитет, – Румынию. Если бы она перешла в лагерь Антанты, то превратилась бы в смертельную угрозу мягкому подбрюшью австро-венгерской монархии. Но в 1916 году существовала одна-единственная сила, которая действительно могла изменить военный баланс, – Соединенные Штаты. Позиция США была решающей с экономической, военной и политической точек зрения. Лишь в 1893 году Британия сочла возможным поднять уровень своего представительства в столице Америки до статуса полноценного посольства. Теперь, менее чем одно поколение спустя, история Европы, похоже, зависела от того, какую позицию по отношению к войне займет Вашингтон.
I
Стратегический успех Антанты зависел от сочетания серии сокрушительных концентрических наступательных операций и медленного экономического удушения Центральных держав. Перед войной британское адмиралтейство разработало планы не только морской блокады, но и финансового бойкота, целью которого было разрушение всей торговли в Центральной Европе. Но в августе 1914 года, столкнувшись с резкими протестами Америки, оно отказалось от полного осуществления этих планов[72]. Ситуация зашла в тупик. Британия и Франция пошли на компромисс, сократив использование своего самого грозного оружия на море. Но блокада, даже частичная, была очень непопулярна в Соединенных Штатах. Американский флот считал начатую Британией блокаду «не отвечающей ни одному закону или обычаю морской войны, известным до сих пор…»[73] Реакция Германии несла в себе еще больший политический заряд. В феврале 1915 года, стремясь изменить обстановку в свою пользу, Кригсмарине (Kriegsmarine), Военно-морской флот Третьего рейха впервые направил свои подводные лодки для совершения массированных атак на маршрутах трансатлантических перевозок. Они топили почти два судна ежедневно и в среднем 100 тысяч тонн грузов в месяц. Но транспортный ресурс Великобритании был велик, а продолжение подобных атак могло привести к тому, что в войну была бы втянута Америка. К общеизвестным потерям можно отнести лишь «Лузитанию» и «Арабику», потопленные соответственно в мае и в августе 1915 года. Стремясь избежать дальнейшей эскалации, гражданское правительство кайзера в конце августа пошло на попятную. При поддержке Партии католического Центра, прогрессивных либералов и социал-демократов рейхсканцлер Бетман Гольвег отдал приказ, запрещавший проведение подводных атак. Антанта не могла должным образом обеспечить блокаду, опасаясь протестов со стороны Америки. По той же причине не состоялся встречный удар со стороны Германии. Вместо этого весной 1916 года германский флот попытался разрешить тупиковую ситуацию на море, заманив большой британский флот в ловушку в Северном море. 31 мая 1916 года в самом крупном морском сражении за всю историю войны, состоявшемся недалеко от берегов Ютландии, столкнулись 33 британских и 27 германских линейных кораблей. Окончательного результата добиться не удалось. Обе эскадры вернулись на свои базы, где и оставались, молча грозя своей мощью из-за кулис театра военных действий.
Летом 1916 года Антанта пыталась вернуть себе инициативу на Западном фронте, но политика блокады на Атлантическом океане оставалась нерешительной. Когда Франция и Британия решили усилить хватку, составив «черный список» американских фирм, которых они обвинили в «торговле с врагом», президент Вильсон с трудом сдержал свой гнев[74]. Это было «последней каплей», признавался Вильсон своему ближайшему советнику, учтивому техасцу полковнику Хаузу: «Должен признаться, что мое терпение с Великобританией и союзниками подходит к концу»[75]. И Вильсон не ограничивался увещеваниями. Американская армия, может, и была немногочисленной, но уже в 1914 году американский флот был силой, с которой приходилось считаться. Это был четвертый флот мира, который, в отличие от японского и германского флотов, мог действительно гордиться сражением с Королевским военно-морским флотом Великобритании в 1812 году. Последователям адмирала Мэхэна, великого американского теоретика военно-морских сил времен «позолоченного века», война дала бесценную возможность превзойти европейцев в строительстве флота и установить безоговорочный контроль на океанских просторах. В феврале 1916 года президент Вильсон согласился с их требованиями и начал кампанию за получение согласия Конгресса на создание, как он хвастливо заявлял, «величайшего флота во всем мире»[76]. Спустя шесть месяцев, 29 августа 1916 года Вильсон подписал самый масштабный план развития военно-морских сил в американской истории, утвердив ассигнования в размере почти 500 млн долларов в течение трех лет на строительство 157 новых судов, включая 16 линейных кораблей. Менее масштабным, но имевшим в конечном счете не менее важные последствия событием было учреждение в июне 1916 года Emergency Fleet Corporation, уполномоченной руководить строительством торгового флота, который не должен был уступать торговому флоту Британии[77].
В сентябре 1916 года при обсуждении с полковником Хаузом возможных последствий американской военно-морской экспансии для англо-американских отношений позиция Вильсона была определенной: «Мы построим флот больше, чем у них, и будем делать все, что пожелаем»[78]. Это угроза была столь зловещей для Британии потому, что, однажды поднявшись, США, в отличие от имперской Германии или Японии, определенно располагали средствами для того, чтобы воспользоваться этим. В течение пяти лет Америка будет признана как равная Британии морская держава. Таким образом, в 1916 году с точки зрения Британии война обрела новый существенный аспект. С начала XX века главной стратегической задачей империи было сдерживание Японии, России и Германии. Начиная с августа 1914 года единственное, что имело значение, был разгром Германии и ее союзников. В 1916 году очевидное желание Вильсона построить военно-морские силы, равные британским, было пугающим. Даже в лучшие времена вызов со стороны США вызывал чувство страха. А в условиях Великой войны он грозил ужасающими перспективами. Американские амбиции на море были не единственным серьезным вызовом, с которым европейцы столкнулись в 1916 году[79]. Рост экономической мощи Америки был очевиден начиная с 1890-х годов, но именно война Антанты с Центральными державами привела к тому что финансовый центр неожиданно переместился на другую сторону Атлантики[80]. Это привело не только к смене географического положения финансового лидера, но и к изменению самого значения лидерства.
Все основные воюющие европейские страны вступали в войну, обладая по современным стандартам необычайно прочным финансовым положением, значительными государственными средствами и крупными портфелями иностранных инвестиций. В 1914 году целую треть богатств Британии составляли частные инвестиции за рубежом. С началом войны мобилизация этих внутренних и находящихся в имперских владениях ресурсов была дополнена масштабными трансатлантическими финансовыми операциями. В этом участвовали все европейские правительства, но прежде всего именно Британия выступала на мировой арене в новом качестве. До 1914 года, в Эдвардианскую эпоху крупных финансовых операций, ведущая роль Лондона была общепризнанной. Но международные финансы были частным бизнесом. Дирижер, управлявший оркестром золотого стандарта, – Банк Англии представлял собой не государственное учреждение, а частную корпорацию. Если британское правительство и присутствовало в сфере международных финансов, то его влияние было незначительным и имело косвенный характер. Министерство финансов Соединенного Королевства оставалось на заднем плане. В чрезвычайных обстоятельствах войны эти невидимые и неформальные потоки денег и влияния довольно неожиданно потребовали значительно более конкретного и открытого политического руководства. С октября 1914 года правительства Британии и Франции положили на чашу весов сотни миллионов фунтов стерлингов в виде правительственных займов, предназначенных на поддержание «русского парового катка», которому предстояло разгромить Центральные державы на Востоке[81]. После Болонских соглашений августа 1915 года золотые резервы всех трех главных членов Антанты были объединены и использованы для поддержания курса фунта стерлингов и франка в Нью-Йорке[82]. Британия и Франция, в свою очередь, взяли на себя ответственность за проведение переговоров о получении займов от имени Антанты в целом. К августу 1916 года после ужасающих потерь в битве при Вердене кредит Франции упал до столь низкого уровня, что брать на себя ответственность за все операции в Нью-Йорке пришлось Лондону[83]. В Европе была создана новая сеть политического кредитования с центром в Лондоне. Но это была лишь часть операции.
С бухгалтерской точки зрения финансирование участия в войне стран Антанты требовало перегруппировки активов этих стран и их долговых обязательств[84]. Для обеспечения залоговых обязательств министерство финансов Соединенного Королевства организовало схему принудительного приобретения частными холдингами первоклассных ценных бумаг банков Северной и Латинской Америки, которые обменивались на выпущенные в Соединенном Королевстве правительственные облигации. Иностранные активы, попав в руки министерства финансов, использовались для обеспечения гарантий по многомиллиардным заимствованиям Антанты на Уолл-стрит. Обязательства перед Америкой, которые брало на себя министерство финансов Великобритании, уравновешивались в ее национальном балансе многочисленными новыми требованиями к правительствам России и Франции. Но нельзя недооценивать исторического значения этих перемен и крайнюю ненадежность возникшей финансовой архитектуры, представляя эту гигантскую мобилизацию как простую переориентацию действующей сети. После 1915 года военные заимствования Антанты привели к тому, что политическая геометрия системы финансов эдвардианского периода оказалась перевернутой с ног на голову.
До войны частные кредиторы в Лондоне и Париже, богатая верхушка имперской Европы, выдавали миллиардные кредиты частным и государственным заемщикам из стран, расположенных на периферии[85]. Начиная с 1915 года, когда источник кредитования переместился на Уолл-стрит, исчезли представители железных дорог России и разработчики алмазных месторождений в Южной Африке, ранее выстраивавшиеся в очередь за кредитами. Самые мощные европейские государства теперь занимали средства у частных граждан в США, да, впрочем, у любого другого, кто мог предоставить кредит. Выдача подобных займов частными инвесторами одной богатой страны правительствам других богатых развитых стран в валюте, которую правительство страны-заемщика не контролирует, не была похожа ни на что, происходившее в период расцвета поздней викторианской глобализации. Как показала гиперинфляция после Первой мировой войны, правительство, которое ранее брало займы в собственной валюте, попросту печатало деньги, необходимые для покрытия долга. Поток свежеотпечатанных банкнот размывал реальную стоимость военного долга. Для Британии и Франции, бравших займы на Уолл-стрит в долларах, дело обстояло иначе. Наиболее влиятельные государства Европы попали в зависимость от иностранных кредиторов. Эти кредиторы, в свою очередь, были уверены в Антанте. К концу 1916 года американские инвесторы поставили на победу Антанты 2 млрд долларов. В 1915 году, после того как Лондон взял на себя ответственность за займы, трансатлантические операции осуществлялись через единственный частный банк – влиятельный на Уолл-стрите Дом Дж. П. Моргана, имевший давние исторические связи в лондонском Сити[86]. Разумеется, это был бизнес. Но для Моргана эта операция была связана с откровенной антигерманской и проантантовской позицией и означала поддержку наиболее открытых критиков президента Вильсона в самих Соединенных Штатах и тех республиканцев, которые выступали за вступление Америки в войну. В результате на международном уровне возникло весьма редкое сочетание государственных и частных сил. Летом 1916 года, во время проведения крупномасштабной наступательной операции на Сомме, Дж. П. Морган, по поручению правительства Великобритании, израсходовал в Америке более миллиарда долларов, что составило не менее 45 % военных расходов Великобритании в те решающие месяцы[87]. В 1916 году отдел закупок банка занимался выполнением контрактов стран Антанты, стоимость которых превышала стоимость всего экспорта США за несколько предвоенных лет. Антанта, используя личные деловые контакты Дж. П. Моргана и при поддержке деловой и политической элиты северо-востока США, мобилизовала значительную часть американской экономики, совершенно не нуждаясь в согласии администрации президента Вильсона. Потенциально зависимость Антанты от американских займов давала американскому президенту мощные рычаги воздействия на ход военных действий. Но мог ли Вильсон действительно воспользоваться этой возможностью? Не была ли Уолл-стрит слишком независима? Могло ли федеральное правительство контролировать деятельность Дж. П. Моргана?
В 1916 году вопрос военных финансов и отношений между США и Антантой увяз в острых дебатах, продолжавшихся уже на протяжении жизни более чем одного поколения, об управлении капитализмом в Америке. В 1912 году, 40 лет спустя после возврата США к золотому стандарту, действие которого было прервано Гражданской войной, в стране все еще не существовало аналога Банка Англии, Банка Франции или Рейхсбанка[88]. Уолл-стрит уже продолжительное время лоббировала создание центрального банка, который выступал бы в качестве кредитора последней инстанции. Но интересы банкиров остались далеки от удовлетворения, когда в 1913 году Вильсон подписал законопроект о создании Федеральной резервной системы (ФРС) США. С точки зрения интересов Уолл-стрит, в частности Дж. П. Моргана, ФРС, созданная по инициативе Вильсона, была чрезмерно политизирована[89]. В сравнении с принадлежащим частным лицам Банком Англии ФРС не была действительно «независимым» институтом. В 1914 году, с началом войны в Европе, новая система прошла первую проверку. ФРС и министерство финансов провели интервенцию в целях предотвращения закрытия европейских финансовых рынков, которое привело бы к коллапсу на Уолл-стрит[90]. Между 1915 и 1916 годами американская экономика росла на волне вызванного экспортом промышленного бума. Для того чтобы удовлетворить европейский спрос на военные поставки, промышленные города Северо-Востока и района Великих озер без разбора нанимали рабочих и привлекали все виды инвестиций со всех концов страны. И это лишь усиливало давление на Вильсона. Бесконтрольное усиление такого бума вело к тому, что американские капиталовложения в Антанту вскоре стали бы слишком большими, чтобы позволить Антанте проиграть войну. А тогда американское правительство фактически теряло свободу маневра, которая сулила ему такую власть в 1916 году.
А могли ли страны Антанты, в свою очередь, избрать другой путь, чтобы в меньшей степени зависеть от ресурсов США? В конце концов, Германия вела войну, не получая столь щедрых даров[91]. Это сравнение наглядно демонстрирует, насколько важную роль играл американский импорт (табл. 1). Летом 1916 года, после изнурительных боев при Вердене и на Сомме, Германия продолжала оборонительную войну на западном фронте еще в течение почти двух лет. Центральные державы ограничивались менее затратными операциями на Восточном и итальянском фронтах. В то же время блокада тяжело сказывалась на положении гражданского населения Центральных держав. С зимы 1916/17 года жители городов Германии и Австрии начали понемногу голодать. Обеспечение поставок продовольствия и угля в тыл было не побочным моментом в Первой мировой войне, а важнейшим фактором, определявшим окончательный исход событий[92]. Для того чтобы экономическое давление оказало воздействие, требовалось время, но в конечном счете оно было решающим.
Таблица 1. Что покупали за доллары: доля закупок Соединенным Королевством материалов оборонного значения за рубежом, 1914–1918 гг., %
Когда весной 1918 года Германия начала свою последнюю крупную наступательную операцию, значительная часть армии кайзера была слишком ослаблена голодом, для того чтобы продолжать наступление в течение длительного времени. В противоположность этому неослабевающая наступательная энергия Антанты в 1917 году – французское наступление в Шампани в апреле, наступление армии Керенского на востоке в июле, наступление британской армии во Фландрии в июле и последнее стремительное наступление летом и осенью 1918 года – была бы невозможна ни с военной, ни с политической точки зрения без поддержки Северной Америки. В Лондоне по меньшей мере до конца 1916 года звучали голоса, призывающие избавить Британию от зависимости от американских займов. Но тем самым они призывали к переговорам о заключении мира. Эти голоса затихли с созданием в декабре 1916 года коалиционного правительства Ллойда Джорджа, которое хранило верность идее нанесения «нокаутирующего удара». Никто и не задумывался всерьез о возможности продолжения полномасштабной войны без поставок и кредитов из Соединенных Штатов. После 1916 года, когда союзники получили первый миллиард долларов в виде кредита на проведение первой операции, направленной на то, чтобы сокрушить Центральные державы в ходе концентрических наступлений, движение пошло по нарастающей. При планировании всех последующих наступательных действий подразумевалось, что они будут обеспечены значительными поставками из-за океана. И это лишь усиливало зависимость. По мере того как миллиарды накапливались, расходы по обслуживанию текущих долгов и стремление избежать унизительного дефолта становились главной заботой как во время самой войны, так и в еще большей степени после ее окончания.
II
В любом случае трансатлантическая борьба, определявшая дальнейший ход войны, никогда не носила только экономический или военный характер. Она всегда оставалась в высшей степени политической. Готовность продолжать войну зависела от политики, а это тоже было вопросом трансатлантического значения. Но тут аргументация была далеко не столь ясной, как в случае с экономической и военно-морской мощью. Имеющаяся у нас картина политических взаимоотношений между США и Европой в начале XX века строится главным образом на более позднем опыте Второй мировой войны. В 1945 году сытые, уверенные в себе «джи-ай» появились в Европе посреди военной разрухи и диктатуры как предвестники процветания и демократии. Но проецировать подобный образ Америки, представляющий собой заманчивый синтез капиталистического процветания и демократии, на начало XX века следует с осторожностью. Скорость, с которой Соединенные Штаты заявили о своем исключительном политическом господстве, была столь же неожиданной, как и возникновение их военно-морской и финансовой мощи. Она была обусловлена самой Великой войной.
Неудивительно, что на фоне ужасной Гражданской войны американский демократический эксперимент в течение полувека, отделявшего 1865 год от событий 1914 года, воспринимался со смешанными чувствами[93]. Разрабатывая конституцию, недавно воссоединившиеся Италия и Германия не черпали вдохновения в примере Америки. У обеих стран имелись собственные традиции конституционализма. Для итальянских либералов образцом была Британия. Моделью новой конституции Японии 1880-х годов была своеобразная смесь европейских влияний[94]. В период расцвета деятельности Гладстона и Дизраэли даже в Соединенных Штатах первое поколение политологов, среди которых был и юный Вудро Вильсон, обращались через Атлантику к вестминстерской модели[95]. Конечно, у юнионистов был свой героический эпос, где в качестве великого трибуна выступал Авраам Линкольн. Но лишь после того, как прошел шок Гражданской войны, новое поколение американских интеллектуалов смогло прийти к новому, примиряющему все стороны пониманию национальной истории. После определения западных границ континент объединился. Испано-американская война 1898 года и покорение Филиппин в 1902 году добавили Америке самодовольной уверенности. Промышленность США развивалась небывалыми темпами. Экспорт американской сельскохозяйственной продукции вел к ее изобилию в мире. Но в среде прогрессивных реформаторов «позолоченного века» собственный образ Америки был полон противоречий. Америка выступала символом коррупции, злоупотреблений и алчности политиков, равно как роста, производства и прибыли. Американские специалисты ехали в города имперской Германии в поисках моделей современного управления, а не наоборот[96]. В 1901 году, оглядываясь назад, Вильсон сам отмечал, что, хотя «девятнадцатый век» являлся «в отличие от всех других, веком демократии, мир…» был «убежден в преимуществах демократии как формы правления в конце этого века не больше, чем в его начале.» Стабильность демократических республик оставалась под вопросом. И хотя Содружество, «возникшее в Англии», считалось очень успешным, сам Вильсон соглашался с тем, что «история Соединенных Штатов… не подтверждает существования тенденции к созданию справедливого, либерального и безупречного правительства»[97]. Американцы могли доверять собственной системе, но им еще многое предстояло доказать остальному миру.
Не следует считать, что с началом войны стороны немедленно поменялись ролями. До тех пор пока число убитых не достигло неприемлемых величин, в европейских воюющих странах всеобщая мобилизация августа 1914 года воспринималась как чудесное подтверждение национальной сплоченности[98]. Ни одна из воюющих сторон не была развитой демократией в том смысле, как это понималось в конце XX века, но они не были старорежимными монархиями или тоталитарными диктатурами. Война была поддержана если и не патриотическим экстазом, то по меньшей мере необыкновенно широким консенсусом. В участвовавших в войне Британии, Франции, Италии, Японии, Германии и Болгарии действовали парламенты. В 1917 году в Вене вновь приступил к работе австрийский парламент. Даже в России ранний всплеск патриотического энтузиазма 1914 года привел к возрождению Думы. По обеим сторонам линии фронта главной мотивацией солдат была защита системы прав, собственности и национальной идентичности, с которой они себя в полной мере отождествляли. Французы воевали, защищая республику от исторического врага. Британцы записывались в добровольцы, чтобы внести свой вклад в защиту мировой цивилизации и устранить германскую угрозу. Немцы и австрийцы воевали, защищаясь от ненавидящих их французов, предавших их итальянцев, самонадеянных притязаний британского империализма и более всего от царской России. И хотя открытые призывы к мятежу подавлялись, а забастовщики оказывались в тюрьме или на опасных участках фронта, открытые разговоры о мирных переговорах становились обычным явлением, что было бы немыслимо по любую сторону фронта на поздних этапах Второй мировой войны.
Когда в декабре 1916 года премьер-министр Ллойд Джордж произвел перестановки в правительстве, это было сделано специально для того, чтобы подтвердить конечную цель – нанесение «нокаутирующего удара» по Германии, вопреки все более громким призывам к мирному соглашению. Тори претендовали на большинство важных мест в кабинете, но сам премьер-министр, будучи радикальным либералом, инстинктивно понимал массовые настроения. Еще в мае 1915 года его предшественник Асквит ввел тред-юнионистов в состав британского правительства. В начале XX века политическая палитра стран Европы была более разнообразной, чем ее обычно представляют. Во Франции социалисты были неотъемлемой частью Union Sacreé, широкого межпартийного альянса, существовавшего в Республике в течение первых двух лет войны. Даже в Германии, где правительство оставалось в руках назначенцев кайзера, социал-демократы представляли самую крупную партию в рейхстаге. После августа 1914 года рейхсканцлер Бетманн Гольвег регулярно проводил с ними консультации. Осенью 1916 года, полностью переводя экономику на военные рельсы, генералы Гинденбург и Людендорф заручились общей поддержкой профсоюзов.
Реакцией американцев из числа сторонников Тедди Рузвельта на столь впечатляющую мобилизацию в Европе стало не ощущение собственного превосходства, а чувство благоговейного восхищения[99]. Как говорил Рузвельт в январе 1915 года, война может быть «ужасной и губительной, но она также благородна и возвышена». Американцы не должны смотреть на нее с «позиции добродетельного превосходства». Им также не следует ожидать, что европейцы станут воспринимать американцев «как образец морали», если те будут «…сидеть, ничего не делая, произносить дешевые пошлости и развивать свою торговлю, в то время как они проливают свою кровь за идеалы, в которые они верят всем сердцем, всей душой»[100]. Рузвельт считал, что если Америке придется доказывать свою легитимность как великой державы, то она должна доказать ее в такой же борьбе, используя свой вес для поддержки Антанты. Но, к величайшему разочарованию Рузвельта, в Америке сторонники войны оставались в меньшинстве даже после того, как в мае 1915 года была потоплена «Лузитания». Миллионы американских немцев выбрали для себя нейтральную позицию, как и многие американские ирландцы. На американских евреев пришлось сильно надавить, чтобы убедить их воздержаться от празднования вступления германской имперской армии в российскую часть Польши в 1915 году, принесшего долгожданное освобождение от царского антисемитизма. Войну не поддерживали ни участники американского рабочего движения, ни остатки массового движения аграриев, выступавших за Вильсона в ходе президентских выборов 1912 года. Первым государственным секретарем при Вильсоне был никто иной, как Уильям Дженнингс Брайан, фундаменталист-евангелист, пацифист и радикал, протестовавший в 1890-х годах против золотого стандарта. Он с большим подозрением относился к Уолл-стрит и ее связям с европейским империализмом. С приближением июльского кризиса 1914 года Брайан отправился в поездку по Европе, где подписал ряд соглашений о посредничестве, которые позволяли Америке избежать вовлечения в войну. Когда война разразилась, он выступал за полнейший бойкот частных заимствований любой из сторон. Вильсон отменил это решение, и в июне 1915 года, после того как была потоплена «Лузитания», Брайан подал в отставку в знак протеста – когда Вильсон пригрозил Германии враждебными действиями, если та не прекратит атаки своих подводных лодок. Самого Вильсона при этом можно считать кем угодно, но только не сторонником вмешательства США в войну.
Вудро Вильсон, до того как стал знаменитым на весь мир либералом-интернационалистом, получил известность как один из видных бардов американской истории[101]. Профессор Принстонского университета и автор бестселлеров по популярной истории, он стремился к тому, чтобы американский народ, все еще не остывший от Гражданской войны, примирился со своим полным жестокости прошлым. Одним из самых ранних детских воспоминаний Вильсона были сообщение об избрании Линкольна и слухи о надвигающейся гражданской войне. Вильсон, росший в 1860-х годах в г. Огасте, расположенном в штате Джорджия, который во время своей встречи в Версале с Ллойдом Джорджем он описывал как «покоренную и опустошенную страну», ощутил на себе, оказавшись на стороне побежденных, горькие последствия справедливой войны, в которой борьба велась до конца[102]. С тех пор он с глубоким подозрением относился к любой воинственной риторике. Вильсона пугала не просто гражданская война. Мир, если его можно было так назвать, последовавший за ней, принес еще больше страданий. В течение всей своей жизни он осуждал последовавший период Реконструкции, попытки Севера установить на Юге новый порядок с предоставлением избирательных прав освобожденному чернокожему населению[103]. По мнению Вильсона, потребовалась жизнь более чем одного поколения, прежде чем Америка сумела восстановиться. Лишь в 1890-х годах было достигнуто нечто похожее на примирение.
Для Вильсона, как и для Рузвельта, война была проверкой новой уверенности Америки в себе и своих силах. Рузвельт хотел доказать зрелость Соединенных Штатов, в то время как Вильсон видел в войне, разгоревшейся в Европе, вызов моральному равновесию и самообладанию американского народа. То, что Америка не дает втянуть себя в войну, означало, что американская демократия подтверждает новую зрелость народа, его иммунитет к провокационной риторике военного времени, принесшей столько вреда 50 лет назад. Но этот упор на самообладание не должен восприниматься как скромность. Там, где принадлежавшие к лагерю Рузвельта сторонники вмешательства страны в войну стремились просто к равенству – к тому, чтобы Америку считали полноценной великой державой, – Вильсон ставил задачу достижения абсолютного превосходства. Такая концепция не означала отказа от «жесткой силы». В 1898 году Вильсон с волнением следил за ходом испано-американской войны. Его программа развития военно-морских сил и призывы к захвату Америкой Карибского бассейна носили более агрессивный характер, чем то, что предлагалось его предшественниками. Вильсон не остановился перед тем, чтобы в 1915 и 1916 годах в целях обеспечения безопасности Панамского канала отдать приказ об оккупации Доминиканской Республики и Гаити и о вторжении в Мексику[104]. Но благодаря тому, что Бог щедро наделил Америку, ей не требовалось завоевывать обширные территории. Потребности экономики страны были сформулированы при смене столетий в политике «открытых дверей». США не испытывали нужды в обладании новыми территориями, но американские товары и капиталы должны были свободно перемещаться по всему миру, пересекая границы любых империй. Тем временем, укрывшись несокрушимым военно-морским щитом, США будут распространять свое моральное и политическое влияние, которому никто не сможет противостоять.
Для Вильсона война была знаком «Божественного провидения», которое давало США «возможность, которая столь редко бывает ниспосланной какому-либо народу, возможность наставлять мир и добиваться мира во всем мире…» – на собственных условиях. Мир на условиях США означал установление вечного «величия» США как «настоящего лидера мира и согласия»[105]. Дважды, в 1915 и 1916 годах, полковник Хауз отправлялся в вояж по столицам Европы с предложением посредничества, но ни одна из сторон не высказала своей заинтересованности в нем. 27 мая 1916 года, всего лишь за несколько недель до того, как британцы начали финансируемую Уолл-стрит наступательную операцию на Сомме, Вильсон изложил свою концепцию нового порядка в речи перед участниками собрания «Лиги принуждения к миру», состоявшемся в вашингтонском отеле New Willard[106]. Соглашаясь с интернационалистами-республиканцами, организаторами этого собрания, Вильсон заявил о своем желании видеть Соединенные Штаты участниками любой «возможной ассоциации народов», которая была бы готова гарантировать мир в будущем. В качестве двуединой основы такого нового порядка он выдвинул свободу морей и ограничение вооружений. От большинства других соперников-республиканцев Вильсон отличался своей концепцией роли Америки в новом мировом порядке, сочетавшейся с ясным отказом от поддержки одной из сторон в текущей войне. Такая поддержка лишала бы Америку права претендовать на абсолютное превосходство. Америка, заявил Вильсон, непричастна к «причинам войны и ее целям»[107]. На публике он просто ограничивался замечаниями о более «глубоких» и «скрытых» причинах войны[108]. В частной беседе со своим послом в Британии, Уолтером Хайнсом Пэйджем, Вильсон был более открытым. Действия кайзеровских подводных лодок возмутительны. Но британская «абсолютизация роли военно-морских сил» представляется не меньшим злом и значительно более важным стратегическим вызовом Соединенным Штатам. Жестокая война, считал Вильсон, была не кампанией либералов против агрессии Германии, но «ссорой, направленной на решение экономического спора между Германией и Англией». Как пишет в своих дневниках Пэйдж, в августе 1916 года Вильсон «говорил о том, что Англия владеет землей, а Германия стремится заполучить ее»[109].
Даже если бы 1916 год не был годом выборов, а Морган не был наиболее видным сторонником республиканской партии, задействование значительной части американской экономики в интересах Антанты по требованию пробритански настроенных банкиров представляло собой дерзкий вызов администрации Вильсона. По мере того как избирательная кампания приближалась к завершению, напряженность внутри Соединенных Штатов, вызванная военным бумом, достигла опасного уровня. С августа 1914 года значительное увеличение экспорта за счет кредитов привело к росту стоимости жизни. Хваленая покупательная способность заработной платы американцев таяла на глазах[110]. Спекуляции бизнесменов на войне оплачивались американскими рабочими. Летом Вильсон утвердил меры по налогообложению экспорта в Европу, предложенные популистским крылом в Конгрессе. В последних числах августа 1916 года, в ответ на угрозу всеобщей забастовки на железных дорогах, он выступил в поддержку профсоюзов, вынудив Конгресс согласиться с восьмичасовым рабочим днем[111]. Крупный американский бизнес реагировал на это невиданной ранее поддержкой избирательной президентской кампании республиканцев. Демократы, в свою очередь, заклеймили позором республиканца Чарльза Хью как «кандидата партии войны», стоящего на службе спекулянтов с Уолл-стрит. После этой скандальной кампании, вызвавшей самую высокую явку избирателей за всю политическую историю Америки, то, как Вильсон победил на выборах, мало способствовало уменьшению явной ангажированности. Хотя Вильсон пользовался поддержкой значительного большинства населения, в коллегии выборщиков он выиграл лишь благодаря голосам, отданным за него в Калифорнии с преимуществом всего в 3755 голосов. Таким образом, Вильсон стал первым с 1830 года президентом-демократом, избранным на второй срок, после Эндрю Джексона. Что касается Антанты и ее сторонников в Америке, то на них этот результат произвел отрезвляющий эффект. Значительная часть американского общества заявила о своем желании оставаться вне конфликта.
III
Повторное избрание Вильсона делало рискованными расчеты Антанты на молчаливое согласие США поддерживать ее растущие экономические потребности, связанные с войной. Но у конфликта была своя динамика развития. После кошмарного завершения Верденского сражения Антанта 24 мая 1916 года, за три дня до того как Вильсон, выступая в отеле New Willard, впервые публично изложил свою концепцию нового мирового порядка, приняла решение о проведении британскими войсками первого масштабного наступления на Сомме[112]. И хотя британским войскам не удалось добиться прорыва, германская армия была вынуждена перейти к обороне. В то же время на Восточном фронте масштабная стратегия Антанты была близка к решающему успеху. Мощь армии Российской империи, поддержанная финансовыми и промышленными возможностями Антанты, могла быть использована против пошатнувшейся империи Габсбургов. 5 июня 1916 года энергичный кавалерист генерал Брусилов повел цвет русской армии на австро-венгерские позиции в Галиции. Длившаяся всего несколько дней замечательная наступательная операция, проведенная русскими войсками, основательно подорвала военную мощь империи Габсбургов. Если бы не срочное подкрепление в виде германских войск и командиров, то южная половина Восточного фронта перестала бы существовать. Шок, испытанный Центральными державами, был столь глубоким, что мог повлечь за собой цепную реакцию.
27 августа Румыния окончательно отказалась от своего нейтралитета и объявила о вступлении в войну на стороне Антанты. Вместо эшелонов с румынской нефтью и зерном, от которых теперь в значительной степени зависели Центральные державы, в Трансильванию двинулась свежая 800-тысячная армия противника. Каким бы невероятным это ни казалось, но в августе 1916 года все выглядело так, как будто судьбами мира распоряжается не президент Вильсон, а премьер-министр Брэтиану в Бухаресте. Как позже отмечал фельдмаршал Гинденбург: «На самом деле, никогда прежде столь маленькому государству, как Румыния, не выпадала роль такой значительной исторической важности в столь подходящий момент. Никогда прежде столь могущественные великие державы, как Германия и Австрия, не испытывали такой зависимости от государства, численность населения которого составляла, наверное, лишь одну двадцатую часть от численности населения этих стран»[113]. В генеральном штабе кайзера сообщение о вступлении Румынии в войну произвело эффект «разорвавшейся бомбы. Вильгельм II совершенно потерял голову, говоря, что война вконец проиграна, и считал, что мы должны просить о мире»[114]. Посол Габсбургов в Бухаресте, граф Оттокар Чернин, предсказывал с «математической точностью полный разгром Центральных держав и их союзников, если война будет продолжена»[115].
В данном случае Румыния бросила вызов своей удаче. Возглавляемое Германией контрнаступление превратило поражение в победу. К декабрю 1916 года силы германской и болгарской армий приближались к Бухаресту, а правительство Румынии и то, что оставалось от румынской армии, оказались на положении беженцев в российской Молдавии. Но эта полная драматизма цепочка событий создавала необходимый фон для противостояния Антанты, Германии и Вудро Вильсона зимой 1916/17 года. Курс Берлина на эскалацию был определен в конце августа 1916 года, когда кайзер сменил утратившего доверие вдохновителя битвы при Вердене Эрика фон Фалькенхайна на фельдмаршала Гинденбурга и начальника штаба Эрика Людендорфа в качестве главнокомандующего Третьей армией (3 Obersten Heeresleitung, OHL). Для Людендорфа и Гинденбурга, которые в течение предыдущих двух лет были заняты исключительно войной против России, близкое знакомство с ситуацией на Западном фронте оказалось настоящим шоком. Германия многое отдала в битве под Верденом. Но небывалый напор британского наступления на Сомме поднял планку на новую высоту. Первым шагом Гинденбурга и Людендорфа стало обустройство оборонительных позиций. Если они рассчитывали противостоять военным действиям Антанты, разросшимся до глобальных масштабов, то было необходимо провести еще одну мобилизацию в Германии. Получивший название «программы Гинденбурга», мобилизационный план предусматривал удвоение объемов производства боеприпасов в течение года. Поставленные задачи были выполнены, правда дорогой для тыла ценой. Между тем именно эти задачи обороны заставили главнокомандующего Третьей армии поддержать требование военно-морских сил о начале подводной войны. Для того чтобы Германия могла выжить, было необходимо нарушить поставки по трансатлантическим маршрутам. Гинденбург и Людендорф не сразу начали подводную войну. Они дали Бетманну Гольвегу выступить в роли посредника на мирных переговорах. Германские социалисты хотели быть уверенными в том, что поддерживают чисто оборонительную войну[116]. Риски, связанные с эскалацией подводной войны, были очевидны. Американцы будут возражать. Но ее дальнейшее откладывание было просто на руку Британии. К тому же с экономической точки зрения Северная Америка и так полностью была на стороне Антанты.
Неудивительно, что Антанта, перед которой стояла сложная задача получения в скором будущем очередного миллиардного займа в США, была не вполне уверена в том, что обязательно получит поддержку Америки. Тем не менее для Британии и Франции еще в большей степени, чем для Германии, переговоры о мире не представляли интереса. Спустя два года после начала войны Германия оккупировала Польшу, Бельгию, значительную часть севера Франции, а теперь – и Румынию. Сербия с карты исчезла. В Лондоне осенью 1916 года именно споры вокруг стратегических приоритетов третьего года войны привели к отставке правительства Эсквита[117]. Как это ни парадоксально, но именно те, кто больше всех был готов принять идею Вильсона о мирных переговорах, с наибольшим подозрением относились к долгосрочному наращиванию американской мощи. Это касалось в первую очередь либералов старой формации, таких как британский канцлер Реджинальд Маккенна. Предостерегая членов кабинета от продолжения избранного курса, он говорил: «Я осмелюсь с уверенностью сказать, что к июню следующего [1917] года или даже раньше президент Американской республики будет в состоянии, если пожелает того, диктовать нам свои собственные условия»[118]. Желание Маккенны избежать дальнейшего усиления зависимости от Америки было лицевой стороной неприязни Вильсона к европейской политике. С позиций обеих сторон лучшим способом свести к минимуму дальнейшее осложнение ситуации было скорейшее прекращение войны. Но к декабрю 1916 года Маккенна и Эсквит утратили свои полномочия. Коалицию, преданную идее нанесения решительного поражения Германии, возглавил Ллойд Джордж. Ирония состояла в том, что, хотя позиция коалиции не совпадала в главном с желанием Вильсона прекратить войну, сама коалиция – по своей основной линии – была самым последовательным сторонником атлантизма[119]. Как сообщал Ллойд Джордж госсекретарю Вильсона Роберту Лансингу, он с большим энтузиазмом смотрел в будущее в ожидании устойчивого мирового порядка, основанного на «активной симпатии двух великих англоязычных народов»[120]. Ранее в 1916 году он говорил полковнику Хаузу, что «если Соединенные Штаты будут на стороне Великобритании, то целый мир окажется не в состоянии поколебать наше совместное превосходство на море»[121]. Более того, «экономическая сила Соединенных Штатов» была «столь велика, что ни одна из воюющих стран не смогла бы противостоять ей…»[122] Но, как повторял Ллойд Джордж, начиная уже с лета 1916 года американские займы не просто определяли подчиненность Британии Уолл-стрит, но и создавали условия для взаимной зависимости. Чем больше займов Британия получит в Америке, чем больше товаров она там закупит, тем труднее будет Вильсону отделить свою страну от судьбы Антанты[123].
2 Мир без победы
Год 1916 близился к концу, и обе стороны, воюющие в Европе, готовились к тому, чтобы пойти на значительный риск, полагая, что финансовые связи Америки и Антанты рано или поздно вынудят Вашингтон стать на сторону Антанты. И это не было государственной тайной. Подобные настроения получили широкое распространение. В июне 1916 года находившийся в изгнании в Цюрихе русский радикал Владимир Ильич Ленин писал заключительные строки того, что станет впоследствии одним из самых известных его популярных очерков, а именно – «Империализма, как высшей стадии капитализма»[124]. В ней общеизвестные предположения о необходимости американского вмешательства представлялись в виде непробиваемой теоретической догмы. Согласно Ленину, в эпоху империализма государство используется в борьбе как инструмент обеспечения интересов деловых кругов страны. По этой логике было очевидно, что рано или поздно Вашингтон должен объявить войну Германии.
Но ни в одном из подобных рассуждений не учитывался примечательный ход развития событий в период с ноября 1916 года до весны 1917 года. Американский президент, избранный на второй срок с мандатом на то, чтобы не допустить вступления Америки в войну, намеревался пойти намного дальше. Он хотел не просто сохранить нейтралитет, но завершить войну на условиях, при которых Вашингтон займет исключительное, ведущее место в мире. Ленин объявлял империализм высшей стадией развития капитализма, но у Вильсона имелись свои соображения[125]. Как оказалось, свои соображения были и у воюющих сторон. Если возврат к довоенному миру империализма был невозможен, то и революция была не единственной альтернативой.
I
На протяжении всего октября 1916 года банковский дом Дж. П. Моргана в срочном порядке обсуждал с Британией и Францией финансовые перспективы союзников. Для предстоящей военной кампании Антанта предлагала собрать по меньшей мере полтора миллиарда долларов. Осознавая размеры этой суммы, Дж. П. Морган пытался заручиться поддержкой ФРС и самого Вильсона. Но такой поддержки он не находил[126]. Приближался день выборов, назначенных на 7 ноября, и Вильсон работал над проектом публичного обращения, призывающего американцев воздержаться от дальнейшего хранения своих сбережений в займах Антанты, с которым предстояло выступить председателю Совета ФРС[127]. 27 ноября 1916 года, за четыре дня до того, как Дж. П. Морган планировал начать выпуск облигаций англо-американского займа, ФРС направила во все банки-участники предписание, в котором указывалось, что в целях обеспечения стабильности американской финансовой системы ФРС считает нежелательным дальнейшее увеличение доли американских инвесторов в британских и французских ценных бумагах. На Уолл-стрит началась паника, спекулянты распродавали фунты стерлингов, а Дж. П. Морган и министерство финансов Соединенного Королевства были вынуждены скупать их в экстренном порядке, чтобы поддержать курс британской валюты[128]. В то же время британское правительство было вынуждено приостановить поддержку закупок, осуществляемых Францией[129]. Все старания Антанты обеспечить свои финансы оказались под угрозой. В России осенью 1916 года нарастало возмущение требованием Британии и Франции перевезти в Лондон золотой резерв страны для обеспечения заимствований союзников. Без американской помощи под угрозой оказывалось не только терпение финансовых рынков, но и сама Антанта[130]. Год подходил к концу, и военный комитет британского правительства пришел к печальному выводу о том, что единственным возможным объяснением могло быть то, что Вильсон решил не оставлять им выбора и прекратить войну в течение ближайших недель. Это зловещее предположение подтвердилось, когда Лондон получил сообщение от своего посла в Вашингтоне о том, что именно президент настоял на резких формулировках в обращении ФРС.
Если учесть масштабы запросов, которые Антанта передала на Уолл-стрит в 1916 году, то станет ясно, что мнение против предоставления Лондону и Парижу дальнейших крупных займов начинало складываться еще до обращения ФРС[131]. Но правительство не могло оставить без внимания и открытую враждебность американского президента. А Вильсон был решительно настроен повысить ставки. 12 декабря рейхсканцлер Бетман Гольвег, не раскрывая собственных целей Германии, сделал упреждающее предложение о проведении мирных переговоров. Вильсон не изменил своей позиции и 18 декабря выступил с ответной нотой, в которой призвал обе стороны заявить о своих целях в войне, которые оправдывали бы продолжение этой кошмарной бойни. Это была открытая попытка объявить войну нелегитимной, тем более тревожная, если учесть ее совпадение с инициативой Берлина. Реакция Уолл-стрит была незамедлительной. Акции оборонной промышленности упали, а германский посол Иоганн Генрих фон Бернсторф и зять Вильсона министр финансов Уильям Гиббс Мак-Эду обнаружили, что их обвиняют в том, что они заработали миллионы, играя против акций, связанных с поставками вооружений Антанте[132]. В Лондоне и Париже последствия оказались более серьезными. Утверждали, что король Георг V плакал[133]. В британском кабинете министров все были в ярости. Лондонская The Times призывала к сдержанности, но не могла скрыть своего смятения в связи с отказом Вильсона сделать различие между двумя сторонами[134]. Это самый жестокий удар, полученный Францией за 29 месяцев войны, – взорвалась патриотическая пресса Парижа[135]. Германские войска продвинулись вглубь территории стран Антанты и на востоке, и на западе. Их было необходимо вывести, прежде чем думать о переговорах. Но неожиданная перемена военной фортуны в конце лета 1916 года делала это маловероятным. Было ясно, что Австрия находится на грани крушения[136]. Когда в конце января 1917 года страны Антанты встретились на военной конференции в Петрограде, разговор шел о новой серии концентрических наступательных операций.
Вмешательство Вильсона создавало очень неловкое положение, но, к счастью Антанты, Центральные державы первыми отвергли предложение Вильсона о посредничестве. Это позволило Антанте выступить 10 января с собственным заявлением, в котором в осторожной форме излагались цели войны. В заявлении содержались требования вывода войск из Бельгии и Сербии, а также возврата Эльзас-Лотарингии, но наиболее настойчиво звучало требование самоопределения угнетенных народов Османской империи и империи Габсбургов[137]. Это было заявлением о продолжении войны, а не о безотлагательном начале переговоров, и здесь возникал неизбежный вопрос: как оплачивать расходы на проведение этих кампаний? Для покрытия расходов на закупки в США, составлявших 75 млн долларов в неделю, Британия могла в январе 1917 года собрать не более 215 млн долларов за счет имеющихся в Нью-Йорке активов. А потом ей пришлось бы привлечь последние остатки золотого резерва, размещенного в Банке Англии, которых хватило бы на совершение закупок в течение шести недель, не более[138]. В январе у Лондона не оставалось иного выхода, кроме как обратиться с просьбой к банковскому дому Дж. П. Моргана о начале подготовки перевыпуска облигаций, который был прерван в ноябре. И вновь подсчеты производились без президента.
В 13 часов 22 января 1917 года Вудро Вильсон направился к трибуне Сената США[139]. Момент был напряженный. Сенаторы узнали о предстоящем выступлении президента лишь во время ланча. Это было первое прямое обращение президента к благородному собранию после Дня рождения Джорджа Вашингтона. И это было событием не только на американской политической арене. Было ясно, что Вильсону придется говорить о войне, и это будет не просто комментарий. Считается, что становление Вильсона как лидера мирового масштаба произошло годом позже, в январе 1918 года, когда он выдвинул «14 пунктов». Но фактически именно в январе 1917 года американский президент впервые открыто заявил о претензиях на роль мирового лидера. Текст выступления был разослан в главные европейские столицы одновременно с выступлением президента в Сенате. 22 января, как и в речи, посвященной «14 пунктам», Вильсон говорил о необходимости создания нового мирового порядка, опирающегося на Лигу Наций, разоружение и свободу морей. Но если «14 пунктов» были манифестом военного времени, который прекрасно вписывался в полувековую сюжетную линию американского мирового господства, то речь, произнесенная Вильсоном 22 января, воспринимается с гораздо большим трудом.
В январе 1917 года широко распахнулись двери, ведущие в век Америки, и в проеме в спокойной позе стоял Вильсон. Он пришел не для того, чтобы поддержать ту или иную сторону, но для того, чтобы заключить мир. Первое открытое притязание Америки на мировое господство в XX веке было направлено не на то, чтобы обеспечить победу «нужной» стороны, а на то, чтобы не победила ни одна из сторон[140]. Мир, открывающий перспективы сотрудничества всех крупных мировых держав, был возможен лишь при условии, что его примут все стороны. Все участники Великой войны должны признать глубокую бессмысленность конфликта. Это означало, что война могла иметь один-единственный исход – «мир без победы». Именно в этой фразе заключалась позиция морального паритета, позволявшая Вильсону держать европейцев на расстоянии с самого начала войны. Он понимал, что такая позиция будет встречена в штыки многими из тех, кто слушал его в январе 1917 года[141] «Неприятно говорить об этом… Я лишь стараюсь смотреть правде в глаза, ничего не утаивая». США не должны принимать ту или иную сторону в продолжающейся бойне. Америка, продолжая оказывать помощь Британии, Франции и Антанте, безусловно, обеспечит их победу. Но, поступая таким образом, Америка поддержит нескончаемый кошмарный круг насилия, характерный для Старого Света. Это было бы, утверждал Вильсон в частной беседе, ничем иным, как «преступлением против цивилизации»[142].
Позднее Вильсона обвинят в идеалистической вере в то, что Лига Наций сможет сама по себе обеспечить мир, и в том, что он, прикрываясь моралью, ушел от вопроса о власти. Неспособность серьезно отнестись к вопросу о международном принуждении к миру была осуждена как врожденный порок интернационалистского «идеализма». Но в этом смысле Вильсон никогда не был идеалистом. В январе 1917 года он призывал к «миру, который будет обеспечен организованной главной силой человечества». Если война завершится делением на победителей и побежденных, то для поддержания мира потребуются значительные силы. А Вильсон стремился к разоружению. Он хотел любой ценой избежать «опруссения» самой Америки. Вот почему был столь необходим мир без победы. «Победа означает мир, навязанный проигравшему… Такой мир принимают со смирением, по принуждению, с невыносимой жертвенностью, он причиняет острую боль, вызывает чувство протеста и горькие воспоминания, а на этих условиях мир не будет постоянным, он будет держаться как на сыпучем песке.» «Правильное направление мысли, правильные чувства между народами так же необходимы для устойчивого мира, как и справедливое решение спорных вопросов территориального, расового или национального характера. Мир, в котором не признается и не принимается этот принцип, неизбежно будет нарушен. Он не сможет устоять, опираясь на симпатии или убеждения человечества»[143]. Именно о создании необходимых условий для мира, поддержание которого не потребует дорогостоящей международной системы безопасности, говорил Вильсон в январе 1917 года, призывая положить конец войне. Истощение воинственного духа во всех странах, показ примера того, что война утратила смысл, сделало бы Лигу самодостаточной.
Но если, говоря о мире между равными, Вильсон имел в виду именно это, то здесь было еще одно обстоятельство. Среди американских президентов Вильсон известен как великий интернационалист. Однако в мире, который он хотел создать, исключительное положение Америки во главе цивилизации должно было быть выгравировано на могильном камне европейских держав. Мир между равными, о котором думал Вильсон, должен был стать миром коллективного истощения Европы. Прекрасный новый мир должен был начинаться с коллективного смирения всех европейских держав, которые припадут к ногам Соединенных Штатов, победоносно возвышающихся как непредвзятый арбитр, как начало нового мирового порядка[144]. Позиция Вильсона не была ни проявлением мягкотелого идеализма, ни планом подчинения суверенитета США международному органу. На самом деле он выступил с непомерными претензиями Америки на моральное превосходство, коренившимися в особом видении ее исторической судьбы.
II
В отличие от программы «14 пунктов», представленной в 1918 году, реакция на призыв Вильсона к «миру без побед» в январе 1917 года была явно неоднозначной[145]. В США президента приветствовали прогрессисты и сторонники из числа левых. Большинство республиканцев, напротив, с возмущением реагировали на то, что было ими воспринято как беспрецедентное предвзятое вмешательство исполнительной власти. Обращение президента, последовавшее за выборами 1916 года, результаты которых многими оспаривались, было, как возмущенно говорил один республиканец, «демагогической речью, произнесенной с трона», невиданным использованием Сената ангажированной исполнительной властью в качестве своей платформы[146]. Еще один слушатель поделился впечатлением, что Вильсон «считает себя президентом всего мира». Чарльз Остин Бирд, видный прогрессивный историк, писал в своем комментарии в The New York Times, что единственным разумным объяснением этой инициативы Вильсона было то, что, как и в 1905 году, когда президент Рузвельт выступил в роли посредника в русско-японской войне, одна из сторон конфликта была на грани банкротства, и ей требовалось немедленное прекращение противоборства[147]. Антанта опасалась именно того, что Вильсон намерен довести ее до банкротства. Для Парижа и Лондона вопросы, поднятые в речи Вильсона, были больше, чем просто тонкости конституции. Предлагаемая им концепция угрожала единству в тылу союзников, которое до сих пор позволяло им продолжать войну во многом за счет призыва добровольцев, не прибегая к безжалостным репрессиям в стране. Но еще больше тревожило то, что Вильсон прекрасно понимал, что он делает. «Возможно, я единственный человек в мире, обладающий верховной властью, – заявил президент, выступая в Сенате, – который может говорить свободно, ничего не скрывая». «Излишним будет добавлять, – продолжал он, – что я надеюсь и верю в то, что я действительно говорю от лица либералов и друзей гуманности в любой стране, представляя все программы освобождения?» В самом деле, продолжал Вильсон, «я охотно поверил бы в то, что я говорю от имени молчаливых масс людей во всем мире, которым до сих пор не представилось места или возможности от всего сердца высказаться о смерти и разрухе, на их глазах обрушившихся на самых дорогих им людей и их дома».
Именно здесь стал ясен истинный посыл обращения Вильсона. Американский президент поднимал вопрос о легитимности представительских полномочий правительств воюющих стран. И этот намек Вильсона не остался незамеченным теми организациями, которые действовали в странах Антанты и совсем не молчаливо претендовали на то, чтобы выступать от имени «массы человечества». 22 января, в день, когда Вильсон выступал со своим обращением, в Манчестере собрались представители британского лейбористского движения – 700 делегатов, включая одного из министров в новом составе правительства Ллойда Джорджа, представлявшие 2 млн 250 тысяч членов движения, что более чем вчетверо превышало их численность в 1901 году, когда состоялся первый съезд[148]. Дискуссия проходила в патриотических тонах. Но когда прозвучало имя Вильсона, антивоенная фракция, организованная в Независимую лейбористскую партию, взорвалась всплеском хорошо отрепетированных оваций[149]. Газета The Times осудила этот их поступок, а «Манчестер Гардиан» аплодировала ему[150]. 26 января 80 депутатов-социалистов французского парламента призвали правительство выразить свое согласие с «высокими и разумными настроениями» Вильсона[151].
Все это должно было открыть перед Германией поистине исторические возможности. Американский президент положил войну на чашу весов и отказался стать на сторону Антанты. Когда блокада показала значение британского присутствия на море для мировой торговли, Вильсон выдвинул свою собственную беспрецедентную программу развития военно-морских сил. Похоже, он склонялся к тому, чтобы не допустить дальнейшей мобилизации американской экономики. Президент призвал к началу мирных переговоров еще тогда, когда перевес был на стороне Германии. Его не смущал тот факт, что первым подобный шаг сделал Бетман Хольвег. Теперь он вполне открыто обращался к народам Британии, Франции и Италии через головы их правительств, требуя положить конец войне. В посольстве Германии в Вашингтоне прекрасно понимали значение слов президента и отчаянно призывали Берлин к позитивной реакции. Еще в сентябре 1916 года, после длительных переговоров с полковником Хаузом, посол Бернсторф направил в Берлин телеграмму, в которой сообщал, что американский президент вскоре после окончания выборов хотел бы выступить в качестве посредника и что «Вильсон считает в интересах Америки, чтобы ни одна из воюющих сторон не одержала решающей победы»[152]. В декабре посол старался донести до Берлина важность вмешательства Вильсона в деятельность финансовых рынков, которое было намного менее опасным способом сдерживания Антанты, чем полномасштабная война подводных лодок. Прежде всего, Бернсторф понимал устремления Вильсона. Если Вильсону удастся положить конец войне, он сможет претендовать на лавры «главной политической фигуры на мировой арене»[153]. Если Германия решится препятствовать ему, то ей следует готовиться к его гневной реакции. Но подобных обращений было недостаточно для того, чтобы остановить логику эскалации, которая была запущена почти удавшимся прорывом Антанты в конце лета 1916 года.
Генералы Гинденбург и Людендорф спасли Германию от России в 1914 году и завоевали Польшу в 1915 году. Но в состав Верховной ставки они попали благодаря кризису в Центральных державах в августе 1916 года. С тех пор этот опыт почти произошедшей катастрофы определял военную политику Германии. В 1916 году Германия пыталась обескровить Францию под Верденом, но, опасаясь реакции со стороны Америки, приостановила атаки своих подводных лодок. Антанта выжила. Удары, нанесенные по Австрии в течение лета 1916 года, были почти смертельными. С учетом сил, мобилизованных в то же время Антантой, дальнейшая сдержанность оборачивалась катастрофой. Руководство в Берлине никогда не воспринимало всерьез мысль о том, что Вильсону удастся остановить войну. Они были уверены, что при всех нюансах американской политики американская экономика все в большей степени ориентируется на Антанту. Эффект был ожидаемым. Руководствуясь своими детерминистскими взглядами на американскую политику, кайзеровские стратеги выбили почву из-под ног Вильсона. 9 января 1917 года, вопреки невнятным возражениям рейхсканцлера, Гинденбург и Людендорф добились решения о возобновлении неограниченной подводной войны[154]. Менее чем через две недели степень их просчета стала очевидной. Даже 22 января 1917 года, когда Вильсон направлялся к трибуне Сената, чтобы призвать к окончанию войны, германские подводные лодки пробивались сквозь зимнее море, вновь занимая боевые позиции на широкой дуге вблизи атлантического побережья Британии и Франции. И когда посол Бернсторф, испытывая муки, информировал об этом Государственный департамент, отзывать подводные лодки назад было уже поздно. В 17 часов 31 января Бернсторф вручил госсекретарю Лансингу официальное заявление о начале неограниченной подводной войны на маршрутах поставок грузов для Антанты в Атлантике и на Восточном Средиземноморье. 3 февраля Конгресс одобрил решение о разрыве дипломатических отношений с Германией.
Решение Германии обрекло «мир без победы» на историческое забвение. Это ввергло Америку в войну, чему так сопротивлялся Вильсон. Он лишался роли арбитра мира во всем мире, к которой он искренне стремился. Возобновление неограниченной войны подводных лодок 9 января 1917 года стало поворотным моментом мировой истории. Оно стало еще одним звеном в цепи агрессии, связывающей август 1914 года с неудержимым наступлением Гитлера в период 1938–1942 годов, что еще более укрепляло образ Германии как неудержимой жестокой силы. Уже тогда неограниченная подводная война была предметом мучительного переосмысления. Как писал в своих дневниках Курт Рейслер, советник по дипломатическим вопросам Бетмана Гольвега, «вездесущая судьба подсказывает мысль о том, что Вильсон на самом деле мог иметь намерение оказать давление на противную сторону, он располагал для этого средствами, и это было бы в 100 раз лучше, чем война подводных лодок»[155]. Для либералов-националистов, таких как великий социолог Макс Вебер, бывший одним из наиболее проницательных политических наблюдателей своего времени, готовность Бетмана Гольвега позволить техническим доводам военных возобладать над его собственным здравым смыслом было изобличающим свидетельством долговременного урона, нанесенного Бисмарком политической культуре Германии[156].
Но если объяснять крах политики «мира без победы» лишь необычными патологиями в политической истории Германии, то будет трудно в полной мере оценить значение разлада между Вашингтоном и Антантой зимой 1916/17 года. Вызов, брошенный Вильсоном, был направлен не одной Германии, а Европе в целом. На самом деле этот вызов был принципиально направлен Антанте. Начиная с наступательной операции на Сомме в июле 1916 года, именно Антанта расширяла и усиливала конфликт, взяв на себя инициативу в ответ на очевидное стремление Вильсона к мирным переговорам. Такая ситуация вынуждала Германию подталкивать Америку в лагерь Антанты, но и Антанта очень сильно рисковала. Как ни парадоксально, но Антанта шла на этот риск, руководствуясь соображениями, дополнявшими те, по которым Германия избрала катастрофический для себя путь агрессии. Если бы Лондон и Париж еще сильнее втянули Америку в свои военные действия, это привело бы к усилению позиции Вильсона. Но на деле такая логика стала реальностью лишь потому, что она отвечала ожиданиям Германии. В ретроспективе ситуация может выглядеть не столь очевидной, но современники о ней не забывали. Эта логика вновь вернет их к политике перемирия в октябре 1918 года. Но даже когда неограниченная война под водой началась, было не ясно, что все уже решено.
III
Вслед за разрывом дипломатических отношений с Германией многие в администрации Вильсона, – пожалуй, наиболее заметным из них был госсекретарь Лансинг, – хотели теперь полностью ориентироваться на Антанту. Америка, утверждал Лансинг, должна встать в один ряд со своими «естественными» союзниками в деле «освобождения человечества и подавления абсолютизма»[157]. В полную силу звучали голоса за союз с Антантой в возглавляемой Тедди Рузвельтом республиканской партии. Британское правительство с готовностью воспользовалось этой возможностью создания трансатлантического политического союза. С опозданием поняв, что, как говорил британский посол в Вашингтоне, «Морганы не могут считаться заменой соответствующих дипломатических представителей на переговорах, способных затронуть наши отношения с Соединенными Штатами», Лондон спешно направляет в Вашингтон делегацию министерства финансов, надеясь наладить межправительственные контакты[158].
К 1917 году идея тесного сотрудничества стран Атлантики была с легкостью принята Антантой[159]. Еще до начала войны, в период второго марокканского кризиса в Агадире в 1911 году, все чаще были слышны речи, подчеркивающие политическую солидарность Британии и Франции в противостоянии угрозам со стороны германского империализма. Ллойд Джордж, глубоко разочарованный крахом надежд на англо-германское сближение, стал считать Францию «идеологическим партнером Британии в Европе». Сохранение этого союза против «тронных палестин Европы» обретало особое значение[160]. В своих выступлениях во время войны Ллойд Джордж не стеснялся связывать британскую демократию с европейской революционной традицией. Нокаутирующий удар по имперской Германии, обещал он, обеспечит всем «свободу, равенство, братство»[161]. Обращение к общему атлантическому наследию в борьбе за освобождение и свободу оказалось лишь следующим шагом в этой цепочке исторических и идеологических ассоциаций.
Такой образ мысли был еще более близок французским республиканцам. Еще перед войной многие в Третьей республике видели в союзе с Британией «либеральный альянс», который поможет Франции избавиться от ее достойной сожаления зависимости от союза с российским самодержавием[162]. Миссия Андре Тардье, одного из ближайших сподвижников премьер-министра Жоржа Клемансо, прибывшего в Вашингтон в мае 1917 года, состояла в передаче обращения к «двум демократиям, Франции и Америке» с призывом встать плечом к плечу, доказав, что «республики ни в чем не уступают монархиям, когда на них нападают и они вынуждены обороняться»[163]. Разумеется, в Соединенных Штатах многие желали присоединиться к этим голосам. Весной 1917 года французскую делегацию, посетившую Вашингтон и Нью-Йорк, чествовали как наследников Лафайета, который помог колонистам завоевать свободу в 1776 году. Но ни стратеги Антанты, ни Германия не могли понять позиции Белого дома и значительной части общественного мнения Америки, которую представлял президент Вильсон. Несмотря на германскую агрессию, Америка еще не вступила в войну, а президент и его окружение продолжали пренебрегать Антантой[164].
Нежелание Вильсона вмешиваться в европейский конфликт происходило отчасти из его веры в то, что на кону стояло нечто намного большее. Как мы увидим в главе 5, весной 1917 года президент был серьезно озабочен событиями в Китае. Его сильно беспокоила роль Японии как союзника Антанты. Зимой 1916/17 года стратегия американского руководства, стоявшая за призывом к миру без победы, была исчерпывающе изложена с расовой точки зрения. Учитывая уязвимость Китая и стремительный рост мощи Японии, Вильсон в подавлении саморазрушительного насилия европейского империализма делал ставку не просто на решение мелких ссор в Старом Свете, но ни больше ни меньше как на будущее «верховенство белых на планете»[165]. Когда в конце января 1917 года в американском правительстве обсуждались последние европейские события, один из свидетелей так описывал ход мысли Вильсона: президент «все сильнее проникался идеей о том, что „белая цивилизация“ и ее доминирующая роль в мире во многом зависели от нашей способности сохранить Америку в целости, так как нам предстояло поднимать страны, разоренные войной. Он говорил, что, когда у него возникла эта мысль, он почувствовал в себе готовность пойти на все, лишь бы не позволить стране оказаться на деле втянутой в конфликт»[166]. Когда Вильсон говорил о том, что было бы «преступлением против цивилизации» позволить втянуть Америку в войну, он имел в виду «белую цивилизацию». В Британии многие разделяли расовые взгляды Вильсона на мировую историю. Но именно для того, чтобы Британия могла сосредоточить свои основные силы в Азии, они считали необходимым обуздать Германию. Война в Европе не отвлекала от борьбы, развернувшейся по всему миру, она была неотъемлемой частью этой борьбы. Но почему же в таком случае президент столь противился тому, что затрагивало жизненно важные интересы Америки? Несмотря на старания Антанты сверить свои цели с тем, что было ценным для Америки, Вильсон продолжал относиться к этому с глубоким скептицизмом. И если мы проследим становление Вильсона как политика начиная с XIX века, нам станет ясно почему.
Взгляды Вильсона на историю как консервативного южанина-либерала формировались под воздействием двух великих событий: катастрофы, которой обернулась Гражданская война, и драматических событий революций XVIII века в изложении англо-ирландского консерватора Эдмунда Берка[167]. В 1896 году Вильсон написал блестящее предисловие к одной из самых знаменитых речей Берка «О примирении с колониями». Произнесенная в 1775 году, эта речь имела для Вильсона основополагающее значение. В своем выступлении Берк восхвалял свободолюбивых американских колонистов и «ненавидел французскую революционную философию и считал ее неподходящей для свободных людей». Вильсон от всей души был согласен с этим. Оглядываясь назад более чем на сто лет, прошедших после революции, он порицал наследие этой философии как «крайне вредное и разлагающее. Ни одним государством нельзя руководить исходя из этих принципов. Поскольку они гласят, что правительство является предметом договора и целенаправленных действий, в то время как на деле оно представляет собой институт привычки, объединенный множеством связей, среди последних вряд ли можно найти одну, которая была бы создана преднамеренно…» Обманчивой идее о возможности достижения самоопределения в результате единого революционного порыва Вильсон противопоставляет мысль о том, что «в правительствах никогда не происходило успешных перемен постоянного свойства, за исключением тех, которые достигались в результате медленных преобразований, осуществляемых из поколения в поколение»[168]. Помня об опыте французских событий 1789, 18301848 и 1870 годов, Вильсон в одном из своих ранних эссе выдвинул предположение о том, что «демократия в Европе всегда носила характер бунта, разрушительной силы… Она приводила к созданию таких временных правительств, какие могла строить… из дискредитированных остатков центральной власти, привлекая народных представителей на один сезон, но обеспечивая почти в той же малой степени, что и прежде, повседневное местное самоуправление, которое так близко самому сердцу свободы»[169]. Еще в 1900 году он воспринимал французскую Третью республику как опасного своим непостоянством потомка абсолютной монархии, «эксцентричное влияние» которого принесло дурную славу всему проекту демократии в современном мире[170].
Для Вильсона истинная свобода неизбежно зиждилась на глубоко укоренившихся качествах образа жизни, присущего данной стране и данной расе. Неумение понять это вело к непониманию основ самой американской идентичности. Американцы «позолоченного века», отмечал Вильсон, имели склонность воспринимать самих себя утратившими революционный пыл, который, как они воображали, двигал отцами-основателями. Они считали, что получили прививку «опыта… от инфекций многообещающих революций». Но в основе этого чувства лежал «старый самообман». «Если мы испытываем разочарование, то это разочарование очнувшихся от сна». Те, кто романтизировал американскую революцию XVIII века, «видели сон». На деле, «правительство, которое мы основали сто лет назад, не было никаким экспериментом в продвижении демократии.» Американцы «никогда не внимали Руссо, не следовали за Европой в ее революционных сантиментах». Сила демократического самоопределения по-американски состояла именно в том, что оно не было революционным. Оно получило всю силу в наследство от своих предшественников. «Ему не было нужды ниспровергать другие формы государственного устройства; ему требовалось только самоорганизоваться. Ему не было нужды создавать самоуправление, достаточно было расширить его. Ему не требовалось ничего – только лишь систематизировать свой образ жизни»[171]. Словами, в которых эхом отзовутся его взгляды на Первую мировую войну, Вильсон утверждал: «нет почти ничего общего между народными волнениями, происходившими во Франции во время Великой революции, и созданием правительства, подобного нашему собственному… Сто лет назад мы заявили о том, чего Европа лишилась… самообладания, выдержки»[172]. Здесь он выразил свое необычное личное отношение к общему чувству отчуждения, с которым многие американцы воспринимали Старый Свет. В разгар кризиса мировой войны Вильсон был полон решимости продемонстрировать, что Америка не утратила своей «выдержки», которую он ценил превыше всего прочего.
Вильсону, без сомнения, было намного проще с британцами, чем с французами, он красноречиво описывал преимущества британской конституции. Но именно потому, что Британия была страной, в которой исторически брала свое начало политическая культура Америки, Вильсону было важно, чтобы она оставалась в прошлом. Мысль о том, что Британия может продвигаться по пути демократического прогресса, находясь не позади Америки, а шагая рядом с ней, глубоко расстраивала его. В Белом доме не осознавали того, что Ллойд Джордж, ставший премьер-министром через несколько недель после переизбрания Вильсона, был, возможно, величайшим подвижником демократии в Европе начала XX века. Вильсон с радостью соглашался с радикальными критиками, называвшими премьер- министра реакционным поджигателем войны[173]. Полковник Хауз во время своих поездок в Лондон с гораздо большим желанием поддерживал отношения с такими видными тори, как лорд Бальфур, и грандами либералов старой школы, подобными сэру Эдварду Грею, которые отвечали застывшим во времени представлениям Вильсона о британской политике намного лучше, чем популист Ллойд Джордж.
IV
У европейцев, натолкнувшихся на такой ряд стереотипов, был соблазн реагировать исходя из собственного понимания стилизованных трансатлантических различий. В Версале Жорж Клемансо отмечал, что ему легче переваривать церемонность Вильсона, когда он вспоминает о том, что этот американец никогда не «жил в мире, в котором хорошим вкусом считалось пристрелить демократа»[174]. Но Клемансо, возможно, из соображений вежливости или в силу того, что что-то забыл за свою продолжительную карьеру, так и не заметил, что и он сам, и Вильсон фактически разделяли общую точку зрения на действительно насильственный период в политической борьбе не в Европе, а в самой Америке. Хотя Гражданская война закончилась уже полвека назад, она затрагивала скрытый в глубине источник обеспокоенности Вильсона риторикой справедливой войны, с такой готовностью подхваченной весной 1917 года Антантой и ее ярыми сторонниками в Америке.
Если на проведенные на Юге детские годы Вильсона оказала влияние Гражданская война, то Клемансо находился под влиянием французской революционной традиции[175]. Его отец был арестован за то, что выступал против узурпации власти Бонапартом во время революции 1848 года, и едва избежал высылки в Алжир. В 1862 году сам Клемансо отбыл срок в печально знаменитой мазасской тюрьме, куда он попал за подстрекательство. В 1865 году, подавленный и утративший надежды на будущее во Франции Наполеона III, Клемансо отправился туда, где шла великая битва XIX века за демократическую политику, – на Гражданскую войну в Америку. Получив недавно диплом медика, он хотел поступить добровольцем в медицинскую службу в юнионистскую армию Линкольна или жить жизнью первопроходца на американском Западе. Вместо этого он обосновался в Коннектикуте и Нью-Йорке и в течение ряда последующих лет опубликовал в либеральной газете Le Temps запоминающуюся серию репортажей, посвященных ожесточенной борьбе за окончательную победу над Югом в ходе всесторонней реконструкции. Верный своим убеждениям, Клемансо считал период реконструкции героической попыткой завершить победоносную справедливую войну «второй революцией». Эта битва закончилась, к радости Клемансо, принятием в феврале 1869 года 15-й поправки, предусматривающей право голоса для афроамериканцев. Клемансо считал радикально настроенных республиканцев-аболиционистов «наиболее достойными и рафинированными представителями народа», вдохновленными «всей силой ярости Робеспьера»[176]. В устах Клемансо это было самой высокой похвалой. Сторонники реконструкции сражались за спасение Соединенных Штатов от «моральной разрухи» и «невзгод» в противостоянии жестоким, корыстным и крикливым демократам-южанам.
В этой массе людей можно было встретить Вудро Вильсона, который еще в молодости удивлял всех знакомых своей твердой приверженностью делу Юга. Как автор популярных бестселлеров, выпущенных в 1880-х и 1890-х годах, профессор Вильсон завершил свое хвалебное повествование о становлении американской нации периодом празднования примирения между Севером и Югом – примирения, которое вело к осуждению реконструкции и обрекало чернокожее население на превращение в лишенных права голоса деклассированных жителей. Для Вильсона герои репортажей Клемансо были архитекторами «безупречного здания страха, деморализации, отвращения и социальной революции». В своей решимости «поставить белый Юг под каблук черного Юга» сторонники реконструкции навязали южным штатам политику «правь или разрушай»[177]. Нельзя не задаться вопросом, что подумал бы будущий президент США, если, будучи подростком-южанином, он прочитал бы такие заметки, передававшиеся в Париж в январе 1867 года будущим руководителям воюющей Франции: «Если северное большинство ослабнет и представители народа позволят убедить себя в том, что в интересах примирения или обеспечения прав штатов следует позволить южанам спокойно вернуться в Конгресс, то мира внутри страны не будет еще четверть столетия. Партия южан- рабовладельцев в сочетании с партией северян-демократов будет достаточно сильна для того, чтобы подавить все попытки аболиционистов, а окончательное и полное освобождение людей с другим цветом кожи будет отложено на неопределенное время»[178]. Вильсон, первый южанин со времен Гражданской войны, ставший президентом, был обязан своей карьерой этому отложенному во времени торжеству справедливости.
Если в 1917 году Клемансо был слишком занят для того, чтобы уделять много времени воспоминаниям полувековой давности, то для американских оппонентов Вильсона исторический резонанс «мира без победы» был слишком большим искушением. Объявленная Германией 30 января 1917 года война подводных лодок омрачила не только речь Вильсона в Сенате, но и одну из наиболее яростных атак на нее со стороны Тедди Рузвельта[179]. Он быстро распознал консервативный исторический подход Вильсона к вопросам войны. В период колониализма именно «тори 1776 года», напоминал Рузвельт своим слушателям, хотели компромисса с Британией и «требовали мира без победы». В 1864 году, когда Гражданская война в Америке уже заканчивалась, именно так называемые медноголовые «требовали мира без победы…»[180] Теперь «мистер Вильсон» призывает к тому, чтобы «мир пошел на бесчестный договор о мире, предлагаемый медноголовыми; мир без победы правого дела; мир, позволяющий торжествовать неправым; мир, за который в нейтральных странах выступали апостолы трусливости и алчности»[181]. Медноголовыми называли представителей фракции прорабовладельческой демократической партии, цеплявшейся за идею политического выживания Севера в Гражданской войне, особенно в Иллинойсе, родном штате Линкольна. В 1864 году в самый разгар сражений они выступили за мирный компромисс с восставшими на Юге рабовладельцами. Сторонники полной победы Севера назвали их медноголовыми по аналогии с ядовитой змеей.
V
К началу марта 1917 года Америка все еще не вступила в войну. К глубокому разочарованию значительной части своего окружения, президент все еще настаивал на том, что будет «преступлением» позволить втянуть Америку в конфликт, потому что это сделает невозможным «последующее спасение Европы»[182]. В присутствии всех членов кабинета он отверг аргумент госсекретаря Лансинга о том, что «неотъемлемой частью постоянного мира должно стать политическое освобождение всех стран»[183]. Конечно же, Вильсон хотел всеобщего примирения. Мир без победы мог обеспечить это, но политический облик той или иной страны был другим вопросом. Он был выражением состояния жизни внутри страны. Думать, что «освобождение» какой-либо страны возможно в результате толчка извне, означало повторить заблуждение французской революционной мысли. Любой стране требовались время и защита со стороны нового мирового порядка для того, чтобы она могла развиваться по своему собственному пути. Вильсон опасался, что под идеологическим покрывалом развернутой либералами кампании порок милитаризма Старого Света разовьется на новой благодатной почве Америки. «Junkerthum… прокрадется под прикрытием… патриотических чувств»[184]. Вильсон продолжал настаивать на том, что «может быть, справедливее будет завершить конфликт вничью, бросив жребий»[185]. Лишь когда Германия столь катастрофически несвоевременно развязала агрессию, Вильсон наконец был вынужден оставить свою позицию морального паритета. Последнее слово оставалось не за подводными лодками.
В конце февраля 1917 года британская разведка перехватила на трансатлантической линии сверхсекретную телеграмму. В ней говорилось о том, что министерство иностранных дел Германии уполномочивает посольство Германии в Мехико предложить мексиканскому правительству генерала Каррансы создать совместно с Японией антиамериканский союз. В обмен на военную помощь, представленную Германией, Мексика должна была немедленно атаковать Техас, Нью-Мехико и Аризону[186]. К 26 февраля Вашингтон получил эту информацию. Днем позже информация стала общедоступной. Сначала прогерманские круги в США заявили, что это невозможно. В конце февраля 1917 года американский активист немецкого происхождения Джордж Сильвестер Виерек возражал владельцу газеты Уильяму Рэндольфу Херсту: «…так называемое письмо… очевидно является фальшивкой; невозможно поверить в то, что министр иностранных дел Германии поставит свое имя под столь абсурдным документом. Realpolitiker на Вильгельмштрассе никогда бы не стал искать союза, построенного на столь смехотворной основе, как завоевание Мексикой территории США.»[187]В Германии тоже были удивлены. Для рейха предлагать Техас и Аризону мексиканским «разбойникам», склоняясь при этом к союзу с Японией, писал крупный германский промышленник Вальтер Ратенау генералу Хансу фон Секту, было бы «слишком печальным даже для того, чтобы посмеяться над этим»[188]. Но какими бы галлюциногенными эти ассоциации ни казались, странная германская схема захвата военной инициативы в Западном полушарии была логическим продолжением берлинской idéefixe о том, что Америка уже связана с Антантой и объявление войны неизбежно при любых обстоятельствах. В субботу 3 марта 1917 года, несмотря на очевидное нежелание Вильсона вступать в войну, министр иностранных дел Германии Артур Циммерман публично признал достоверность сообщений.
Отказ Берлина даже отрицать эту неспровоцированную агрессию дополнял ставшие уже повседневными потопления американских судов германскими подводными лодками и не оставлял Вильсону иного выбора. 2 апреля 1917 года он обратился к Сенату с требованием объявить войну. Для таких людей, как Рузвельт и Лансинг, объявление войны стало просто облегчением. Германия окончательно показала свою подлинную агрессивную суть. У Вильсона, напротив, вынужденный отказ от его концепции «мира без победы» и необходимость использовать мощь своей страны в пользу Антанты вызывали тошнотворную реакцию. Как пишет один из наиболее проницательных биографов Вильсона, в характерных для него экзальтированных тонах, объявление войны стало для Вильсона «Гефсиманским садом»[189]. Конечно, в заключительной части обращения президента к Конгрессу звучали героические лютеранские нотки: «Америке выпала честь пролить свою кровь и воспользоваться своею мощью во имя принципов, которые позволили ей появиться на свет и обеспечили счастье и мир, которыми она всегда дорожила. Да поможет ей Бог, она не может поступить иначе». Но какие обязательства брал на себя Вильсон? Даже вступая в войну, он не торопился.
Америка вступала в войну, чтобы «отстаивать принципы мира и справедливости в жизни всего мира перед лицом корыстных автократических сил и создать среди истинно свободных самоуправляемых народов такое единство целей и действий, которое отныне обеспечит соблюдение этих принципов…» «Прочное согласие во имя мира не может быть достигнуто иначе, чем в сотрудничестве демократических стран, – продолжал Вильсон, – ни одному авторитарному правительству нельзя доверять в том, что оно будет верно такому согласию и выполнять взятые обязательства». В подобной борьбе было уже «невозможно и нежелательно», чтобы Америка оставалась нейтральной. Похоже, это признание аргументов Лансинга и Рузвельта, которые всегда настаивали на том, что Америке невозможно занимать равноудаленную позицию по отношению к обеим сторонам. Но при ближайшем рассмотрении в заявлении Вильсона обнаруживалась примечательная избирательность. В своем заявлении о вступлении Америки в войну и осуждении авторитаризма он не упомянул основных союзников Германии – Османскую империю и империю Габсбургов. Он также не назвал напрямую страны Антанты представителями демократии или примерами самоуправления. Его цели были определены в общих выражениях, относящихся к будущему. Потерпев неудачу в своем стремлении положить конец войне, действуя извне, Вильсон был решительно настроен на то, чтобы сформировать новый мировой порядок, действуя изнутри. Но для этого ему было необходимо сохранять дистанцию. Вместо того чтобы формально создать союз Америки и Антанты, Вильсон настаивал на своем особом статусе «ассоциированного» члена[190]. В решающий момент это давало ему свободу, необходимую не для того, чтобы использовать свой вес в пользу Лондона или Парижа, а для того, чтобы восстановить роль Америки в качестве арбитра глобальной силы власти.
3 Война как могила русской демократии
6 апреля 1917 года Америка вступила в войну, что решительным образом изменило соотношение сил в пользу Антанты. В ретроспективе такой ход развития событий может показаться предопределенным. Но на тот момент стало понятным, сколь чрезвычайно высокому риску подвергала себя Антанта, проводя эскалацию военных действий вопреки позиции Америки, насколько неустойчивым был военный баланс и насколько притягательным мог оказаться призыв Вудро Вильсона к «миру без победы», с которым он выступил в январе, если бы удалось предотвратить вступление Америки в войну еще на несколько месяцев. 20 марта 1917 года, в тот самый день, когда Вильсон неохотно согласился обратиться в Конгресс с просьбой об объявлении войны, Вашингтон дал поручение своему посольству в Петрограде признать новое Временное правительство России[191].
15 марта, после недельных забастовок и демонстраций и отказа петроградского гарнизона подчиняться приказам, царь отрекся от престола. Династия Романовых потеряла власть, и братья царя отказались от престола[192]. Америка еще лишь готовилась к вступлению в войну, Россия еще не была официально провозглашена республикой, но Временное правительство, сформированное из прогрессивных членов Думы и остатков парламента, созданного еще при царе, объявило о созыве в течение года Учредительного собрания, выборы в который будут проведены на «всеобщей основе». Следуя примеру своих известных американских и французских предшественников, это революционное собрание должно было взять на себя решение наиболее насущных и острых вопросов, оставшихся от прежнего режима, таких как политическое устройство страны, вопрос о земле и будущих отношениях между Россией и десятками миллионов представителей нерусских национальностей, оказавшихся под гнетом царской власти. Одновременно действовали новые органы революционной законности, известные как Советы, сформированные по инициативе радикально настроенных солдат, рабочих и крестьян в больших и малых городах и в деревнях. На начало лета планировалось проведение всероссийского съезда Советов и создание коалиции с Временным правительством.
Решение об изменении государственного устройства еще предстояло принять Учредительному собранию, но уже существовал консенсус подавляющего большинства по ряду определенных особенностей нового порядка. Паролем революции была свобода. Смертная казнь была отменена. Отменялись все ограничения свободы собраний и свободы слова. Провозглашалось гражданское равенство евреев и других этнических и религиозных меньшинств. Феминистки на своих демонстрациях во весь голос и весьма успешно требовали участия женщин, наряду с мужчинами, в выборах в Учредительное собрание. Декрет номер один Петроградского совета предоставлял рядовым российской армии те же права, что и остальным гражданам. Жестокие телесные наказания объявлялись вне закона. Даже дезертирство уже не каралось смертной казнью. Солдаты получали полную свободу политических дискуссий и организаций. Дыхание захватывало о того, с какой скоростью Россия, считавшаяся в Европе пугалом самодержавия, превращалась в самую свободную и демократичную страну в мире[193]. Вопрос состоял в том, как скажется эта великая победа демократии на ходе войны.
I
Это было моментом истины для таких людей, как Роберт Лансинг, государственный секретарь США при президенте Вильсоне[194]. Начиная с 1916 года Лансинг был наиболее влиятельным сторонником Антанты в президентской администрации. Зависимость Британии и Франции от царской армии была главным препятствием на пути создания «демократической Антанты». Теперь, говорил Лансинг своим коллегам в правительстве, «революция в России… устранила единственную причину, не позволявшую утверждать, что европейская война была войной между демократией и абсолютизмом»[195]. Выступая с заявлением о вступлении в войну, сам Вильсон приветствовал «замечательные воодушевляющие события, происходящие в России в последние недели». Иностранное самодержавие, правившее Россией, было «свергнуто, и великий благородный русский народ всем своим простодушным величием и мощью примкнул к силам, сражающимся за свободу во всем мире.»[196] Лондон и Париж с энтузиазмом приняли демократическую Россию. Жорж Клемансо разделял радость Лансинга по поводу перспектив трансатлантической демократической коалиции. Весной 1917 года он приветствовал факт совпадения объявления Америкой войны и свержения царя в выражениях, близких к экстазу: «высшим интересом общих идей, с помощью которых президент Вильсон стремился объяснить свои действия» при объявлении войны «является то, что русская революция и американская революция чудесным образом дополняют друг друга, определив раз и навсегда все моральные ставки в этом конфликте. Все великие народы демократии… заняли в этой битве предназначенное им судьбой место. Они работают во имя триумфа не одного, но всех народов»[197]. Демократическая революция в России лишь усилит военные действия, а не прекратит их.
И эти надежды не были необоснованными. Весной 1917 года русская революция была в первую очередь (и в основном) патриотической. Из всех лживых слухов, распространявшихся о царе и царице, наиболее вредными были те, в которых их обвиняли в предательском сговоре со своими двоюродными родственниками в Германии. Чем еще можно было объяснить упорный отказ царя принять возвышающий дух реформ и мобилизации, который в августе 1914 года привлек на его сторону русских либералов и даже многих социалистов? На Северном фронте русская армия несла тяжелые потери в боях с германской армией. Но в войне, которую вела Россия, не все было плохо. В 1915 году русские войска разбили турков. Летом 1916 года в ходе решительной наступательной операции генерала Брусилова русская армия сокрушила австрийцев, что склонило Румынию к присоединению к Антанте. Неумение воспользоваться этими победами и привело к тому, что бунты на призывных пунктах, выступления крестьян и забастовки рабочих вылились в политическую революцию. Теперь, когда царь был свергнут, не могло быть и речи о том, чтобы сдаться. Любой, кто затрагивал революционный патриотизм огромной массы одетых в серые шинели солдат, среди которых преобладали выходцы из крестьян и которые составляли большинство на любом митинге, проходившем в Петрограде, рисковал подвергнуться самосуду[198]. Речь шла о революционной чести и миллионных жертвах. Кроме того, стратегам во Временном правительстве и Петроградском совете предстояло задуматься о более далеких последствиях. Если Россия начнет сепаратные переговоры с имперской Германией, то в ответ союзники наверняка перекроют поступление кредитов из Лондона, Парижа и Нью-Йорка. Мир на Восточном фронте позволит Германии сосредоточить все силы на том, чтобы нанести сокрушительный победоносный удар на Западном фронте. А после этого Германия вновь повернет на Россию.
Но если капитуляция была невозможна, то и революция не могла продолжать начатую царем войну. Люди, возглавлявшие революцию на ее раннем этапе, – такие как Александр Керенский, близкий лейбористам социал-демократ, метавшийся между Временным правительством и Советами, или Ираклий Церетели, харизматичный грузинский меньшевик-интернационалист, занимавшийся внешнеполитическими дискуссиями в Петроградском совете, – не имели ни малейшего желания продолжать войну за достижение империалистических целей, таких как выход к Дарданеллам. Революции был необходим почетный мир, мир без поражения. Далее, если сепаратный мир был невозможен, то Керенскому и Церетели следовало привлечь на свою сторону остальные страны, входившие в Антанту. Таким образом, русские революционеры-демократы столкнулись с той же дилеммой, над решением которой лишь несколько недель назад бился Вильсон: каким образом прекратить войну, чтобы ни одна из сторон не торжествовала победу и не страдала от чувства унизительного поражения. Более того, русские революционеры знали о существовании такой параллели. Хотя послание Вильсона было адресовано в первую очередь Лондону и Парижу, его значение для Антанты зимой 1916/17 года не прошло мимо русских. Как указывал Николай Суханов, один из коллег-меньшевиков Церетели в Совете, первым требованием Совета в 1917 году должно было стать требование об отзыве вызывающего ответа Антанты на выдвинутые Вильсоном в декабре 1916 года мирные инициативы[199]. 4 апреля, в день, когда Сенат США проголосовал за объявление войны Германии, исполнительный комитет Петроградского совета выдвинул формулу мира, содержавшую три ключевых требования: обеспечение самоопределения, заключение мира без аннексий и без контрибуций. Русская армия продолжит воевать, пока не появится уверенность в том, что мир будет заключен именно на таких условиях, – мир без эгоистичной победы, мир, который будет почетен для революции, мир, в котором царь будет осужден, а Россия займет место в первых рядах мировой «демократии».
Через несколько дней Временное правительство приняло «петроградскую формулу». В мае по требованию Совета за приверженность традиционным, «аннексионистским» целям войны был отстранен от должности сторонник Антанты министр иностранных дел либерал Павел Милюков[200]. Проводимая Советом политика «революционного оборончества» была не политикой догматической диктатуры социализма, а политикой компромисса. Именно вокруг защиты революции Керенский и Церетели надеялись сплотить все «живые силы» русской политики: марксистов, аграриев социал-революционеров и либералов. Большевики почти не принимали участия в дискуссиях. Проживающий в эмиграции Ленин ожидал, когда секретная служба кайзера организует его переезд. На местах большевики были ничем не выделяющейся группой, подумывающей о том, чтобы примкнуть к большинству в Совете. Ленин вернулся в Петроград лишь 16 апреля, немедленно заявив в своих знаменитых «Апрельских тезисах» о неприятии любого соглашения между революционным Советом и унаследовавшим власть Временным правительством[201]. Любой компромисс будет предательством революции.
В течение следующего года Ленин будет изо всех сил стремиться отправить Церетели и Керенского на свалку истории. Но их позицию следовало воспринимать всерьез. Революционное оборончество было стратегией патриотов. Демократическая Россия не покорится империалистической Германии. И эта позиция тоже была революционной, несмотря на то что ее всячески клеймил Ленина. Весной 1917 года выступление в защиту мира означало призыв к политическому преобразованию Европы, а не к возврату к довоенному статус-кво. Именно Петроградский совет во всеуслышание заявил о том, о чем умалчивалось в обращении Вильсона к Сенату. К 1917 году с учетом численности жертв со всех сторон «мир без победы» мог рассматриваться лишь правительством, которое было готово порвать с прошлым. Это означало, что самая дорогая война в истории оказалась совершенно напрасной. Такой мирный договор мог был заключен лишь правительствами, которые были готовы, подобно правительству Вильсона, отказаться от рассмотрения вопроса о том, кто виноват в этой войне, и подвергнуть империализм всесторонней критике. Только такое правительство могло согласиться на мир без победы, не испытывая при этом чувства унижения. Именно поэтому представители политического класса Британии и Франции столь упорно противились призыву Вильсона. Они не желали принимать предлагаемую им моральную неопределенность. Они понимали, что в его видении политического будущего им нет места. Не вовремя развязанная германская агрессия вынудила Вильсона перейти на их сторону. Но если бы революция в России началась на несколько месяцев раньше, если бы Германия отложила свое решение о возобновлении неограниченной подводной войны до весны или если бы Вильсону все-таки удалось отложить вступление Америки в войну до мая, каким оказался бы результат? Могло ли это спасти демократию в России? Как позже мучительно вспоминал покидавший Вашингтон германский посол граф Бернсторф, если бы зимой 1916/17 года Германия «согласилась с посредничеством Вильсона, то все влияние, которое Америка имела на Россию, обернулось бы в пользу мира, а не против Германии, как в конечном счете показали события». «Приняв мирную программу Вильсона и Керенского», Германия наверняка смогла бы добиться мирного соглашения, предлагающего нам все, что «мы считали для себя необходимым»[202]. Именно эти непостижимые предположения об обратном обусловили всю значимость совпадения по времени революции в России и вступления в войну Америки. Но даже после того, как Вильсон встал на сторону Антанты, русская революция оставалась потрясением для обеих сторон. Летом 1917 года война была близка к тому, чтобы закончиться чем-то подобным «миру без победы»[203]. Горькая ирония заключалась в том, что именно вступление Америки в войну больше, чем что-либо другое, исключало эту возможность. Последствия этого имели историческое значение для Европы, особенно для России.
II
К концу кошмарной третьей военной зимы силы сражавшихся в течение всего 1916 года были на исходе. На Восточном фронте после свержения царя серьезных сражений не происходило. Ожидая возможного заключения сепаратного мира с революционным правительством, Германия воздерживалась от наступательных действий. Революционные события в России привели к тому, что в самой Германии решимость масс продолжать войну была поколеблена. Необходимость дать отпор агрессии царского самодержавия была основной причиной, по которой С ДП Германии поддерживала войну. После того как русские революционеры заявили о своем отказе от аннексий, эта причина становилась сомнительной. 8 апреля 1917 года по настоянию рейхсканцлера Бетмана Гольвега, который отчаянно пытался заручиться поддержкой СДП своего правительства, кайзер издал пасхальное воззвание, в котором обещал проведение конституционной реформы в Пруссии сразу по окончании войны. Правило «один человек – один голос» должно было прийти на смену трехуровневой системе, которая до сих пор исключала участие левых в прусском парламенте, контролировавшем две трети всей Германии. Но уже было слишком поздно. В середине апреля 1917 года в СДП, представлявшей собой базу европейского социализма, произошел раскол[204]. Наиболее радикально настроенное левое крыло сформировало Независимую социал-демократическую партию (НСДП), выступившую с требованием немедленного заключения мира на условиях, предлагаемых революционным Советом Петрограда, и эта резолюция была с энтузиазмом поддержана 300 тысячами бастующих рабочих в крупных промышленных центрах – Берлине и Лейпциге. Партия большинства социал-демократов по-прежнему выступала за продолжение войны, но теперь еще больше настаивала на том, что война должна сохранять оборонительный характер. Используя нейтральные силы и при попустительстве правительства рейха, эта партия взяла на себя инициативу в переговорах со своими товарищами-социалистами в России.
Такие колебания в политической среде Центральных держав обретали еще большее значения потому, что совпадали с удивительной неудачей Антанты, в последний момент упустившей военную победу. 18 апреля 1917 года после подготовительных операций, проведенных британскими войсками, французская армия нанесла очередной удар по позициям Германии. Но, несмотря на оптимизм моложавого недавно назначенного командующего французского генерала Нивеля, атака провалилась. Части германской армии устояли, а боевой дух французов был подорван. 4 мая первые части французской армии отказались подчиняться приказам. В течение нескольких дней мятеж распространился на десятки воинских частей. Несмотря на жесткие меры, принятые генералом Петеном для восстановления порядка, французская армия была парализована. Париж пытался скрыть кризис, и в британских окопах все оставалось спокойным. Но к маю 1917 года волна недовольства захлестнула и Британские острова. В палате общин 32 члена парламента от либеральной и лейбористской партий демонстративно голосовали в пользу петиции, призывающей к заключению мира на основе «петроградской формулы»[205]. Тем временем промышленные районы Британии были охвачены самыми масштабными волнениями с начала войны[206]. Сотни тысяч квалифицированных рабочих, несмотря на призывы официальных профсоюзов, прекратили работу. В начале июня Ллойд Джордж, вместо того чтобы праздновать открывающиеся перспективы великого демократического наступления, запугивал членов кабинета, рисуя перед ними картины возникновения Советов в Британии. Опасаясь протестов населения, Виндзор дал понять, что лишившиеся крова Романовы будут нежелательными гостями в Букингемском дворце. Как говорил Георг V своему доверенному лицу, чересчур много «демократии витало вокруг»[207].
Ощущение паралича, охватывающего Антанту, усугублялось морской блокадой, которую установили германские подводные лодки. В период с февраля по июнь 1917 года они отправили на дно более 2,9 млн тонн грузов. Для того чтобы поддержать собственный импорт, Британия сократила грузовые квоты Италии и Франции. Париж, стремящийся восстановить моральный дух, был вынужден увеличить импорт продуктов питания за счет потребностей производства вооружений[208]. В Италии, которая еще в большей степени зависела от поставок из заграницы, положение было по-настоящему критическим. К началу лета 1917 года поставки угля в Италию составляли лишь половину от необходимых[209]. 22 августа 1917 года запасы продовольствия в Турине, сердце военной экономики Италии, снизились настолько, что магазины работали по нескольку часов в день. Забастовщики парализовали работу железных дорог, а толпы людей, ведомых анархо-синдикалистскими агитаторами, занимались мародерством, нападали на полицейские участки и сожгли две церкви. Армия взяла город в кольцо. К тому же 800 бунтовщиков были арестованы, и в городе восстановилось тревожное спокойствие, однако в ходе операции были убиты 50 рабочих и трое солдат.
Несмотря на ущерб, наносимый Антанте, подводная война обернулась для Берлина глубоким разочарованием. В январе 1917 года командование военно-морских сил обещало, что до конца года в Британии наступит голод. Летом стало ясно, что, несмотря на нанесенный ущерб, Германии просто не хватает подводных лодок, чтобы одержать верх над торговым флотом, который Антанта смогла мобилизовать по всему миру. Постепенное осознание этого поражения привело к коренному пересмотру политики Германии. В июле 1917 года представители популистского крыла католической партии Центра и прогрессивные либералы поддержали настоятельные призывы к миру, с которыми выступали оба крыла СДП. Контуры этой коалиции просматривались еще в ходе выборов 1912 года в рейхстаг, когда эти три партии, когда-то выступавшие против Бисмарка, набрали почти две трети голосов. Социал-демократы, христианские демократы и прогрессивные либералы теперь сформировали постоянный комитет, задачей которого было продвижение требований демократизации внутри страны и переговоров о заключении мирного договора без аннексий[210]. 6 июля Маттиас Эрцбергер, ведущий представитель левого крыла партии Центра, входивший в 1914 году в число наиболее неистовых сторонников крупномасштабных военных действий, выступил с громким заявлением, встретившим поддержку большинства в рейхстаге, о том, что Германия должна отвечать за последствия неудавшейся подводной войны. Германии следует искать пути к мирным переговорам[211]. Бетман Гольвег, стремясь замедлить развитие кризиса, заручился у кайзера еще одним обещанием демократизации Пруссии после окончания войны. Но этого было недостаточно. Рейхсканцлеру не удалось остановить катастрофическую эскалацию подводной войны, и теперь наступало время расплаты. Бетман Гольвег был отправлен в отставку, а 19 июля рейхстаг большинством голосов принял ноту о мире. В ней содержался призыв к «миру на основе понимания» и к «долгосрочному примирению народов», к миру, который не может держаться на «насильственном присоединении территорий» или «политическом, экономическом либо финансовом давлении». Депутаты высказались в пользу нового справедливого мирового порядка, основанного на либеральных принципах свободной торговли, свободы морей и создания «международного судебного органа». И хотя большинство в рейхстаге избегало прямого повторения того, о чем говорилось в Петрограде или в заявлении президента Вильсона, общее направление угадывалось безошибочно. Эрцбергер надеялся на победу над Россией в течение «нескольких недель»[212].
Мир без победы был теперь не просто лозунгом или попыткой выдать желаемое за действительное. К лету 1917 года силы всех воюющих европейских держав были истощены, и такой мир все больше казался возможным. В начале мая складывалось впечатление, что русские революционеры хотят воспользоваться ситуацией. США и Антанта признали Временное правительство. Россия принесла огромные жертвы, она была верным членом союза, а потому имела полное право вновь поднять вопрос о целях войны. Тем временем Совет Петрограда как неофициальный орган беспрепятственно проводил параллельную пропагандистскую кампанию за международную солидарность и мир. Многочисленные разногласия внутри Антанты сделали возможным то, чего не удавалось добиться Вильсону. Они привели к тому, что Лондон и Париж оказались вынужденными пойти на переговоры, что позволяло России избежать выбора между позорным сепаратным миром и участием в империалистической войне до конца. В апреле 1917 года делегации Британии и Франции, во главе которых находились соответственно представители лейбористской и социалистической партий, имевшие полномочия от своих правительств убедить Россию продолжить войну, прибыли в Петроград, где увидели, что против сепаратного мира с Германией жестко выступают революционеры-оборонцы, настаивающие при этом на пересмотре Антантой целей войны. И Артур Хендерсон, и Альберт Томас, видные социалисты соответственно из Британии и Франции, выступавшие за продолжение войны, были глубоко озабочены возможным крушением демократической революции в России. Надеясь изолировать большевиков, они согласились на то, чтобы убедить однопартийцев в своих странах принять участие в международной конференции социалистов, которую Петроград предлагал провести в Стокгольме 1 июля[213]. Французские социалисты, как и обещали, вывели своих министров из состава французского правительства. Но после того как генерал Петен восстановил порядок на Западном фронте, отдав под военный трибунал несколько тысяч французских мятежников, Париж опасался дальнейшего распространения пацифистских настроений. Паспорта французских социалистов были бесцеремонно аннулированы, вскоре точно так же поступило и правительство Ллойда Джорджа. Это должно было внести раскол в лейбористское движение в Британии, разделив его на большинство, в которое входили сторонники продолжения войны, и активное оппозиционное меньшинство, к которому теперь принадлежали не одни только члены Независимой рабочей партии.
У русских социалистов ожесточенность Лондона и Парижа не вызвала большого удивления. В большей степени они были разочарованы позицией Вашингтона[214]. Даже после того как Америка вступила в войну, революционеры-оборонцы продолжали рассчитывать на поддержку со стороны Вильсона. И Вильсон вполне осознавал стоящую перед ними дилемму. Он считал недостойными секретные договоры, в которые Антанта втянула Россию в 1915 и 1916 годах. Как он сказал одному доверенному лицу из числа британцев, он понимал, что русские «в ходе формирования нового правительства и разработки внутренних реформ» могут попасть в такую ситуацию, когда война для них «станет невыносимым бедствием, которому они захотят положить конец на любых разумных условиях». Когда Петроградский совет обнародовал свою формулу мира, столь очевидно перекликавшуюся с формулой «мир без победы» самого Вильсона, то в Вашингтоне это вызвало настоящее замешательство[215]. Если бы у Вильсона была возможность использовать влияние Соединенных Штатов для поддержки мирной инициативы Петрограда, последствия могли бы оказаться весьма серьезными. Но прямая агрессия Германии, развязанная весной 1917 года, похоже, убедила Вильсона в том, что до тех пор, пока имперская Германия представляет собой опасность, попытки утихомирить милитаристский порыв в Британии и Франции останутся бесполезным[216]. Германию, а значит и Старый Свет в целом, можно было заставить подчиниться лишь силой. Для того чтобы принуждение к миру не превратилось в еще одну захватническую империалистическую войну, Америка должна была взять на себя лидирующую роль в продолжающейся войне. Одно дело, когда в роли арбитра мирного урегулирования выступает президент Соединенных Штатов, а другое дело – позволить русским революционерам диктовать ход развития мирной политики. Стокгольмская мирная конференция, организованная недисциплинированными социалистами, где Америку будет почти не слышно, не могла привести ни к чему хорошему. Вынужденный сделать выбор в пользу войны, Вильсон не собирался терять контроль над политикой мирного урегулирования. Когда правительство России официально обратилось к Антанте с предложением пересмотреть цели войны, Лондон и Париж с удовольствием предоставили Вильсону возможность высказаться первым. 22 мая американский президент выступил с ответом народу России, подтвердив в самом начале своего заявления исходящую от империалистической Германии смертельную опасность. Явная готовность правительства кайзера пойти на реформы говорила «лишь о стремлении сохранить власть, которую кайзер установил в Германии… и свои личные проекты, обеспечивающие власть на всем пространстве от Берлина до Багдада и далее». Берлин оставался в центре «сети интриг, направленных ни больше ни меньше как против мира и освобождения всей планеты. Необходимо разорвать сети этих интриг, что невозможно сделать, не исправив ранее допущенные ошибки…»[217] Для установления прочного мира недостаточно просто восстановить статус-кво, «который и стал причиной этой несправедливой войны… Мир должен быть изменен таким образом, чтобы не допустить повторения подобных ужасов в будущем». Предварительным условием, имеющим жизненное значение, было поражение Германии. И здесь не должно быть колебаний, потому что «нам может больше никогда не представиться возможность объединиться или продемонстрировать победоносную силу в великом деле освобождения человечества. Настал день, когда мы должны победить либо подчиниться. Если мы будем вместе, то победа неизбежна, как и свобода, которую эта победа принесет. Тогда мы сможем позволить себе быть великодушными, но ни тогда, ни сейчас мы не можем позволить себе быть слабыми.» Отзвуки воинственности республиканцев, прозвучавшие в этом заявлении, свидетельствовали о резком отличии этой позиции от той, которую Вильсон занимал лишь несколько месяцев назад, и это безмерно радовало Лондон и Париж. Министр иностранных дел Артур Бальфур с ликованием отметил, что такой кульбит Вильсона был необходим для того, чтобы «ослабить эффект, очевидно произведенный его предыдущими [пацифистскими] высказываниями относительно России»[218].
Франция и Россия были на грани истощения, поэтому ведущую роль в возобновлении войны взяла на себя Британия. А ей для этого была необходима американская помощь. Летом 1917 года наибольшую опасность для Британии представляли не подводные лодки и не вероятность появления Советов в Лидсе, а вполне реальная возможность дефолта по займам, полученным на Уолл-стрит в 1915 году. В этом отношении заявление Америки о вступлении в войну значительно упрощало ситуацию. Еще в конце апреля Вашингтон официально подтвердил выделение Британии беспрецедентного аванса в размере 250 млн долларов из общей суммы в 3 млрд долларов, которую предстояло одобрить Конгрессу. На деле одобрение этого займа заняло у Конгресса больше времени, чем ожидалось, и это лишь подчеркнуло полную зависимость Антанты. В последние дни июня Британию от банкротства отделяло лишь несколько часов[219]. Но с вступлением в войну США реальная опасность катастрофы миновала. Антанта ушла с опасного своей непредсказуемостью рынка частного капитала и ступила на новую почву межправительственных займов, носящих открыто политический характер. Такая поддержка позволила британскому фельдмаршалу Хейгу приступить к подготовке новой масштабной наступательной операции. Артиллерийская подготовка того, что позже станет печально известным наступлением при Пашендале, началась 17 июля. В течение двух недель более 3 тысяч британских орудий выпустили по германским окопам 4 млн 238 тысяч снарядов. Этот стальной ураган, обошедшийся примерно в 100 млн долларов, стал еще одной демонстрацией трансатлантической военной мощи[220]. С военной точки зрения цель наступления состояла в том, чтобы выбить германские войска с обустроенных позиций на побережье Фландрии. Но подоплека этой наступательной операции была в высшей степени политической. Пашендаль стал символом твердой решимости британского правительства раз и навсегда положить конец разговорам о мире без победы[221].
Для революционеров-демократов в России эта демонстрация воинственности оборачивалась катастрофой. Если ни Лондон, ни Вашингтон не намерены говорить о мире, у Петрограда оставалось лишь два варианта. Петроградский совет мог пойти по опасному пути переговоров о сепаратном мире с Германией. В июле, не имея других обязательств, он мог поддержать мирную резолюцию, принятую рейхстагом, и ожидать реакции других стран Антанты. Смог бы Вильсон, при всей своей неприязни к германским и русским социалистам, игнорировать подобное обращение? Как это могло отразиться на Британии и Франции? В палате общин Независимая рабочая партия требовала позитивной реакции на резолюцию рейхстага. Недовольство рабочих становилось очевидным[222]. Но в России ни Временное правительство, ни большинство в Советах не решались сделать первый шаг навстречу Германии. Открывать новую эру революции заключением сепаратного мирного соглашения было недопустимым предательством. В изоляции у русской демократии не было будущего.
А был ли другой, более радикальный альтернативный вариант? На левом фланге революции набирали силу большевики. Ожесточенное неприятие Лениным любого компромисса революционных сил с оставшимися еще с царских времен либералами и парламентскими консерваторами, продолжавшими цепляться за министерские портфели во Временном правительстве, еще больше осложняло обстановку. Ленин выдвинул лозунг «Вся власть Советам!». Только в условиях, когда власть находится на стороне революции, можно говорить о ясном выборе между истинно демократическим миром и революционным продолжением войны. Ленин считал выдвинутую Петроградским советом формулу мира недостаточной. Самоопределение и отказ от аннексий, может, и казались прогрессивными принципами, но почему революционер должен соглашаться с возвратом к довоенному статус-кво, подразумевавшемуся в формуле мира без аннексий?[223] Единственной по-настоящему революционной формулой была безоговорочная поддержка «самоопределения». Либералы и реформисты-прогрессисты избегали этой формулы, считая, что она может привести к всплеску насилия и межэтническим конфликтам, а Ленин был согласен с ней именно потому, что ожидал, что она вызовет водоворот событий. Предвестником будущего, по мнению Ленина, было восстание, имевшее место годом ранее в Дублине. В пасхальный понедельник 1916 года 1200 добровольцев организации «Шинн фейн» напали на части британской армии, совершив акт самопожертвования, который, как мы увидим, был направлен на то, чтобы полностью изменить политику Ирландии и подготовить почву для открытой борьбы за независимость. Более ортодоксальные марксисты отмахивались от «Шинн фейн» как от путчистов с суицидальными наклонностями, не поддерживаемых рабочим классом, но для Ленина они были ярким указателем на будущее революции, ибо «думать, что мыслима социальная революция без восстаний маленьких наций в колониях и в Европе, без революционных взрывов части мелкой буржуазии со всеми ее предрассудками… думать так значит отрекаться от социальной революции. Кто ждет „чистой” социальной революции, тот никогда ее не дождется. Мы были бы очень плохими революционерами, если бы в великой освободительной войне пролетариата за социализм не сумели использовать всякого народного движения.»[224] Ленин требовал немедленного заключения революционного мира. Но любой, кто знаком с его произведениями, вскоре поймет, что этот лозунг часто толковался неверно. Ленин хотел немедленно остановить всепоглощающую империалистическую мировую войну, грозившую уничтожить все надежды на исторический прогресс. Но он хотел этого мира лишь потому, что надеялся, что он приведет к развязыванию еще более широкой международной классовой войны – «великой войны пролетариата за освобождение». Революционный мир, заключенный советской властью России, должен был вызвать восстание германского пролетариата. То, что либералы и меньшевики отказывались от такого курса, опасаясь начала в России гражданской войны, лишь убеждало Ленина в правильности этой линии революции. Ленин не был пацифистом. Перед ним стояла цель – превратить бессмысленную империалистическую бойню в классовую войну, несущую исторический прогресс. Но летом 1917 года даже Ленин не решался выступать за сепаратный мир, мир любой ценой с кайзеровским режимом[225].
А какая этому была альтернатива? Петроград мог просто занять оборонительную позицию. Конечно, Германия не проявляла особого интереса к тому, чтобы добиться военного преимущества, пользуясь беспорядками в России. Людендорф, надеясь, что русские все-таки пойдут на сепаратный мир, воздерживался от проведения наступательных операций на Восточном фронте. Прибывшая в Петроград в июне 1917 года первая высокопоставленная делегация США во главе с Элайху Рутом также рекомендовала воздержаться от каких-либо действий. Америка была готова предоставлять помощь России при условии, что она сохранит лояльность Антанте. 16 мая министерство финансов США согласилось предоставить Временному правительству срочный заем в размере 100 млн долларов. Значительные объемы поставок скапливались во Владивостоке, вследствие того что перевозки по разрушающейся железной дороге были затруднены. Для решения этой проблемы Вильсон направил в Россию специальную группу специалистов-железнодорожников, способных восстановить пропускную способность Транссибирской магистрали. В июле железнодорожная комиссия разрешила поставку из США 2500 локомотивов и 40 тысяч вагонов[226]. Возможно, еще оставалось время для стабилизации демократии в России, участвовавшей в совместных военных действиях против Германии.
Но перспективы ожидания в полуразрушенных окопах следующей вялой кампании в корне противоречили духу революционного Петрограда. Существовала серьезная опасность, что если армия продолжит бездействовать и летом, то Временное правительство полностью утратит способность противостоять подрывной деятельности большевиков. Появлялись зловещие признаки того, что британцы готовы списать Россию со счетов как военную силу. Что бы Петроград ни делал, ему было необходимо участие Антанты, но какие рычаги он мог использовать, если Россия уже не участвовала активно в войне? Как и Вильсон, русские революционеры-демократы были вынуждены играть на том, что они в состоянии изменить ход войны изнутри. В мае 1917 года Керенский, Церетели и их коллеги в стремлении заставить остальных членов Антанты всерьез отнестись к призывам русских демократов начать мирные переговоры с новой силой взялись за переустройство армии, пытаясь вернуть ей боеспособность. Они были не настолько оторваны от реальности, чтобы вообразить, что смогут победить Германию. Но если бы Россия нанесла удар по Австрии, как это сделал Брусилов в 1916 году, то Антанте наверняка пришлось бы прислушаться. Столь чрезвычайно высокая ставка свидетельствует не о нерешительности, а об отчаянных амбициях Февральской революции[227].
III
Конечно, Россия не испытывала недостатка в материальном обеспечении. В начале лета 1917 года благодаря внутренней мобилизации, а теперь и избыточным поставкам союзников русская армия была оснащена лучше, чем когда-либо за все время войны. Вопрос заключался в том, захотят ли солдаты воевать. В мае и июне Керенский, Брусилов и группа специально подобранных политических комиссаров отчаянно пытались вывести русскую армию из состояния апатии и противостоять растущему влиянию большевистских агитаторов, распространяющих еретические ленинские призывы. Впервые политические комиссары в русской армии появились в феврале 1917 года, и привели их туда не Ленин и не Троцкий, а революционеры-демократы с целью распространения лозунгов революционной войны. В своих мемуарах Керенский описывает события 1(18) июля 1917 года, заставившие его затаить дыхание, когда перед судьбоносным наступлением были сняты заграждения на пути наступавших: «Вдруг наступила мертвая тишина: настал час наступления. На мгновение нас охватил дикий страх: а вдруг солдаты не захотят пойти в бой? И тут мы увидели первые линии пехотинцев, с винтовками наперевес атаковавших первую линию германских окопов»[228]. Армия продвигалась вперед. На юге части под командованием молодого героя войны Лавра Корнилова совершали набеги на ослабленные части армии Габсбургов. Но там, где большевики вели усиленную подрывную работу, на германском фронте на севере, большинство частей отказывались подчиняться приказам и оставались в окопах. 18 июля, воспользовавшись разбродом в частях русской армии, Германия перешла в контратаку.
Это событие перевернуло не только историю России, но и историю Германии. 19 июля 1917 года в тот самый момент, когда Эрцбергер представлял на рассмотрение рейхстага резолюцию о мире, ситуация, позволявшая ему бросить вызов режиму кайзера, изменилась. Подводная война, может быть, и закончилась неудачей, но германская армия еще могла победить в войне на Востоке. За считанные часы наступления германской армии оборона русских частей была сломлена, и последовал разгром. 3 сентября 1917 года, в то время как британские части тонули в болотах в ходе кошмарной бойни во Фландрии, армия кайзера триумфально шествовала по Риге, бывшей когда-то столицей тевтонских рыцарей. Это было зеркальным отражением событий осени 1916 года, когда Антанта, казалось, была близка к победе. Теперь же перспективы триумфа Германии делали переговоры о мире невозможными. Через несколько дней после вступления германских частей в Латвию Гинденбург и Людендорф приступили к переброске семи ударных балтийских дивизий на тысячи километров в южном направлении, на позиции, где происходила концентрация сил, окружавших итальянский город Капоретто[229]. 24 октября ударные части германской армии сокрушили линии итальянской обороны. Продвигаясь далее на юг в направлении Венеции, они прорвали целый отрезок линии фронта[230]. За несколько дней потери итальянской армии составили 340 тысяч человек, из которых 300 тысяч были захвачены в плен. Еще 350 тысяч солдат отступили в беспорядке. По мере приближения германских и австрийских частей к Венеции ее в ужасе покинули 400 тысяч гражданских жителей. Италия пережила этот кризис. Власть в Риме перешла к правительству национального единства. Было подтянуто подкрепление, состоявшее из частей французской и британской армии. Продвижение австро-германских частей было остановлено по линии реки Пьяве. Но германский милитаризм сумел продлить свое существование. Летний натиск Эрцбергера, СДП и большинства в рейхстаге был остановлен. Сотни тысяч разъяренных националистов устремились в недавно созданную Германскую партию Отечества (Deutsche Vaterlandspartei), они были полны решимости не позволить предателям-демократам саботировать последний победный рывок[231].
В России последствия неудачных попыток Керенского начать демократическую войну оказались еще более тяжелыми. Сторонники революционного оборончества были посрамлены. Солдаты из числа крестьян, многие из которых с неохотой настроились еще на одно последнее наступление, теперь в массовом порядке покидали части. 17 июля, когда ход событий на полях сражения уже менялся, расположенные в окрестностях Петрограда воинские части, в которых преобладали радикальные настроения, вышли в центр города с требованием немедленного прекращения войны. Похоже, они действовали независимо от штаба большевиков, но с ростом числа демонстрантов Ленин и руководство партии примкнули к мятежникам. Волнения продолжались до следующего дня. Теперь было очевидно, что революция разделилась внутри себя самым жестоким образом. Глубоко преданному демократическим свободам Петроградскому совету не оставалось иного выхода, как отдать приказ о проведении массовых арестов среди большевистского руководства. Подобные меры были приняты впервые после свержения царя. Однако фатальной ошибкой оказалось то, что Временное правительство не стало разоружать восставший гарнизон, бывший оплотом большевиков, и не пошло на то, чтобы обезглавить большевистскую организацию. Смертная казнь оставалась под запретом.
Для русской демократии, пережившей атаку левых, главную опасность теперь представляло правое крыло. Репутация Брусилова была погублена, и теперь очевидным претендентом на роль Бонапарта стал генерал Корнилов, которого Керенский назначил главнокомандующим[232]. 8 сентября, после нескольких недель, явно ушедших на подготовку заговора, Корнилов начал мятеж, но обнаружил, что его окружают те же силы, которые привели к провалу летнего наступления. Армейские массы уже не повиновались приказам, требующим решительных действий. Корнилов был арестован. Кто же оставался у власти? Керенский, начавший провальное наступление и вступивший в сговор с Корниловым, был полностью дискредитирован. Церетели и меньшевики из исполкома Петроградского совета пытались обеспечить свою легитимность. Они не могли противостоять призывам к освобождению из тюрем таких печально известных большевистских агитаторов, как Троцкий и Александра Коллонтай. Оставалось только Учредительное собрание. Дата выборов в Учредительное собрание неоднократно передвигалась из тактических соображений, а также в связи со значительными трудностями проведения всеобщих выборов в военное время и в условиях гражданских беспорядков в такой огромной стране, как Россия. В августе была окончательно назначена дата выборов – 25 ноября. Принято говорить, что опасный вакуум власти осени 1917 года открыл дорогу Ленину. Но на самом деле именно перспектива того, что Учредительное собрание может вскоре заполнить этот вакуум и стать мощным источником демократической власти, определяла ситуацию и заставляла Ленина и Троцкого действовать. На конспиративной встрече 23 октября в Петрограде Ленин проговорился: «Власть надо брать сейчас или никогда… нет смысла дожидаться Учредительного собрания, которое, очевидно, будет не на нашей стороне…»[233].
Таблица 2. Важнейшее событие в истории демократии: результаты выборов в Учредительное собрание России, ноябрь 1917 г.
Что касается большевиков, то они считали, что Учредительное собрание, избираемое в ходе всеобщих выборов при участии как буржуазии, так рабочих и крестьян, не может быть ничем большим, как только маскировкой власти буржуазии. «Вся власть Советам!» – таким был ленинский лозунг с самого начала. После конфуза с корниловским путчем, игравший особую роль Петроградский совет оказался под сильным влиянием большевиков. Управляемый Троцким, он проголосовал за созыв Всероссийского съезда Советов 7 ноября. Этот общенациональный съезд должен был стать благовидной заменой Учредительному собранию. Но по все тем же причинам большевики не были до конца уверены в том, что будут иметь такое же влияние на всероссийский съезд Советов, каким они обладали в Петроградском совете. Ленин не забыл, с каким презрением большей частью меньшевиков и эсеров была воспринята его «мирная» политика на состоявшемся летом всероссийском съезде. Для того чтобы подобного не повторилось, Троцкий разработал план упреждающего переворота, направленного на свержение остатков Временного правительства и передачу власти в Петрограде правительству, состоящему исключительно из социалистов, поставив тем самым критиков Ленина перед свершившимся фактом. Вечером 6 ноября, за день до открытия Всероссийского съезда Советов, отряды Красной гвардии заняли все ключевые точки города. После не встретившего особого сопротивления захвата власти Ленин чувствовал себя вполне уверенным, чтобы вечером 7 ноября (25 октября по старому стилю) в 22 часа 40 минут позволить всероссийскому съезду начать работу. На съезде меньшевики и эсеры быстро потеряли большинство, после чего состоялись выборы в Центральный исполнительный комитет, в котором большинство получил Ленин со своими товарищами. На следующий после переворота день Ленин внес предложение об отмене выборов в Учредительное собрание. Никакой необходимости в подобном проявлении «буржуазной демократии» не было. Но это предложение было отвергнуто Центральным комитетом партии большевиков, решившим, что столь явное попрание демократических чаяний, связанных с Февральской революцией, принесет больше вреда, чем пользы[234].
Выборы, как и было назначено, состоялись в последнюю неделю ноября (табл. 2). Их слишком часто оставляют без внимания, которого они заслуживают не только как памятник политическому потенциалу русского народа, но и как веха в истории демократии XX века. По меньшей мере 44 млн человек приняли участие в голосовании. На тот момент это было самое масштабное изъявление воли народа в истории. В ноябре 1917 года в выборах приняло участие втрое больше русских, чем американцев в президентских выборах 1916 года. Ни в одной западной стране вплоть до 1940 года не было выборов, которые могли бы превзойти это достойное внимания событие. Явка избирателей составила лишь немногим менее 60 %. В «отсталой» сельской местности доля участвующих в выборах была несколько выше, чем в городах. Свидетельств подтасовок почти не было. Результаты голосования ясно отразили как основную структуру общества, так и ход развития политических событий начиная с февраля 1917 года. Видный историк, занимающийся этим давно забытым эпизодом, пишет: «Можно сделать вывод… что эти выборы прошли без серьезных нарушений. Если бюргеры голосуют за право собственности, солдаты и их жены – за мир и демобилизацию, а крестьяне – за землю, то что в таком представлении может быть ненормального или нереального?» Возможно, их опыт демократии был невелик, но «с самого начала электорат» революционной России «знал, что он делает»[235].
Вместе партии революции – эсеры-аграрии и близкая им украинская партия, меньшевики и большевики – набрали почти 80 % голосов. Партии революционного оборончества – социал-революционеры (эсеры) и меньшевики – оставались наиболее популярными даже после большевистского переворота.
Но к осени 1917 года их положение стало болезненно неопределенным. Напротив, значительная и активная часть меньшинства, сосредоточенная вокруг городов, и прежде всего вокруг Петрограда, выступила в поддержку большевиков. Начиная с весны 1917 года эсеры и меньшевики призывали большевиков к формированию широкой революционной коалиции. Но Ленина и Троцкого это не интересовало. Вместо этого они, воспользовавшись возможностью, пошли на создание союза с крайне левым крылом аграриев, левыми эсерами, чье отношение к классовой войне было еще более воинственным, чем у самих большевиков. Первое заседание Учредительного собрания было отложено до января 1918 года, а тем временем большевики под самым популярным ленинским лозунгом «Земля, хлеб и мир» приступили к укреплению власти Советов.
IV
После переворота, в последней отчаянной попытке спасти демократическую революцию в России, Виктор Чернов, давний руководитель эсеров-аграриев, обратился к Лондону, Парижу и Вашингтону с призывом предоставить ему возможность сделать решительный шаг во внешней политике, который стал бы ответом на соблазнительные обещания Ленина немедленно установить мир. Но его надежды оказались напрасными. Ответа не было. После того как летом возникла опасность распространения революционной заразы на запад, союзники решили объявить карантин русской угрозе. В Вашингтоне, по крайней мере, существовало некоторое понимание масштабов приближающейся катастрофы. После провала наступательной операции Керенского в начале августа 1917 года полковник Хауз писал Вильсону, что он ощущает жизненную необходимость скорейшего заключения мира: «Важнее, чтобы… Россия стала зрелой республикой, чем чтобы Германия была поставлена на колени. Если беспорядки внутри России достигнут уровня, дающего Германии возможность вмешаться, то в будущем она сможет управлять и политикой, и экономикой России. И тогда часы прогресса на самом деле пойдут вспять». Если же в России установится «прочная демократия», настаивал Хауз, то «германский авторитаризм будет вынужден в течение очень немногих лет пойти на формирование представительного правительства»[236]. Во имя прогресса Америка должна использовать свои рычаги для того, чтобы незамедлительно установить мир, основанный на довоенном статус-кво, с учетом некоторых «изменений», позволяющих не потерять лицо в вопросе Эльзас-Лотарингии. Возможно, Париж будет возражать, но Хауз полагал, что в любом случае в течение зимы Франция «уступит». Вильсон стоял перед «одним из великих кризисов [sic], известных миру»[237]. Хауз молился о том, чтобы Вильсон «не упустил этой великой возможности»[238]. Прежде чем будут пролиты реки крови американцев, прежде чем вашингтонское участие в войне станет необратимым, необходимо возобновить проект мира без победы.
Если бы Хауз пришел к пониманию стратегической важности демократической России в мае, а не в середине августа 1917 года, если бы Вильсон счел нужным дать конструктивный ответ стремящимся к миру революционерам-оборонцам или дать знак о том, что он согласен на сепаратный мир, возможно, демократия в России была бы спасена. Но реакции так и не последовало. Вступление Америки в войну преградило путь к миру, и Вильсон не собирался возвращаться к этому вопросу. Взгляды полковника Хауза на геополитику прогресса вышли из моды. В конце августа Вильсон презрительно отверг мирные инициативы Ватикана, настаивая, к возмущению своих бывших сторонников, на том, что с кайзером не может быть никаких переговоров о мире[239]. Последние полные отчаяния обращения из России остались без ответа. Как писал видный историк обреченной партии аграриев, мы никогда не узнаем, была ли демократическая альтернатива большевикам «убита сразу»[240] решимостью союзников продолжить войну, или же эта решимость «просто создала атмосферу, в которой подобная идея не могла существовать. Но не может быть никаких разумных сомнений в том, что это было одно из двух»[241]. Когда большевики входили в Зимний дворец, Керенский бежал в колонне машин под защитой флага американского посольства.
4 Китай присоединяется к воюющему миру
21 июля 1917 года, сразу после провала наступления Керенского в России, либеральный американский журналист и китайский агент влияния Томас Франклин Файрфакс Миллард, чья еженедельная колонка «Обзор событий на Дальнем Востоке» выходила в Шанхае, поставил перед Вашингтоном весьма вызывающий вопрос:
Да, для демократии очень удобно, что в то время как мировая война ставит под вопрос судьбу демократии, существуют две великие страны – Россия и Китай, – которым можно предоставить в первый раз и в опасных условиях испытать на себе, что такое республиканизм… но лишь потому, что местные и общие условия складываются довольно неблагоприятно, а также потому, что эти эксперименты связаны с судьбой демократии во всем мире по причине войны, для США становится практически невозможным оставаться простым наблюдателем хода развития событий в России и Китае. Правительство США уже приняло меры к тому, чтобы ободрить, поощрить и поддержать Россию. Необходимо безотлагательно разработать и принять меры к тому, чтобы ободрить, поощрить и поддержать Китай в его стремлении сохранить республику[242].
Мы уже привыкли считать, что к 1940-м годам история Китая и история Советской России объединяются под знаком коммунизма. Но в 1917 году существовал мимолетный момент, когда казалось, что возможны иные виды связи. Китай и Россия могли примкнуть к США, создав демократическую коалицию. Заманчивой представлялась, если бы только хватило воли воспользоваться возможностью, перспектива либерального будущего для Евразии. И, как мы увидим, это было не просто игрой воображения отдельно взятого американского журналиста. В 1917 году в Китае, как и в России, речь шла о будущем республиканской революции. Как и в России, в эту внутреннюю борьбу вмешались события мировой войны. И точно так же, как и в России, год, начавшийся всплеском патриотического республиканского энтузиазма, завершился катастрофическим скатыванием в гражданскую войну. В результате к концу 1917 года, хотя ситуация на Западном фронте оставалась безвыходной, политический уклад сотрясало по всей Евразии.
I
Кризис в Пекине, который заставил Милларда выступить со столь неожиданным призывом к действию, было вызван решением Вудро Вильсона в феврале 1917 года о разрыве дипломатических отношений с Германией и призывом к другим нейтральным странам присоединиться к этому решению. Вильсон избрал эту позицию во имя интересов «справедливого и разумного понимания международного права и очевидных требований гуманности». Он открыто заявил, что считает «самим собой разумеющимся», что все нейтральные страны «изберут для себя такой же курс»[243]. Для политического класса Китая это было прямым вызовом. Китай мог оградить себя от конфликта еще в меньшей степени, чем США. В сентябре 1914 года Япония внезапно оккупировала германскую концессию в городе Циндао на Шаньдунском полуострове. Китайские добровольцы работали в интересах Антанты еще с 1916 года. Когда в начале марта 1917 года Германия усилила подводную войну, в результате торпедной атаки было потоплено французское транспортное судно «Атлас», при этом погибло 500 китайских рабочих. Разве у Пекина не было тех же обязательств защищать своих граждан от германской агрессии, что и у Вашингтона? Неприсоединение к позиции, занятой Вашингтоном, означало унизительное признание своей недееспособности. Кроме того, это означало упустить ниспосланную свыше молодой Китайской республике возможность стать союзником Соединенных Штатов, а значит, завершить политические преобразования, начатые китайской революцией зимой 1911/12 года[244].
Сам факт того, что многовековая династия Цин наконец пала в феврале 1912 года, уступив место республике, знаменует собой один из действительно поворотных моментов в современной истории. Республиканизм пришел в Азию. У китайских консерваторов это вызывало ужас и оцепенение. Но это было опасным потрясением и для японцев, которые еще в 1889 году после реставрации Мейдзи создали конституционную монархию по образцу имперской Германии. После тысячелетий династического правления Китай, казалось, был не очень подходящей почвой для создания республики. Тогда, как и сейчас, китайские властители могли легко осчастливить западных ученых, утверждающих, что азиатские ценности «требовали» авторитарного руководства[245]. Но сопровождавшийся длящихся десятилетиями волнений переход Китая от монархии к республике подтвердил свою удивительную стойкость[246]. На первых всеобщих выборах, состоявшихся в Китае в 1913 году, правом голоса обладали лишь мужчины старше 21 года, имеющие начальное образование. Но по действующим в то время нормам это вряд ли можно считать недостаточным. Даже если допустить, что большинство избирателей не явились на избирательные участки, то 20 млн избирателей, принявших участие в голосовании, превратили эти выборы в одно из наиболее важных демократических событий в истории[247]. Кроме того, несмотря на безудержную коррупцию, ведущая революционная партия, Гоминьдан, получила явное большинство голосов благодаря своей программе, предусматривавшей создание республики и парламента.
Правда, лидер Гоминьдана в парламенте был застрелен наемным убийцей, которого связывали с президентом генералом Юань Шикаем, так и не успев воспользоваться плодами победы своей партии. После непродолжительного восстания, прокатившегося в основном по южным провинциям, Сунь Ятсен и остальные руководители Гоминьдана удалились в изгнание. Юань объявил перерыв в работе парламента и приостановил действие временной конституции, проект которой был разработан революционерами. Используя иностранные займы, полученные при содействии Лондона и Японии и при бойкоте со стороны администрации Вильсона в Вашингтоне, Юань предпринял попытку сохранить за собой авторитарную власть еще на один срок. Ставший в последние годы существования империи заметной фигурой, как командующий армии нового образца в центральных областях Северного Китая, Юань был сторонником военной модернизации и не верил в разные нелепые нововведения, вроде конституции[248]. Но с чем он действительно совсем не считался, так это с оппозицией, к которой относилось большинство политического класса Китая. Когда зимой 1915/16 года Юань попытался назначить себя монархом, то наткнулся на бунт, охвативший всю страну[249]. К весне 1916 года южные провинции страны, традиционно противостоящие Пекину и подстрекаемые японскими агентами-провокаторами, встали в открытую оппозицию, требуя принятия федеральной конституции[250]. Опаснее было то, что молодые руководители из числа собственной военной группировки Юаня – генерал Дуань Цижуй из провинции Аньхой и генерал Фэн из провинции Чжили – выступили против своего бывшего покровителя. Активная новая пресса Китая развернула яростную националистическую кампанию против стремления Юаня к абсолютной власти[251]. Поняв, что он рискует развалом страны и тем самым открывает путь для вторжения Японии и России, Юань смиренно отказался от своих монарших устремлений и назначил генерала Дуаня премьер-министром. Дуань определенно не был либералом. Он получил военное образование в Германии и был верен Юаню в понимании авторитарной консолидации. Но он был тем, что позже немцы назовут Vernunftrepublikaner — республиканцем, утратившим связь с реальностью[252].
В июне 1916 года, после внезапной кончины дискредитировавшего себя Юаня, власть унаследовал ставший президентом Ли Юаньхун, один из номинальных лидеров самого первого восстания 1911 года и поддержанный Гоминьданом кандидат на пост президента на выборах 1913 года. Первым делом Ли восстановил действие конституции 1912 года и созвал парламент, работа которого была приостановлена Юанем и в котором большинство принадлежало Гоминьдану. Под руководством вице-председателя Сената, выпускника Йельского университета С. Т. Ванга парламент приступил к работе над проектом новой конституции. В феврале 1917 года парламент проголосовал за то, чтобы отменить статус конфуцианства как официальной религии. В Пекинском университете обосновалось новое поколение интеллектуалов, ориентировавшихся на Запад, включая первое поколение китайских марксистов. В целом казалось, что в китайской политике начался период конструктивных реформ. Внешняя политика, направленная на союз Китайской республики с президентом Вильсоном, представлялась идеальным дополнением политики республиканской консолидации.
Америка, в противоположность Японии и европейским империалистам, вызывала большие надежды у многих китайцев. Как писал в 1917 году своему другу молодой, придерживавшийся националистических взглядов студент Мао Цзэдун: «Япония – опасный враг нашей страны». Мао Цзэдун был убежден, что «через 20 лет Китаю придется или воевать с Японией, или подчиниться ей». Китайско-американская дружба, напротив, имела особое значение для будущего страны: «Две республики – на Западе и на Востоке – станут близкими друзьями и будут успешными экономическими и торговыми партнерами». Этот союз будет «величайшим начинанием тысячелетия»[253]. Посол США в Пекине, прогрессивный политолог Пол Рейнч с удовольствием поощрял подобные высказывания. И хотя у него временно не было телеграфной связи с Вашингтоном, он в начале февраля 1917 года по собственной инициативе предложил Китаю заем в размере 10 млн долларов, чтобы Китай мог подготовиться к войне и вслед за Америкой разорвать отношения с Германией[254]. Но, согласно отчетам Рейнча и британского посольства в Китае, в Пекине было очень неспокойно. Бездействие бывает унизительным. Конечно, очень соблазнительно было пойти на союз с Америкой. Однако, учитывая публичное отмежевание США от Антанты, как воспримут сближение Китая с Америкой во Франции, Британии и прежде всего в Японии? Как сообщал посол Рейнч госсекретарю Лансингу, президент Ли и премьер-министр Дуань были в нерешительности, опасаясь, что если Китаю придется вступать в боевые действия и для этого потребуется «более адекватная военная организация», то это даст Японии возможность потребовать у союзников «мандат» на «руководство деятельностью такой организации»[255]. Если Пекин откажется, сможет ли Китай рассчитывать на поддержку Америки? Теперь многое зависело от президента Вильсона.
В противоположность энтузиазму американского посольства в Пекине в Вашингтоне преобладала настороженность. 10 февраля 1917 года, прочитав телеграммы Рейнча, Вильсон сказал Лансингу: «Эти и предыдущие телеграммы о возможных действиях Китая меня беспокоят. Возможно, мы ведем Китай на грань краха… <Е>сли мы втянем Китай в свои дела, – продолжал президент, – то нам следует быть готовыми к тому, чтобы поддерживать его всеми возможными способами. Можем ли мы рассчитывать на то, что Сенат и наши банкиры будут в состоянии оправдать любые ожидания, которые могут возникнуть в Китае в связи с нашими действиями?»[256] Госсекретарь Лансинг был согласен с этим[257] Любой шаг по усилению военной мощи Китая неизбежно был бы воспринят как «угроза, оправдывающая требования Японии к установлению контроля». Если Вашингтон поддержит стремление Китая к независимости, предостерегал Лансинг, то ему надо «готовиться к возражениям со стороны Японии»[258].
II
Для сторонников либерального Китая, таких как посол Рейнч или Миллард, противостояние с Японией не было нежелательным. Но, как мы видели, Вильсон сильно переживал из-за сохранения расового баланса в мире. Ведя безуспешную борьбу за сохранение нейтралитета Америки, он чувствовал себя хранителем «белой цивилизации». И сейчас из-за разделения Европы было не самое удачное время для конфронтации на Востоке. Если оставить фантазии расового свойства, то Япония, разумеется, была силой, с которой приходилось считаться. Со времени реставрации Мейдзи Япония не раз выступала в роли жестокого агрессора[259]. В 1895 году Япония унизила Китай, получив огромные репарации и забрав Корею в качестве приза. В 1905 году, выступая уже в качестве союзника Британии, Япония нанесла унизительное поражение России. В августе 1914 года запрос британского министра иностранных дел Грея, организованный министром иностранных дел Японии Като, стал для Токио лицензией на спешное объявление войны Германии и вторжение на Шаньдун. Расположенный в нижнем течении Желтой реки, в пределах досягаемости из Пекина, Шаньдун считался священным местом трех основных религий Китая – конфуцианства, даосизма и буддизма, – поэтому его оккупация стала новым сокрушительным ударом по престижу Китая.
Но худшее было впереди. Для того чтобы заручиться защитой остальных стран Антанты, Юань Шикай попросил, чтобы Китаю тоже предложили объявить войну Германии. Но Япония накладывала вето на любые проявления независимости Китая. И теперь, в январе 1915 года, Токио передал Пекину «21 требование», документ, который вскоре стал печально известен во всем мире как наиболее вопиющее проявление империализма, вызванное войной. Первые четыре раздела этого документа представляли собой знакомые требования, характерные для дипломатии сфер влияния, – упорное повторение ранее озвученных японских притязаний, направленных на обеспечение ее интересов в Северном Китае и Манчжурии, граничащих с японскими колониями в Корее. А в обретшем печальную известность разделе V выдвигались претензии на подчинение Японии центральной пекинской администрации, включая армию и управление финансами, что обеспечивало приоритет Японии по отношению к правам, предоставленным другим державам на всей территории Китая[260]. Требования раздела V представляли собой вызов всем присутствовавшим в Китае державам и неизбежно вступали в противоречие с интересами Запада. Но было еще одно обстоятельство, которое не учли ни Япония, ни даже близкое окружение президента Юаня, – это волна патриотического возмущения, всколыхнувшая китайское общество[261]. Сообщение о претензиях Японии получило огласку, вызвав 40-тысячную демонстрацию протеста в Пекине. По стране прокатилась кампания бойкота японских товаров. Китайские модницы отказывались от токийских причесок, ставших модными после триумфальной победы Японии над Россией. Студенты Пекинского университета приняли решение повторять «21 требование» ежедневно, напоминая самим себе о пятне на чести страны. В одно мгновение то, что, согласно японским замыслам, должно было стать региональным coup de main, обернулось международным скандалом. Пока британские дипломаты старались предотвратить прямое столкновение между Китаем и Японией, газета Washington Post ознакомила возмущенных читателей с подробностями «21 требования». В Конгрессе произносились речи с выражением протеста, в которых Японию называли «Пруссией Востока».
Конечно, в Японии существовали политические силы, желавшие, чтобы страна соответствовала этому определению. В круге приближенных к гэнро Ямагате, наиболее влиятельному из еще живущих деятелей поколения, стоявшего у истоков обновления Мейдзи, почти в открытую рассуждали об ошибке, которую совершила Япония, встав на сторону Антанты. Убежденные в том, что в конечном счете Япония вступит в конфронтацию с США, они предпочитали консервативный союз с царским самодержавием, предусмотренный секретным договором, подписанным летом 1916 года. Но при всей оправданности скептического отношения к намерениям Японии в Китае возмущение западных наблюдателей действиями Японии не позволяло им разглядеть двусмысленность ее империалистической политики. В условиях крушения правящего режима в Китае и агрессивной экспансии царского самодержавия империализм в Японии зачастую развивался плечом к плечу с нацеленным на реформы либерализмом. Это было тем более так еще и потому, что гарантом японской экспансии выступал англо-японский союз. Вплоть до 1914 года экономическое развитие Японии и ее государственные финансы в чрезвычайной степени зависели от лондонского Сити. И во внутренней политике Япония не была авторитарным государством, в смысле, который вкладывается в либеральное антиимпериалистическое клише. Смерть последнего императора Мейдзи в июле 1912 года повлекла за собой смену четырех правительств за короткий отрезок времени, которая была вызвана столкновениями внутри элиты и протестами населения. Премьер-министр Окума, вступивший в должность в апреле 1914 года, был полон предрассудков, свойственных его эпохе и его классу, но он также был открыт западной политической мысли и в ранние годы Мейдзи считался ярым сторонником конституционной монархии британского типа. Вернувшись в 1914 году из отставки, для того чтобы вывести страну из кризиса новой эры Тайсё, Окума сформировал кабинет министров, в состав которого вошли примечательные фигуры, в том числе настоящие герои японского либерализма, такие как «бог японского конституционализма» Одзаки Юкио, занявший пост министра юстиции. Основную поддержку в парламенте (Диете) ему оказывала партия, известная как Дошикай. На фоне присущего японским партиям фракционализма Дошикай выделялась своей последовательной приверженностью экономической политике либеральной ортодоксии, опиравшейся на золотой стандарт и тесные отношения между Японией и Лондоном. Это направление олицетворял министр иностранных дел Като, бывший посол Японии в Британии. После войны Дошикай стала главной либеральной силой в японской парламентской политике. В 1925 году этой партии выпало введение всеобщего избирательного права для мужчин.
Тот факт, что подобные перемены произошли без насильственного переворота, не дает оснований считать их незначительными. В сравнении с грубыми, топорными попытками установить демократию в Китайской республике, выборы в Японии до 1919 года представляли собой не вызывающее ажиотажа событие, в котором участвовало не более 1 млн человек, притом что общая численность населения страны составляла 60 млн человек. Но с наступлением нового столетия интерес населения к политике значительно вырос. Ежедневный тираж газет увеличился с 1,63 млн экземпляров в 1905 году до 6,25 млн экземпляров в 1924 году[262]. С момента начала войны с Россией в 1905 году Японию неоднократно сотрясали волны массовых волнений. Для японских интеллектуалов, находившихся под сильным влиянием европейской исторической мысли, было очевидно, что Японию, как и Китай, подхватила волна исторических перемен. Вопрос состоял в том, как это должно отразиться на внешней политике страны.
Когда Окума и Като готовились к вступлению Японии в войну, они, выступая за войну в Китае, действовали с пониманием исторической цели, выходившей за пределы обычных имперских устремлений. Обосновывая объявление войны ссылками на сэра Эдварда Грея и на англо-японский договор, Като сумел оттеснить на второй план наиболее консервативных представителей японского истеблишмента, составлявших окружение гэнро Ямагаты. В этом свете «21 требование» было следующим шагом в деятельности Като, стремившегося обеспечить респектабельность внешней политики Японии в глазах западных партнеров. Он придал этой политике еще более радикальное отношение к расовой природе конфронтации, чем то, которое существовало в имперских кругах военного истеблишмента. Ответный удар в этой рискованной игре оказался ужасным. Несмотря на то что Пекину все же пришлось пойти на унизительные уступки, Токио, встретив международный протест, уже не мог настаивать на выполнении крайне противоречивых требований, содержащихся в разделе V. Британия начала переговоры о компромиссе между Токио и Пекином. Министр иностранных дел Като, на которого японские либералы возлагали огромные надежды, ушел в отставку, японская политика в отношении Китая начиная с лета 1915 года и до смерти Юаня, последовавшей годом позже, обретала черты все более опасного авантюризма. Оставив тщетные попытки придать японской политике респектабельность на международной арене, оставшиеся члены правительства Окумы позволили Танаке Гиити, заместителю начальника генерального штаба, убедить себя в необходимости усилить резкие нападки на центральные власти Пекина. Япония стремилась исключить Китай из опасной стратегической конфигурации, складывавшейся в Тихоокеанском регионе. Следуя беспощадной политике «разделяй и властвуй», японцы продолжали преследовать Юаня, добиваясь от него унизительных уступок и оказывая поддержку восставшим против него националистам, таким как Сунь Ятсен. И хотя к весне 1916 года Танаке удалось поставить Китай на грань гражданской войны, Япония (с точки зрения обеспечения своих долгосрочных стратегических позиций) почти ничего не получила.
Летом 1916 года провал попыток построения либерального варианта японского империализма привел к формированию нового правительства во главе с генералом Тераути, ярым милитаристом, который был известен своей беспощадностью в бытность губернатором Кореи. В отличие от Окумы, Тераути открыто выступал против любых шагов в направлении либерализации японской конституции. При вступлении в должность он заявил, что его правительство намерено «выйти за пределы» парламентского контроля и что ни одно другое направление политики не имеет столь большого значения, как внешняя политика. Правительство Тераути усматривало угрозу на океанских просторах со стороны США и настаивало на том, что Япония должна выйти за пределы региональной политики, нацеленной на простое обеспечение сферы своих интересов. Японии было недостаточно обозначить свое место в Маньчжурии вблизи британских позиций в Центральном Китае и позиций Франции на Юге, не говоря уже о продолжении разрушительной тактики «разделяй и властвуй», которой придерживался Танака[263]. Теперь, для того чтобы противостоять угрозе, исходящей с противоположной стороны Тихого океана, Токио необходимо усилить меры, направленные на обеспечение японского влияния на территории всего Китая, что позволит исключить любое влияние западных держав в регионе. Но из скандала вокруг печально известного раздела V «21 требования» был извлечен урок. Чтобы выполнить эту амбициозную повестку дня, Японии предстояло задействовать новые инструменты. В новой программе не были забыты и военные вопросы. Японии следует стремиться к заключению долгосрочных межправительственных военных соглашений. И в дальнейшем проводником японской политики в Китае должно стать само китайское правительство в Пекине, а главная роль будет отведена банкирам, в первую очередь Нисихаре Камедзо, державшемуся в тени приближенного министра внутренних дел Гото Симпея[264].
Таблица 3. От дефицита к профициту и обратно: неустойчивый платежный баланс Японии, 1913–1929 гг. (млн иен)
Мощные центробежные силы, которые опрокинули существовавшие до войны финансовые структуры на Атлантике, сказались и в Тихоокеанском регионе. К 1916 году платежный баланс Японии был столь устойчивым, а финансовое положение Антанты столь отчаянным, что Токио, предоставляя странам Антанты займы, оказался в совершенно необычном положении (табл. 3). Первый заем на сумму 100 млн иен предназначался для оплаты за счет Британии закупок Россией винтовок японского производства. Япония получала рычаги воздействия на Пекин, превращаясь для него в основной источник внешнего финансирования. Этот переход к стратегии долгосрочного финансового господства был затем подкреплен и внутренней политикой Японии. Несмотря на намерения «выйти за пределы», премьер-министру Тераути и его авторитарным друзьям требовалась поддержка внутри парламента[265]. Вынужденное противостоять критике в адрес отправленного в отставку министра иностранных дел Като и болезненным нападкам со стороны радикальных либералов типа Осаки Юкио, внешне независимое консервативное правительство Тераути на самом находилось в зависимости от партии Сэйюкаи, представлявшей дворянство провинциальной Японии. Их доблестный лидер Хара Такаси не был прогрессистом. Ему не нравилась нарастающая волна демократии, и поэтому он с великой радостью воспользовался подтасовками на выборах 1917 года, чтобы обеспечить своей партии значительное большинство в парламенте. Хара с презрением относился к устремлениям китайских националистов. Но в одном он был совершенно убежден: главной силой в будущем станут Соединенные Штаты. Возмущенная реакция Америки на «21 пункт» ясно показала, что Японии следует проявлять больше осторожности в своей политике в отношении Китая и помнить о границах возможного. Сами масштабы Китая указывали на необходимость осторожных действий. Как отмечал в декабре 1916 года министр иностранных дел Мотоно Итиро, «есть люди, которые говорят, что мы должны превратить Китай в протекторат или разделить его на части, есть и другие, которые стоят на крайних позициях и требуют воспользоваться войной в Европе для того, чтобы сделать весь Китай нашей территорией… но даже если бы мы могли сделать это на какое-то время, у <японской> империи не хватит сил для того, чтобы удерживать его в течение долгого времени»[266]. Один китайский военачальник высказал ту же точку зрения в более грубой форме. При всей своей агрессивности японцы «не были уверены» в том, что им удастся «проглотить» Китай. «Мы слабы, мы тупы, мы разобщены, но нас неисчислимое множество, и в конце концов, если они будут упорствовать, Китай распорет живот Японии»[267].
III
В столь деликатной ситуации обращение Вильсона к нейтральным странам в начале февраля 1917 года произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Какой будет реакция Японии и Китая? Во всяком случае, американскому посольству были совершенно ясны стоящие перед ним задачи. Чтобы обеспечить объединение Китайской республики и противостоять влиянию Японии, Пекин должен присоединиться к Вашингтону, заявив о немедленном разрыве отношений с Германией. В начале февраля посол Рейнч и члены его команды в течение пяти дней подряд работали с премьер-министром Дуанем и президентом Ли. По словам одного из сотрудников посольства, Рейнч возглавил «живое кольцо из крепких и решительных американских граждан, под охраной которых Китай неотступно двигался к черте, за которой начинались самостоятельность и путь в мировую политику»[268]. Это стремление вступить в мировое сообщество прозвучало и в заявлении, своевременно сделанном Пекином 7 февраля. В условиях, когда Германия нарушает международное право, «Китай, помня о своем положении в мире, не может молчать. Китай пользуется этой возможностью, чтобы, вступив в новую эру дипломатии, стать равноправным членом мирового сообщества и, проводя твердую политику, заручиться благосклонным отношением союзников». Британское посольство информировало Лондон о том, что большинство членов правительства и 80 % китайцев, читающих газеты, поддержали это заявление. Выходящая на юге страны, где были сильны националистические настроения, республиканская газета «Чунг-Юань Пао» (Chung-Yuan Pao) с пафосом писала: «Настало время действовать. Мы должны встать на сторону справедливости, гуманизма и международного права…»[269] Но всего через несколько дней после того, как Китай разорвал свои отношения с Германией, эти надежды оказались жестоко обманутыми. Президент Вильсон и госсекретарь Лансинг выступили с вежливым, но обескураживающим ответным заявлением, в котором готовность Китайской республики вступить в войну совсем не приветствовалась: «Американское правительство высоко ценит позицию Китая, но не желает подвергать его опасности. Оно сожалеет о практической невозможности дать в настоящее время какие-либо заверения… Китайскому правительству было бы целесообразно провести консультации со своими представителями в странах-союзниках. Неосведомленность относительно позиции Японии также указывает на необходимость осторожных действий». Чтобы как-то смягчить удручающее впечатление от этого заявления, Вильсон поручил Рейнчу на словах передать заверения в его искренней поддержке независимости Китая[270]. Но, несмотря на пространные обещания Рейнча и тот факт, что в апреле 1917 года Антанте была открыта кредитная линия в размере 3 млрд долларов, Китай не получил и 10 млн долларов[271].
Из Японии поступило сообщение совсем иного свойства. С 1914 года Токио выступал против участия Китая в войне с Германией. Теперь правительству Тераути хотелось испытать новую стратегию всестороннего господства. 13 февраля Нисихара прибыл в Пекин, чтобы обеспечить вступление Китая в войну на условиях, устраивавших Японию. Не желая уступать Рейнчу, японцы решили сыграть на стремлении Китая добиться уважения на международной арене. Нисихара призывал Китай поставить перед Европой серьезные вопросы, включая десятилетнюю отсрочку выплат, связанных с возмещением ущерба, нанесенного в ходе Боксерского восстания, введение китайским правительством эффективной базы налогообложения за счет увеличения таможенных тарифов, а также право размещения частей китайской армии на территории иностранных представительств на все время войны. Но, помимо этого, в отличие от своих американских конкурентов, Нисихара располагал средствами, которые позволяли обеспечить выполнение данных им обещаний. Через несколько дней после прибытия в Китай он начал переговоры о предоставлении Китаю значительных займов. 28 февраля 1917 года Нисихара получил из Токио подтверждение о выделении первого транша в размере 20 млн иен (10 млн долларов), который открывался сразу после того, как Китай объявит войну Германии.
Новая стратегия Токио в Китае, похоже, приносила немалые дивиденды. Унизить американцев оказалось на удивление легко. Опасная военная ситуация в Европе привела к тому, что британцы и французы были готовы согласиться практически со всеми требованиями Японии[272]. В январе 1917 года они втайне дали согласие на передачу Японии прав Германии на Шаньдун после окончания войны в обмен на присутствие японской флотилии в Восточном Средиземноморье для оказания помощи в борьбе против австро-германских подводных лодок. Настоящей проблемой для Японии в ее поиске политики, вне сферы интересов империалистических государств, оказался Китай. В Токио это могло выглядеть как выбор между политикой «разделяй и властвуй» и поддержкой китайского правительства, сотрудничающего с Японией. Но рост китайского национализма ставил Токио перед серьезной дилеммой. В 1915 году «21 требование» стало причиной объединения Китая в противостоянии Японии. Непреднамеренным результатом новой политики Токио, предусматривающей работу с пекинским правительством по конкретным вопросам, могли стать дискредитация китайских коллаборационистов и дезинтеграция страны – задача, над решением которой столь упорно трудились, проводя подрывную работу, секретные агенты генерала Танаки в 1916 году. Утечка информации о том, что премьер-министр Дуань принял щедрое предложение Японии о предоставлении займов, вызвала волну выступлений националистической оппозиции. Сунь Ятсен, находившийся на базе повстанцев на юге Китая, дал понять, что он против вступления страны в войну. Повторяя опасения, о которых сам премьер-министр Дуань говорил американцам, Сунь Ятсен настаивал на том, что «готовность страны подтвердить свой статус» военными методами зависит «от того, какие силы имеются в ее распоряжении. Присоединение Китая к союзникам скорее вызовет беспорядки внутри страны, нежели приведет к улучшению ситуации»[273].
Битва за будущее Китайской республики началась в апреле 1917 года, когда Америка объявила войну Германии. Премьер- министр Дуань собрал в Пекине военных губернаторов, которые согласились с тем, что Китай должен сделать то же самое. Теперь премьер-министр с нетерпением ожидал решения парламента, который, хотя и высказался за разрыв отношений с Германией, мог отказаться поддержать войну, которую объявляет подотчетное Японии правительство. Друзья премьер-министра из числа военачальников с присущей им тактичностью решили окружить здание парламента, отправив туда вооруженную толпу своих оплаченных приверженцев. Возмущенная столь наглой демонстрацией силы и попыткой запугать, партия Гоминьдан, имевшая большинство, согласилась с тем, что патриотические соображения требуют объявления войны, заявив при этом, что Китай может вступить в войну для защиты своей чести, но лишь при условии отставки Дуаня и его прояпонской клики. Когда Дуань отказался подать в отставку, президент Ли освободил его от должности. Подельники Дуаня из числа военных покинули Пекин, пообещав поднять восстание. Однако Ли не был настроен на компромисс. Вызов, брошенный парламенту военачальниками, был нарушением закона и мог привести к «расколу страны» либо к превращению Китая в «протекторат <Японии>, подобно Корее»[274]. На самом деле, следуя, там, где это было возможно, принципам своей новой политики, Токио сыграл довольно существенную сдерживающую роль в развитии ситуации, отвечая отказом на неоднократные призывы Дуаня о помощи. Японии нужна была сделка с правительством, обладающим властью. Именно президент Ли ускорил окончательный крах, вызвав в Пекин одного из самых реакционных военачальников, Чжан Сюня, который, как, очевидно, полагал президент, был способен противостоять двум основным милитаристским группировкам, возникшим из силового блока Юань Шикая: выступавшей в поддержку премьер-министра Дуаня клике Аньхоя и группировке генерала Фэн Чжили. Однако у Чжана имелись свои планы. Он занял императорский дворец и объявил о восстановлении династии Цин. Президент Ли был заключен под домашний арест, из которого его пришлось выручать охране посольства Японии.
Развязанный Ли хаос открыл перед Токио путь для прямого вторжения в Пекин во имя сохранения единства Китайской республики. Нисихара передал значительные средства возглавляемому Чжили крылу северной военной группировки, чьи части быстро вновь заняли столицу, вытеснив силы под командованием генерала Чжана. Клики Аньхоя и Чжили поделили власть между собой. Дуань вновь занял пост премьер-министра. Фэн, главнокомандующий фракции Чжили, заменил Ли на посту президента. Летом 1917 года члены парламента от партии Гоминьдан, отказавшись признать возвращение в Пекин дважды дискредитировавших себя милитаристов, бежали на юг страны, где создали повстанческое националистическое правительство во главе со своим давним вождем Сунь Ятсеном. Тем временем 14 августа в Пекине, в день годовщины Ихэтуаньского восстания (Боксерского восстания), Дуань провел через остатки парламента декларацию об объявлении войны. Вступив в войну, Дуань обеспечил стране место на мирной конференции, что многие представители политического класса Китая сочли бесценным входным билетом на международную арену. Дуань также раз и навсегда покончил с попытками восстановления монархии в Китае. Страна, на юге и на севере которой действовали два разных правительства, вступала в 30-летний период раздробленности и гражданской войны.
Каждая из сторон, участвовавших в этом конфликте, ожидала помощи извне. Британия и Франция увязли в Европе, Россия была охвачена революционными волнениями, Япония твердо встала на сторону занявших север страны милитаристов. Правительство националистов, обосновавшееся на юге страны, обратилось к США. В роли министра иностранных дел южного правительства выступал Ву Тиньфан, видный деятель времен династии Цин, бывший посол в Соединенных Штатах и первый китаец, который был приглашен в бар в лондонском Lincoln’s Inn. В июле 1917 года Ву, которого американская пресса иногда называла китайским Бенджамином Франклином, обратился непосредственно в Вашингтон[275]. «Ввиду создавшейся опасной ситуации и позиции, занятой восставшими тучунами (военными губернаторами), я обращаюсь к президенту Вильсону, как защитнику демократии и конституционализма во всем мире, с убедительной просьбой выступить с публичным заявлением по поводу отношения Америки к Китаю и оказать серьезную поддержку президенту Ли Юаньхуну»[276].
Но, несмотря прочную репутацию либерала Ву, Белый дом отказался принимать чью-либо сторону[277]. Летом 1917 года, когда китайский парламент вступил в прямое противостояние с военачальниками в вопросе об объявлении войны, госсекретарь Лансинг дал понять, что «вступление Китая в войну с Германией – или сохранение статус-кво – является вопросом второстепенным». «Китаю принципиально необходимо восстановить и сохранить свою политическую целостность, продолжить движение по пути развития страны, на котором ему уже удалось добиться столь значительных успехов. Что касается форм правления в Китае или лиц, взявших на себя управление, США заинтересованы в них в той мере, в какой их к этому побуждает дружеское стремление быть полезными Китаю. Но США глубоко заинтересованы в сохранении в Китае центрального, единого и единственного ответственного правительства…»[278] Это было невыносимо унизительно. В начале года китайский политический класс вынашивал мысль о том, что путем присоединения к коалиции против Германии ему удастся заручиться признанием в авангарде семьи народов. Теперь же Лансинг в открытую заявлял о том, что Китай не готов к подобному союзу, и отказывался принять ту или иную сторону в борьбе внутри страны. Империалистическая Япония, напротив, определилась с выбором стороны и подталкивала Китай к войне под руководством авторитарной власти. Если бы Дуаню и милитаристам удалось создать такое авторитарное правительство, то оно, конечно же, стало бы «центральным, единым и единственным ответственным», но соответствовало ли такое правительство подлинным интересам Соединенных Штатов? Кроме того, при всей видимой прочности могло ли такое правительство действительно обеспечить долгосрочное урегулирование политического будущего Китая?
В хаосе политической фракционной борьбы в Пекине Вашингтон отказывался признать, что речь шла о серьезных принципиальных вопросах. Направляясь из Шанхая на юг страны, чтобы вновь присоединиться к возглавляемому Сунь Ятсеном южному правительству в изгнании, Ву Тингфанг вновь обратился к Америке в открытом письме, которое было опубликовано: «В Европе идет война… за то, чтобы положить конец прусскому милитаризму, – писал он, – и я хочу, чтобы американцы понимали, что нынешние беды Китая имеют те же самые причины». Воспитанный на гладстонских традициях, Ву быстро усвоил новый язык либерального интернационализма: «У нас идет борьба между демократией и милитаризмом. Я прошу американцев проявить терпение и дать Китаю шанс. Демократия одержит триумфальную победу. Я надеюсь дожить до дня, когда звездно-полосатый флаг и китайский флаг цвета пламени переплетутся вместе в знак вечной дружбы»[279]. Еще более остро выразился С. Т. Ванг, бывший заместитель председателя Сената, один из авторов конституции 1917 года. Ванг высмеял столь разительное отличие в отношении Америки к событиям, происходящим в Европе и в Азии: «Довольно смешно, что в то время, как Америка вступает в мировую войну… открыто заявляя, что главной ее целью является спасение демократического принципа правления от удушения деспотичным милитаризмом, мощь и влияние США используются в одном месте за ее пределами и не используются в другом…В первую очередь необходимо, чтобы при выборе между возвратом к архаичной монархии, сохранением военной олигархии и постепенным продвижением к подлинному республиканизму влияние Соединенных Штатов использовалось определенно в пользу последнего варианта. Если это ведет к квазивмешательству в китайскую политику, то и с этой ответственностью следует считаться»[280].
Когда волна летнего кризиса в Пекине пошла на спад, Вашингтон все же продемонстрировал некоторые признаки того, что занимается формулировкой более заинтересованной политики в отношении Китая и Японии. Но эти намерения вряд ли можно было считать обнадеживающими для китайских националистов. Сближению с Китаем Лансинг предпочитал взаимодействие с Японией. В ноябре 1917 года без консультаций с Пекином Лансинг и японский посол виконт Исии выступили с заявлением, в котором подтвердили политику «открытых дверей» в Китае (то есть принцип равной доступности для всех иностранных коммерсантов и инвесторов), но также признали «особые интересы» Японии в Северном Китае с учетом его географической близости[281]. Посол Китая в Вашингтоне, выпускник юридического факультета Колумбийского университета, Веллингтон Ку немедленно заявил протест, указывая на недопустимость обсуждения будущего Китая Японией и Америкой без участия самого Китая. Если бы Ку было известно, что говорилось в частных беседах в администрации Вильсона, то он был бы возмущен еще больше. В сентябре полковник Хауз предложил Вильсону передать все огромное население Китая под управление международного мандата, принадлежащего трем уполномоченным, назначаемым при «согласии Китая», – Соединенным Штатам, Японии и «другим державам». По его мнению, Китай находился «в удручающем состоянии. Заболеваемость, отсутствие санитарии, новая система рабства, детоубийство и другие жестокие и дикие обычаи превращали весь народ в целом в угрозу цивилизации. Не наблюдается ничего, что можно было бы назвать правосудием, а внутренние коммуникации совершенно не отвечают требованиям времени.» Международные «уполномоченные» будут действовать «на протяжении согласованного срока, но достаточно долго, чтобы обеспечить наведение в Китае порядка, развитие цивилизации и покупательной способности, его выход из числа отсталых стран и превращение в благо для всего мира, а не в угрозу»[282].
В отличие от такой фантазии, стратегия Японии строилась как минимум на элементарном признании того, что с пекинским правительством следует действовать напрямую, как с партнером, обладающим властью. Япония теперь оказалась в ситуации, которой так стремилась избежать Америка. Япония выступила в пользу одной из сторон, участвовавших в гражданской войне, и ее вмешательство способствовало эскалации конфликта. Ставки японских союзников в Китае были высоки. Они рассчитывали, что Япония выделит им ресурсы, достаточные для того, чтобы одержать победу над оппозицией, которая возникла в результате оказанной Японией поддержки. Как Дуань сказал Нисихаре в ходе одной из первых встреч в феврале 1917 года, он намеревался использовать помощь Японии для продвижения «административных реформ», а это означало, как Нисихара передавал в Токио, что Дуань намеревался уничтожить политических врагов и подчинить себе весь Китай. В августе 1917 года, вскоре после объявления войны Германии, Дуань объяснял послу Рейнчу, что его первоочередной целью было «создание в Китае единой национальной военной организации, с тем чтобы местные военные командиры никогда не смогли нарушить мир»[283]. Как отмечал один из ведущих экспертов по военным диктатурам, ирония этого исторического периода состояла в том, что беспорядки в Китае были вызваны не открытым сепаратизмом, а избыточным стремлением к объединению страны[284]. В октябре 1917 года, пользуясь значительными средствами, полученными от японцев, Дуань начал первую кампанию по военному объединению Севера и Юга, которая обрекла страну на целое десятилетие потрясений. Выбрав эту военную стратегию, Дуань не заручился поддержкой соперничающей военной фракции Чжили во главе с президентом Фэном. Чжили саботировала его попытки вновь захватить стратегически важную провинцию Хуань в Центральном Китае, и Дуань был вынужден уйти в отставку. Японцев его уход не очень огорчил. Объединение Китая под руководством военного диктатора сулило по меньшей мере противоречивые перспективы, и Хара опасался, что это может в конечном счете заставить американцев действовать. Вместо этого в 1918 году Токио взял на себя функции посредника в примирении Севера и Юга, которое должно было заглушить призывы либералов к вмешательству и, возможно, каким-то образом поправить поблекший имидж Японии на мировой арене[285].
С учетом деликатного баланса политической ситуации в самой Японии решительные шаги со стороны США в этот момент вполне могли привести к ее сглаживанию. Несмотря на мрачные настроения в рядах некоторых японских империалистов, в Токио не было большинства, которое выступало бы за противостояние с Вашингтоном. В результате выборов 1917 года Хара и его партия Сэйюкай получили необходимое большинство, что позволяло им контролировать антизападные настроения. Если бы Америка была в состоянии предоставить Китаю средства, сопоставимые с теми, которые сумел собрать Нисихара, то это вполне могло бы изменить баланс довольно решительным образом. Как писал в своем срочном письме Вильсону много поездивший по миру финансовый экономист Джеремия Дженкс, «один процент» от 3 млрд долларов, выделенных для Антанты, «позволил бы Китаю поправить положение внутри страны…». «Пять процентов» полностью избавили бы Китай от Японии, что позволило бы ему превратиться в «очень важный фактор в реальных военных действиях…»[286] В конце 1917 года, шесть лет спустя после свержения династии Цин, появились признаки того, что Вашингтон наконец готов обеспечить некоторую финансовую поддержку своей стратегии в Азии. Лансинг предложил выделить 50 млн долларов на проведение преобразований в военной сфере и развитие сети железных дорог в Южном Китае. Еще 100 млн долларов позволили бы стабилизировать китайскую валюту. Предполагалось организовать сбор средств силами консорциума банкиров из разных стран, в котором ведущая роль отводилась Уолл-стрит[287]. Вильсон одобрил эту схему, а министерство обороны уже лелеяло мысль об отправке 100-тысячной армии китайских солдат во Францию. Но денег собрать не удалось.
Когда Лансинг и Вильсон впервые обсуждали китайскую дилемму в феврале 1917 года, они говорили о возможных трудностях в Конгрессе и на Уолл-стрит. Когда в декабре 1917 года Лансинг вынес свой план на рассмотрение, то он был немедленно отвергнут министром финансов Макаду. Тот не желал обращаться в Конгресс с просьбой о выдаче крупного правительственного займа Китаю и не хотел, чтобы выделяемые Китаю средства составляли конкуренцию облигациям «Займа свободы». В конце концов Макаду согласился выдать этот заем, но при условии, что он будет носить исключительно частный характер и не превысит 55 млн долларов. Но Дж. П. Морган, не видя последовательной стратегии, немедленно заявил о своей незаинтересованности в предоставлении займов Китаю без сотрудничества с Японией[288]. Япония обладала влиянием и даже могла обеспечивать видимость безопасности в своей сфере интересов, подобно тому как это делали Британия в Центральном Китае и Франция – в Южном. Потенциально американские ресурсы были значительно больше, но отказ Вашингтона выработать последовательную позицию в отношении политических процессов в Китае привел к остановке потока средств.
IV
Весной 1917 года вступление Америки в войну многим казалось предвестником начала международного похода в защиту либерального республиканизма. Но к концу 1917 года надежды на то, что у Вашингтона имеются возможности или желание организовывать столь широкую кампанию, ослабли. Несомненно, что неспособность выработать конструктивную политику в отношении Китая частично объяснялась расовыми и культурными предрассудками. Лишь к концу 1920 года США стали принимать китайский национализм всерьез. Но такой подход не ограничивался лишь Китаем. Как показал опыт России, летом 1917 года Вашингтон допустил еще большую ошибку, отказавшись от, казалось бы, обещанной Вильсоном поддержки глобального выступления за демократию. Пример Китая и России, где речь шла о судьбах республиканских революций, показал обескураживающее расхождение между политической риторикой и эффективным использованием ресурсов. Заявление Лансинга о приоритете последовательного становления Китайского государства в сравнении с его участием в войне было бы более чем уместным, относись оно к Петрограду июля 1917 года. Но тем летом полковник Хауз в числе других намного позднее осознал особую стратегическую важность защиты демократического эксперимента в Петрограде. Однако если бы финансовая и логистическая помощь, поступавшая в Россию через Владивосток, была бы направлена в Китай, она не могла бы не оказать решающего влияния на силовом поле китайско-японских отношений. Как мы увидим, эта закономерность проявится и в Европе. В 1918 году Вильсон пробудит большие надежды, пообещав демократической Германии либеральный мир, но связанные с этим обещанием ожидания окажутся напрасными.
Здесь прослеживается определенная закономерность. На самом деле, несмотря на видимость, которую Вильсон создавал, обращаясь напрямую к Китаю, России и Германии, эти страны были объектами его стратегии. Не они были настоящими адресатами. Конечно, перемены в столь отдаленных местах можно было только приветствовать, но эти перемены в лучшем случае представляли собой долгосрочный процесс, от которого Америке следовало держаться на расстоянии. Публичная риторика Вильсона, его дипломатия и стратегия были адресованы не этим странам. Они были направлены на те опасные связи, в которые он был вынужден вступить с Британской империей, неистовой Японией, мстительной и непредсказуемой Францией, – связи, становившиеся тем более опасными, что у по-макиавеллиевски коварных империалистов Старого Света имелось столько влиятельных и корыстных друзей в самой Америке, в Конгрессе и на Уолл-стрит. Именно решимость Вильсона сохранить преимущество в этом сплетении сил, действующих в непосредственной близости от самой Америки, а не смутные перспективы прогресса в отдаленных местах Азии или Европы преобладала над всеми другими доводами.
5 Брест-Литовск
2 декабря 1917 года в мрачном казарменном комплексе, расположенном на западе России, представители большевистского режима и Центральных держав – Германии, Австрии, Турции и Болгарии – приступили к мирным переговорам. Через четыре месяца они заключили печально известный Брест-Литовский договор, по которому Россия лишалась территорий с населением 55 млн человек, то есть трети довоенного населения империи, трети сельскохозяйственных земель, более чем половины своих промышленных предприятий и шахт, производивших почти 90 % всего угля в стране. Брест- Литовский договор вошел в историю как наглядный символ неумеренных притязаний германского империализма и в то же время непреклонной решимости Ленина добиться мира[289]. Но прежде чем 3 марта 1918 года этот окончательный жестокий мирный договор был подписан, большевикам и Центральным державам пришлось пройти непростой путь[290]. Как ни удивительно, договору, который в целом запомнился как акт империалистической ненасытности, напоминавшей гитлеровскую, предшествовали продолжительные и основательные переговоры, которые велись на языке самоопределения[291]. От большевиков этого можно было ожидать. Ленин и комиссар по иностранным делам Троцкий были, помимо всего прочего, известными приверженцами новых принципов международных отношений. Но в ходе переговоров в Бресте и германская сторона в не меньшей степени, чем Советы, искала пути установления современного мира на Востоке, мира, построенного на новых стандартах легитимности. Во всяком случае, к этому стремились министр иностранных дел Германии Рихард фон Кюльман и его сторонники, имевшие большинство в рейхстаге. Действуя вполне целенаправленно, чтобы захватить инициативу, они пытались установить на Востоке либеральный порядок, который должен был прийти на смену царской самодержавной империи.
То, что такой мир означал для России потерю значительных территорий, было неудивительно. Как был вынужден согласиться сам Ленин, если к принципам самоопределения относиться всерьез, то они перевешивают любые требования сохранения территориального статус-кво[292]. Какое право имели большевики, совершившие насильственный переворот в Петрограде, претендовать на территории, завоеванные царем? По собственным оценкам Ленина, более половины населения Восточной Европы составляли угнетенные народы[293]. При всех безжалостных (с точки зрения России) условиях окончательного договора лишь незначительная часть территории, которую уступала Россия, отходила непосредственно к Германии. Но при этом в результате Брестского договора рождались предшественники прибалтийских государств в их современной форме, независимая Украина и закавказские республики[294]. Конечно, в 1918 году все эти образования, хочешь не хочешь, оказывались под «протекторатом» империалистической Германии. Соответственно, общепринятым было не замечать их, как обычных «марионеток» германского империализма. Но, поступая таким образом, мы подпадаем под большевистскую инвективу. После 1991 года все эти образования «времен Брест-Литовска», как и многие другие, стали считаться легитимными членами семьи народов. Теперь, как и тогда, Польша и страны Балтии ищут себе защитников на Западе. Сегодня они стали активными членами НАТО, в которой главная роль принадлежит США, и Европейского союза, где ведущей силой является Германия. И если страны, о которых идет речь, не сильно озабочены своей безопасностью, то во многом это следствие еще большей ограниченности территории России (как видно на карте Евразии начала XXI века), чем это было согласно Брестскому договору. В сравнении с царским прошлым или с послесоветским будущим, на Востоке заключенный в Бресте мир по существу не считался нелегитимным. Он был дискредитирован в результате неспособности Берлина проводить последовательную либеральную политику. Подозрения относительно вероломства Берлина привели к тому, что большевики стали считаться жертвой договора, а инициатива вновь перешла к западным державам.
В январе 1918 года и Ллойд Джордж, и Вудро Вильсон сочли необходимым отреагировать на переговоры, проходившие в Бресте между Германией и большевиками, и выступили с резкими заявлениями, в которых изложили свои взгляды на либеральный порядок в мире после окончания войны. Наибольший отклик во всем мире встретил манифест Вудро Вильсона «14 пунктов». Но, вопреки легенде времен холодной войны, Вильсон не бросал вызова Ленину и Троцкому, а стремился успокоить их. Представляя Ленина и Троцкого потенциальными партнерами в деле обеспечения демократического мира, а единый «русский народ» жертвой германской агрессии, Вильсон содействовал появлению «темной легенды» вокруг брестских событий. А демократам в Берлине и Вене оставалось с ужасом наблюдать за тем, как сочетание революционной тактики большевиков и наиболее агрессивных порывов германских милитаристов ведет к выхолащиванию любой попытки создания легитимного порядка на Востоке.
I
В конце ноября 1917 года большевики, верные своему обещанию немедленно прекратить боевые действия, пригласили Германию к началу переговоров. Но на каких условиях мог быть заключен мир? Весной 1917 года Ленин был в числе наиболее ярых критиков революционных оборонцев и их «петроградской формулы» демократического мира. Он клеймил позором непродуманные компромиссы между консервативной доктриной мира «без аннексий» и революционным лозунгом «самоопределения». Но какая альтернатива предлагалась теперь, после свержения Временного правительства? В ноябре 1917 года ответ был ясен не более чем полгода назад. Конечно, в первые недели после захвата власти Ленин не решался во всеуслышание заявить о своей политической готовности к заключению сепаратного мира на любых условиях, которые выдвинет Германия. Но Центральные державы и не ожидали такой жертвы. Дав молчаливое согласие на перемирие, Германия была готова вести переговоры по любым вариантам мирной «петроградской формулы», на которые могли согласиться большевики. Более того, Германия и не настаивала на формальном разрыве между Россией и Антантой. Вместо этого Россия и Германия выступили с совместной декларацией, призывавшей все воюющие стороны к участию в переговорах. В соответствии с требованиями «новой дипломатии», переговоры в Бресте должны были проводиться в условиях необычной степени открытости[295]. Чтобы большевики могли распространить свое обращение, им даже позволялось проводить регулярные братания с немецкими частями. В Бресте царила атмосфера, представлявшая собой странную смесь аристократического рыцарства старой школы и революционных новаций. Переговоры стали первой конференцией новой эпохи, в которой участвовали великие державы, где в качестве полномочного представителя с советской стороны выступала женщина – Анастасия Бизенко, бывшая эсерка- террористка, ставшая большевичкой.
На столь удивительное начало можно и не обращать внимания, считая его пропагандистской шарадой. Но это будет означать серьезную недооценку участвующих в игре сил. Захват власти большевиками в ноябре 1917 года на самом деле выглядел сомнительным. Ленин и партнеры Троцкого во власти, левые эсеры, не относились к числу друзей Антанты, но, как и все остальные участники Февральской революции, они отвергали любую идею сепаратного мира с кайзером. Как и большинство активистов в самой партии большевиков, они цеплялись за идею о том, что если не удастся договориться на приемлемых условиях, то можно будет объявить «революционную войну», мобилизовав бунтарскую энергию народов России и Германии для объединенного сопротивления империализму. В декабре 1917 года раскол в германском тылу становился все более очевидным. После первой большой забастовочной волны апреля 1917 года неспокойная обстановка в промышленности сохранялась на протяжении всего лета. В рейхстаге продолжало действовать большинство, принявшее резолюцию о мире[296]. В ноябре парламентарии самоутвердились, изгнав Георга Михаэлиса, марионеточного канцлера, поставленного Гинденбургом и Людендорфом вместо Бетмана Гольвега. В этот раз парламентарии настаивали на такой солидной кандидатуре, как Георг Гертлинг, бывший премьер-министр Баварии и первый в длинной череде христиан-демократов, которому выпало управлять Германией в XX веке. Что касается заместителя, то большинство членов рейхстага остановили свой выбор на одном из своих – прогрессивном либерале, депутате рейхстага Фридрихе фон Пайере.
Германия встала на путь «парламентаризации». Но будет ли достаточно этих первых шагов, чтобы успокоить массовые волнения? И если они устроят левых, не вызовут ли они ответного удара справа? С августа 1917 года ультранационалистическая партия «Отечество» (Vaterlandspartei) призывала германских политиков из числа правых требовать войны до победного конца; если же для этого потребуется открытая военная диктатура – так тем лучше[297]. Vaterlandspartei, хотя и демонстрировала черты популистской фашиствующей партии, так и не смогла распространить свое влияние за пределы националистических групп, существовавших еще до войны. Но теперь лидеров большинства в рейхстаге больше беспокоили перспективы того, что настойчивые арьергардные действия правого крыла могут привести к приостановке любых дальнейших реформ и спровоцировать радикализацию их открытого левого фланга. Осенью 1917 года стал очевидным рост поддержки отколовшейся НСДП, выступавшей против войны. Теперь уже не оставалось сомнений в том, что многие заявляющие о своем мнении рабочие, а может и большинство всего рабочего класса Германии, требовали мирных переговоров, отмены военного положения, демократизации Пруссии и немедленного улучшения обеспечения продуктовых карточек. Ситуация с продовольствием в предстоящую зиму действительно вызывала тревогу. Как говорил в своем выступлении в рейхстаге 20 декабря 1917 года один из наиболее активных лидеров большинства социал-демократов, Фридрих Эберт, «в апреле и мае у нас не будет ничего. Ничего, кроме урезанной до 110 граммов в день порции хлеба. Это невозможно»[298]. Россия искала перемирия, а легендарная украинская житница располагалась на Востоке. И для того чтобы получить доступ к этим крайне необходимым источникам поставок продовольствия, Германии и Австрии, которым не хватало сил для полноценной оккупации, требовалось выйти на торговую сделку. Большевикам было достаточно перемирия, но Центральным державам был нужен продолжительный мир, и как можно скорее.
Министр иностранных дел Германии Кюльман, зарекомендовавший себя перед войной как «либеральный империалист», понимал, что к этим проблемам внутри страны следует отнестись серьезно. Германскому тылу был нужен немедленный и выгодный мир, соответствующий тону мирной декларации, принятой рейхстагом в июле 1917 года. Правда, правое крыло приходило в необычайное волнение при одном только упоминании об условиях перемирия. Армия Германии побеждает, тогда как может Кюльман соглашаться на то, чтобы подчинить Германию мирной формуле, предлагаемой русскими революционерами? Почему решительная военная победа не может развязать Германии руки? Для Vaterlandspartei ответ был очевиден. Как сказал более чем консервативно настроенный барон Куно фон Вестарп, выступая в одном из комитетов рейхстага, внутри страны и за ее пределами наблюдалось одно и то же – разъедающее влияние «демократии»[299]. 6 декабря прусские консерваторы заявили о своей позиции. Игнорируя публичные призывы самого кайзера к смелым шагам в направлении реформ просветительского характера, палата господ Пруссии проголосовала против введения всеобщего права голоса для мужчин[300]. Как с одобрением отмечал один из ближайших сподвижников Людендорфа, полковник Макс Бауэр, с какой стати лучшие сыновья Германии должны отдавать свои жизни «только за то, чтобы оказаться погребенными под массой евреев и босяков»?[301]
Для германских правых линия была ясна. Демократизация являлась прелюдией к капитуляции. Более изощренные носители германской стратегии видели и другие возможности. Таким людям, как Маттиас Эрцбергер или Курт Рицлер, ближайший сподвижник Бетманна Гольвега, демократизация страны представлялась единственной основой, на которой Германия сможет проводить политику великой державы на равных с Британией и США[302]. Непоколебимая позиция подавляющего большинства СДП продемонстрировала всю силу патриотизма рабочего класса Германии. Но если демократия добавит демонстрации германской мощи новую энергию и легитимность, то она привнесет в нее и логику самоограничения, сдерживающую тенденцию к необдуманным территориальным захватам. Захват территорий в результате аннексии вполне может соответствовать духу примитивной военной концепции безопасности. Но даже при всей ограниченности полномочий, которыми располагал рейхстаг согласно конституции Бисмарка, обустройство в стране польского меньшинства представлялось тревожной проблемой. Если размышлять о будущем Германии как демократического Volksstaat, или народного государства, то каким образом будет происходить присоединение значительных территорий с населением чуждым с точки зрения языка, культуры и религии? Германия не хотела оказаться в положении вестминстерского парламента, в котором баланс сил зависит от неспокойного ирландского меньшинства. Для канцлера Гертлинга вывод был очевиден. «Мы хотим оставаться национальным государством, а раз так, то мы не будем принимать к себе такие враждебно настроенные группы населения»[303].
Занимавшие крайне правые позиции идеологи пан-Германии, возможно, воображали будущее, в котором в подчинении у Германии будет миллионный класс рабов. Радикально настроенный лидер пангерманистов Генрих Класс даже был готов рассматривать массовую зачистку местного населения для высвобождения на Востоке земель, «свободных от людей». Подобные фантазии в 1917 году были вызваны тем, что значительная часть населения, проживавшая в Германии до войны, покидала страну[304]. К 1918 году Курляндию, одну из главных целей германских сторонников аннексии, покинуло более половины довоенного латышского населения, насчитывавшего 600 тысяч душ[305]. Для политического класса Германии не составляли тайны методы, применявшиеся Турцией для того, чтобы избавиться от армянского населения. Но у большинства пример Турции вызывал отвращение. Даже твердолобые консерваторы считали разговоры пангерманистов о порабощении населения Бельгии и зачистке Востока опасными и непрактичными[306]. В июле 1917 года в ходе дебатов о мирной резолюции Эрцбергер объявил ликующему рейхстагу, что будет гораздо дешевле обеспечить пангерманистов местами в учреждениях для психически больных, чем выносить их империалистические бредни. Как заявил представитель СДП, давно уже прошли времена, когда «людей можно было сортировать, разделять и сводить друг с другом, подобно овцам»[307].
После публикации в октябре 1915 года во многом неверно истолкованной книги Фридриха Наумана, в которой было изложено видение объединенной Mitteleuropa, активно обсуждалась тема зоны влияния Германии в Центральной Европе, обусловленная неким федеративным империализмом[308]. Национал- либерал Густав Штреземан предложил Германии попытаться создать блок из 150 млн потребителей, которые могли бы стать базой, опираясь на нее страна могла бы надеяться противостоять американской индустриальной мощи[309]. Тем временем Россия продолжала воевать. После свержения в 1917 году царизма и вступления в войну Америки наиболее дальновидным стратегам в Германии стало очевидно, что для подрыва царской империи лучше всего будет, если Берлин поддержит требование о самоопределении[310]. Ирония состояла в том, что большевики были согласны с этим. 15 ноября, через десять дней после захвата власти (2 ноября по старому стилю), Ленин и его верный помощник Иосиф Сталин выступили с Декларацией прав народов России, которая предоставляла право на самоопределение, вплоть до отделения[311]. Для министра иностранных дел Кюльмана переговоры в Брест-Литовске, похоже, открывали возможность создания нового порядка на Востоке, построенного не только на неоспоримом военном превосходстве Германии, но и на подчеркнутом соблюдении новых принципов легитимности. Германия могла обеспечить свою власть в континентальном масштабе, не прибегая к аннексиям, а формируя экономический и военный блок небольших восточноевропейских государств под германским протекторатом. Для начала осенью 1916 года Германия и Австрия создали польскую автономию на принадлежавшей ранее России территории. Теперь новая Польша была тесно и навсегда связана с Германией с точки зрения экономической и военной, зато в социальной и культурной сферах ей предоставлялась свобода «национального самовыражения»[312]. Как отмечал в 1916 году канцлер Бетман Гольвег, «настало время не для аннексий, а, скорее, для того, чтобы небольшие государственные образования прижались [sic] к великим державам на условиях взаимной выгоды»[313]. Если бы только Германия захотела проявить решимость и провести реформы внутри страны, объяснял один из ведущих членов СДП Эдуард Давид генералу Максу Гофману в его штабе в Бресте, это позволило бы ей превзойти самые смелые планы Weltpolitik Вильгельма. В сотрудничестве с Россией и группой новых восточных стран у Германии появлялась возможность выйти за рамки простой Mitteleuropa и распространить свое влияние на всю Евразию от Персидского залива до Индийского и Тихого океанов[314].
Конечно, подобные взгляды были своекорыстными. Но сторонников этого альтернативного варианта гегемонии Германии нельзя сбрасывать со счетов как жертв обмана или предшественников нацистской империи[315]. Оппоненты из числа германских правых считали их реальной угрозой. Даже закаленные ветераны эпохи Бисмарка были поражены желчностью националистического сарказма, обрушившегося на лидера СДП Филиппа Шейдемана, выступавшего за германский вариант демократического мира. В ходе ожесточенных дискуссий вокруг Брест-Литовского договора Эрцбергер дважды рисковал быть вызванным в военный суд за свои выступления в защиту независимости литовцев и украинцев[316]. Даже такие фигуры, как рейхсканцлер Бетман Гольвег, или служащие, вроде Курта Рицлера, были не просто циничными. Они считали, что история опровергла предлагаемый сторонниками национализма, предпочитающими простой взгляд на вещи, выбор между рабством и полным неограниченным суверенитетом. Для большинства полный суверенитет всегда был химерой. Даже нейтралитет считался вариантом, допустимым лишь в исключительных обстоятельствах. Как понял Вудро Вильсон, даже самая мощная страна могла придерживаться нейтралитета лишь в условиях изоляции. Большинству приходится выбирать одну из ведущих стран. Страны Балтии, оторванные от России, неизбежно попадали в орбиту другой великой державы, если не Германии или России, то Британии. Но наиболее дальновидные стратеги имперской Германии говорили о переговорном суверенитете, при котором происходит объединение экономической и военной независимости малых и больших стран[317].
Мы не должны отмахиваться от такого взгляда лишь потому, что он был предложен имперской Германией. Опыт XX столетия показывает, что легитимность подобного взгляда вряд ли может быть отвергнута в принципе. Начиная с 1945 года на его основе строился блок относительного мира и процветания в Европе и Восточной Азии[318]. Кроме того, такой взгляд на новый порядок в Восточной Европе был связан с программой внутренних реформ, которых было не миновать имперской Германии. В Бресте Германия выступала не только за новый порядок в Восточной Европе. Борьба шла за политическое будущее самой Германии[319]. Но если допустить, что условия перемирия 2 декабря 1917 года не были пустышкой, а согласие германской стороны с «петроградской формулой» – не просто фигурой речи, то тем более важно понять, почему отношения между Германией и большевиками скатились до жесткой силовой борьбы, а также каким образом оказалось, что к лету 1918 года армия кайзера оккупировала территорию России, почти равную той, которую гитлеровский вермахт завоевал на пути к Сталинграду в 1942 году.
II
Начавшийся в Бресте 22 декабря 1917 года первый раунд официальных мирных переговоров проходил на удивление хорошо[320]. Соблюдалась договоренность о соблюдении принципов перемирия – «самоопределения без аннексий и контрибуций». В день Рождества участники переговоров – представители Центральных держав и большевиков – выпустили коммюнике, в котором выражали свое согласие по основным принципам мира без аннексий и с выводом оккупационных войск, то есть по формуле, к которой, как они продолжали надеяться, Антанта сможет присоединиться. Предвкушая скорое объявление долгожданного мира, многочисленные толпы вышли на улицы Вены. Успех переговоров сбивал с толку Антанту, как и рассчитывали обе стороны. Если мир на либеральных условиях был возможен на Востоке, то почему тогда на Западный фронт по-прежнему ежедневно отправлялись тысячи людей? Замешательство в Антанте усилилось после того, как Троцкий опубликовал полный текст секретного Лондонского договора 1915 года, вскрывшего империалистический заговор, с помощью которого Лондон и Париж купили участие Италии в войне. Еще в ноябре Лондон и Вашингтон договорились о том, что необходимо сделать новое заявление о целях войны. Но вскоре стало ясно, что ни французы, ни итальянцы не способны пойти на уступки[321]. Итальянцы спасались бегством из Капоретто. В Париже вступивший в должность Жорж Клемансо был полон решимости довести войну до конца, а не начинать грозящие расколом дебаты о мире. Когда в конце ноября Лондон принимал у себя первую конференцию союзников, в которой участвовали и Соединенные Штаты, риск унизительного диспута о целях войны считался столь высоким, что на пленарных заседаниях, по настоянию выполнявшего обязанности председателя Клемансо, регламент выступлений был ограничен восемью минутам[322]. Вильсон и Ллойд Джордж независимо друг от друга пришли к выводу, что им придется брать инициативу на себя.
Но если ситуация в Вашингтоне и Лондоне была напряженной, то в Бресте любой, кто был близок к переговорам, чувствовал приближение шторма. Как с самого начала было понятно более искушенным участникам переговоров с германской стороны, долгожданная рождественская декларация была не безвозмездным подарком Германии большевикам, а зарядом взрывчатки, заложенным под Российскую империю. В качестве предварительного основного условия стороны согласились вывести свои войска со спорных мест на территории России. Большевики убедили сами себя в том, что тем самым Германия чудесным образом соглашалась на статус-кво 1914 года до проведения плебисцита в спорных районах. Это было такое же неверное толкование, как то, что вызвало яростные нападки германских правых на Кюльмана. На самом деле германские переговорщики никогда не имели намерения позволить Ленину и Сталину распространить свою идею самоопределения на всю довоенную территорию Российской империи. Кюльман считал, что, освободившись от царского ига, жители Польши, Литвы и Курляндии де-факто заявили о своей независимости. Они уже не принадлежали России, и на них не распространялось действие рождественского соглашения в части вывода войск. Попав под защиту Германии, эти народы воспользовались своим правом отказаться от гражданской войны, за которую открыто выступал Ленин[323].
Кюльман заманил своих оппонентов в сеть, которая в равной степени была сплетена из самообмана большевиков и обмана со стороны Германии. Сделавших первые опасные шаги в направлении сепаратного мира Ленина и Троцкого более чем устраивал неожиданный триумф, которого они якобы достигли на переговорах. Советы праздновали рождественское соглашение столь бурно, что руководство германской делегации уже начало беспокоиться о том, что, когда до большевиков дойдет подлинная суть соглашения, у них может случиться шок, который нарушит весь мирный процесс. Генерал Гофман, самый высокопоставленный германский офицер на переговорах, которому нравилось считать себя честным представителем Realpolitik, противился и чрезмерным требованиям сторонников пангерманизма и аннексий, и сладкоголосому запутыванию вопроса германскими либералами, а уж от манипуляций Кюльмана ему становилось совсем не по себе. Поэтому во время обеда 27 декабря он даже с чувством некоторого облегчения взялся объяснять Советам, что на самом деле их ожидает. Территории, на которые распространялось действие рождественского соглашения, с которых части германской армии будут постепенно выведены и на которые впоследствии будут распространяться принципы самоопределения, представляют собой не пограничные районы, оккупированные Германией начиная с 1915 года, а целые регионы, простирающиеся далее на север и на восток, включая Эстонию, часть Белоруссии и Украины, которые были заняты лишь на последнем этапе наступления германских войск. Разразился грандиозный публичный скандал, навсегда дискредитировавший Брест-Литовский мирный договор. «Обман» германского империализма был раскрыт. Пока Ллойд Джордж и Вильсон заканчивали работу над своими либеральными манифестами о войне, за работу взялись пропагандисты союзников. Генерал Гофман стал печально известен во всем мире как образчик экстремистского милитаризма. Что бы ни говорилось о правых и неправых в вопросах Польши, Украины, Литвы или Латвии, какими бы сомнительными ни были контрдоводы большевистского режима, самоопределение в интерпретации имперской Германией теперь выглядело не более чем пропагандистской уловкой. События последующих недель в Берлине и Вене в полной мере показали, что ставки были намного выше.
В Вене, вступившей в третий год тихого голодания, оптимистичные сообщения о рождественских соглашениях в Бресте породили большие надежды. Когда в последующие дни стало ясно, что из-за грубой алчности «прусских милитаристов» жителям Австрии, возможно, придется голодать еще многие месяцы, реакция была моментальной. 14 января Вену охватили невиданные ранее массовые забастовки[324]. Граф Оттокар Чернин, представитель Австрии в Бресте, был вынужден пригрозить Кюльману, что вскоре Вена, а не большевики будет искать сепаратного мира. Но Кюльману было некуда отступать. Гинденбург и Людендорф не обращали внимания на катастрофические политические последствия агрессии. Когда кайзер согласился с теми, кто вел переговоры в Бресте и предлагал изменить восточные границы Германии таким образом, чтобы свести к минимуму численность нежелательных для рейха новых польских жителей, Людендорф и Гинденбург пригрозили отставкой. 8 января 1918 года, когда партии большинства собрались, чтобы обсудить возможность принятия рейхстагом новой резолюции, подтверждающей приверженность Германии принципам либерального мира, Эрцбергер отметил, что теперь им приходится иметь дело с двойной угрозой. Германские рабочие грозили забастовкой, а кайзеровские генералы, если им не пообещать установления военной диктатуры, похоже, сами готовы к бунту[325].
И все же напряженную обстановку в Берлине было невозможно сравнить с тем, что происходило в Петрограде. В январе 1918 года, после того как иллюзии дешевого мира испарились, большевикам пришлось наконец осознать всю серьезность своего положения. В 1917 году оклеветанные революционные оборонцы отказались рассматривать сепаратные переговоры о мире с Германией именно потому, что предвидели дилемму, с которой теперь столкнулись Ленин и Троцкий. Отказ от договора с Германией грозил катастрофическим по своим последствиям вторжением. Но, приняв унизительные условия мирного договора, они обрекали себя на гражданскую войну. Большевики, как всегда, утешали себя мыслью о том, что в Германии вскоре разразится революция. Троцкий в ответ поднял ставки и выступил с решительным обращением ко всему миру, призывая Антанту распространить право самоопределения на Ирландию и Египет[326]. Да и новости из Вены звучали, конечно, обнадеживающе. Однако Ленин пришел к трезвому выводу[327]. Представляя себе состояние русских соединений на петроградском фронте, он отказался от идеи революционной войны, как от несбыточной мечты. Советской власти придется пойти на сепаратный мир, какими бы разрушительными ни были условия. Левые эсеры его отвергнут. Его не примут видные большевики, такие как Николай Бухарин, да и сам Троцкий. Каким бы ни было отношение рядового состава армии, среди революционного руководства мир любой ценой никогда не был популярным лозунгом.
Представители США и Антанты в Петрограде, горящие желанием использовать дилемму, перед которой стояли большевики, задумались, не дает ли им германская агрессия еще один шанс для того, чтобы восстановить союз «демократической войны». Троцкий, похоже, мог пойти на это. В последние дни 1917 года Эдгар Сиссон, личный эмиссар Вильсона в России, отправил в Вашингтон телеграмму следующего содержания: «Конечно, для Вас очевидно, что разоблачение направленных против России махинаций Германии на мирных переговорах обещает значительное расширение наших возможностей для публичных действий и оказания помощи…Если президент вновь заявит об антиимпериалистических целях войны и о требовании Америки установить демократический мир, я готов обеспечить самое широкое распространение такой информации в Германии… а также в целях убеждения использовать российскую версию в армии и в других местах»[328]. 8 января, будто в ответ на эту телеграмму, Вильсон выступил с тем, что вскоре стало его любимой декларацией военного времени, – «14 пунктами». Эхо этой декларации звучало на протяжении всего XX века как манифест международного либерализма, возможно предвещая поддержку Америкой права на самоопределение, демократии и создания Лиги Наций. «14 пунктов» часто называют сигнальным залпом Америки, извещающим о ее вступлении в великое идеологическое противостояние столетия. Но такая интерпретация в большей степени относится к противоположным полюсам разразившейся позже холодной войны, чем к реалиям 1918 года. В январе 1918 года Вильсон пытался разобраться в том, что после 1917 года представлялось окончательно запутанным[329]. За прошедший год он был вынужден отказаться от собственной формулы «мира без победы», вынудив тем самым русских демократов вступить в войну, в которой их поражение было неизбежно. Ленин и Троцкий, главные бенефициары этой катастрофы, вели переговоры на основе формулы мира, предложенной презираемыми ими демократическими оппонентами. В то же время складывалось впечатление, что большинство в рейхстаге со своей формулой мира, основанной на принципе самоопределения, использовалось в качестве дымовой завесы, скрывающей истинные намерения германского милитаризма. Таким образом, инициатива вновь перешла к Антанте и к Вильсону. Программа «14 пунктов», которую президент выдвинул в ответ на создавшуюся сложную ситуацию, совсем не была манифестом радикализма. Ни один из двух ключевых терминов, которые обычно приписываются интернационализму Вильсона, – демократия и самоопределение, – в тексте не встречается[330]. Вильсон лишь пытался реагировать на катастрофическую ситуацию, сложившуюся в течение последних 12 месяцев в результате краха его политики, нацеленной сначала на мир, а затем на войну. И то, как он это делал, отражало не его радикализм, а его консервативный эволюционный либерализм.
В пяти из «14 пунктов» вновь говорилось о либеральном взгляде на новую систему мировой политики, которому Вильсон был привержен с мая 1916 года. Тайной дипломатии должен быть положен конец. На смену ей шли «открытые мирные договоры, со свободным обсуждением» (пункт 1), свобода морей (пункт 2), устранение барьеров на пути свободного и равного движения товаров (пункт 3), разоружение (пункт 4). Пункт 14 призывал к созданию того, что скоро станет известно как Лига Наций: «общее объединение наций… на основе особых договоренностей в целях создания взаимной гарантии политической независимости и территориальной целостности как больших, так и малых государств» (пункт 14). Но эти международные рамки не обещали и не требовали от ее членов какого-либо определенного типа внутренний конституции. Ни в одном из 14 пунктов Вильсон не упоминает демократию как норму. Скорее всего, он подчеркивал свободу народов самим выбирать форму правления. Но об этом не говорилось как именно об акте самоуправления. Фраза «самоуправление» не встречается ни в одном из 14 пунктов, ни в речи, в которой Вильсон представил эти пункты Конгрессу 8 января 1918 года. В январе 1918 года большевики и Ллойд Джордж выбросили эту взрывоопасную концепцию на международную арену. Вильсон принял ее лишь весной[331].
Что касается колониального вопроса, то Вильсона волновали не столько права угнетенных народов, сколько насильственный характер межимпериалистической конкуренции. Пункт 5 призывал к урегулированию претензий соперничающих стран не путем войны, но в результате «свободного, чистосердечного и абсолютно беспристрастного разрешения споров»[332]. В отношении населения подчиненных стран Вильсон призывал лишь к «соблюдению принципа, согласно которому при разрешении всех вопросов, касающихся суверенитета… интересы населения стран, которых это затрагивает, должны иметь одинаковый вес по сравнению со справедливыми требованиями правительств права которого должны быть определены». Показательно, что здесь, помимо того что требованиям колониальных держав, таким образом, придавался вес, не меньший, чем вес претензий населения зависимых стран, Вильсон говорил об интересах, а не о голосе населения этих стран. Это полностью вписывалось в глубоко патерналистское представление о колониальном правлении.
Смысл такого подбора выражений становится ясным, если сравнить его с высказываниями Вильсона по поводу территориального вопроса в связи с европейской войной. Здесь он также говорит не об абсолютном праве на самоопределение, но о различных взглядах на возможности самоуправления, что было типичным для консервативного либерализма XIX века. С одной стороны, он говорил о Бельгии, которую следовало освободить и восстановить (пункт 7) «без каких-либо попыток ограничения суверенитета, которым она пользуется наравне со всеми другими свободными нациями». Эльзас-Лотарингию следовало возвратить, а все оккупированные французские территории – «освободить» от германского господства (пункт 8). Исправление границ Италии следовало выполнять с учетом «ясно различимых национальных границ» (пункт 9). По отношению к народам Габсбургской и Османской империй (пункт 12), Балкан (пункт 11) и Польши (пункт 13) тон был более патерналистским. Им были нужны «дружеские советы» и «международные гарантии». И этот иностранный надзор гарантировал не «самоопределение», а «безопасность жизни и абсолютно нерушимые условия автономного развития». Такой вот сдержанный социобиологический словарь, типичный для взглядов Вильсона на мир. В «14 пунктах» не было места «французскому» радикализму.
Примерно в середине своего манифеста (пункт 6) Вильсон коснулся положения в России. С учетом хода развития событий с ноября 1917 года можно было ожидать, что Вильсон прямо укажет на различие между народом России и большевистским режимом, насильственно узурпировавшим право представлять его. Госсекретарь Лансинг в частной памятке, подготовленной для Вильсона, настаивал на том, чтобы Америка осудила ленинский режим, как «деспотическую олигархию, столь же опасную для свободы, как любая абсолютная монархия на земле»[333]. Но в «14 пунктах» это различие отмечено не было. Напротив, Вильсон отзывался о большевиках в таком хвалебном тоне, какого у него никогда не находилось, когда он говорил о Временном правительстве. Если в мае 1917 года Вильсон поддержал позицию Антанты, прочитав Александру Керенскому и Ираклию Церетели лекцию о необходимости продолжать войну, то теперь он характеризовал делегацию большевиков, готовых пойти на сепаратный мир, как «искреннюю и серьезную». Большевики, как представители русского народа, выступали, полагал Вильсон, в «подлинном духе современной демократии», заявляя о русском «понимании того, что для них является верным, приемлемым, гуманным и вызывающим уважение… с искренностью, широтой взглядов, щедростью духа и общей человеческой симпатией, которая должна вызывать восхищение у каждого друга человечества. Верят ли сегодняшние руководители в это или нет, в этом состоит наше сердечное желание и надежда на то, что будет открыт путь, по которому мы сможем получить привилегию содействовать народу России в осуществлении его чаяний в достижении свободы и мирного порядка». Говоря о позиции, которую большевики заняли в Бресте, Вильсон отметил, что мир следует начинать с вывода всех иностранных сил, с тем чтобы предоставить России «возможность беспрепятственно и без вмешательств извне определить свое политическое развитие и национальную политику». Удивляет в этой формулировке то, насколько свободно Вильсон употребляет слова «Россия» и «национальная политика» в отношении империи, находящейся в состоянии насильственного разрушения[334]. В то время как «14 пунктов» распространялись по всему миру, националистические движения на Украине, в странах Балтии и в Финляндии дистанцировались от советского режима, который Вильсон так неискренне восхвалял[335]. И все же эти чрезвычайно благоприятные для Петрограда комментарии привели к тому, что постоянный автор одной из нью-йоркских газет сделал поспешный вывод о том, что Вашингтон вскоре официально признает ленинское правительство. Но такой вывод был преждевременным, хотя подобное прочтение «14 пунктов» представлялось более подходящим, чем их более поздняя интерпретация, согласно которой это выступление Вильсона было залпом, открывающим первый этап холодной войны.
Что касается Германии, то на всем протяжении беспокойного лета 1917 года Вильсон придерживался позиции, которую он определил для себя еще в апреле. Большинству в рейхстаге доверять не следует. Их реформистские заявления и мирные резолюции используются германским империализмом в качестве прикрытия. По тем же причинам Вильсон отверг действия революционных оборонцев в Петрограде и бойкотировал стокгольмский процесс. Теперь, с опозданием, лишь в январе 1918 года представляя свои «14 пунктов» в Конгрессе, президент все же признал, что в германской политике идет борьба между «наиболее либерально настроенными государственными деятелями Германии и Австрии» и «военными, не думающими ни о чем другом, кроме как сохранить то, что у них уже имеется». От исхода этой борьбы, заявил он, будет зависеть «мир во всем мире»[336]. Похоже, что Вильсон надеялся на то, что его «14 пунктов», поддержанные австрийской и германской оппозицией, смогут открыть дорогу к общим мирным переговорам. Но было слишком поздно. Если бы Вильсон был готов рассматривать возможность общих переговоров летом 1917 года, это могло бы радикально изменить политическую картину и в России, и в Германии. Остается только предполагать, какие действия предприняло бы находившееся в тяжелом положении Временное правительство России, если бы в июне или июле оно узнало, что ставка на немедленный мир вызовет такие похвалы, которыми теперь Вильсон осыпал Троцкого. В условиях, когда Америка только вступила в войну, а демократический энтузиазм в России достиг пика, политическое давление, которое такой шаг в направлении мира оказал бы на Лондон и Париж, было бы огромным. Но к началу 1918 года баланс сил в Германии изменился не в пользу большинства в рейхстаге, а Антанта была непреклонна как никогда. При всем пропагандистском успехе «14 пунктов» их нельзя было использовать для переговоров с Германией с учетом того, что происходило в Брест-Литовске[337]. Поэтому в январе 1918 года Вильсон принес облегчение именно большевикам. Большевистские пропагандисты позаботились о том, чтобы русский текст декларации Вильсона был расклеен по всему Петрограду. Ленин передал этот текст по телеграфу Троцкому как знак его триумфального успеха в натравливании империалистов друг на друга[338].
6 Безжалостный мир
10 января 1918 года, через два дня после того, как президент Вильсон выступил с успокаивающим заявлением о поддержке «русского» народа, в Брест-Литовск прибыли представители независимой Украины, чтобы заявить о своем требовании заключить мир. Это изменило политическую окраску переговоров. В первые недели переговоров наблюдалось общее согласие по поводу «петроградской формулы». Переговоры проходили под флагом самоопределения. Волна возмущения, поднявшаяся после того, как стал известен смысл, который этому намеревался придать министр иностранных дел Кюльман, выставила Германию в невыгодном свете. Но на первом раунде переговоров речь шла о территориях стран Балтии. И хотя эти страны считались лакомым кусочком у германских поборников аннексии, по большому счету их можно было отнести к мелкой добыче, тем более что они уже и так были под прямым контролем армии кайзера. Находясь на безопасном расстоянии, Советы могли осуждать лицемерие германского империализма. Ведь их никто не заставлял открывать свои карты. Мнение Вильсона о большевиках как искренних и убежденных защитниках демократического мира, ставших жертвой германского империализма, все еще оставалось неизменным. Украина представляла собой проблему иного масштаба. Это был первостепенный стратегический актив, от положения которого в решающей степени зависели будущее российской власти и контуры нового порядка на Востоке. По состоянию на начало 1918 года Украина не подчинялась ни Германии, ни большевикам. Именно здесь происходило прямое столкновение взглядов на новый мировой порядок и становилась очевидной вся сложность морального и политического баланса.
I
Возникает соблазн сказать, что зимой 1917/18 года на Украине наблюдался вакуум власти, но такая оценка будет поспешной. После свержения царя в Киеве, как и по всей России, установилась революционная власть. Но в отличие от Петрограда украинские революционеры сразу создали форум, представлявший собой зачаточный парламент, – Раду. В Раде явное большинство принадлежало партиям националистического толка, действующим под руководством местных отделений аграрной партии эсеров. Но независимости никто особенно не требовал. Украинские революционеры жаждали сыграть свою роль в «триумфе справедливости…» в России. В конце концов, где еще «в мире был столь широкий, демократический, всеобъемлющий порядок? Где еще можно было найти столь неограниченную свободу слова, собраний или организаций, как не в новом, великом революционном государстве»?[339] Летом 1917 года либералы во Временном правительстве блокировали рассмотрение требования Киева о предоставлении настоящей автономии[340]. Украинские политики ожидали созыва Учредительного собрания, которое несомненно приняло бы решение в пользу федеральной конституции. Именно крах легитимной власти в Петрограде вынудил Киев заявить о создании первой национальной автономии, а затем, в декабре 1917 года, – о немедленном установлении независимости. При всех разногласиях с Временным правительством Рада не могла согласиться с тем, чтобы от ее имени выступали большевики. Центральные державы с удовольствием поддержали эту позицию. Они предложили Киеву незамедлительно присоединиться к переговорам в Бресте.
Для большевиков такая перспектива была ужасной. В предвоенные годы на долю Украины приходилась одна пятая часть всего мирового экспорта зерна, что вдвое превышало долю экспорта зерна из США. Петроград и Москва нуждались в этом зерне не меньше, чем Вена и Берлин. Украина была жизненно важна для будущего России и в качестве промышленной базы. В регионе производился весь коксующийся уголь, 73 % железа и 60 % стали. Украинский марганец использовался на всех мартеновских печах Европы[341]. Появление в Киеве независимого правительства наносило сокрушительный удар по советской власти. Кроме того, в отличие от существовавших в странах Балтии и в Польше ассамблей, в которых заседала знать и на которые Германия ссылалась, говоря о легитимности, Рада не была креатурой иностранной державы, с которой можно было и не считаться. В Бресте большевикам до сих пор удавалось представлять себя в качестве ведущей силы национально-освободительного движения, противостоящей германской агрессии. Но уже в декабре, по мере того как первые контакты между советской властью и Киевом начали приобретать враждебный характер, для Ленина и Сталина стало очевидной особое значения претворения самоопределения в жизнь. Большевики поддерживали право на самоопределение, но лишь до тех пор, пока его возглавляли «революционные массы». В глазах большевиков украинская Рада была ничем иным, как собранием собственников, которым прислуживают лакеи из числа меньшевиков и эсеров. К началу 1918 года большевистский агитатор Карл Радек призывал жителей Петербурга: «если вам нужна еда… кричите: „Смерть Раде“!» Приняв приглашение Центральных держав, «своим Иудиным предательством» украинский парламент «вырыл себе могилу»[342]. Когда украинская делегация прибыла в Брест, подобранное большевиками правительство, выступавшее против Рады, направило в Киев состоящую из всякого сброда армию наемников. После имитации борьбы вокруг Балтики становились ясными настоящие ставки в противостоянии за мир на Востоке.
12 января генерал Макс Гофман, которого международная пресса после рождественского кризиса заклеймила как архетипичный пример германского милитаризма, был доведен до бешенства лекцией представителей Советов о «легитимности» процедур самоопределения и окончательно вышел из себя. Он требовал, чтобы ему объяснили, с какой стати представители имперской Германии должны учиться легитимности у большевиков, чья власть «держится исключительно на насилии и беспощадном подавлении всех, кто думает иначе»[343]. Большевики уже начали нападки на Конституционное собрание Украины. Если немцы покинут Балтику, то и здесь произойдет то же самое. Но Троцкого это не смущало. Его возражение было классической аргументацией Марксовой теории государства: «…Генерал совершенно прав, говоря, что наше правительство построено на силе. На протяжении всей истории были известны лишь такие правительства. До тех пор, пока общество состоит из воюющих классов, власть правительства будет держаться на силе и обеспечивать свое влияние через силу». В действиях большевиков протест Германии вызывает тот «факт, что мы сажаем не забастовщиков, а капиталистов, которые увольняют забастовщиков, тот факт, что мы не расстреливаем крестьян, требующих земли, а сажаем под арест крупных помещиков и офицеров, которые хотят расстреливать крестьян.» И, продолжал Троцкий, «насилие», к которому прибегают большевики, – это «насилие, поддержанное миллионами рабочих и крестьян, направленное против меньшинства, стремящегося держать народ в рабстве; такое насилие является святой и исторической прогрессивной силой». Кайзер, читая стенограмму, поступившую из Бреста, сделал на полях пометку: «Для нас – с точностью до наоборот!»[344]
Троцкий высказался с такой резкой ясностью, что его заявление эхом отзывалось на протяжении столетия. Если он прав и правительство в конечном счете всегда зиждется на насилии, то как вообще можно любое политическое действие согласовывать с моралью? Если принимать все это за чистую монету, то последствия такой несовместимости практических требований власти и моральных императивов окажутся либо трагическими, либо революционными[345]. В любом случае ни один компромисс, никакие попытки придать цивилизованный вид насилию, лежащему в основе власти, нельзя воспринимать всерьез, если это не связано с революцией, изменяющей мир. Этот необыкновенно откровенный обмен мнениями стал причиной рокового осложнения обстановки на переговорах в Бресте. Как могли мирные переговоры между игроками, имеющими диаметрально противоположные взгляды и готовыми согласиться друг с другом лишь в вопросе об исторической оправданности применения силы, вылиться в нечто иное, чем переговоры о вооруженном перемирии? На глазах у германских и украинских сторонников конструктивного мира столкновение революционного цинизма Троцкого и Realpolitik генерала Гофмана лишало смысла сам принцип самоопределения. Совместными усилиями они прекратили переговоры, направленные на поиск согласия, сведя их к открытой проверке сил.
Через несколько дней после резкой отповеди Троцкого большевики наглядно подтвердили свою непоколебимую приверженность насилию как средству вершить историю. Утром 18 января переговоры были приостановлены, чтобы Троцкий мог отвезти в Петроград карту, на которой были обозначены требования Германии. Но в тот день первым пунктом повестки дня у большевиков стоял вопрос не о мире, а об окончательной ликвидации результатов демократической революции в России. На 18 января 1918 года было назначено первое заседание Учредительного собрания. Пока Троцкий и представители Германии вели торг в Бресте, хорошо вооруженная Красная гвардия занималась зачисткой улиц столицы России от тех, кто вышел протестовать против большевиков. Было убито несколько десятков человек[346]. Заседание началось в 4 часа вечера, председателем быстро избрали Виктора Чернова, лидера победивших на выборах социал-революционеров. Расставленные вокруг здания орудия Красной гвардии уже были пристрелены к зданию, где проходило заседание. Внутри большинство делегатов были вынуждены выслушивать непрерывные грубые возгласы неодобрения, раздававшиеся из фракции большевиков. Ленин и его сторонники демонстративно заняли места на балконе. Несмотря на попытки запугать делегатов, заседание настояло на том, чтобы заслушать выступления вождей Февральской революции, в том числе и грузинского меньшевика Ираклия Церетели, скрывавшегося с тех пор, как его объявили вне закона. Церетели заявил, что, если Учредительное собрание «будет уничтожено… начнется гражданская война, которая обескровит демократию». Большевики «.распахнут двери перед контрреволюцией»[347]. Ранним утром 19 января делегация большевиков покинула зал заседания в знак протеста, предоставив дворникам и Красной гвардии позаботиться о том, чтобы здание не оставалось открытым. Учредительное собрание России проголосовало за введение в силу уравнительного закона о земле, за который боролись поколения русских радикалов. Свет погас в тот момент, когда Чернов торжественно объявлял о создании «Российской Демократической Федеративной Республики»[348].
Учредительному собранию не было суждено возобновить свои заседания. Его насильственное закрытие стало сокрушительным ударом по демократическим надеждам, связанным с революцией. Как писал Максим Горький, «лучшие русские люди почти сто лет жили идеей Учредительного собрания… В борьбе за эту идею погибли… тысячи интеллигентов, десятки тысяч рабочих и крестьян.» Теперь Ленин и его власть народных комиссаров «приказали расстрелять демократию, которая манифестировала в честь этой идеи»[349].
Но большевиков это не смущало. «Правда» в своих заголовках объявляла Чернова и Церетели «прислужниками банкиров, капиталистов и помещиков… холопами американского доллара»[350]. Ленин написал леденящий кровь некролог парламентской политике. В статье, озаглавленной «Люди с того света», он писал, как мучился, участвуя пусть даже в одном заседании Учредительного собрания[351]. Для него это было кошмарным испытанием. «Точно история нечаянно… повернула часы свои назад, и перед нами вместо января 1918 года на день оказался май или июнь 1917 года!» Попасть из «настоящей», «живой» деятельности Советов рабочих и солдат в мир Учредительного собрания означало попасть в «мир сладеньких фраз, прилизанных, пустейших декламаций, посулов и посулов, основанных… на соглашательстве с капиталистами». «Это ужасно! Из среды живых людей попасть в общество трупов, дышать трупным запахом, слышать тех же самых мумий «социального»… фразерства, Чернова и Церетели, это нечто нестерпимое».
Выбранных делегатов социал-революционеров, презревших запугивания большевиков и аплодисментами встретивших призыв объединиться против угрозы гражданской войны, Ленин высмеивал как покойников, проспавших в гробу полгода, вставших с мест, чтобы механически аплодировать контрреволюции. Большевики и люди Февральской революции теперь были по разные стороны баррикад. Тем, кто призывал к миру, Ленин противопоставлял «факт классовой борьбы, которая не случайно… а неизбежно… превратилась в гражданскую войну…»
Ленин, конечно, сам определял неизбежность. Ничто другое не могло спровоцировать гражданскую войну в большей степени, чем попытка установить диктатуру одной партии, воспользовавшись унизительным сепаратным миром с Германией.
Кроме того, ничто другое не могло привести к изоляции такой диктатуры союзниками России по Антанте, кроме как решение, которое предчувствовали в Лондоне и Париже с декабря 1917 года и которое было окончательно принято Президиумом центрального исполнительного комитета 3 февраля 1918 года, – решение об отказе от выплаты многочисленных внешних долгов России: 4,92 млн долларов, накопившихся в довоенный период, 3,9 млн долларов после начала войны, при этом гарантами последнего формально выступали правительства Британии и Франции. Отказ советского правительства от ответственности по обязательствам своих предшественников, как указывал в своем протесте Лондон, был вызовом «самим основам международного права». Большевики в ответ заявляли, что займы царского правительства были частью империалистической сети, созданной для того, чтобы сделать из России прислужницу западного капитализма. Русский народ «уже давно оплатил» все, что должен, «морями крови и горами трупов». Отныне вопрос об отказе в выплате долгов станет главным препятствием на пути любого сближения советского режима и западных держав. Ленин и Троцкий сожгли свои корабли[352].
II
Тем временем в Бресте большевики после ознакомления с полным списком требований Центральных держав прибегли к стратегии затягивания переговоров, а осуществление этого плана стратегического отступления поручили Троцкому. Если исход переговоров зависел исключительно от грубой силы, то очевидно, что Центральные державы были сильнее, хотя и не во всем. На Востоке у Германии было военное преимущество, но в более широком смысле время было не на их стороне. Для того чтобы закрепить победу над Россией, Людендорф и Гинденбург теперь планировали массированную операцию на Западе. С учетом сроков, в которые следовало провести то, что должно было стать последней наступательной операцией Германии, Верховному командованию требовалось срочное урегулирование ситуации в России. Кроме того, хотя Троцкий и левое крыло большевистской партии преувеличивали перспективы революционного переворота, стабильность ситуации в германском и австрийском тылу теперь вызывала серьезные вопросы. Массовые забастовки, охватившие Австрию в январе 1918 года, достигли апогея во время мятежа на находящемся в Адриатике австрийском флоте[353]. В Германии волнения также достигли высокой степени накала. 28 января, через неделю после того, как стихли протесты в Вене, небывалая волна забастовок охватила промышленные города Германии. Требования забастовщиков были открыто политическими: заключение мирного соглашения с Россией на разумных условиях, проведение политических реформ внутри страны, прекращение действия законов военного времени и отмена системы трехступенчатых выборов в Пруссии. Впервые большинство руководства СДП почувствовало, что должно полностью поддержать это забастовочное движение[354]. И дело было не в признаках пробольшевистского характера этих забастовок. Насильственные действия в России привели к тому, что и СДПБ, и НСДП дистанцировались от Ленина. Их целью была демократия, а не диктатура пролетариата. Но, несмотря на умеренность этих требований, забастовка привела к разрыву СДП с ее буржуазными друзьями, составлявшими большинство в рейхстаге. С учетом правых позиций Vaterlandspartei, католическая партия Центра и либералы не могли допустить слишком близкой ассоциации с «нелояльными» социалистами. Стоило переговорам в Бресте достичь критической точки, а президенту Вильсону задаться вопросом, кто именно говорит от имени Германии, как прогрессивная коалиция в рейхстаге оказалась в замешательстве[355].
В первых числах февраля Кюльман и глава австрийской делегации на переговорах граф Чернин, надеясь спасти хотя бы остатки своих позиций по поводу легитимного порядка на Востоке, предприняли еще одну последнюю попытку заставить Троцкого серьезно отнестись к вопросу о самоопределении. Сначала они спровоцировали конфронтацию между основной делегацией Советов и делегацией Рады. Вполне предсказуемо большевики в резкой форме отказались от соглашения. Но, видя нейтральную позицию Германии, украинские делегаты не испугались. «Правительство большевиков, разогнавшее Учредительное собрание, сидящее на штыках наемной Красной гвардии, никогда не пойдет на применение в России самого справедливого принципа самоопределения, потому что они очень хорошо знают, что не только Украинская республика, но и Дон, и Кавказ, и Сибирь, и остальные регионы не считают их своим правительством и что даже само население России категорически отказывает им в этом праве»[356]. Троцкий был явно озадачен таким резким возражением. Раде он дал тот же ответ, который еще раньше услышал Гофман. Верные Советам войска только что захватили Киев. Назначенное Радой правительство находится в бегах, а потому территория, которую представляют эти юные красноречивые представители в Бресте, на самом деле лишь немногим больше конференц-зала, в котором они в настоящее время заседают. Во многом это было так. Но, как и было очевидно, когда пришло время напрямую мериться силами, намного более сильные карты оказались у генерала Гофмана, а не у Троцкого. Уверенные в своих возможностях поставить всех перед свершившимся фактом, Центральные державы оставили угрозы Троцкого без внимания и закончили заседание формальным признанием делегации Рады.
Австрийцам, однако, требовалось нечто большее. Они находились в совершенно безнадежном положении, поэтому им был нужен не просто формальный договор с находившемся в зачаточном состоянии украинским правительством, но действующий контракт на поставку зерна. В условиях, когда значительная часть севера Украины находилась под оккупацией большевиков, граф Чернин не оставлял попыток договориться с Троцким. Это означало, что им предстояло вернуться к вопросу о странах Балтии и четко определить, что именно следует понимать под самоопределением. 6 февраля во время встречи с глазу на глаз с Троцким Чернин подробно остановился на компромиссе в вопросе о парламентах, который сделал бы возможным самоопределение балтийских государств. Почему бы не включить сюда элементы, с которыми были согласны и Центральные державы, и Советы? Троцкий не хотел попасть в ловушку подобных конструктивных переговоров. На какие бы уступки отчаявшиеся австрийцы ни шли, Троцкий продолжал утверждать, что в руках противостоящих ему империалистов принцип самоопределения мог быть только идеологической уловкой. Что касается мира, то здесь его одурачить не удастся. Троцкий понимал, что Германия в состоянии взять все, что пожелает. И в этой ситуации его беспокоило не то, что именно заберет Германия, а то, как она эта сделает. «Россия может склониться перед силой, но не перед софистикой. Он никогда не… согласится с тем чтобы, прикрываясь самоопределением, Германия владела оккупированными территориями. Пусть Германия открыто выступит со своими требованиями… и он уступит, но призовет мировую общественность противостоять акту открытого разбоя». Как писал из тюрьмы немецкий радикал Карл Либкнехт, с точки зрения революции результат Брест-Литовского договора был «ничем, даже если» он привел к «миру вследствие вынужденной капитуляции». Благодаря Троцкому «Брест-Литовск стал революционным трибуналом, решения которого можно слышать повсюду… он продемонстрировал алчность Германии, ее хитрую ложь и лицемерие». Но Брест-Литовск показал истинную суть не только генерала Гофмана и Людендорфа. Для Троцкого, как и для Либкнехта, еще важнее был «вердикт об уничтожении», который такой мир вынесет реформистским иллюзиям демократического большинства в Германии[357]. Как и в России, здесь не было места ни компромиссу, ни лицемерию, ни возможности демократического мира без всеобщей революции.
Возможности для достижения договоренности в любом смысле слова были исчерпаны. 10 февраля Центральные державы объявили российской делегации о подписании сепаратного мирного договора с Украиной, который советская делегация должна признать. Договор с Украиной обеспечивал право Берлина и Вены на закупку всех излишков зерна. Но Украину не оставляли голодать и ее не грабили. Центральные державы не могли также покупать зерно в кредит. За него следовало платить поставками промышленных товаров[358]. Украинской делегации, выступавшей от имени правительства, которое находилось в пути, в поезде, предоставленном им немцами, удалось добиться существенных уступок. Вена так нуждалась в мире, что граф Чернин согласился на изменение статуса украинского меньшинства в Австро-Венгерской монархии путем создания для него новой провинции, Рутении, с предоставлением всех прав в области культуры[359]. Еще более примечательным было то, что Чернин согласился уступить Украине город Холм, который ранее был обещан польскому государству, право которого на самоопределение австрийцы и немцы номинально признали еще в ноябре 1916 года. В первые недели 1918 года Германия и Австрия нуждались в Украине больше, чем в Польше.
Начав мериться силами, большевики оказались перед необходимостью принятия критического решения. С общепринятой точки зрения существовало только два варианта. В Петрограде и Москве, если и не в самих войсках на линии фронта, подавляющее большинство выступало за то, чтобы отказаться от условий, предлагаемых Германией, и возобновить войну. Еще ни одно русское правительство не сдавалось. И революции не пристало начинать с этого. Большинство в Центральном комитете поддержало идею Троцкого о восстановлении связей России с Антантой[360]. Николай Бухарин и другие пуристы в левом крыле большевиков рассчитывали на революционную энергию русских крестьян и рабочих. Ленин встретил эти разговоры с издевкой и презрением. Надежда на революционную войну «отвечала бы, может быть, потребности человека в стремлении к красивому, эффектному и яркому, но совершенно не считалась бы с объективным соотношением классовых сил…»[361] Ленин теперь в открытую требовал мира любой ценой. Троцкий достаточно насмотрелся на происходящее на истерзанном Северном фронте и был согласен с ленинской точкой зрения. Но, в отличие от Ленина, Троцкий думал, что возможен и третий вариант, промежуточный между предлагаемой Бухариным революционной войной и разрушительным миром, на котором настаивал Ленин. Троцкий рассчитывал не на революцию в Германии, а на то, что большинство в рейхстаге сумеет предотвратить возобновление военных действий. Он предлагал просто прекратить переговоры, объявив об одностороннем выходе России из войны. 22 января, после того как ленинское предложение о немедленном заключении мира было отклонено Исполкомом партии, Троцкому удалось заполучить незначительное большинство голосов в поддержку своей новой дерзкой стратегии. 10 февраля, вместо того чтобы признать договор с Украиной, Троцкий прекратил переговоры, заявив: «Ни мира, ни войны». В Петрограде это вызвало эйфорию. Хотя Троцкий и не заявлял о «мире без победы», как о великой надежде 1917 года, он по крайней мере положил конец боевым действиям без того, чтобы явно признать поражение[362].
III
Теперь все зависело от реакции Германии. После того как Троцкий сделал свое ошеломляющее заявление, делегация большевиков с наслаждением наблюдала за бессвязными попытками генерала Гофмана, принесшего им столько переживаний, разубедить их. Сама идея одностороннего выхода из войны была просто «неслыханной… неслыханной»[363]. Как утверждали эксперты-юристы Кюльмана, за 3 тысячи лет существования международного права был лишь один-единственный прецедент, когда один из греческих городов в классический период отказывался и продолжать войну, и заключать мир[364]. Троцкий делал ставку на то, что умеренные силы в Германии окажутся достаточно сильными, для того чтобы сдержать милитаристов. Если бы попытка воспользоваться стратегией, похожей на стратегию Троцкого, была сделана летом 1917 года, когда силы были на стороне большинства в рейхстаге, возможно, стратегия ничьей, «ни мира, ни войны», могла бы сработать. Но в феврале 1918 года Троцкий переоценил силы германской прогрессивной коалиции, во многом подорванные его собственной тактикой ведения переговоров.
Противостояние достигло высшей точки 13 февраля на конференции, состоявшейся в резиденции канцлера в Бад-Хомбурге. Как и надеялся Троцкий, канцлер Гертлинг и министр иностранных дел Кюльман упорно возражали против возобновления враждебных действий[365]. В тылу будут крайне разочарованы любым новым кровопролитием на Востоке. И конечно, на Западном фронте на счету был каждый человек. Но Людендорф, поддержанный генералом Гофманом, оставался непреклонным. Если Троцкий не желает вести переговоры, германские военные создадут факты. Нет никакой нужды в продолжительных дискуссиях, не говоря уже о дальнейших консультациях с германским парламентом. Что касается кайзера, то простого упоминания о рейхстаге было достаточно, чтобы вызвать у него взрыв, столь характерный для преобладавшей в Германии атмосферы кризиса. Не могло быть и речи о том, чтобы избранные политики вмешивались в вопросы войны и мира, напыщенно говорил кайзер. Речь идет о столкновении широчайшего масштаба, и Германия должна действовать абсолютно беспощадно. Несколькими днями раньше большевистские радиостанции начали передавать призывы к революционному свержению династии Гогенцоллернов. Кайзер отвечал тем же: «<М>ы… должны как можно скорее нанести большевикам смертельный удар…»[366] Вспоминая счастливые времена охоты на крупного зверя, он заметил: «Большевики – это тигры. Окружить и застрелить их»[367]. Императора беспокоила мысль о том, что в будущем вакуумом власти на Востоке воспользуются Британия и Америка. «Россия, действующая под руководством англосаксов, представляет собой большую опасность. От большевиков необходимо избавиться. Поэтому надо сделать следующее… нам следует предоставить помощь Эстонии. Страны Балтии должны обратиться за помощью в связи с разграблением. Тогда мы окажем помощь (аналогичную той, которую получила от нас Турция в отношении Армении). На Балтике для восстановления порядка надо создать жандармерию… полицейская операция, а не война»[368]. Зверства, совершаемые подразделениями «специальной полиции» младотурков, были хорошо известны в Германии. Так что от смысла этих замечаний мороз бежал по коже.
В довершение ко всему кайзер неожиданно открыл свое видение темных сил, которые, как он подозревал, были здесь задействованы. «Русский народ», полагал он, был «отдан на отмщение евреям, они <большевики> поддерживают связь со всеми евреями мира. А также с франкмасонами.»[369] В другом протоколе той же встречи говорится о еще более широком заговоре. «Вильсон, – разглагольствовал кайзер, – объявил устранение Гогенцоллернов целью войны и теперь поддерживает большевиков вместе со всем международным еврейством – Большой Восточной ложей»[370]. Похоже, что примирительный в отношении большевиков тон Вильсона в «14 пунктах» породил в голове кайзера фантазии о мировом еврейском заговоре, нити которого сходились в Вашингтоне и Петрограде. После этого эмоционального всплеска обсуждение было прервано, для того чтобы кайзер мог совершить восстановительный моцион.
Во время позднего завтрака Фредерик фон Пайер, прогрессивный либерал, выступавший в роли представителя парламентского большинства в правительстве рейха, искал утешения у министра иностранных дел Кюльмана. Как вспоминал Кюльман, фон Пайер был очень расстроен. «Он <Пайер> говорил мне, что полагал, что за многие годы работы в парламенте у него сложилось определенное интуитивное понимание решающих для государства вопросов. Но сегодняшняя встреча открыла ему глаза на то, сколь многого он раньше не понимал». «Значительные противоречия и глубокие провалы в жизни германского государства», открывшиеся ему в эмоциональном всплеске кайзера, «глубоко потрясли его». Кюльман ответил, что «ему уже давно знакомы эти провалы. Но государственному деятелю, которому доверены вопросы жизни и смерти, даже в минуты полной откровенности нельзя открывать перед лидерами парламента полную картину и показывать им трудности, которые приходится постепенно преодолевать»[371].
На самом деле приступ антисемитизма, случившийся у кайзера 13 февраля, был не единичным. В течение зимы 1917/18 года он все в большей степени поддавался влиянию экстремистской националистической пропаганды, и его записки, которые он ежедневно направлял своим подчиненным, были теперь обычно полны обличений «подрывной деятельности евреев». Более опасной была позиция Людендорфа, перед которым еще за несколько недель до конференции в Бад-Хомбурге в конце концов встал вопрос о том, что делать с многочисленным польским и еврейским населением, проживавшим на польской территории, которую он был полон решимости аннексировать. Его решение было взято со страниц пангерманских фантазий. Более 2 млн человек лишались своих домов, при этом особое внимание уделялось обеспечению нейтрализации многочисленного и политически активного еврейского населения. Людендорф надеялся, что у них может возникнуть «повод для эмиграции» в США[372]. Возрастающий радикализм Людендорфа подогревался не только враждебностью по отношению к евреям и необходимостью устранения революционной угрозы со стороны большевизма, но и предположением о том, что продолжающаяся война может оказаться не последней. Его растущие непомерные требования были связаны с предвидением того, что текущая война является прелюдией к еще более масштабной конфронтации с западными державами, которая выпадет на долю последующих поколений. Что касалось краткосрочной перспективы, то конференция в Бад-Хомбурге выдала германским милитаристам лицензию, в которой они так нуждались. 18 февраля продвижение германских войск было возобновлено.
IV
«Вся Россия, – размышлял в своем дневнике генерал Гофман, – не более чем огромный ком личинок, жалкое, плодящееся месиво»[373]. Его армия продвигалась на юг и восток по сохранившимся в целости и сохранности железнодорожным путям, почти не встречая сопротивления. К началу марта Киев перешел в руки немцев. На блеф Троцкого был дан эффектный ответ. Буржуазные круги в Петрограде с нетерпением ожидали прихода кайзеровских войск, а эсеры, с их опасной склонностью к актам террора, клеймили Ленина за предательство революции. В руководстве партии большевиков наблюдался глубокий раскол. Единственным вопросом, по которому существовало общее согласие, была необходимость еще более жестких мер обеспечения революционной дисциплины и мобилизации. 14 февраля было провозглашено создание Красной армии, и Троцкий назначил себя ответственным за мобилизацию[374]. 21 февраля вся Россия ужаснулась новому революционному декрету, согласно которому всем саботажникам и коллаборационистам грозила высшая мера наказания. Все трудоспособные буржуазные элементы объявлялись подлежащими призыву в батальоны принудительного труда[375]. В условиях неудержимого продвижения германской армии после двухдневных дискуссий Ленину удалось убедить Центральный комитет (ЦК) большевистской партии принять условия мира, которые предлагались в Бресте в начале февраля[376]. Но этих условий было уже недостаточно. Теперь Германия требовала полной свободы в определении способов самоопределения на территориях, находившихся под ее контролем, и заключения немедленного мира между Советами и Украиной.
23 февраля состоялось еще одно заседание ЦК партии большевиков, но и тогда, даже после того как Ленин пригрозил своей отставкой, большинства голосов для решения вопроса собрать не удалось. Предложение Ленина о том, чтобы принять новые требования Германии, удалось поддержать лишь после того, как Троцкий, выступавший в роли председателя, воздержался от голосования. В Петроградском совете, внутреннем бастионе революции, Ленин столкнулся с ожесточенной оппозицией как левых эсеров, так и левого крыла своей собственной партии. Но Ленин не сдавался. Как солдаты Первой мировой войны, навсегда утратившие героическое восприятие войны, он настаивал на том, что революционеры должны принять новый, неискаженный взгляд на революционный процесс: «Революция – это не приятная прогулка! Путь революции идет через тернии и заросли. Если понадобится, мы по колено в грязи, на животе по жиже будем пробираться к коммунизму, и тогда мы победим в этой схватке…»[377] К концу ночи предложение Ленина было принято незначительным большинством: «за» – 116 голосов, «против» – 85 при 26 воздержавшихся.
26 февраля, узнав о том, что большевики сдались, германские войска остановились на расстоянии нескольких дней перехода от советской столицы. Четыре дня спустя, приняв на себя всю враждебность местного русского населения, седовласый пожилой большевик Григорий Сокольников вернулся в Брест-Литовск, готовый принять любые условия, которые ему будут предложены. Чувствую неловкость из-за столь сильного ухудшения ситуации по сравнению с первыми относительно дружелюбными встречами, германские и австрийские дипломаты надеялись сгладить жесткий ход событий и создали нескольких подкомитетов, в которых должно было происходить обсуждение технических вопросов условий заключения мира. Но, к их ужасу, делегация большевиков отказалась от процедуры серьезного рассмотрения текста договора. Любые дальнейшие переговоры могли лишь легитимизовать решение вопроса, которое, как обе стороны искренне считали, строилось исключительно на силе. Большевики подписали предложенный документ и уехали.
Решение Ленина выиграть время ценой заключения Брест- Литовского договора было, конечно, самым жестоким испытанием, которому когда-либо подвергалась внутрипартийная дисциплина большевиков. И хотя непосредственная угроза германского вторжения обеспечила столь необходимое Ленину большинство, ожесточенные дебаты теперь шли вокруг ратификации договора. Бухарин, Карл Радек и Александра Коллонтай сформировали раскольническую фракцию, известную под названием «левые коммунисты», главной задачей которой было противостоять «похабному» ленинскому миру. VII Всероссийский съезд партии большевиков, состоявшийся в Петрограде 7 марта (в то время как в небе летали германские самолеты), проходил в мрачной и унылой обстановке[378]. На съезде присутствовало лишь 47 делегатов с правом голоса, представлявших не более 170 тысяч членов партии при общей номинальной численности партии 300 тысяч человек. Ленин вновь осудил левых коммунистов за их иррациональный романтический взгляд на историю. Их позиция напоминала «шляхтича, который сказал, умирая в красивой позе со шпагой: „Мир – это позор, война – это честь“». В противоположность этому, Ленин считал себя выразителем голоса народа, выступавшим с точки зрения, на которой стоит «всякий серьезный крестьянин и рабочий», понимающие, что такой мир «есть средство для накопления сил»[379].
Ленин возглавлял партийное большинство, но левые коммунисты оставались непримиримыми, а Троцкий продолжал воздерживаться. Чтобы заставить себя смириться со скандальным ленинским мирным договором, делегаты, обсуждая резолюцию съезда, обещали «самые энергичные, беспощадно решительные и драконовские меры для повышения самодисциплины и дисциплины рабочих и крестьян России», для того чтобы подготовить их к «освободительной, отечественной, социалистической войне», которая позволит изгнать германских угнетателей[380].
В эту историческую эпоху насилия и смуты, указывал Ленин, когда постоянно присутствует соблазн революционного самопожертвования, особенно важными становятся ясность мысли и строгий анализ. Это должно было дать понять, что Ленин настаивает на важных изменениях, необходимых для прояснения позиции партии и определения ее революционного пути. Традиционное имя социал-демократов, которое в свое время гордо носили Карл Маркс и Фридрих Энгельс, уже определенно не подходило. Распустив Учредительное собрание, советский режим должен был открыто порвать со «стандартами „общей” (то есть буржуазной) демократии». Ленин признавал только одного предшественника – Парижскую коммуну 1871 года. Поэтому в названии партии следовало отразить эту достойную гордости преемственность. Там, где либералы лицемерно говорят об общих правах человека, истинно коммунистический режим должен ясно определить, что «свобода и демократия» предназначены «не для всех, но для рабочих и эксплуатируемых масс, для того чтобы освободить их от эксплуатации. Эксплуататорам следует ожидать лишь „беспощадного подавления”». Ленинская кампания достигла апогея на Всероссийском съезде Советов. Съезд состоялся не в Петрограде, а в Москве, в нем участвовало 1232 делегата, из них 795 большевиков, 283 левых социал-революционера, 25 эсеров-центристов и не более 32 меньшевиков[381]. 14 марта Ленин выступил со страстной речью, в которой призвал Россию «измерить целиком, до дна, всю ту пропасть поражения, расчленения, порабощения, унижения, в которую нас теперь толкнули», что лишь закаляет волю к «освобождению». Он пообещал, что, если удастся выиграть время для восстановления, советская власть сможет «подняться снова от порабощения к самостоятельности…»
Предложение ратифицировать договор было принято при значительном преимуществе большевиков. Но левые эсеры единогласно проголосовали против ратификации, а затем вышли из состава Совета народных комиссаров, органа власти, в работе которого они участвовали начиная с ноябрьской революции. Из числа левых коммунистов 115 человек воздержались и отказались от дальнейшего участия во внутрипартийных делах. Брест-Литовский договор, переговоры по заключению которого были начаты под знаком демократической мирной формулы Петроградского совета, стал движущей силой ленинской однопартийной диктатуры.
События, развивавшиеся в это же время в Германии, были зеркальным отражением этого жестокого процесса. 17 марта 1918 года в Берлине состоялась странная церемония, на которой делегация немецких дворян из Курляндии (Латвии) официально обратилась к кайзеру с просьбой принять мантию эрцгерцога[382]. Балтике предстояло превратиться в игровую площадку неофеодализма. На следующий день, более чем через три с половиной месяца после начала переговоров в Брест-Литовске и в совсем другой политической атмосфере, состоялось заседание рейхстага, на котором обсуждался вопрос ратификации договора. Маттиас Эрцбергер пытался сплотить своих партнеров по большинству в рейхстаге, предлагая принять срочную резолюцию с требованием уважать право поляков, литовцев и латышей на самоопределение. Он даже пытался сделать обязательным утверждение правительством военных кредитов, перед тем как они получат одобрение в рейхстаг[383]. Но триумф правых сил был очевидным. Густав Штреземан, который с 1916 года входил в число наиболее ярых сторонников неограниченной войны подводных лодок, заявил: на Восточном фронте германская армия подтвердила, что «право на самоопределение не действует! Я не верю в предлагаемую Вильсоном всемирную Лигу Наций; я верю в то, что после заключения мира она лопнет, подобно мыльному пузырю»[384].
Но, несмотря на эти хвастливые речи, весной 1918 года даже победоносный мир огромной важности не мог восстановить национальное единство, которое сопровождало военные действия Германии в августе 1914 года. НСДП осудила Брестские соглашения, назвав их «изнасилованным миром» (Vergewaltigungsfrieden). От СДП выступил бывший когда-то лояльным Эдвард Давид, гневно осудивший близорукость правительства кайзера. Германия упустила уникальную возможность обеспечить стабильный новый порядок в Восточной Европе. «Погребена великолепная перспектива установления дружественных соседских отношений со всеми странами Восточной Европы, отношений, охватывающих как политику, так и экономику»[385]. И хотя Эрцбергеру часто приходилось обеспечивать голосование в пользу Брестского договора, его поддержка была совершенно обусловленной. Как он заявил в ходе предварительного обсуждения в комитете рейхстага, «договор о мире на Востоке окажется не дороже бумаги, на которой он написан, если не будет быстро, надежно и честно обеспечено право поляков, литовцев и курляндцев на самоопределение»[386]. 22 марта, когда дело дошло до голосования, СДП воздержалась, а НСДП проголосовала против ратификации. Ничего похожего на всенародное ликование, сопровождавшее первые сообщения о рождественском соглашении в Бресте несколькими месяцами раньше, не наблюдалось. Хотя ослабление России сулило значительные выгоды Германии, мир на Востоке не означал окончания войны. Теперь победа на Востоке обеспечивала платформу для последней попытки одержать победу на Западе.
V
Начиная с предыдущей осени Гинденбург и Людендорф копили силы для наступления. За зиму численность германской армии на Западном фронте возросла со 147 до 191 дивизии, а число дивизий, расположенных на Восточном фронте, сократилось с 85 до 47. Впервые с 1914 года Германия не находилась в численном меньшинстве на Западном фронте. 21 марта 1918 года в результате умелой диверсионной тактики и концентрации почти половины всей армии в британском секторе Людендорфу удалось увеличить шансы на победу в наступлении до соотношения 2,6:1. В 4 часа 40 минут утра 11 тысяч орудий приступили к разрушительной артподготовке на британском фронте в районе Сен- Кантена, продолжавшейся 5 часов, за которой последовал целенаправленный прорыв 50-километровой линии фронта силами 76 дивизий[387]. Уинстон Черчилль, бывший свидетелем этой атаки, описывал ее как «самую большую бойню в истории человечества»[388]. Никогда еще на одном поле боя не было сосредоточено столько живой силы и огневой мощи. К ночи германские передовые отряды проникли вглубь обороны на 10 километров. Было похоже, что у Амьена армии кайзера удастся разорвать Западный фронт надвое.
23 марта император объявил государственным праздником и отметил событие первым залпом из гигантского орудия «Большая Берта» по Парижу. Его Императорское Величество было в игривом настроении, объявив своему окружению, что «когда английский парламент явится молить о мире, ему придется сначала поклониться имперскому штандарту, потому что речь идет о победе монархии над демократией»[389]. И хотя кайзер этого не произнес, он явно имел в виду приношение точно такой же дани германскими парламентариями. Прогрессивное большинство в рейхстаге теряло свои позиции. Но это также означало, что имперское правительство теперь развязывает войну вопреки воле значительной части, если не большинства народа Германии. Цена оказалась ужасающей. В первый день того, что должно было стать последней битвой кайзера, Германия потеряла 40 тысяч человек убитыми и ранеными, что составило самые большие потери за все время войны. В числе убитых на второй день операции оказался и приемный сын самого Людендорфа[390]. Когда либерально настроенный принц Макс фон Баден попросил генерала объяснить ему, что произойдет, если Германия не добьется решительного успеха, то Людендорф ответил просто: «Что ж, тогда Германия исчезнет»[391]. Кайзеру Вильгельму не удалось обеспечить легитимный мир на Востоке, ему не удалось также завершить конструктивную реформу конституции Бисмарка. Судьба императора и его власти теперь решалась на полях сражений.
7 Разделенный мир
Вечером 14 марта 1918 года Ленин выступил с обращением к Центральному исполнительному комитету Всероссийского съезда Советов. Выражения, в которых он описал международное положение, были и резкими и нехарактерно сюрреалистичными одновременно. Социализм в России, заявил он, стал «оазисом посреди бушующего моря империалистического хищничества»[392]. Сами империалисты уже не управляют войной. Лучше всего это подтверждалось тем, что советской власти удалось выжить. Ленин считал очевидным: у капиталистических держав должен быть затмевающий все остальное общий интерес в уничтожении его власти. Объединить усилия и задушить русскую революцию им мешало только имперское соперничество. На Востоке Японию сдерживали Соединенные Штаты. На Западе борьба не на жизнь, а на смерть между Британией и Германией не позволяла ни одной из этих стран двинуться на Петроград. В любой момент все силы империализма могли объединиться и развернуться против советской власти. Но столь же неожиданно империалистическое соперничество в какой-нибудь отдаленной части планеты могло привести к новой междоусобице между ними. Настоящие революционеры должны понимать, что если империалистическая война выйдет из-под контроля, то это может привести к уничтожению цивилизации и положить конец прогрессу[393].
Такой сценарий развития капитализма на его последней стадии, поглощающего самого себя в вакханалии империалистического разрушения, представляет собой один из основных постулатов ленинской политической мысли. С характерной для него ясностью Ленин повторял, что если это соперничество непредсказуемо, как он утверждал, то оно нарушает нормальное понимание исторического развития, которое обычно присуще революционерам-марксистам. Нить развития истории, которая «естественно» представляется в марксистской теории «прямой, и мы должны ее представлять прямой, чтобы видеть начало, продолжение и конец», «в жизни… прямой никогда не будет». Она была «невероятно сложной». Огромные «зигзаги» и «гигантские изломы» возникали тогда, когда миллионы людей начинали мучительный процесс построения своей собственной истории в условиях, которые они не выбирали[394].
Определяющей чертой эпохи была не экономика, а насилие. В России гражданская война уже началась, и она «сплетается с целым рядом войн». Советская власть должна быть готова к тому, что насилие будет «целой эрой… войн империалистических, войн гражданских внутри страны, сплетения тех и других, войн национальных, освобождения национальностей, раздавленных империалистами, различными комбинациями империалистских держав. Эта эпоха – эпоха гигантских крахов, массовых военных насильственных решений, кризисов – она началась… и это только начало»[395].
В столь катастрофических обстоятельствах обычная политическая логика марксизма оказывалась перевернутой. Как сказал Ленин в своем действительно удивительном обращении к партии в конце апреля 1918 года: «Если мы как единый отряд мирового пролетариата, как первый отряд… двинулись вперед, то это не потому, что этот отряд оказался лучше организован… он вышел на первое место потому, что история не развивается рационально»[396]. Победа большевизма была проявлением отсутствия исторической логики, неким островком-оазисом, сюрреалистической оговоркой языка Минервы.
Ленинский образ империалистической войны как ада отзывается эхом со времен Первой мировой войны и до наших дней в общей критике современной цивилизации, продолжающей воздействовать на ту часть аудитории, которая обладает влиянием. Но сам Ленин был чрезмерно ориентирован на политику, чтобы надолго останавливаться на столь мрачных перспективах. Его понимание международных отношений подчинялось политической стратегии. В 1918 году взгляд Ленина на советскую власть как остров-оазис посреди бушующего моря империалистического соперничества стал основой его призыва к диктатуре. Требовалась исключительная историческая интуиция и политическая гибкость для того, чтобы выстоять в критических ситуациях того времени. Чтобы выжить, Советский Союз должен пойти на мир любой ценой с любым, кто обладает властью в Германии. Это был болезненный компромисс, как открыто признавал сам Ленин. Но еще большего уважения заслуживал Ленин, когда его тактика оправдывалась: Советский Союз выжил, а Германия потерпела поражение[397]. То, насколько глубоко ошибочно Ленин понимал политическую логику войны и насколько такое понимание приближало его власть к краху, остается за рамками этого выдержанного в триумфальных тонах сюжета.
I
Подписанный Лениным сепаратный мир неизбежно вызвал противоречия между бывшими союзниками России по Антанте. В декабре 1917 года Британия и Франция уже начинали обсуждать возможность интервенции для восстановления Восточного фронта с Германией. Но возможности для переброски значительных сил с Западного фронта были ограничены, а когда Германия начала свою наступательную операцию, то положение этих стран стало просто отчаянным. Тогда они призвали проявить инициативу Японию. В Японии, разумеется, были сторонники экспансии, надеявшиеся на то, что правительство Тераути решится нанести удар[398]. В марте 1918 года, когда Германия навязала свою волю в Бресте, крайне агрессивно настроенный министр внутренних дел Гото Симпей заявил, что Япония должна использовать появившуюся возможность проложить путь в Сибирь, задействовав армию, численностью 1 млн человек, которой вполне хватало для того, чтобы в будущем предотвратить любую попытку Запада конкурировать с Японией в Восточной Азии. Гото был глубоко расстроен не столько установлением власти Советов, сколько живым откликом, с которым мир встретил «14 пунктов» президента Вильсона. «Если говорить об истинных намерениях США, – утверждал Гото, – то они проникнуты тем, что я называю моралистической агрессией. Другими словами, США представляют собой ничто иное, как огромное лицемерное чудовище, обрядившееся в тогу справедливости и гуманности». Противостоять этой обширной идеологической атаке можно было, лишь проведя всеобщую мобилизацию, заставив тем самым замолчать всех либеральных инакомыслящих в Японии и подготовив страну к главной роли в неизбежной «мировой войне» между Азией и Западом[399]. Однако большинство членов правительства не разделяло агрессивных взглядов Гото. Япония не станет сильнее, если по требованию британцев и французов окажется втянутой в конфликт на просторах Сибири. Кроме того, любая широкомасштабная операция в прилегающих к Тихому океану провинциях России должна проводиться с учетом стратегии развития добрых отношений с Пекином, принятой правительством Тераути.
Спустя несколько дней после того как большевики захватили власть, японский посол в Китае предложил заключить далеко идущее военное соглашение, согласно которому Япония брала на себя основное обеспечение китайской армии военными специалистами и оборудованием. Японии и Китаю также предстояло установить совместный контроль над брошенной Россией без присмотра железнодорожной сетью на Дальнем Востоке[400]. В декабре 1917 года Нисихара Камезо, финансовый представитель Японии в Китае, предложил создать «основополагающий союз» Японии и Китая, целью которого должно было стать обеспечение «восточной самодостаточности» и «предотвращения на все времена европейского вторжения в Японское море». Старейшина японской политики Ямагата Аритомо говорил, что этот союз должен быть столь тесным, чтобы Япония и Китай действовали так, «как будто у одной страны два туловища, но одна голова»[401].
Примечательно, что пока звучали эти речи о паназиатском и антизападном блоке, Гото и его окружение не были свободны в своих действиях. Как отмечали такие прогрессисты, как Йосино Сакузо, в Японии поразительным образом отсутствовала массовая поддержка военных действий[402]. В парламенте сторонникам агрессивной политики противостояла оппозиция, в которую входили такие члены парламента, как радикальный либерал Одзаки Юкио, показавший на примере «14 пунктов» президента Вильсона, что в то время, когда «западные союзники пытаются уничтожить милитаризм, правительство Тераути стремится усилить и защитить его как внутри страны, так и за рубежом»[403]. После махинаций на выборах 1917 года либеральная оппозиция уже не могла диктовать свои условия. Однако значительное консервативное большинство партии Сэйюкай, которую возглавлял Хара Такаси, использовало свои собственные способы сдерживания. Хара был твердо убежден в том, что «будущее Японии зависит от близких отношений с США»[404]. И его позиция лишь упрочилась, когда ее поддержали старейший либеральный государственный деятель принц Сайондзи и барон Макино[405], которые не исключали продвижения интересов Японии в Азии, но настаивали на необходимости соблюдения такта. Там, где Гото и Одзаки объединяли стратегический конфликт между Японией и Америкой и внутрияпонские конфликты, причем один – с консервативных, а второй – с либеральных позиций, Хара исходил из того, что если Япония пойдет на сотрудничество, то Америка вряд ли станет вмешиваться в ее внутренние дела и, скорее всего, оставит незамеченной поддержку Японией авторитарного милитаризма в Китае. Хара не возражал против японского военного вторжения в Сибирь. Но если милитаристы будут действовать, не заручившись согласием из Вашингтона, то ему придется оставить Тераути на милость радикальной оппозиции.
Какое же решение примет Америка? Пока борьба вокруг Брест-Литовского договора шла сначала в одном, а затем в другом русле, в Вашингтоне действовала влиятельная фракция, возглавляемая госсекретарем Лансингом, считавшим большевиков именно тем, что о них говорил Ленин, – естественным идеологическим противником США, которого требовалось устранить. То, что в России вышло «на поверхность», прозорливо отмечал Лансинг, оказалось «во многом еще более устрашающим, чем самодержавие»[406]. И если царизм был «деспотизмом невежества», то Ленин представлял собой «интеллектуальный деспотизм». Самого Вильсона больше беспокоили японцы. 1 марта 1918 года, доведенный до состояния паники поступающими от французов, которые преувеличивали остроту ситуации, сообщениями о готовности Японии к действиям, Вильсон дал понять, что готов согласиться на проведение Антантой совместной операции. Но уже на следующий день, получив срочное сообщение от Уильяма Буллита, одного из своих наиболее радикально настроенных советников, он изменил свое решение. Для Буллита было важно обосновать вступление Америки в войну. Вильсон вступил в войну, надеясь на то, что ему удастся придать деятельности Антанты более прогрессивное направление. Вот почему он не мог снять с себя моральную ответственность за вторжение в Россию.
«Сейчас в России, – утверждал Буллит, – существуют зачатки народного правления – правления, осуществляемого народом и для народа». Настоящую угрозу демократии представлял не ленинский Совнарком (Совет народных комиссаров), а силы реакционного империализма, действовавшие внутри Антанты и в Центральных державах. «Станет ли мир более безопасным для русской демократии, – вопрошал Буллит, – если мы позволим союзникам поставить Тераути в Иркутске, а Людендорфу обосноваться в Петрограде»?[407] 4 марта 1918 года более убедительными оказались доводы Буллита. Президент твердо высказался против любого вторжения союзников[408]. Вильсон не только отказался поддержать интервенцию, но, по совету Буллита и полковника Хауза, возобновил попытки привлечь революционную Россию в демократический союз против реакционной Германии. Вильсон обратился напрямую к съезду Советов, собравшемуся 12 марта, чтобы заслушать доводы Ленина в пользу ратификации Брест-Литовского договора. В обстоятельствах еще более неподходящих, чем те, что складывались в январе, Вильсон повторно изложил свои «14 пунктов». Игнорируя тот факт, что съезд Советов действовал вместо разогнанного Учредительного собрания, Вильсон выразил «глубокую симпатию» стремлению России «присоединиться к демократии». Он требовал, чтобы Россию избавили от «любого пагубного и корыстного влияния, которое могло бы помешать такому развитию». Но, как разъяснил Хауз, на самом деле мысли Вильсона были направлены на то, что находилось за рамками темы Германии и Бреста. «Я думаю о том, как… использовать эту возможность для разрешения дальневосточной ситуации, не упоминая при этом Японию. Все, сказанное о России и против Германии, может быть использовано применительно к Японии либо к любой другой стране, пытающейся сделать то, что, как мы знаем, пытается сделать Германия»[409].
В марте 1918 года Троцкий практически ежедневно вел негласные переговоры с Брюсом Локхартом и Раймондом Робинсом, активно действовавшими представителями Британии и США, о сближении Советов с западными державами. Во вторую неделю марта в расположенном на севере России Мурманске высадилось немногочисленное подразделение британской армии, перед которым стояла задача предотвратить захват складов Антанты частями наступающей германской армии[410]. Но на съезде Советов преобладала жесткая позиция, занимаемая Лениным. Компромисса с такими лицемерами-либералами, как Вильсон, быть не может. На съезде была принята резкая ответная резолюция, задуманная, по словам верного сторонника Ленина Александра Зиновьева, как «пощечина американскому президенту». Советы не захотели услышать послания Вильсона, однако намек был понят более проницательными членами японского кабинета министров. 19 марта, по настоянию Хары, предложения сторонников интервенции в Токио были вновь отвергнуты. Без явного согласия Америки ничего происходить не должно[411]. Когда чрезмерно активное подразделение японских военно-морских сил по собственной инициативе высадилось во Владивостоке, Токио приказал ему немедленно покинуть город. 23 апреля, подавленный тем, что ему не удалось настоять на политике активного вторжения в Сибирь, министр иностранных дел Итиро Мотоно, главный ястреб в правительстве Тераути, подал в отставку. Его место занял Гото Симпей, который, кстати, был настроен еще более агрессивно. Однако и у него поле для маневра было столь же ограниченным, как и у его предшественника. Как сказал президент Вильсон представителю Британии сэру Уильяму Вайсману, «ключ к этой ситуации был в руках американского правительства… и японское правительство не пойдет на вторжение» без «санкции» Вашингтона[412]. Но Вильсон даже в большей степени, чем Ленин, не признавал, что источником такого влияния США были силы значительного большинства в японском парламенте, решительно настроенные на то, чтобы освободить свою страну из плена фантазий о противостоянии на океане со странами Запада и пойти на сближение с Америкой[413].
II
Ленин опасался японцев, но немногое мог сделать в этом направлении. Влияние большевиков в Восточной России было слишком непрочным, чтобы проводить там внятную политику. По той же причине нарастающая на Дальнем Востоке антибольшевистская волна не сказывалась непосредственно на позиции коммунистов в центральных районах России. В основе ленинской стратегии выживания лежал Брест-Литовский договор с Германией. Но и здесь существовало одно противоречие. Ведя переговоры, большевики делали все, что было в их силах, чтобы договор оказался нелегитимным. Но разве мог договор, который слабая сторона столь вопиющим образом отказывалась признавать, иметь обязательную силу для более сильной стороны? Очевидный цинизм большевиков лишь поощрял аналогичное встречное отношение со стороны Германии. Почему бы и Германии не вести себя так, как это подобает беспощадному империалисту, каковым она и считалась? А если не Германии, то ее союзникам?
Весной 1917 года германское верховное командование остановило своих турецких союзников на Юго-Восточном фронте. Во время этой передышки молодая закавказская республика создала в Тбилиси временный парламент, сейм, который должен был представлять бывшие российские губернии – Грузию, Армению и Азербайджан. На тех же условиях, что и Украина, они были приглашены участвовать в переговорах в Бресте в декабре 1917 года. Но в отличие от Украины кавказские революционеры отклонили это приглашение. Они не желали даже садиться за один стол с предателями-большевиками. Когда обсуждение в Бресте провалилось, они сочли это справедливым. Помня об ужасных преступлениях против армян в 1915 году, министерство иностранных дел Германии быстро напомнило Константинополю, что от него ожидается проведение военной наступательной операции, а не возобновление геноцида[414]. Но раздававшиеся из Берлина призывы оказались напрасными[415]. Когда в первую неделю марта Советы спешно вернулись за стол переговоров в Бресте, Турция потребовала не только возвращения к границам 1913 года, но и возврата всех территорий, захваченных царской Россией за период начиная с 1870-х годов. Сотен тысяч объятых ужасом армян, бежавших от армии генерала Энвер-паши, было уже недостаточно. В результате возобновления враждебных действий была пролита турецкая кровь. Убитые были и среди крестьян-мусульман. Теперь, если закавказская республика хочет мира, ей придется приобретать его ценой армянской территории. 28 апреля в присутствии представителей Германии турки спокойно довели до сведения армянской части делегации Закавказья, что, если требования Турции не будут выполнены, десантники-иттихадисты доведут дело полного уничтожения их народа до конца[416].
Чтобы хоть как-то контролировать своих неуемных союзников, Германия направила генерала Ганса фон Секта, будущего руководителя рейхсвера (Reichswehr) Веймарской Республики, в качестве наблюдателя на Кавказскую линии фронта. Но у фон Секта вскоре голова пошла кругом от перспектив, открывшимся после крушения России. «Я стоял на рельсах, ведущих через Тифлис в Баку, – писал фон Сект домой, – а мои мысли устремлялись дальше, за Каспий, через хлопковые поля Туркестана к горам Олимпа. И если, как я надеюсь, война продлится еще какое-то время, то мы еще сможем распахнуть двери в Индию»[417]. В министерстве иностранных дел один азартный чиновник отметил, что если Германии удастся укрепиться в этом регионе, то «даже идея наземного маршрута в Китай… из области приключенческих фантазий перейдет в реальные расчеты»[418]. Но по мере приближения генерала Энвер-паши к Азербайджану и бакинским нефтяным месторождениям Берлину все чаще приходилось задумываться не о Китае, а о том, что агрессия пантюркистов может заставить Британию пойти на вторжение со стороны Персии. После принесения Армении в жертву туркам Германия намеревалась обустроить базу в этом регионе, предложив Грузии, обладающей живописной линией черноморского побережья и богатыми запасами руд различных металлов, протекторат. В условиях продвижения турецкой армии на север грузины не смогли отказаться от такого предложения. 26 мая они вышли из состава закавказского сейма и объявили о полной независимости Грузии. Грузинская делегация выразила представителям Армении соболезнования по поводу ожидавшей их ужасной судьбы. Но «мы не можем тонуть вместе с вами», – говорили грузины. «Наши люди хотят спасти то, что можно. Вам тоже надо искать возможность договориться с турками. Другого пути нет»[419].
На нескольких сотнях квадратных миль голой гористой местности, выделенной под армянскую резервацию, теснились 600 тысяч человек. Половину из них составляли не имевшие ни гроша беженцы, которые кочевали уже с 1915 года. Турецкая артиллерия располагалась на расстоянии пушечного выстрела от Еревана, ставшего временной столицей. Выхода к морю не было, железных дорог не было, а турки на лето закрывали территорию, чтобы ни одно из заброшенных полей, находившихся сразу за границами резервации, не было обработано[420]. Как передавал в Берлин один из присутствовавших на месте представителей Германии, турки явно намеревались «уморить голодом весь армянский народ»[421]. Тем временем в сравнительно безопасном Тифлисе рядом с грузинским флагом был поднят флаг Германии. Генерал Отто фон Лоссов, представитель кайзера, подписал временное соглашение о праве на добычу марганцевой руды и о доступе в порт Поти. Германские войска оккупировали Крым и захватили значительную часть Черноморского флота России, германские инженеры на Кавказе начали обследование железнодорожных путей для оценки осуществимости новой фантазии Людендорфа, состоявшей в том, чтобы перевезти легкие суда германского флота, включая разобранную подводную лодку, по земле в порт Баку для обеспечения превосходства Германии в закрытом Каспийском море[422]. Людендорф мечтал со своего кавказского плацдарма атаковать позиции Британии в Персидском заливе.
Но все это было мелодией далекого будущего. А пока по Брест-Литовскому договору Украина становилась зависимым государством и важным экономическим партнером Центральных держав[423]. Германия, захватив в преддверии весны самую сердцевину украинских сельскохозяйственных угодий, в мае 1918 года присоединила к зоне оккупации промышленный район Донецка. Еще в декабре 1917 года в Берлине был сформирован комитет бизнесменов, которому предстояло оценить возможности германских инвестиций на Востоке. Однако эти планы имели отношение к долгосрочной перспективе. Сейчас самой насущной потребностью было зерно. В 1918 году Австрия и Германия втайне ожидали получить от своего нового союзника не менее 1 млн тонн зерна. Правда, к концу апреля стало понятно, что «эксплуатация» украинской хлебной корзины связана со значительными проблемами, которые оказались неучтенными в этих фантазиях. Для того чтобы избежать огромных расходов, неизбежных при полномасштабной оккупации, Австрии и Германии требовалась готовая к сотрудничеству местная администрация. Рада, которая была вынуждена покинуть Киев, а теперь благодаря приходу германской армии возвратилась обратно, нуждалась в передышке для восстановления своих сил. Однако масштабы и безотлагательность экономических потребностей Германии и Австрии не оставляли такой возможности[424].
На Украине, как и по всей революционной России, единственным способом обеспечить легитимность власти в глазах населения можно было только передачей земли крестьянам[425]. В течение лета 1917 года земли по всей стране были перераспределены в ходе захвата помещичьих земель. При выборах в Учредительное собрание миллионы крестьян голосовали за партию, обещавшую будущее деревенскому сельскому хозяйству, за партию социал-революционеров. Эсеры были надежными союзниками в действиях против большевиков, но их земельная политика противоречила интересам Центральных держав. Для обеспечения максимального урожая, избытки которого можно было экспортировать, требовалась концентрация сельскохозяйственного производства на крупных фермах, ориентированных на рынок. Для Рады поддержка восстановления крупных землевладений в интересах ее германских покровителей означала полную дискредитацию. Самой Германии для силового обеспечения разворота аграрной революции вспять пришлось бы снять с Западного фронта сотни тысяч солдат, чего Людендорф допустить не мог. Если бы Германия была в состоянии обеспечить бартер, предлагая в обмен на поставки зерна пользующиеся спросом промышленные товары, конфликт, вероятно, удалось бы разрешить. Согласно Брест-Литовскому договору, Германия взяла на себя обязательство предоставлять в обмен на зерно промышленные товары. Но в условиях продолжавшихся военных действий промышленных товаров отчаянно не хватало[426]. Для закупок необходимого им зерна Центральные державы прибегли к приему, дающему краткосрочный эффект, просто приказав украинскому центральному банку напечатать необходимое количество денег. Это позволяло им закупать зерно, не прибегая к реквизициям, правда спустя несколько месяцев напечатанные деньги полностью обесценились. Как писал из Киева генерал Гофман, «все купаются в деньгах. Рубли печатаются и чуть ли не раздаются… у крестьян запасов кукурузы хватит на два или три года, но они не станут продавать их»[427]. С этого момента альтернативы принудительному изъятию уже не оставалось.
В начале апреля фельдмаршал Герман фон Эйхгорн, командующий германскими оккупационными войсками, издал декрет об обязательной обработке земель. Фельдмаршал действовал без согласования с Радой, и депутаты отказались его ратифицировать. Несколько дней спустя германские военные решили отказаться от дипломатии. В ходе coup d’état они распустили Украинскую национальную ассамблею и установили так называемый гетманат, который возглавил офицер царской кавалерии Петр Скоропадский[428]. Всего через 6 недель после ратификации Брест-Литовского договора под давлением экономической необходимости германские военные в одностороннем порядке отказались от претензий на то, чтобы выступать в качестве защитников легитимного права на самоопределение. Скоропадский почти не говорил на украинском, а его правительство было сформировано из русских националистов-консерваторов. Те, кто действительно стоял у власти в Германии, похоже, потеряли всякий интерес к проекту создания жизнеспособного украинского государства. Теперь они, по-видимому, готовились к тому, чтобы превратить Киев в трамплин для постепенного завоевания всей России.
Помимо этой достаточно серьезной опасности, надвигавшейся с юга, к маю ленинское правительство столкнулось с прямой угрозой на севере. В декабре 1917 года вместе с другими странами Балтии свою независимость провозгласила Финляндия. Следуя ленинской политике в национальном вопросе, Петроград согласился с этим. Но в то же время местные большевики, пользовавшиеся значительной поддержкой профсоюзов, получили приказ взять под свой контроль Хельсинки. К концу января 1918 года в Финляндии разразилась гражданская война. В начале марта 1918 года, в то время как германские войска продвигались вглубь Украины, кайзер и Людендорф разработали план создания совместных германско-финских формирований, которым предстояло сначала разгромить финских большевиков, а затем продолжить продвижение на юг в направлении Петрограда. Морозы не позволили осуществить высадку германского экспедиционного отряда под командованием генерала фон дер Гольца раньше начала апреля. Но, соединившись с финской белой гвардией генерала Маннергейма, они сумели наверстать упущенное[429]. 14 апреля после тяжелых боев Хельсинки был освобожден от Красной гвардии. В знак благодарности Германии фон дер Гольц организовал бесплатную раздачу продуктов питания ликующим жителям города[430]. 15 мая гражданская война закончилась, но убийства продолжались. В ответ на карательные расстрелы заключенных белогвардейцев Красной гвардией финско-германская боевая группа развязала «белый террор», в ходе которого к началу мая жизни лишились более 8 тысяч человек из числа левых. Еще по меньшей мере 11 тысяч человек умерли от голода и болезней в военных лагерях[431]. Весной 1918 года в Финляндии были проведены первые варварские контрреволюционные кампании, открывшие новую главу в истории политического насилия в XX веке.
В первую неделю мая 1918 года, в разгар кампании террора, Маннергейм и вспомогательные германские части оказались в опасной близости от русской крепости Ино, защищавшей северные подходы к Петрограду. Советы посчитали, что кайзер и его окружение поменяли свое отношение к компромиссу, достигнутому в Бресте. В самом деле, с какой стати Германия будет считаться с простым договором, тем более что сами Советы воспринимали его не более как клочок бумаги? Если ленинская стратегия баланса между империалистическими державами окажется удачной, то самому Ленину предстоит сделать нечто большее, чем просто ратифицировать Брестские соглашения. После подписания договора Ленин отошел от контактов с Германией, предоставив Троцкому поддерживать связь с эмиссарами Антанты и США в Петрограде и Москве[432]. Теперь же, в начале мая, Ленин снова решился на отчаянную игру. Если германскому империализму недостаточно Брест-Литовского договора, он предложит им нечто другое.
Ночью 6 мая Ленин созвал заседание Центрального комитета, на котором потребовал у своих товарищей, столь неохотно согласившихся с заключением Брестского договора, пойти на дальнейшие уступки[433]. Предвидя возражения левого крыла партии, Ленин перешел в наступление, с презрением осудив «детскую болезнь» левых коммунистов. Ленин утверждал с присущей ему нетерпимостью, что «никто, за исключением первосортных идиотов-меньшевиков, никогда не ожидал», что курс исторического развития сам по себе «спокойно, мягко, легко и просто приведет к „полному” социализму»[434]. Но даже по ленинским меркам новый поворот в политике был поразительным. 14 мая Ленин высказался за то, чтобы предложить германским империалистам план всестороннего экономического сотрудничества[435]. В качестве обоснования он предложил то, что наверняка было самой необычной разновидностью ортодоксального марксизма. Необходимость тесного союза революционной России и имперской Германии, утверждал Ленин, вытекает из извилистой логики самой истории. К 1918 году история «пошла так своеобразно, что родила… две разрозненные половинки социализма, друг подле друга, точно два будущих цыпленка под одной скорлупой международного империализма». Связанные друг с другом Брест-Литовским договором, Советская Россия и имперская Германия и были такими цыплятами- близнецами. Для того чтобы преодолеть разрыв между политическими условиями для социализма, созданными в России, и экономическими условиями, созданными в Германии, требуется наполнить оболочку договора прочным экономическим союзом. Ленин уверял своих коллег, что легендарная организация экономики военного времени, созданная в Германии электроинженером и магнатом Вальтером Ратенау, представляет собой «наглядное материальное осуществление экономических, производственных, общественно-хозяйственных… условий социализма». Экономический и политический союз позволит соединить этот организационный и технический потенциал с политическим радикализмом большевиков[436].
Ленин не ошибался, рассчитывая на алчность немцев. В Берлине министерство иностранных дел, всегда учитывающее экономические интересы в политике, с готовностью откликнулось на это предложение, создав постоянно действующий комитет, в который вошли промышленники, банкиры и политики. Перед комитетом ставилась задача изучения возможностей установления финансового и технического контроля над Россией. Как и надеялся Ленин, «Крупп» и «Дойче Банк» заранее потирали руки. Но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что сложностей намного больше, чем казалось сначала. Россия предоставляла захватывающие долгосрочные возможности, но для того чтобы ими воспользоваться, требовались огромные инвестиции, финансирование которых в военное время было затруднительным. Миллионы тонн стали, необходимые для реконструкции, не могли быть поставлены из Германии. Реконструкцию следовало начинать с запуска имевшихся в России доменных печей, большинство которых к лету 1918 года были погашены[437].
Ленин был не настолько наивен, чтобы недооценивать эти трудности. И то, что подобное предложение было сделано только Германии, не отвечало его стратегии «балансирования». Долги России перед Британией и Франции к тому времени были слишком велики, для того чтобы ленинская тактика манипуляций принесла результаты в этих странах. Но такие перспективы воодушевили американских представителей в Москве, прежде всего вездесущего полковника Робинса. 20 апреля 1918 года Робинс направил телеграмму американскому послу, в которой призывал его ускорить принятие решения. Он настаивал на том, что в случае если Вашингтон не собирается создавать «организованную оппозицию» Ленину, то следует предложить ему «организованное сотрудничество». Как писал Робинс в телеграмме предпочитавшему воздерживаться от каких-либо действий американскому послу, ставки были самыми высокими. Восстановление России было «крупнейшим из оставшихся в мире экономических и культурных предприятий»[438]. Вопрос состоял в том, будет восстановление проходить «при германском или же при американском руководстве и поддержке».
14 мая, в тот же день, когда Ленин выдвинул свой грандиозный план привлечения германского империализма, он описал перспективы возможного экономического сотрудничества с Соединенными Штатами покидавшему страну полковнику Робинсу. Ленин признавал, что в течение многих лет Германия будет слишком занята собственным послевоенным восстановлением, чтобы вернуться к роли основного промышленного поставщика России, которую она играла до войны. «Только Америка, – настаивал Ленин, – может стать такой страной»[439]. Россия срочно нуждалась в железнодорожном оборудовании, сельскохозяйственной технике, электрогенераторах и горнодобывающем оборудовании. По всей стране планировались грандиозные стройки. В обмен Россия была готова предложить ежегодный экспорт в объеме не менее 3 млрд золотых рублей, включающий поставки нефти, марганца, платины, а также кожи и мехов. Но вернувшегося в Вашингтон Робинса никто не принимал. Президент Вильсон уволил своего посланника, как «человека, утратившего всякое доверие»[440]. Попытки Ленина выстроить баланс не удались. А его явная симпатия к Германии склонила союзников к тому, чтобы принять решение в пользу первого варианта, предложенного Робинсом, то есть создать организованную оппозицию.
На самом деле, после мая 1918 года ленинские попытки выстроить баланс были тщетными и в более глубоком смысле. Мысль о том, что он сможет откупиться от германской агрессии, предоставив экономические концессии, была плодом его идеологического воображения. Агрессию Людендорфа сдерживала не дипломатия Советов, а потребности Западного фронта в военных ресурсах и установившееся внутри страны опасное политическое равновесие. Начиная с 1917 года большинство в рейхстаге выступало за установление долгосрочного и выгодного мира на Востоке. В феврале 1918 года, после того как Троцкий столь необычайным образом покинул переговоры, это большинство проиграло борьбу против возобновления военных действий. Но если бы после того, как в марте рейхстаг торжественно ратифицировал Брест-Литовский договор, кайзер и военное руководство решили бы игнорировать договор и пойти на свержение Советов, то они нанесли бы германскому парламенту оскорбление исторического масштаба. Кроме того, каким образом можно стратегически обосновать такую агрессию? Как указывал министр иностранных дел Кюльман, при всей одиозности большевиков, «вооруженная интервенция против революции как таковая не входит в число задач германской политики»[441]. 22 мая, выступая перед комитетом по международным делам рейхстага, Кюльман дал ясно понять, что у него имеются серьезные сомнения относительно использования режима Скоропадского на Украине для восстановления самодержавия в России. Стратегическая задача Германии должна состоять в сохранении независимости Украины и раздробленности царской империи, даже если это будет означать согласие с нахождением в Петрограде большевиков. «Может показаться странным, что консервативная милитаристская Германия поддерживает социалистическое правительство в другой стране. Но наши интересы диктуют необходимость сделать все, чтобы предотвратить угрозу восстановления единства России. Объединенная Россия неизбежно встанет на сторону Антанты»[442]. Помимо этого, Кюльман не одобрял действий Людендорфа на Кавказе. Каспийскую морскую авантюру он считал просто «невероятным сумасшествием»[443].
То, что Кюльман решился на столь откровенный разговор в комитете рейхстага, указывало на существование внутри Германии разногласий, обострившихся в ходе болезненной процедуры подготовки Брестского мирного договора. В феврале 1918 года министр иностранных дел в частной беседе поделился своими опасениями с вице-канцлером Пайером. К маю бесцеремонное поведение германских военных на Востоке стало столь неприкрытым, что требовало реакции общества. 8 мая Маттиас Эрцбергер вновь выступил с сенсационными нападками на элиту из числа приближенных к императору Вильгельму II, осудив своевольные действия германской армии на Украине. Использовав информацию, полученную от киевских осведомителей Эрцбергера, либеральная Vossische Zeitung опубликовала рассказы свидетелей скандальных событий, связанных с переворотом Скоропадского. Германские солдаты взяли штурмом Раду, парламент суверенного государства, договор с которым рейхстаг торжественно ратифицировал всего несколько недель назад. К голове украинского президента почтенного историка Михайло Хрущевского был приставлен револьвер. Члены Рады были подвергнуты унизительному личному досмотру. Членов правительства арестовали солдаты германской армии. Новоиспеченный гетман был реакционным казаком. Такое жестокое своеволие привело к тому, что Германия утратила шансы на установление легитимной и продуктивной гегемонии на Востоке. «Германский солдат уже не может показаться в Киеве без оружия… – жаловался Эрцбергер, – железнодорожники и рабочие готовят всеобщую забастовку… крестьяне не дадут никакого зерна, а при проведении реквизиций надо готовиться к кровопролитию»[444]. В 1918 году вместо 1 млн тонн, обещанных в соответствии с мирным договором, Украина поставила Центральным державам не более 173 тысяч тонн зерна[445]. Но проблема состояла не только в хлебе. Вопрос, тревоживший Эрцбергера и его коллег по большинству в рейхстаге, заключался в том, кто управляет рейхом[446]. В дальнейшем, требовал Эрцбергер, все предпринимаемые на Востоке шаги должны утверждаться гражданским правительством Германии. Необходимо полностью запретить военное вмешательства во внутренние дела Украины и стран Балтии – государств, официально признанных Германией[447].
Националистически настроенные члены рейхстага встретили вмешательство Эрцбергера с вполне предсказуемым негодованием. Густав Штреземан, главный представитель либералов-националистов, настаивал на том, чтобы отклонить предложение Эрцбергера о гражданском контроле, так как оно подрывает силу германского правительства и служит «подтверждением высказывания (президента) Вильсона о том, что Германия представляет собой милитаристскую автократию, с которой страны Антанты не в состоянии вести переговоры»[448]. Тем, кто выступал в поддержку этого предложения, оставалось только согласиться. Но вывод, сделанный ими, оказался полностью противоположным. Угроза авторитаризма существовала, и ее следовало устранить. Несмотря на обнадеживающие сообщения с Западного фронта, Людендорф и Гинденбург понимали, что им не удастся действовать, совершенно не обращая внимания на гражданские власти в рейхе. 18 мая после срочного совещания с канцлером Гертлингом Людендорф согласился остановить финно-германское наступление на Петроград[449]. Как и в Японии, гражданский политический контроль считался основным предохранителем от наиболее радикально настроенных фантазий германских империалистов. Несмотря на одиозную репутацию и сомнительную легитимность, Брест-Литовский договор оставался основным препятствием на пути дальнейшей радикализации войны. Ирония состояла в том, что главными бенефициарами этого шаткого баланса сил были большевики. Удастся ли сохранить этот баланс, зависело от того, насколько агрессивными будут действия с обеих сторон.
8 Интервенция
16 мая 1918 года, во время короткого затишья между атаками германских войск на Западном фронте, был выпущен меморандум британского генштаба с поистине апокалиптической картиной. В результате того что Гинденбург и Людендорф, благодаря Ленину, смогли насильно рекрутировать 2 млн человек из российских провинций, Центральные державы получили возможность продолжать войну по меньшей мере до конца 1919 года. Германия, продолжали британские штабисты, доживет до «условий, существовавших в древнеримской империи, в которой легионеры сражались на ее границах, рабы трудились в тылу, а ряды тех и других пополнялись за счет соответствующих рас». В отличие от Западных сил, «гунны-германцы» не были «связаны… какими-либо христианскими нормами. Германцы – эти явные язычники и конъюнктурщики, не остановятся перед использованием любых методов, которые сочтут нужными для достижения своих целей. Голод и телесные наказания при поддержке пулеметов скоро произведут необходимый эффект в сообществе неграмотных, проживших сотни лет в рабстве»[450]. Шесть недель спустя, в разгар заключительного наступления германских войск на Западном фронте, британское правительство информировало США о том, что «если союзники не предпримут немедленного вторжения в Сибири», Германия установит свое господство по всей России. В этом случае, даже при полномасштабном участии Америки, у Антанты «не будет шансов на окончательную победу», и она столкнется «с серьезной опасностью поражения»[451].
Интервенция Антанты, Японии и Соединенных Штатов не была реакцией на революционную угрозу, которую представлял коммунизм, как полагал Ленин. Неясное предчувствие будущего преследовало союзников и заставляло их действовать. Но они думали не о разнообразных путях возможного развития революционных событий и не о перспективах холодной войны. Они предчувствовали события лета 1941 года, когда военный триумф вермахта грозил распространением рабовладельческой империи Гитлера на территорию всей Евразии. Перспективы, ужасавшие британцев и французов в 1918 году, были связаны не столько с опасностью коммунизма как такового, сколько с угрозой того, что при Ленине Россия станет пособником германского империализма. Именно ленинская односторонняя политика балансирования, которая в мае 1918 года явно склонилась в пользу Германии, привела к тому, что стремление начать интервенцию становилось неудержимым.
I
Отчаянная решимость Ленина закрепить Брест-Литовский договор стала шоком для представителей Антанты, которые все еще оставались в России и с зимы прилагали неимоверные усилия для поддержания двусторонних отношений. Выступавший ранее за сотрудничество с большевиками, руководитель британского представительства Брюс Локхарт изменил свои взгляды и теперь сообщал в Лондон о том, что пока у власти находится Ленин, Россия не сможет вырваться из германских тисков. Антанте следует прибегнуть к массированному военному вторжению, если потребуется, даже не дожидаясь поддержки антибольшевистских сил в самой России. Но здесь особых трудностей не наблюдалось. 26 мая социалисты-революционеры, партия, больше других претендовавшая на поддержку большинства населения России и Украины, заявила о своей поддержке вооруженной интервенции извне. Левые социалисты-революционеры не стали бы общаться с Антантой, но они находились в открытой оппозиции. Во времена царизма именно они первыми освоили кровавое искусство политического террора. 30 мая под предлогом наличия у него доказательств действий отрядов боевиков в столице Ленин объявил о введении военного положения. Прошла волна арестов, и все представители меньшевиков и социалистов-революционеров были исключены из состава Центрального исполнительного комитета Всероссийского съезда Советов[452].
В Петрограде и Москве большевикам все еще удавалось удерживать ситуацию под контролем. Но советская власть встречала открытое сопротивление по всей огромной территории России. К весне 1918 года почти общим местом стала глобальная связь между политикой и стратегией на всем пространстве от Балтики до Тихого океана. Но и в этих условиях было удивительным, что судьба Сибири зависела от чешского профессора, который, находясь в эмиграции в Вашингтоне, оказался во главе армий, действующих на военных фронтах, простирающихся от Фландрии до Владивостока. Профессором, о котором идет речь, был социолог и философ Томаш Гарриг Масарик. Под его командованием находилось несколько дивизий, состоявших из чешских патриотов-военнопленных, в 1917 году мобилизованных Александром Керенским, чтобы удержать хрупкую линию русского фронта, по другую сторону которой находились заклятые враги чешского народа – австрийцы. После переговоров в Бресте чехи подтвердили свою верность Антанте и, все еще находясь в глубине России, перешли под командование французского маршала Фоша. Этот 50-тысячный дисциплинированный отряд был полон решимости сражаться против Центральных держав, даже находясь за тысячи миль от дома, а теперь угрожал большевикам и германским частям, разбросанным по Югу России. Когда Троцкий отдал приказ разоружить чехов, то совершенно неудивительно, что это было воспринято как решение, принятое по распоряжению из Германии. Начались вооруженные столкновения между чехами и Красной армией на ряде железнодорожных узлов в Сибири. К концу мая практически вся трансконтинентальная железнодорожная магистраль была в руках легиона Масарика.
Для сторонников интервенции в Британии и во Франции чехи были подарочным десантом, спустившимся прямо с небес. Однако Масарик следил за развитием событий после заключения мирного договора и не хотел действовать без одобрения со стороны президента Вильсона, позиция которого по вопросу независимости чехов была печально известна своей противоречивостью[453]. В «14 пунктах», надеясь сохранить возможность заключения сепаратного мира с Веной, Вильсон воздержался от какого-либо упоминания о чешском вопросе. И лишь в мае 1918 года, после ратификации Брест-Литовского договора и после того, как Румынии был навязан мир на еще более жестких условиях, Вильсон открыто проявил свою готовность санкционировать национальную автономию чехов и их братьев – южных славян. Но даже тогда он не испытывал особого желания использовать находившийся в Сибири чешский контингент против большевиков. В этом нежелании Вильсона поддерживал и сам Масарик, продолжавший открыто выражать свои симпатии «революционной демократии» в России. И только в начале июня, заручившись решительной стратегической поддержкой Британии, госсекретарь Лансинг сумел убедить Масарика в том, что чешская армия, вместо того чтобы отходить в направлении Владивостока, может оказать союзникам жизненно важную помощь, заблокировав позиции вдоль Транссибирской железной дороги[454]. По подсказке Лансинга в обмен на это Масарик потребовал, чтобы Вильсон объявил смертный приговор империи Габсбургов.
Ставки на интервенцию в Сибири продолжали расти. Пока Лансинг и Масарик обсуждали условия обмена помощи чехов в Сибири на ликвидацию династии Габсбургов, Уильям Буллит, радикально настроенный советник Вильсона, предпринял еще одну последнюю попытку остановить интервенцию. «Мы можем совершить одну из самых трагических ошибок в истории человечества», – писал Буллит полковнику Хаузу. Сторонники интервенции были типичными представителями империализма. После вооруженной контрреволюционной интервенции «сколько лет и жизни скольких американцев» потребуется для «восстановления демократии в России»?[455] Было очевидно, что по духу Буллит был ближе Вильсону, чем Лансинг. Но если менее чем 6 недель назад, говоря о японской интервенции, Вильсон хвастался своим влиянием на Японию, то неожиданный поворот Ленина к Германии лишил его этого влияния. Он не мог сдерживать движущие силы интервенции, когда принципиальные соображения в ее пользу носили скорее антигерманский, чем антисоветский, характер.
30 июня 1918 года Британия и Франция объявили о своей поддержке национальных чаяний чехов, ссылаясь при этом на «чувства и высокие идеалы, выраженные президентом Вильсоном». Вильсон вновь завяз в логике своей собственной идеологической программы и был близок к смятению. В июне 1918 года, выступая перед членами кабинета, он заметил, что у него не хватает слов, чтобы охарактеризовать военную поддержку интервенции в России со стороны Антанты. «Они предлагали немедленно сделать столь непрактичные вещи, что он часто задумывался над тем, кто сошел с ума – он сам или они»[456]. Когда представитель министерства финансов США, отчитываясь о поездке в Европу, рассказал о том, что британский премьер-министр Ллойд Джордж в открытую высмеивает идею мира под эгидой Лиги Наций, президент ответил: «Да, я знаю, что Европой управляют все те же реакционные силы, которые управляли нашей страной еще несколько лет назад. Но я удовлетворен тем, что, если потребуется, смогу обратиться к народам Европы поверх голов их властителей»[457]. И вновь нежелание Вильсона начать интервенцию выдвигало на первый план политику «мира без победы». Но очевидность намерения Германии установить контроль над всей Западной Россией не позволяла Вильсону оставаться на позиции морального равенства, подразумевавшейся в подобной ситуации. 6 июля он взял инициативу на себя. Без предварительных консультаций с Японией или Британией Вильсон объявил о том, что в интервенции союзников, проходящей через Сибирь, будут задействованы два воинских контингента численностью 7 тысяч человек, которые направят США и Япония. Их задачей станет не проведение наступательной операции против Германии и не свержение большевиков, а наблюдение за выводом чехов во Владивосток.
В Лондоне прославляли Ллойда Джорджа. После нескольких месяцев опасных колебаний Вильсон в одностороннем порядке определял условия интервенции и делал это так, чтобы спровоцировать большевиков, но не свергать их. Несоразмерная интервенция вызвала, как позже писал Брюс Локхарт, «паралитические полумеры, которые в данных обстоятельствах граничили с преступлением»[458]. Конечно Ллойд Джордж не был намерен учиться у Вильсона демократии. В гневной телеграмме, направленной в посольство Британии в Вашингтоне, британский премьер-министр отвергал предположения о реакционных намерениях своей страны. Недавнее сближение Ленина с немцами полностью меняло условия дискуссии. Если раньше можно было возражать против интервенции на том основании, что она поощряла действия реакционных сил, то теперь Ллойд Джордж утверждал: «Я сторонник интервенции в той же степени, что и демократ, и желаю победить в войне». «Последнее», что Ллойд Джордж «поддержит, будет поощрение любого репрессивного режима» в России, «чем бы он ни прикрывался»[459]. Только демократическая Россия может стать настоящей преградой на пути германской угрозы. По словам начальника имперского генштаба, «если до конца войны Россия не станет независимой военной державой, то превращение значительной части Азии в колонию Германии будет лишь вопросом времени, и ничто не сможет остановить продвижение врага в направлении Индии, защищая которую Британская империя будет вынуждена воевать, даже не имея превосходства». Как указывал Ллойд Джордж, политический окрас России будет определять послевоенный порядок. «Если до конца войны Россия не встанет на либеральный, прогрессивный и демократический путь», то ни «мира во всем мире», ни, в частности, «мира и безопасности на границах Индии» обеспечить будет невозможно[460]. Но, как он с сожалением признавал, «без Соединенных Штатов мы ничего сделать не сможем»[461]. В свете столь неприятной правды британское военное министерство согласилось забыть о своих возражениях и поддержать начатую Вильсоном половинчатую интервенцию в Сибири в надежде на то, что с течением времени обстоятельства заставят расширить операцию до масштабов, в большей мере соответствующих этим обстоятельствам.
II
Если бы летом 1918 года британцы могли наблюдать происходящее в кабинетах сотрудников Людендорфа, они бы увидели многое, что подтверждало бы их опасения. До самого конца июня канцлеру Гертлингу удавалось удерживать линию фронта, сложившуюся в середине мая, блокируя военные действия на Востоке. Информация о сложившемся положении была передана большевикам, что позволило им направить преданные им латышские полки туда, где они сражались, по их убеждению, за свою независимость с чехами, которые дрались за свою независимость[462]. Но равновесие в Германии было ненадежным. Составленная в конце июня сотрудниками Людендорфа служебная записка «О целях политики Германии» (Ziele der deutschen Politik) со всей очевидностью показывала, насколько более радикальной стала военная политика Германии после заключения Брестских соглашений. Людендорф теперь был нацелен не просто на то, чтобы добиться господства на периферии бывшей царской империи, предоставив большевикам самим разбираться с разрухой на оставшейся им части России. Его цель была зеркальным отражением намерения Ллойда Джорджа сделать из России оплот демократии. Людендорф стремился к восстановлению единого русского государства, которое благодаря своему консервативному политическому устройству стало бы считаться «надежным другом и союзником… который не только не представляет опасности для политического будущего Германии, но и, насколько это возможно, зависит от Германии в политическом, военном и экономическом отношении и является источником экономической мощи Германии»[463]. Находящиеся на периферии Финляндия, страны Балтии, Польша и Грузия должны оставаться протекторатами Германии. Украина будет возвращена Москве в обмен на подчинение Германии всей экономики России в целом. Привязанная к рейху, Россия предоставит Германии средства для распространения ее влияния на всю Евразию и обеспечения тылов экономически развитой, политически авторитарной «мировой государственной структуры» (Weltstaatengebilde), способной напрямую противостоять «панамериканскому блоку» (panamerikanischen Block) и Британской империи[464].
Эта новая стратегическая концепция была формально принята в ходе последней расширенной дискуссии по вопросам стратегии, состоявшейся в начале июня 1918 года в штабе кайзера, расположенном в Спа[465]. Но, как подчеркивал Кюльман в рейхстаге, идея восстановления консервативной России под покровительством Германии была полна противоречий[466]. Первые контакты с подходящими кандидатами из числа противников большевиков, наиболее заметным из которых был кадет Павел Милюков, изгнанный в мае 1917 года с поста министра иностранных дел России Петроградским советом, позволяли сделать вывод, что ни один уважающий себя русский патриот никогда не примет условия Брест-Литовского договора, не говоря уже о далеко идущих планах Людендорфа[467]. Кроме того, как с тревогой отмечали и Кюльман, и депутаты рейхстага, сами военные не представляли себе, каким образом их экспансионистские взгляды на установление германского господства на Востоке согласуются с их же требованиями войны на Западе. И хотя ряд последовательных атак привел к тому, что линия фронта союзников во Франции оказалась на грани прорыва, становилось очевидно, что силы Германии на исходе. Примечательно, что 15 июня, выступая по случаю 13-го года своего правления, кайзер произнес пророческую речь. В войне на кон было поставлено все. Компромисс на Западе возможен ничуть не больше, чем на Востоке. «Либо будет уважаться прусско-германское Germanic Weltanschauung— справедливость, свобода, честь и мораль, либо восторжествует Weltanschauung англосаксов, что будет означать гибельное поклонение мамоне. В этой борьбе одно Weltanschauung будет уничтожено»[468].
Подобный язык, конечно, чрезвычайно напоминает печально известные тирады Гитлера во время «Застольных бесед» в 1940 году. Но при всей соблазнительности подобных сравнений они не дают представления о коренном отличии политических обстоятельств 1918 и 1941 годов. Даже в разгар Первой мировой войны защитные механизмы конституционализма, созданные в XIX веке, продолжали действовать. Менее чем через десять дней после своей пророческой речи кайзер услышал в рейхстаге прямые возражения своего министра иностранных дел[469]. Германия должна понимать, утверждал Кюльман, что в свете «невероятных масштабов», которых достигла война, было бы нереалистично ожидать, что Германия сумеет навязать Западу односторонний мир (Diktatfrieden), подобный тому, который стал возможным в Бресте. Об окончательной и полной военной победе, какой ее, похоже, представлял Людендорф, не могло быть и речи. Как Германия может надеяться на полное поражение Соединенных Штатов или Британской империи? Рейх будет вынужден пойти на переговоры. И правда, по мере того как военные действия на Западе развивались не в пользу Германии, договорный мир становился лучшим выходом, на который Германия могла надеяться. Выступавший от СДП Эдвард Давид, который когда-то входил в число наиболее видных сторонников либерального мира на Востоке, пошел еще дальше. Силы, требующие дальнейшей эскалации войны, представляют собой «остатки феодального строя» в Европе, «самые сильные и наиболее влиятельные» из которых находятся теперь не в России, а на «Восточной Эльбе»[470]. На следующий день Гинденбург и Людендорф выступили на пресс-конференции, где германское военное командование публично отмежевалось от позиции министра иностранных дел, чем только усилили нараставшее смятение. Военное командование утверждало, что войну все еще можно выиграть, одержав сокрушительную победу на Западе. Выпуск ежедневной газеты СДП Vorwärts, решившейся на публикацию слов Кюльмана, был изъят.
Политической карьере Кюльмана наступил конец. 9 июля 1918 года, несмотря на позицию большинства в рейхстаге, на его место был назначен Пауль фон Хинце, верный сторонник кайзера[471]. Однако внутренняя оппозиция восточным имперским фантазиям Людендорфа оставалась сплоченной. Канцлер Гертлинг обещал рейхстагу, что независимо от личных убеждений нового министра иностранных дел правительство не станет делать из Бельгии непреодолимое препятствие на пути к миру. Германия лишь настаивала на том, чтобы нейтралитет Бельгии был обеспечен должным образом. Кроме того, он подтвердил верность Брест-Литовскому договору. И Гертлинг, и вице-канцлер Пайер подадут в отставку в случае, если будут предприняты шаги, выходящие за пределы условий договора. Но теперь СДП этого было уже недостаточно, и она, несмотря на то что голосовала за новую линию военных кредитов, отозвала свою поддержку правительства Гертлинга. Летом 1917 года социал- демократы создали коалицию с партией Центра и либералами на основе общей мирной платформы. Но правительство Гертлинга не только восприняло спад волны забастовок в январе 1918 года как сигнал для того, чтобы начать программы карательных мер с сокращения зарплаты и урезания карточных норм, но и оказалось совершенно не готово к тому, чтобы предложить внешнюю политику, соответствующую требованиям этой платформы. Когда годом раньше СДП использовала свое влияние для того, чтобы поддержать мирную резолюцию, предложенную рейхстагом, американские войска лишь начинали свое вступление во Францию. Теперь же ежемесячно туда прибывали сотни тысяч американских военных[472]. Разве в условиях чрезвычайного положения в стране СДП может мириться со скандальной ситуацией, когда у Германии отсутствует последовательная внешняя политика, а поджигатели войны диктуют курс, по которому должна двигаться страна, в соответствии с их безответственными капризами?
III
Ни Людендорф, ни Ленин не придавали особого значения Брест-Литовскому договору, но его формальная легитимность давала германским политикам жизненно важную возможность сдерживать нарастающую радикализацию власти кайзера[473]. Как говорил министр иностранных дел Хинце, выступая перед группой полных нетерпения депутатов-националистов, «Брестский мир… трогать нельзя»[474]. Но именно у гражданских в Германии начали возникать вопросы, касающиеся соблюдения легальных рамок договора. Сколь долго сторонники законности смогут соблюдать условия договора с режимом, подобным ленинскому? Сами большевики не скрывали своего презрительного отношения к договору. Когда Ленин пытался сделать соглашение более содержательным, он включал в него ряд позиций, экономически соблазнительных для германских бизнесменов. Но насколько далеко ему придется зайти, чтобы поддерживать свои связи с германским империализмом, невзирая на сильное противодействие, которое эти связи вызывали в России?
4 июля 1918 года в Москве впервые после того, как была представлена новая ленинская внешняя политика, состоялся IV Всероссийский съезд Советов, который все еще считался высшим органом власти в революционной России. Ничем не прикрытая кампания запугивания и фальсификация результатов выборов обеспечили большевикам значительное большинство. Но это не заставило оппозицию замолчать. Абсолютно уверенный в своей власти, Ленин доверил задачу нового сближения с Германией учтивому Георгию Чичерину, прямому потомку одного из царских послов на Венском конгрессе. В присутствии сидящего в королевской ложе в качестве почетного гостя Совнаркома (Совета народных комиссаров) посла Германии графа Мирбаха Чичерин приступил к открытому изложению новой, открыто прогерманской ленинской политической линии. Но реакция слушателей на это выступление грозила превратить обстановку на съезде в хаос. Один из представителей движения сопротивления украинских крестьян вышел на сцену, чтобы яростно обличить насилие немецких оккупантов. Левые эсеры, угрожающе размахивая руками в направлении гостей из Германии, хором скандировали антиленинский лозунг «Долой Брест! Долой Мирбаха! Долой лакеев Германии!»[475] Выступавший в роли председателя Троцкий изо всех сил пытался снять напряжение. Но в конце концов он был вынужден перейти к открытым угрозам. Делегаты, участвующие в провокационных действиях, предупредил он, будут немедленно арестованы. На следующий день Ленин сам выступил на съезде в защиту своей позиции. Но мятежных левых эсеров запугать не удалось. Ленинская политика дальнейшего сближения с Берлином вела к «диктатуре германского империализма», а не к укреплению власти Советов. Присутствие на съезде Советов, в святыне русской революции, графа Мирбаха было вопиющим признанием этой зависимости. Левые эсеры, не обращая внимания на вопли ленинского большинства, требовали отказа от ратификации Брест-Литовского договора.
На следующий день они привели свои угрозы в действие. Под видом агентов ЧК наемные убийцы ворвались в посольство Германии и застрелили графа Мирбаха. Это было явной попыткой вбить клин между Россией и Германией. После некоторых колебаний латышская Красная гвардия предотвратила неуверенную попытку левых эсеров поднять восстание. Германия реагировала именно так, как рассчитывала оппозиция в России. Она потребовала дальнейших унизительных уступок, включая развертывание в Петрограде целого батальона пехотинцев, численностью 650 человек, для охраны посольства Германии. Даже у Ленина это вызвало редкий приступ депрессии. Согласиться с подобными требованиями означало, что большевики низводят Россию до статуса «маленького восточного государства», в котором западные страны могут потребовать охраны своих дипломатических представительств собственными силами безопасности[476]. В качестве уступки Германия согласилась, чтобы ее военные отправлялись в Москву без оружия и в гражданской одежде. Тем временем большевики развязали ответные жестокие репрессии. Хотя ЧК так и не арестовала ответственных за убийство, летом 1918 года, когда сопротивление ленинской политике в отношении Германии достигло высшей точки, началось институциональное становление аппарата террора в Советском государстве. В начале июля, когда белые, поддержанные с флангов чехами, стали продвигаться со своих баз в Сибири в западном направлении, ЧК совершила первую массовую казнь[477]. В ночь с 16-го на 17-е июля были убиты все члены царской семьи Романовых: царь Николай II, его жена Александра, их четыре дочери и сын. В начале августа Ленин призвал к «беспощадному массовому террору против кулаков, священников и белогвардейцев», а также к созданию более постоянного аппарата «концентрационных лагерей», предназначенных для работы с «ненадежными элементами». В этой «борьбе не на жизнь, а на смерть» за выживание революции, писали «Известия», не было «законных судов», в которые можно было пожаловаться, вместо этого действовала простая заповедь: убить или быть убитым[478]. В условиях, когда на севере страны находились британские войска, а на Тихом океане – готовые к наступлению войска японские и американские, гражданская война, развязанная большевиками, грозила стать частью более широкой борьбы мирового масштаба.
29 июля 1918 года Ленин изложил Центральному комитету партии свою резкую оценку ситуации. Окруженную «кованной цепью» англо-американского империализма Россию «втягивали в войну». Судьба революции теперь «зависит всецело от того, кто победит… Весь вопрос о существования Российской Социалистической Федеративной Советской Республики… свелся к вопросу военному»[479].
От ответа на вопрос британского представителя Брюса Локхарта, следует ли это считать объявлением войны Антанте, Ленин уклонился. Но втайне большевики уже сделали свой выбор. Следуя логике политики, принятой еще в мае, Ленин шел на дальнейшее сближение с Германией. 1 августа по личному поручению Ленина Чичерин обратился к преемнику Мирбаха, видному политику националистического толка Карлу Хелфериху с просьбой о вводе на территорию России войск Германии для стабилизации положения на Мурманском фронте, где британцы создавали антисоветскую базу[480]. На следующий день, убедившись, что столь необычное обращение на самом деле поступило из Кремля, Хелферих сообщил о нем в Берлин. Сначала Ленин пошел на сближение с Германией. Это лишало Вудро Вильсона возможности продолжать противиться призывам к началу интервенции. Теперь интервенция, на которую Вильсон был вынужден пойти, позволяла Ленину предложить Германии заменить неудобный modus vivendi, сложившийся после Бреста, активным военным сотрудничеством. Как сказала об этом Роза Люксембург, видный оратор германских левых радикалов и давний критик Ленина, в одном из своих резких выступлений, это было «финальной сценой» на «усеянном шипами пути», по которому русская революция вынуждена была пройти к «союзу между большевиками и Германией»[481].
Неудивительно, что Людендорф ухватился за возможность направить германские и финские силы против британских на севере России. Пытаясь запугать рейхстаг, генерал Гофман рисовал мрачные картины того, как Антанта затягивает петлю окружения от Мурманска через Волгу до Баку и Багдада[482]. Но у Людендорфа была своя точка зрения на пределы допустимого. «Я считаю, что для нашей армии не может быть и речи о военном союзе и совместных боевых действиях с большевиками»[483]. Интервенция Германии должна сопровождаться политическим переустройством России. Ее следует начинать с оккупации Петрограда и Кронштадта. С учетом преобладающей в России анархии Людендорф полагал, что для военной поддержки новой народной власти в России шести дивизий будет достаточно. К середине августа Германия уже вела совершенно секретные штабные переговоры с финскими и русскими экспертами об операции, которую сегодня называют операцией «Замковый камень» (Schlussstein). Группировка численностью около 50 тысяч человек должна была выдвинуться на передовые позиции и быть готовой к наступлению, чтобы расчистить путь через Петроград к британским позициям в Мурманске[484].
Ленинский режим был на грани полной капитуляции перед Германией. 27 августа 1918 года это впечатление лишь усилилось, когда обе стороны пришли к окончательному варианту дополнительного соглашения к Брест-Литовскому договору. В обмен на защиту со стороны Германии советская власть предлагала выплатить контрибуции, не включенные в основной Брестский договор, в сумме 6 млрд марок (1,46 млрд долларов). Ливонское и Эстонское губернаторства официально выходили из состава территории России, что обеспечивало Германии господство на Балтике. Коммунисты также соглашались признать независимость Грузии, установление германского протектората на Кавказе и брали на себя обязательство поставлять Центральным державам не менее 25 % добываемой в Баку нефти, после того как Азербайджан вновь окажется в руках Советов[485]. По условиям соглашения Германия и Финляндия воздерживались от любых наступательных действий в направлении Петрограда в обмен на гарантии того, что большевики обеспечат вывод всех сил Антанты с советской территории. На случай, если советская власть будет не в состоянии выполнить это обязательство, секретные статьи предусматривали вторжение Германии и Финляндии.
Пусковой механизм операции «Замковый камень» был встроен в текст соглашения. Особенно важным было то, что министерство иностранных дел Германии настояло на условии, согласно которому любое развертывание финско-германских сил требовало получения явного и недвусмысленного приглашения с советской стороны. Решение о сдаче Петрограда Людендорфу оставалось за коммунистами. Разумеется, Ленин не мог обеспечить выполнение ни одного из этих условий. В случае совместного германо-финского нападения Красная армия могла создать лишь видимость сопротивления. На деле за соблюдением условий следили гражданские власти в Берлине. Уже в начале августа министерство иностранных дел заставило Людендорфа дать обещание, что он будет действовать лишь в рамках дополнительного соглашения[486]. Именно этот сдерживающий фактор спас ленинский режим от участия в военных действиях на стороне имперской Германии, что, по выражению Розы Люксембург, означало бы «моральное банкротство», если не немедленный крах революции. Официального согласия на оккупацию Петербурга так и не поступило. Вместо этого министерство иностранных дел Германии, вопреки протестам Людендорфа, согласилось поставить Советам для обороны 200 тысяч винтовок, 500 млн патронов и 70 тысяч тонн угля[487].
Однако готовность германских гражданских властей поддерживать хрупкую легитимность Брестских соглашений еще не прошла самого главного испытания. Почувствовав растущую уязвимость большевистского режима, активизировались группы террористов из числа левых социалистов-революционеров. 30 августа, через три дня после того как дополнительное Брестское соглашение вступило в силу, Ленин выступал на митинге в промышленном пригороде Москвы, где выдвинул свой новый лозунг, заменивший его прежние обещания мира: «Победа или смерть!» Когда Ленин уже покидал оружейный завод Михельсона, в него стреляли, и пули попали в шею и плечо. В то же самое время был убит руководитель Петроградского ЧК Моисей Урицкий. На смену политике репрессий, набиравших силу с июля, пришел открыто провозглашенный «красный террор». В одном только Петрограде на месте было расстреляно 500 политических заключенных. За ними последуют тысячи других. По всей стране брали заложников. Любой подозреваемый в контрреволюционной деятельности мог быть подвергнут аресту и отправке в один из концентрационных лагерей, число которых увеличивалось. В конце июля Ленин отказал британскому представителю Локхарту в официальном объявлении войны. А 1 сентября 1918 года в результате штурма британского посольства был убит военный атташе и захвачены заложники. Отныне Советская Россия превращалась в «военный лагерь». Революционный военный совет, возглавляемый Троцким, взял на себя значительную часть полномочий Центрального комитета партий[488].
Беспощадный кровавый «красный террор» значительно усилил позиции тех в Германии, кто призывал к решительной интервенции, направленной против большевиков. Большинство в рейхстаге было против ратификации дополнительного соглашения, которое должно было привести к объединению России в патриотическом противостоянии Германии и большевикам[489]. Чувствуя, что возможность еще осталась, Людендорф привел в полную готовность войска, предназначенные для участия в операции «Замковый камень». С Западного фронта были переброшены дополнительные авиаэскадрильи. 8 сентября 1918 год группа германских и финских военных инженеров начала обследование транспортных маршрутов в обход Петрограда в направлении Мурманска. Непонятно, сколь долго министерство иностранных дел было в состоянии сдерживать активность Людендорфа. Развязанный вскоре после подписания дополнительного Брестского соглашения «красный террор» поставил министерство иностранных дел Германии в незавидное положение. Посольство, возвратившееся из Москвы в Петроград, оказалось в центре событий, которые один напуганный дипломат назвал «Варфоломеевской ночью». Отчаявшиеся русские буржуа, многие из которых надеялись на защиту со стороны Германии, обнаружили, что их «продали дьяволу» за ничтожные 6 млрд марок[490].
Когда Эрцбергер в беседе с либеральным вице-канцлером Пайером высказал критику в адрес дополнительного соглашения к Брестскому договору, Пайер признал, что правительство рейха теперь было настолько не уверено в своем положении, что уже и не планировало представлять текст договора в рейхстаг для ратификации. Министр иностранных дел Хинце подпишет его и введет в действие задним числом для компенсации этого нарушения конституции[491]. Преемник Мирбаха, националист Карл Хелферих, не скрывавший своих убеждений, был не согласен с подобными паллиативными решениями и 30 августа подал в отставку в знак осуждения примиренческой позиции, занятой правительством. Те в Берлине, кто выступает в защиту Брестского договора, занимаются «систематическим искажением» правды о власти, которая «в своих бесчинствах лишь немногим уступает якобинцам». Хелферих не может смириться с «показным отношением» к ленинскому режиму как к правительству, находящемуся на равных с правительством Германии. Он не может участвовать в действиях, означающих «солидарность или по меньшей мере видимость солидарности с этим режимом…» То, что руководство рейха мирится с развернутым большевиками насилием, губительно не только для России. Это подрывает моральный дух в самой Германии[492]. Однако, несмотря на протесты Хелфериха, министерство иностранных дел считало Брестский договор, по словам одного из депутатов рейхстага, «своего рода защитой против германской военщины»[493]. Было даже страшно вообразить, что может произойти, если позволить Людендорфу развязать на Востоке контрреволюционную кампанию, подобную той, которая недавно имела место в Финляндии. Деморализованные германские дипломаты получили указание избегать любых публичных заявлений с осуждением действий большевиков и вмешиваться в акты террора лишь в тех случаях, когда опасности подвергаются граждане Германии.
24 сентября 1918 года, в достойный сожаления момент полного банкротства германской политики, министр иностранных дел Хинце намеренно ввел рейхстаг в заблуждение относительно событий, происходивших в России. Отвечая на вопрос о терроре, развязанном правительством, с которым Германия теперь находилась в своего рода союзнических отношениях, Хинце отвечал: «…по всей территории России продолжает кипеть котел революции… конечно, имеют место акты террора; но то, что они происходят в масштабах, о которых пишут в прессе, представляется крайне маловероятным.» Министерство иностранных дел направило «специальные запросы и было официально информировано о том, что данные, в которых сообщалось о численности (казненных), в целом значительно преувеличены»[494]. Германскому консулу в Петрограде, ежедневно наблюдавшему доказательства случаев насилия, оставалось лишь прикусить язык. Как позже признавал сам Хинце, намеренное сокрытие им истинного характера режима большевиков можно было оправдать лишь «высшими политическими соображениями».
IV
Курс на интервенцию, избранный летом 1918 года, свидетельствует о степени поражения либералов за время после того момента в июле 1917 года, когда позиция Петроградского совета в вопросе о демократическом мире была столь невероятно близка резолюции рейхстага о мире. К маю 1918 года прогрессисты в Германии и Соединенных Штатах осознали, что они выступают за недостойный мир со становящимся все более одиозным советским режимом как за единственную возможность предотвратить дальнейшую эскалацию насилия. Ленин, который, в свою очередь, утверждал, что своими действиями он использует одну империалистическую державу против других, на самом деле шагнул еще дальше за черту, отделявшую достойный сожаления сепаратный мир от действительно позорного союза с германским империализмом. Что касается Людендорфа, то его единственным желанием было уничтожить советский режим. Но ему мешали действовать германское правительство и большинство в рейхстаге, которым не нравились ни большевики, ни произвол германских военных на Востоке, но которые полагали, что заключение Брестского договора было лучшим способом сдерживания дальнейшей эскалации.
Неудивительно, что в такой запутанной ситуации сторонники интервенции в Лондоне, Париже и Вашингтоне получали все более убедительные доводы в свою пользу. Все более очевидный союз Ленина с Германией позволял им выработать ясную политическую и стратегическую позицию. Режим большевиков, одиозный сам по себе, пошел на союз с германским милитаризмом и абсолютизмом. Интервенция японских, американских, британских и французских сил, поддержанная внутри самой России, будет ударом сразу по двум врагам. Как утверждали Ллойд Джордж и Лансинг, в этой интервенции стратегические императивы и стремление к демократии были неразрывны. Война объединила эти два фактора, и если бы война на Западе продолжилась намного дольше, то режиму большевиков вряд ли бы удалось устоять. Япония располагала значительными людские ресурсами, а японские военные умели пользоваться моментом. К ноябрю, преодолев нерешительность политиков в парламенте, они ввели в Сибирь 72-тысячный контингент[495]. И лишь неожиданное поражение Германии на Западе остановило дальнейшую эскалацию и спасло большевиков от открытой капитуляции перед Людендорфом, которая лишила бы их исторической легитимности[496]. Это не только не позволило провести операцию «Замковый камень», но и охладило пыл участвовавших в интервенции союзников почти сразу после ее начала.
Часть II Демократическая победа
9 Возрождение Антанты
В период с 21 марта по 15 июля 1918 года Германия провела пять серий атак на позиции союзников на севере Франции. К началу июня Германия в очередной раз была близка к тому, чтобы подойти к Парижу. Шли лихорадочные приготовления к эвакуации правительства в Бордо. Но 18 июня французские войска перешли в контрнаступление, и в течение нескольких дней картина событий изменилась коренным образом. Изможденная и голодная армия кайзера откатилась обратно к границам рейха. К сентябрю боевые части Канады, Британии, Южной Африки и Австралии в решительном броске пересекли линию Гинденбурга. Антанта одержала убедительную победу[497]. Британские и французские части, которые вели основные оборонительные бои весной и в начале лета, не получали практически никакой поддержки. Действия американских военных оказывали все большее влияние на ход контрнаступления союзников, но прошло много месяцев, прежде чем армия генерала Джона Першинга превратилась в зрелую боевую силу, способную побеждать. По-настоящему решающий вклад внесла Америка в мобилизацию экономики. Но, как показала война на Востоке, боевые действий и мобилизация экономики оказались бы бесполезными, если бы у Антанты не было согласованной политики. Гражданская война в России вела к распаду страны. Империя Габсбургов и Османская империя катились в пропасть. К лету 1918 года все больше вопросов вызывало будущее имперской власти в Германии. Немцы, пытаясь анализировать причины поражения своей страны, объясняли его в первую очередь действием именно этого политического фактора, представлявшего собой оборотную сторону известной легенды об «ударе в спину». Они придавали особое значение пропаганде союзников и демагогическому таланту Ллойда Джорджа и Клемансо. Чего Германии не хватало, так это популистского, демократического «фюрера»[498]. Однако при всей несомненной харизме Ллойда Джорджа и Клемансо нельзя сводить вопрос к роли личности, недооценивая значение других сил.
В 1917 году во Франции и Италии разразился тяжелый военно-экономический кризис. Последствия мятежа во Франции и поражения Италии под Капоретто вполне можно сравнить с тем, что происходило в царской России перед революцией. И во Франции, и в Италии первой реакцией на происходившее были репрессии. Тысячи французских мятежников были отданы под трибунал, а несколько человек были показательно казнены. В Италии последовавшие за разгромом под Капоретто расправы носили массовый характер. В обоих случаях можно – и действительно в последнее время это стало общим местом в исторической литературе – проследить связь этих кризисных моментов с эскалацией политического насилия, с войной и с послевоенной травмой, выпавшей на долю обеих стран в последующем десятилетии[499]. Именно чрезвычайное напряжение сил, необходимых для того, чтобы выдержать войну, начиная с 1917 года и до ее окончания привело к радикальной поляризации, экстремальной риторике, личной вражде и накалу страстей, лежавших в основе первого всплеска экстремизма непосредственно сразу после окончания войны и его повторения в 1930-х годах[500]. В Италии неутихающая ярость, вызванная крахом ноября 1917 года, эхом отозвалась в шовинистической агрессивности возглавляемого Муссолини фашистского движения[501]. Однако само по себе это не объясняет восхождения Муссолини к власти, не говоря уже о падении Третьей французской республики. Было бы несправедливым по отношению к военным успехам Антанты напрямую связывать кризис 1917 года с фашизмом и деятельностью коллаборационистов в Европе 1940-х годов. Безусловно, принуждение и цензура сыграли свою роль в выживании Антанты и в победе, которой она добилась в ноябре 1918 года. Кроме того, страны Антанты были богаче и имели более выгодное стратегическое расположение. Но их политическое выживание обусловлено также наличием значительного резерва поддержки со стороны населения и тем что политический класс в этих странах сумел среагировать на военный кризис, пообещав дальнейшее развитие демократии внутри метрополий и расширение гражданских прав в колониальных владениях, чего не удалось сделать Центральным державам.
I
В период с марта по ноябрь 1917 года участие Франции в войне осложнялось глубоким кризисом. После того как Вудро Вильсон выступил с призывом к миру без победы и Петроград предложил свои мирные инициативы, социалистическая партия вышла из состава правительства, а межпартийный союз Union Sacrée распался. За короткий период сменилось три состава кабинета министров. Осенью уже казалось, что Франция идет к тому, чтобы заключить с Германией мир на любых предлагаемых условиях. В условиях, когда в России шла война за спасение демократии, в Лондоне и Вашингтоне слышались голоса в пользу того, чтобы пожертвовать настойчивым требованием Франции о возврате Эльзас-Лотарингии ради скорейшего урегулирования. Но большинство населения Франции все еще было полно решимости продолжать войну. 16 ноября 1917 года период неопределенности неожиданно завершился тем, что Клемансо, став премьер-министром, определил новые приоритеты: «полномасштабная война [guerre integrale]… война, и ничего, кроме войны»[502].
После возвращения из Америки в 1870 году Клеменсо отметился в 1871 году как один из радикальных депутатов, отказавшихся ратифицировать соглашение о мире с Бисмарком и голосовавших за продолжение войны до конца. Но как воинствующий патриот он не хотел сужать политическую базу республики. Социалисты демонизировали его роль в подавлении первой крупной волны забастовок синдикалистов в 1906 году, которые он воспринимал как угрозу существованию республики. Но сам Клемансо всегда придерживался левых позиций. В 1917 году он пригласил социалистов в состав кабинета министров[503]. Однако партия держала его на расстоянии. Альбер Тома, профсоюзный лидер-реформист, возвратившийся недавно из поездки в Петроград, имел свои виды на пост премьер-министра. В конце концов, несмотря на унижения, которым его продолжали подвергать в палате депутатов, Клемансо ввел в состав своего правительства двух социалистов, но не на министерские должности, а в качестве уполномоченных. Тем временем руководители профсоюзов, с которыми Клемансо поддерживал рабочие отношения, получили ясный сигнал: вместо призывов к миру им следует заняться тем, чтобы снять напряжение в среде членов профсоюзов, требовавших увеличения оплаты труда. Клемансо считал, что инфляция представляет собой вполне приемлемую плату за сплоченность страны в военное время. Чтобы разговоры о мире звучали еще тише, Клемансо выдвинул обвинения в распространении пораженческих настроений, а то и в более серьезных нарушениях против множества своих потенциальных противников слева.
По личным мотивам Клемансо подверг преследованиям таких людей, как Жозеф Кайо и бывший министр внутренних дел Луи Мальви. Но прежде всего Клемансо, следуя примеру своего любимого героя Демосфена, стремился показать, что волю Франции к сопротивлению не удастся сломить и она, как республика, в состоянии воспользоваться исторической возможностью и занять место рядом с Британией и США в трансатлантической демократической коалиции против Центральных держав[504]. Для Французской республики дрогнуть в такой момент было равнозначно предательству своей исторической миссии. Целью призыва Клемансо «война, и ничего кроме войны» было не только заставить замолчать пацифистов. С не меньшей нетерпимостью он относился к жарким дискуссиям вокруг якобы чрезмерно амбициозных целей войны. В период с 1915 года и до весны 1917 года дипломаты царской России неоднократно предлагали французам заключить соглашение о разделе не только Османской империи, но и Германии[505]. В 1916 году, ликуя по поводу мощного наступления при Вердене, члены кабинета Аристида Бриана задумывались о планах раздела Германии на переходящую Франции Рейнскую область и восточные территории, отходящие России. И если бы не свержение царя в марте 1917 года, эта цель могла бы стать частью официальной политики. Клемансо прекрасно понимал, что в новый век мировой политики подобные идеи тяжелым бременем легли бы на плечи французской дипломатии.
Чтобы понять, какой ущерб подобное безудержное честолюбие могло нанести внутренней политике Франции и ее отношениям с союзниками, достаточно обратиться к примеру Италии. Клемансо сумел положить конец дискуссиям о послевоенном устройстве, а в Италии в период с 1915 по 1919 год происходили жесткие столкновения различных политических взглядов на место страны в будущей мировой системе[506]. Согласно взятым еще до начала войны союзническим обязательствам, в 1914 году Италия должна была выступить на стороне Центральных держав. Однако по Лондонскому договору 1915 года Антанта обещала Италии значительные территориальные компенсации. В 1917 году, когда и Вильсон, и русские революционеры выступили с призывами к установлению либерального мира, эти обещания грозили стать скандально известными. После катастрофы при Капоретто с учетом военных возможностей Италии они стали не просто смехотворными, но и губительными для военного потенциала страны. В ноябре 1917 года новый премьер- министр либерал Витторио Орландо призвал итальянцев обратиться к опыту Римской республики, сумевшей подняться после сокрушительного поражения в битве при Каннах (216 год до н. э.). Он сформировал правительство широкой коалиции и, несмотря на антивоенную позицию, занятую итальянской социалистической партией, отказался от проведения массовых репрессий. Это позволило ему наладить тесные отношения с социалистами, выступавшими за продолжение войны, во главе которых стоял симпатизирующий Вильсону Филиппо Турати. Леонида Биссолати, аграрий-радикал, бывший редактор газеты Avanti, ветеран войны, имевший награды, был назначен ответственным за выполнение широкой программы социального обеспечения. Его поддерживал энергичный министр финансов Франческо Нитти, широко известный как «Американец», зарезервировавший сотни миллионов лир на нужды бывших военнослужащих[507]. Итальянские вкладчики поддержали это начинание и подписались на беспрецедентный военный заем, выпущенный в январе 1918 года, на сумму 6 млрд лир. Но Италия жила не только за собственный счет. В трудный период в октябре и ноябре в Италию потоком шли воинские части и военное оборудование из Франции, Британии и Соединенных Штатов. В тысячах деревень и городов страны проходили стихийные демонстрации итало-американской дружбы, на которых нередко можно было видеть статуэтку Девы Марии со звездно-полосатым флагом в руке[508]. В самой итальянской армии пропагандисты позиции Вильсона тесно сотрудничали с недавно созданной Servizio P, которая стала первой службой, попытавшейся устранить огромную социально-культурную пропасть, разделявшую офицеров и рядовой состав в итальянской армии.
Так Орландо восстановил основания социального мира. Но в сфере военной ситуация была омрачена политической неопределенностью, возникшей в связи с тем, каким образом Италия вступила в войну[509]. Парламент не располагал подробной информацией о Лондонском договоре, но на основании слухов делались предположения о том, что действия политического руководства страны, и в первую очередь министра иностранных дел Сиднея Соннино, привели к тому, что Италия стала соучастницей неблаговидных махинаций сил прежнего мирового империализма. 13 февраля 1918 года полный текст соглашения был зачитан в палате депутатов, и эти опасения полностью подтвердились. Эффект был подобен взрыву бомбы. Даже министры, находившиеся в правительственной ложе, впервые узнав о том, за какие позорные территориальные претензии сражалась Италия, были возмущены. Лидер итальянских либералов с довоенных времен Джованни Джолитти, еще в 1915 году протестовавший против союза Италии с Антантой, выступил с требованием немедленного окончания военных действий. Но были и другие мнения. Социалисты и либералы, поддерживающие союз с Антантой, не понимали, почему в новый век самоопределения нельзя учитывать стратегические интересы страны, отбросив при этом старомодные империалистические устремления[510]. Как мы уже видели, к весне 1918 года Антанта и Соединенные Штаты пришли к выводу о необходимости ликвидации империи Габсбургов[511]. Как прогрессисты в Германии надеялись установить господство либерализма на Востоке, так и итальянские прогрессисты предвидели будущее, в котором Италия играет роль застрельщика и защитника самоопределения во всей Юго-Восточной Европе, и это предвидение брало начало от легендарного деятеля XIX века, патриота и сторонника объединенной Европы Джузеппе Маззини.
В апреле 1918 года итальянские политики, выступавшие за войну без аннексий, при активной поддержке Лондона провели в Риме съезд угнетенных народов империи Габсбургов. Премьер-министр Орландо был явно заинтересован такой перспективой, но, стремясь сохранить широкую коалицию, не решался избавиться от Соннино, отца Лондонского договора[512]. До войны Соннино входил в число видных сторонников проведения реформ в политике Италии. Фурор, вызванный разглашением деталей Лондонского договора, привел его в объятия правых. Как в зеркальном отражении экстремистской Патриотической партии в Германии, 158 депутатов (треть палаты), полные решимости не допустить никакого отступления, сплотились в своей поддержке Соннино в создании так называемого союза национальной обороны. Мыслящие в глобальном масштабе прогрессисты считали, что непоколебимая приверженность Соннино одиозному Лондонскому договору несет в себе опасность того, что Италия станет «анахронизмом»[513]. Как возмущенно говорил один из социалистов, поддерживавших Антанту, Соннино «не понимает, что своими действиями он дискредитирует собственную политику… вновь отправляя Италию на скамью подсудимых по обвинению в макиавеллизме». Соннино был слеп к «главным мировым течениям, вне которых нет большой политики»[514].
В 1917–1918 годы противоречия между демократией и империей стали причиной политических трений, и можно было предположить, что наиболее заметной жертвой этих трений станет Британия. И действительно, перед Лондоном стояли труднейшие задачи как внутри страны, так и на территории всей империи. Но, несмотря на это, именно Британия заставила союзнические силы продолжить жуткую войну еще один, четвертый год[515]. И именно Британия смогла выйти из конфликта, почти полностью сохранив свою политическую систему и добившись выполнения большинства стратегических задач. В период с 1916 по 1922 год Британии было суждено занять, быть может, самую главную позицию в европейской и мировой борьбе за лидерство в мире и в Европе за всю свою историю. Это стало возможным во многом благодаря благоприятным исходным условиям. Британия была труднодоступна для Центральных держав и могла использовать ресурсы империи. Но этот триумф стал и испытанием способности британского политического класса приспосабливаться. Ллойд Джордж, как и Клемансо, выступал за полномасштабные военные действия. Заподозренные в несогласии или в сопротивлении в тылу подвергались беспощадным преследованиям. Дисциплина в британских частях, находившихся на Западном фронте, пользовалась дурной славой из-за своей жесткости. Но такое принуждение соответствовало характерным чертам Ллойда Джорджа как политика, сформировавшегося еще до войны. В период с 1906 по 1911 год в либеральном правительстве премьер-министра Асквита именно Ллойд Джордж возглавил радикалов и выиграл схватку в палате лордов, преодолев вето, наложенное палатой на бюджет, настоял на перераспределении налогов, положил начало системе социального страхования и гарантировал профсоюзам право свободного ведения коллективных переговоров.
Прежде чем стать бичом консерватизма в своей стране, Ллойд Джордж снискал славу как радикальный противник империализма. В 1901 году, в разгар англо-бурской войны, выступая перед разгоряченной толпой в Бирмингеме, оплоте ура-патриотов, он заявил, что империя должна освободиться от «расового высокомерия». Она должна стать страной «неустрашимой справедливости», объединенной общей приверженностью национальной свободе. «Мы должны, – говорил Ллойд Джордж, – дать свободу всем: свободу Канаде, свободу жителям другого полушария, Африке, Ирландии, Уэльсу и Индии. Мы никогда не сможем править Индией должным образом, если не дадим ей свободу»[516]. Несмотря на многократно повторявшиеся обещания и разочарования, внешне противоречивую идею «либеральной империи» нельзя было считать пустой. В начале XX столетия эта идея еще не отжила свой исторический век. То, что Ллойд Джордж сумел дать толчок важным преобразованиям в военное время, находясь во главе коалиции, где большинство ключевых позиций занимали тори, свидетельствует о возрождении значимости имперского либерализма в век немыслимых глобальных изменений.
II
Терять времени было нельзя, и это подтвердили кошмарные события, связанные с ростом напряженности в Ирландии[517]. В 1906 году, когда либералы пришли к власти, на них лежало обязательство выполнить давнее обещание Гладстона – предоставить Ирландии го́мруль, то есть автономию в составе Соединенного Королевства. Это принесло им поддержку парламентской партии умеренных ирландских националистов, которые после неудачи Асквита на выборах 1910 года реально влияли на соотношение сил в палате общин. Безусловно, Ирландия была колонией, с нее и начался британский колониализм. Но, в отличие от остальной империи, она была включена в состав Соединенного Королевства. В Вестминстере Ирландия была представлена более чем достаточно. Из 670 членов парламента, повторно избранных в ходе последних состоявшихся перед войной выборов, 103 проходили по избирательным округам, расположенным в Ирландии, из которых 84 члена парламента принадлежали к умеренной националистической Ирландской парламентской партии, возглавляемой Джоном Редмондом[518]. Но любой шаг в направлении автономии вызывал ожесточенное сопротивление протестантской общины, составлявшей значительное большинство в Ольстере, находящейся на севере Ирландии провинции, которая решительно выступала за то, чтобы оставаться в прямом подчинении Лондону.
К весне 1914 года ирландский кризис разрывал Британию на части. Поощряемые тори и имевшие тайные указания британского монарха, армейские части, которые находились в Ирландии, предупреждали, что, несмотря на волю парламента, они не смогут установить гомруль в Ольстере. Слухи о гражданской войне были столь серьезны, что в июле 1914 года британское министерство иностранных дел сочло необходимым довести до сведения Берлина, что ему не следует рассчитывать на то, что события в Ирландии смогут отвлечь Британию от оказания помощи Франции. Несмотря на открытую угрозу мятежа в августе 1914 года, правительству Асквита удалось провести через парламент закон о гомруле, однако его введение в действие было сразу же приостановлено. Эта уступка юнионистам была сделана за счет ирландских националистов, но Редмонд, считая войну первым испытанием гомруля, бросил силы своей партии на поддержание военных действий. Именно такая политика компромисса и затягивания открыла двери радикально настроенному националистическому меньшинству, которое накануне войны сформировало движение «Шинн фейн». В понедельник 24 апреля 1916 года Дублин замер, оглушенный винтовочными выстрелами и артиллерийским огнем, которыми были встречены ирландские националисты, начавшие самоубийственное наступление на позиции британской армии[519]. На подавление повстанцев ушла целая неделя ожесточенных боев. Смятение, царившее в Лондоне, усугублялось особой жестокостью армейских командиров в ходе боев. Восстание было подавлено, но оно, как и надеялись повстанцы, нанесло стратегически важный удар по британскому владычеству. Одним ударом им удалось возродить начавший тускнеть образ Британии как жестокого тирана и разрушить доверие к Редмонду и умеренным.
Вопрос гомруля оставался нерешенным, а к 1916 году Лондон уже был озабочен мыслью о том, что империя вскоре может столкнуться «еще с одной Ирландией» в Индии. Как и в Ирландии, стремление найти либеральный ответ на вопрос имперского господства в Индии получило новый импульс с приходом к власти правительства либералов в 1906 году. В 1909 году была создана система законодательных советов, призванная привлечь значительную часть индийской элиты к управлению («раджу»). Но к 1916 году стало понятно, что эта формула теряет свою привлекательность. В мае 1916 года по всей Индии начало расти влияние Анни Безант, англо-ирландского агитатора и теософа, проживавшей в Мадрасе, которая, выступая перед десятитысячными толпами в Бомбее, рассказывала вдохновенные истории о дублинском восстании[520]. Индийский радикал Бал Гангадхар Тилак возродил фундаменталистское крыло индийского националистического движения и выступил с громкими заявлениями в поддержку гомруля. Весной 1916 года в Аллахабаде лидеры Индийского национального конгресса и Мусульманской лиги выступили с беспрецедентной совместной декларацией, призывающей к далеко идущим конституционным изменениям. В декабре это сотрудничество было подкреплено в городе Лакнау соглашением о защите прав мусульманского меньшинства, в котором предусматривалось создание отдельных избирательных коллегий[521]. Подобные соглашения между общинами вызывали глубокую обеспокоенность в Британии. Защита 80 млн мусульман, проживавших на субконтиненте, была одним из главных обоснований британского правления. Если, в отличие от Ирландии, большинству и меньшинству удастся объединиться против Лондона, то конец «раджа» может наступить гораздо раньше, чем это представлялось.
В декабре 1916 года на фоне двойного кризиса в Индии и в Ирландии в должность вступил Ллойд Джордж, полный решимости расширить политическую базу мобилизации военных сил империи. В центре его стратегии было создание единого имперского кабинета министров военного времени, в котором видная роль отводилась имперским государственным деятелям, таким как Ян Смуэтс из Южной Африки. Кроме того, Ллойд Джордж настоял, чтобы в состав имперского кабинета министров в качестве полноправного члена как «представитель индийского народа» вошел Сатиендра Прассано Синха, который выступал в роли председателя на заседании Индийского национального конгресса в 1915 году[522]. Министр по делам Индии, консерватор-либерал Остин Чемберлен заметил вице-королю Челмсфорду, что Синха «приблизился к премьер-министру столь близко, сколь это доступно Индии при нынешних обстоятельствах… Таким образом, статус Индии в империи получил полное признание, достигнут прогресс, на который индийцы действительно надеялись, но которого вряд ли ожидали всего несколько месяцев назад»[523]. Была сделана и еще одна уступка. В начале марта 1917 года правительство Индии при всеобщем ликовании объявило о том, что получило право на введение протекционистских тарифов на импорт британских изделий из хлопка, и это было самым долгожданным подтверждением самоуправления. В глазах британских либералов совершался подрыв всей логики империи. Какой смысл держаться за отдаленные территории, если им позволена экономическая самодостаточность? Но Ллойд Джордж был неумолим. Парламент должен дать Индии то, чего она хочет[524].
Однако экономических и политических уступок было уже недостаточно. К весне 1917 года стало ясно, что Лондон должен сделать что-то беспрецедентное. Следовало в торжественной остановке публично заявить о главной цели британского правления в Индии. 22 мая 1917 года Остин Чемберлен объяснял своим коллегам в кабинете министров: «Постоянные рассуждения на тему нашей борьбы за свободу, справедливость и право людей определять собственную судьбу, за революцию в России [Февральскую революцию] и за то, как ее воспринимают в нашей стране и в других странах, за прием здесь индийских делегатов, и за место, предоставляемое Индии в советах империи, – усилили потребность в реформе и создали идейный фермент…» Если Британии не удастся выйти с достаточно смелыми предложениями, то она рискует отбросить «умеренные элементы- пока умеренные – в руки экстремистов»[525]. И тогда Британии придется прибегнуть к насильственным действиям. Умеренные элементы, сотрудничающие с ней, будут дискредитированы, а Индия окажется в руках местного варианта «Шинн фейн».
К лету 1917 года губернаторы различных индийских провинций, сравнимых по своим размерам с европейскими странами, уже делали первые шаги на этом ведущем к катастрофе пути по делегитимизации. Не подозревая о серьезных уступках, обдумываемых в Лондоне, Пентланд, губернатор Мадраса – основной базы протестного движения, возглавляемого Безант, – 24 мая 1917 года выступил с резким заявлением, в котором отвергал любую возможность самоуправления. В ответ поднялась волна протестов. В Бенгалии губернатор Роналдьшай, столкнувшийся с серьезной угрозой террористических акций, заявил, что для усмирения несогласных могут быть применены меры безопасности военного времени, чем дал повод для создания комитета по рассмотрению репрессивной деятельности властей под руководством судьи Раулатта. 16 июня Пентланд отправил Безант под домашний арест[526]. Это было на руку радикалам. Тема самоуправления захватила весь политический класс Индии. Махатма Ганди, приехавший недавно из Южной Африки, вступил в эту борьбу и предложил составить петицию, под которой поставит подпись миллион крестьян[527]. В ходе аудиенции у вице-короля Челмсфорда Ганди предупредил, что самоуправление, которое еще несколько месяцев назад воспринималось как привнесенное в страну извне требование радикалов, превращалось в «идею, вполне определявшую идентичность Индии…»[528]
III
Весной 1917 года, помимо открытого восстания в Ирландии и накала политических страстей в Индии, британское правительство столкнулось с нарастающим кризисом внутри страны. В начале мая, несмотря на позицию руководства профсоюзов, прошли беспрецедентные забастовки, в которых приняли участие сотни тысяч рабочих. В ответ правительство на основании законов о защите королевства отправило под арест цеховых старост[529]. В январе Независимая рабочая партия приветствовала речь Вильсона, посвященную «миру без победы», а летом партийная конференция в Лидсе большинством (в соотношении 2:1) приняла резолюцию в поддержку мирных переговоров на основе «петроградской формулы». Реальной угрозы революционного переворота не существовало, но становилось ясно, что речь идет уже о легитимности не империи, а вестминстерской политической системы в целом. Выборы в Британии не проводились с 1910 года. Они были отложены до окончания войны, но до тех пор партиям предстояло определиться, на какую часть электората будет распространяться мандат каждой из них.
В эдвардианской Британии предвоенных лет велась зрелищная борьба за предоставление права голоса женщинам, при этом раздавались невнятные голоса в пользу дальнейшего расширения избирательных прав для рабочего класса. В 1910 году правом голоса обладали менее двух третей мужской части населения, а в бедных городских районах избирательных прав были лишены более 60 % населения[530]. После окончания войны, унесшей жизни сотен тысяч мужчин, проживавших именно в этих районах, сохранение такого положения было невозможным. Ожидалось, что значительное расширение электората решительно изменит политический баланс в пользу либералов и находящейся в стадии становления партии лейбористов. Но, в отличие от имперской Германии, в Британии демократизация не привела к разрушительному противостоянию демократических и антидемократических сил. В феврале 1918 года практически без обсуждения в обществе в Британии была проведена самая масштабная реформа избирательного права.
Многие наблюдатели до сих пор считают, что спокойное проведение этой важной реформы оказалось возможным благодаря продуманным процедурным решениям[531]. Осенью 1916 года вопрос был поставлен на рассмотрение конференции широкой парламентской коалиции. Конференция, проходившая под председательством спикера палаты общин, аристократа и умеренного консерватора Джеймса Лоутера, стала наглядным примером сложного компромисса. К началу 1917 года на конференции было достигнуто общее мнение относительно избирательного права для мужчин. Несколькими месяцами позже на конференции была выработана формула компромисса в вопросе об избирательных правах для женщин, предусматривающая право голоса для миллионов женщин при сохранении большинства мужчин в общей численности электората. Единственное, что вызвало горячие дебаты в парламенте, было предложение о введении элементов пропорционального представительства. Предложение было направлено на предоставление права голоса меньшинствам, и оно было отвергнуто Ллойдом Джорджем. Удивительно, но конфликта удалось избежать. И здесь возникает вопрос: каким образом процесс внесения существенных конституционных изменений удалось свести к чему-то немногим более сложному, чем изменение процедуры, или, по выражению одного фундаменталиста-консерватора, к «заранее пережеванному политическому детскому питанию»?[532] За этим идеализированным образом логически обоснованного соглашения лежит нечто более фундаментальное: очевидная приверженность руководства обеих традиционных партий сохранению легитимности политического процесса, чтобы он не выглядел как подкуп или уступка, сделанная под давлением угроз. При всех политических водоразделах существовала заинтересованность в том, чтобы сохранить образ Британии как миролюбивого королевства, стабильность которого обеспечивается проведением сверху ряда последовательных реформ[533]. При этом понятно, что за благополучным фасадом происходили жесткие столкновения мнений и принципиальных точек зрения. Опасность возникновения открытых массовых протестов требовала проведения последовательных реформ. Важным было то, что прочная коалиция демократок-феминисток, лейбористской партии и профсоюзного движения ясно заявила, что любые меры, предоставляющие право голоса солдатам и мужчинам из числа рабочих, но не предусматривающие предоставление избирательного права женщинам, будут неприемлемы. Однако в начале 1917 года активистки движения феминисток, оставаясь верными союзу с лейбористами, в критический момент выступили в поддержку избирательного права для мужчин, хотя в этом случае они получали лишь ограниченное избирательное право для женщин.
Ощущение того, что они столкнулись с чем-то неминуемым и неизбежным, вынудило тори взять инициативу на себя. В августе 1916 года аристократ лорд Солсбери представил законопроект, эмоционально озаглавленный как Билль о голосовании в окопах. Чтобы избежать паники среди сторонников партии, проживающих в пригородах, в штаб-квартире консерваторов умолчали о вызывающих тревогу расчетах, свидетельствовавших о возможном увеличении доли молодых рабочих и членов профсоюзов в общем числе обладающих правом голоса. В то же время руководство консервативной партии старательно пыталось не допустить взрыва явно антидемократических чувств в собственных рядах[534]. Пресса развернула кампанию за достижение демократического консенсуса, которую возглавил лорд Нортклифф. В 1917 году газета The Times на своих страницах изображала противников расширения права на участие в голосовании раскольниками и ipso facto не патриотами.
В результате создавалось впечатление, что процесс исторических перемен развивается сам по себе. Как в сентябре 1917 года говорил своему коллеге А. В. Дайси видный сторонник конституции лорд Брайс, контраст с борьбой вокруг великой реформы избирательной системы 1866 года был очевидным. Тогда участвовавшие в споре стороны были согласны в том, что «соответствие» требованиям закона о голосовании «должно быть доказано». Теперь же, «когда кто-то разговаривает с молодой сентиментальной суфражисткой, то он [sic] не видит смысла в том, чтобы поинтересоваться, знает ли основная масса женщин что-либо о политике, или политика их совершенно не интересует. Для него достаточно уже того, что они – люди. А раз так, то и у них должно быть право голоса»[535]. Тем временем в рядах левых сторонники суфражисток недоумевали по поводу загадочных перемен, которые, без сомнения, были подготовлены десятилетием активных протестных выступлений, но теперь происходили как бы сами по себе. Как заявила Миллисент Фаусетт, одна из активисток движения суфражисток, в своем выступлении на совместном торжественном митинге участников движения за предоставление женщинам избирательных прав и лейбористской партии, состоявшемся весной 1917 года, «итоги конференции спикера продемонстрировали неиссякаемую энергию и жизнеспособность движения суфражисток. Конференция проводилась по инициативе противников движения суфражисток, в роли председателя на ней выступал противник этого движения, и вначале половину ее участников составляли противники этого движения; и хотя все ингредиенты были определенно антисуфражистскими, в результате получилось вполне суфражистское блюдо»[536].
На всем протяжении дискуссии о реформе избирательного права в Британии открытые ссылки на практику других стран почти не звучали. Вестминстер, как «мать всех парламентов», не был намерен учиться у иностранцев. И уже то, что «иностранное» влияние все-таки присутствовало в британской политической жизни, было показателем серьезности кризиса. Но, несмотря на такую стратегическую узость, в 1917 году международные мотивы уже более или менее открыто присутствовали в дискуссиях относительно британской конституции. Вспоминая конференцию спикера, сам Лоутер приоткрыл суть происходившего. Он «со всей ясностью понимал», что «возобновление внутри партии и в стране полемики» по вопросу об избирательном праве, положившей конец довоенной эре, «дискредитирует Великобританию в глазах ее доминионов и колоний в тот самый момент, когда нации следует задуматься о больших и новых проблемах… Со временем я все больше осознавал разумность этого довода и часто приводил его своим коллегам, когда возникала опасность распада»[537] Для Лоутера, как для других британских консерваторов, сопротивление демократии стало анахронизмом.
IV
В то время как правительство Ллойда Джорджа пыталось вывести страну из внутреннего кризиса лета 1917 года, события в Индии стремительно приближались к развязке. В июле Чемберлен оставил пост государственного секретаря по делам Индии. Тем самым он взял на себя ответственность за провал месопотамской кампании 1915 года, которую самостоятельно проводили правительство Индии и индийская армия. На его место Ллойд Джордж выбрал не консерватора, а либерала, выпускника Кембриджа Эдвина Монтегю, ассимилировавшегося потомка известной семьи еврейских банкиров. Для Монтегю ситуация была ясна. Британия должна вернуть себе «смелость и уверенность подхода, принесших нам славу строителей Империи».
В противном случае во всем мире «появится несколько Ирландий»[538]. Управление «раджем» стало слишком жестким и бюрократическим. Тут уже нельзя просто полагаться на сложившуюся репутацию его эффективности. По словам главного историка, занимавшегося вопросами британской имперской стратегии, «радж» должен был стать «политическим, чтобы доказать свою правомерность, преодолев сложившееся мнение»[539]. Для этого было необходимо заявить о своих намерениях, и Монтегю считал, что к 1917 году единственным приемлемым лозунгом стало «самоуправление»[540]. Монтегю не представлял себе гомруль для 240 млн индийцев, проживающих в едином национальном государстве. «В качестве цели он обозначил… не одну управляемую на основе гомруля большую страну, а несколько самоуправляемых провинций и княжеств, интегрированных одним центральным правительством». Он не торопился. Монтегю все еще верил в то, что самоуправление представляет собой проект, осуществление которого потребует «многих лет… многих поколений[541]. Подобные требования лежали в основе объяснения необходимости создания империи в XIX веке. Но с приходом Монтегю доверие к такому постепенному подходу начало падать. Летом 1917 года он писал Чемберлену, что они должны обещать «самоуправление» немедленно. Что-либо меньшее неизбежно вызовет горькое разочарование. Тогда лучше вообще ничего не объявлять. Но в этом случае следует быть готовыми к «неумолимым нарастающим репрессиям и отчужденности многих, если не всех, умеренных».
К августу решение было уже невозможно откладывать. Если Британия не проявит готовности пойти на ответные уступки, умеренные неизбежно потерпят поражение на предстоящем ежегодном съезде Индийского национального конгресса. Времени не оставалось, и бывший вице-король и архиконсерватор лорд Керзон предложил компромисс. Индии следует обещать не самоуправление, не самоопределение, а «более полную реализацию ответственного управления». Что именно имел в виду Керзон, подчеркивая роль ответственности, остается загадкой. Возможно, он предостерегал относительно действий «безответственной» индийской оппозиции[542]. Может быть, он желал вновь воспользоваться проверенным британским оправданием необходимости защиты Индии от тирании высшей касты хинду. Каковы бы ни были намерения Керзона, эта формула позволила Монтегю сделать 20 августа в палате общин историческое заявление. Конечной целью «раджа» было «повышение участия индийцев во всех ветвях власти и постепенное развитие институтов самоуправления, что подразумевает осуществление в Индии ответственного управления под эгидой британской короны». Однако время, когда столь умеренное высказывание могло вызвать в Индии энтузиазм, прошло. Тем не менее последствия этого заявления оказались значительными. Как Монтегю признавался Чемберлену, если бы они пообещали просто «самоуправление», это могло быть воспринято как то, что Индия может быть отдана в управление «диктатора из числа хинду». «Ответственное управление» со всей ясностью говорило о том, что правителю придется «отвечать перед той или иной формой парламента»[543].
В самой Индии вице-король Челмсфорд понимал, что от него требовались более конкретные шаги. Вопреки возражениям губернаторов провинций, он приказал освободить из-под домашнего ареста Анни Безант. Осенью 1917 года важная победа досталась не Лондону, а делу гомруля. В декабре 1917 года можно было наблюдать нелепое представление Безант, когда пожилая англо-ирландская женщина торжествующе восседала в кресле председателя самого массового и шумного собрания, которое когда-либо видели аристократы из Индийского национального конгресса. Индийский национализм превращался в массовое движение.
После Версальского договора стало общепринятым, что такие простые либеральные рецепты, как «самоопределение», мало полезны в сложных исторических реалиях. Сложность вопросов о Силезии или Судетах бледнела перед проблемой, решение которой предстояло найти государственному секретарю Монтегю при создании системы «ответственного» самоуправления для Индии. Задача включала в себя разработку конституции для целого субконтинента, чрезвычайно разнообразного по составу населения, его религиозной, этнической, кастовой и классовой принадлежности. И это было еще не все. Требовалось найти решение противоречия между конституцией «раджа», которую британцы, не стесняясь, называли «авторитарной», и требованиями представительного правления. Спустя несколько недель после своего заявления Монтегю в некотором замешательстве писал Чемберлену: «Чем больше я думаю об этом вопросе, тем лучше понимаю всю чрезвычайную сложность положения… Существует ли в мире другая страна, которая пыталась сделать хотя бы половину, хотя бы четверть того, что предстоит сделать? Авторитарная и независимая исполнительная власть является общепринятой. Институты самоуправления теперь (я даже не знаю почему) считаются единственной формой управления. Как можно объединить эти две формы? Возможно ли создание такой формы управления, при которой министерство одной страны частично берет на себя ответственность перед народом другой страны»?[544]
Первоначальный план «четверти» был разработан Монтегю, Челмсфордом, руководством Конгресса и Мусульманской лиги в течение зимы 1917/18 года. Частности, особенно касавшиеся условий проведения выборов, были дополнительно рассмотрены Вестминстерским комитетом и проведены через парламент Синхой, ставшим первым индусом, который в 1919 году получил дворянское звание. Правительственные полномочия в Индии были разделены между центральной исполнительной властью, органами управления провинциями и местными органами управления. Центральное правительство и правительства провинций отвечали перед законодательными советами, часть членов которых назначалась, а другая часть избиралась, с учетом численности электората. Примечательно, что к 1922 году британцы отказались от всякого официального контроля местного индийского правительства, при этом число избирателей среди городского населения быстро увеличивалось[545]. На уровне провинций, равных по размеру средней европейской стране, состав избирателей изменялся, при этом особое представительство было гарантировано интересам землевладельцев и городского бизнеса. Чтобы предотвратить преобладание высших каст, создавались отдельные избирательные коллегии для каст, не относящихся к браминам. В целом предстояло разделить электорат на индуистов и мусульман по формуле, согласованной Конгрессом и Мусульманской лигой в 1916 году в Лакнау. Монтегю и Челмсфорд понимали, что эти компромиссы были далеки от либеральных идеалов. Но они не были и просто реакционными, о чем свидетельствует способ решения вопроса избирательного права для женщин. Решение этого вопроса возлагалось на сами провинции, и в результате в Мадрасе избирательное право было предоставлено большему числу женщин, чем в любой другой стране, за исключением нескольких наиболее либеральных стран Европы.
Реформы Монтегю – Чемберлена вскоре были остановлены массовой мобилизацией 1919 года. Но весной 1918 года подготовленный Монтегю и Чемберленом совместный доклад мог считаться убедительным подтверждением основной повестки дня либеральной империи. Целью британского правления в Индии должно стать создание ответственного правительства, указывалось в докладе, потому что это было «наилучшей формой правления, известной» самим британцам[546]. Поддержание двойных стандартов в расовом вопросе в Индии было непрочным в долгосрочной перспективе. Несмотря на различия, разделявшие индийское общество, его единство росло. Неграмотные крестьяне превращались в ответственных граждан. Британии приходилось делать ставку на то, что лучшим способом ускорить развитие самоуправления станет передача ответственности самим индийцам, что «приведет к развитию необходимых способностей». При этом беспокойных националистов надо не подавлять, а признавать их «собственными детьми» Британии. Их желание «самоопределения» было «неизбежным результатом изучения истории и мысли в Европе». В конечном счете британское правление могло считаться легитимным лишь в случае, если будет удовлетворять «желания, которые оно создает». При этом Лондон не должен ожидать благодарности или возмущаться, если такая благодарность останется невысказанной. Точка, когда Британия могла ожидать благодарных аплодисментов от подданных империи, осталась позади. Но Лондону не следует также опасаться протестов и недовольства. Как позже отмечал один чиновник, «постепенный переход от авторитарного правления к ответственному не может проходить без определенного риска»[547]. Британия должна продолжать выполнение своей либеральной программы, руководствуясь «верой, живущей в нас».
Индийский политический класс, при всех существенных оговорках, услышал этот призыв[548]. До самого конца войны Ганди в ходе своих поездок по стране занимался призывом добровольцев для участия в военных действиях либеральной империи. Гомруль, указывал он, означал не независимость, а то, что индийцы «должны стать… партнерами Империи», подобно Канаде и Австралии[549]. Радикальный индийский националист Тилак призывал индийцев считать британские военные облигации «документом, подтверждающим право на гомруль»[550]. Начавшееся в 1919 году массовое восстание против британского правления не было вызвано недовольством предложениями Монтегю – Челмсфорда. Оно было спровоцировано тем, что доверие, в очередной раз проявленное индийцами в отношении предлагаемого порядка, было подорвано жесточайшими мерами, которых либералы, подобные Монтегю, тщетно пытались избежать.
V
Основными причинами кризиса, с которым столкнулось правительство Ллойда Джорджа в 1917 году, стали долго сдерживаемое негодование националистов, давние обещания либералов и тяготы военного времени. Демократическая революция в России весной 1917 года – не большевистский переворот – оказала дополнительное воздействие извне. А какое место в этом созвездии занимала Америка? Находясь под домашним арестом летом 1917 года, Анни Безант воображала себя в центре охватившей весь мир сети. Она обратилась к Австралии с призывом отвергнуть призыв Лондона о начале набора в армию. Безант хранила копии журналов, которые она вела, когда была интернирована, и которые были отправлены ее сторонникам в Японии и США, где говорилось о том, что «союзники Англии могут давить на нее, не позволяя действовать в Индии, руководствуясь принципами, за которые они все воюют в Европе. Если американская пресса поднимет этот вопрос, а мы надеемся, что она сделает это, то индийскому правительству не удастся скрыть своих деяний…Британская демократия через США узнает о войне против освобождения, развязанной индийским правительством, а президент (Соединенных) Штатов сможет заступиться за Индию…»[551] Но как бы ни было соблазнительно создать «вильсоновский момент» в Индии, он существовал (если существовал вообще) в умах лишь нескольких националистов[552]. Связать индийскую политику с остальным миром должна была внутренняя политика империи – Лондон, Ирландия и имперская политика на Ближнем Востоке. Об Ирландии такого сказать было нельзя. Для остальной империи она не имела такого значения, какое ей придавали за океаном. В результате ирландский вопрос при всех осложнениях, которые он создавал для политики Британии, в довольно большой степени стал частью отношений Лондона с Вашингтоном.
В 1916 году организация «Шинн фейн» наибольшие симпатии вызывала у проживающих в США ирландцев[553]. И если призыв Вильсона к «миру без победы» встретил немедленный и интуитивный отклик у кого-нибудь в самих США, так это у американских ирландцев. Конкурентом «Шинн фейн» выступал Джон Диллон, заместитель председателя до сих пор стоявшей на умеренных позициях Националистической партии, которая спрашивала у Лондона: «Как вы можете предстать перед Европой? Как вы предстанете перед Америкой завтра в позе победителей угнетенных национальностей? Что вы сможете ответить, когда вам скажут (а вам это скажут на мирной конференции): «Идите домой и наведите там порядок»?[554] С вступлением Америки в войну это давление ослабло, но не исчезло совсем. В своей речи перед Конгрессом 2 апреля 1917 года Вильсон отметил, что США находятся на стороне демократии и выступают против не вызывающих доверия авторитарных режимов. Но он не сказал, какое место отводится Антанте. В своей переписке с Лондоном он характеризовал тупик в ирландском вопросе как единственное препятствие на пути «абсолютно искреннего сотрудничества» между США и Британией. После свержения царизма Лондону надо было лишь продемонстрировать, что гомруль был «подлинной программой управления, с которой согласны управляемые и которая принята повсюду в настроенном против Пруссии мире»[555].
Надо было что-то предпринять. Но что? Если бы британские либералы знали способ установить гомруль, не развязав при этом гражданскую войну в Ирландии, они бы уже давно воспользовались им. В марте 1917 года, выступая в палате общин, Ллойд Джордж напомнил, что с точки зрения Лондона вопрос был решен в парламенте еще в августе 1914 года. Теперь ирландцы должны сами прийти к согласию в вопросе о том, как вводить гомруль в действие. Весной 1917 года Лондон в качестве варианта рассматривал привлечение Австралии и Канады для демонстрации преимуществ автономного самоуправления в пределах империи. Но в Канаде слишком большим влиянием обладали ольстерские протестанты, а в Австралии были очень прочны позиции ирландских католиков. Ирландский вопрос был внутренним вопросом не только для британской политики, но и для политики всей империи[556]. Были ли Соединенные Штаты той решающей внешней силой, которая позволила бы выйти из тупика? В свете значения Америки для военной деятельности империи лидеры партии консерваторов были вынуждены еще в 1916 году признать, что разговоры о мятеже протестантов в Ольстере стали неуместными. Твердолобым юнионистам, подобным лорду Селборну, оставалось только выступать против «идеи о том, что нам предстоит изменить свою конституцию под давлением общественного мнения Америки»[557].
Для поисков компромисса в ирландском вопросе Ллойд Джордж созвал в Дублине Конституционный конвент. Но наиболее радикальному крылу ирландских националистов этого уже было недостаточно. «Шинн фейн» и ее союзники бойкотировали конвент, требуя оставить решение ирландского вопроса на рассмотрение послевоенной мирной конференции, «непредвзятого суда присяжных народов мира», который «Англия не сможет ни принудить, ни уговорить»[558]. Даже умеренные националисты, согласившиеся все же принять участие в работе конвента, теперь выдвигали требования, соответствовавшие статусу доминиона, которым обладали Канада или Австралия. Тем временем юнионисты согласились с установлением гомруля на юге, но лишь в обмен на то, что для Ольстера будет сделано исключение. Это устраивало протестантское большинство, но ставило в невыгодное положение сотни тысяч католиков, которые превращались в ущемленное в правах меньшинство Северной Ирландии. Если Лондон навяжет компромиссное решение, с применением силы в случае необходимости, то какой будет реакция Вашингтона? Если Вашингтон потребует установления гомруля, то, может быть, Ллойд Джордж заставит Вильсона взять на себя часть ответственности за неизбежные в будущем неблагоприятные последствия. Британцы передавали в Белый дом информацию о ходе ожесточенных дискуссий в конституционном конвенте, сопровождая их теми же сообщениями конфиденциального характера, которые получал король Георг V в Букингемском дворце[559]. Посыл был понятен. Надежды на американское вторжение подогревали нежелание националистов идти на уступки. И если Лондон и Вашингтон не используют все свое влияние, чтобы достигнуть компромисса, то Ирландию ожидает постоянное разделение на «большинство и меньшинство, каждое из которых полагается на доктрину самоопределения…»[560]Решение вопроса ускорила война. В марте 1918 года весеннее наступление Германии на позиции союзников со всей остротой поставило вопрос о пополнении личного состава. «Шинн фейн» отказалась от воинской службы в рядах британской армии. Однако лейбористы дали понять, что не позволят забрать последних остававшихся в Лондоне и Манчестере мужчин, если Дублин и Корк будут освобождены от призыва. Единственным способом придать хотя бы долю легитимности призыву в Ирландии было незамедлительное предоставления гомруля. Но для этого было необходимо, чтобы на юге Ирландии согласились с освобождением от проведения призыва в Ольстере, а в Ольстере согласились бы с тем, что такое освобождение носит лишь временный характер. Министр иностранных дел Артур Бальфур, опасаясь худшего, прежде чем принять окончательное решение, совершил примечательный поступок, обратившись сначала в Белый дом, чтобы выяснить мнение президента. Осознавая беспрецедентность случая, когда Соединенное Королевство позволяло американскому правительству взглянуть на происходящее внутри страны, Бальфур счел необходимым пояснить, что призыв ирландцев был «несомненно… чисто внутренним» вопросом. Если решение этого вопроса станет причиной нарушения баланса мнений в США, это может создать серьезные осложнения для союзников[561]. В данном случае Белый дом отказался от предложения Британии разделить ответственность за урегулирование ирландского вопроса. Полковник Хауз лишь еще раз небрежно отметил необходимость введения гомруля. Однако сторонники жесткой линии в Уайтхолле наблюдали за происходящим не столь хладнокровно. Один видный империалист с возмущением говорил, что запрос Бальфура был из числа «документов», под которыми «он никогда не ожидал бы увидеть подпись английского государственного деятеля». Перебирая свое грязное белье перед американцами, британский кабинет министров униженно просил Вильсона и Белый дом «принять решение за них». Но при всей болезненности ситуации для национальной гордости было совершенно необходимо нейтрализовать возможность того, что Белый дом заявит о своей непричастности. 16 апреля 1918 года, когда Ллойд Джордж объявил в палате общин о призыве ирландцев, он представил это не только как шаг в обмен на признание гомруля. Он заверил парламент в том, что это решение полностью соответствует «принципу самоопределения, за который мы так упорно боремся», и что Лондон может «в полной мере ожидать американской поддержки»[562].
Выступая в мае 1917 года в палате лордов, Керзон нарисовал картину гармоничного решения ирландского вопроса, «которое откроет путь к сотрудничеству трех величайших свободолюбивых наций на земле, а именно Франции, Соединенных Штатов и нас…» Таким образом, «урегулирование ирландского вопроса» станет «важнейшим фактором мирового значения…»[563]Скупая реакция Вашингтона на компромисс в вопросе о гомруле в апреле 1918 года совершенно не соответствовала столь грандиозной перспективе, и тому были серьезные причины. Вопрос о политическом будущем Ирландии так и остался нерешенным. «Шинн фейн» готовилась оказать силовое сопротивление призыву. Ясно обозначился путь к разделению и кровопролитной гражданской войне. Однако скрупулезный подход к вопросу о формуле гомруля во многом позволил избежать серьезных разногласий с Вашингтоном. Вильсон отверг требование «Шинн фейн» об обсуждении ирландского вопроса на Версальской мирной конференции. Он продолжал оставаться внутренним делом Британской империи[564]. Во всяком случае Америка пошла на сотрудничество хотя бы в столь малом. Как далеко готова пойти Америка в поддержке дальнейшего стремления Британии провести переустройство империи, оставалось открытым вопросом.
VI
Показателем того, насколько далеко готова была пойти Америка, стали события на Ближнем Востоке, главной зоны, где в годы войны разворачивалась империалистическая экспансия[565]. Начиная с середины XIX века британская политика в регионе разрывалась между желанием защитить Суэцкий канал, оказывая поддержку ослабленной Османской империи в отражении экспансии царской России, и негодованием либералов по поводу «кровавых злодеяний турок» на Балканах. Решение Турции присоединиться к Центральным державам в октябре 1914 года придало британской политике решительную антитурецкую направленность. В декабре Лондон объявил о том, что берет под свой протекторат Египет, что послужило поводом для усиления экспансионистских притязаний России на территорию Османской империи, которым Британия и Франция пытались противостоять весной 1916 года путем заключения так называемого соглашения Сайкса – Пико[566]. В соответствии с соглашением, север Месопотамии, Сирия и Ливан отходили Франции. Часть Палестины переходила под международное управление в качестве буферной зоны. Британия обеспечивала безопасность обширного района на востоке Египта, включая военно-морские базы в Газе и Хайфе. В 1917 году крах России, ослабление Франции и восстановление британских военных позиций в Месопотамии совпали по времени с появлением в кабинете министров Ллойда Джорджа новых имперских взглядов на необходимость более агрессивной стратегии. По мнению Керзона и виконта Альфреда Мильнера, война должна была привести к полному устранению империалистической конкуренции путем установления британского контроля в Западном Средиземноморье и Восточной Африке, с осуществлением британского варианта доктрины Монро в Индийском океане и прилегающих регионах. Это должно было стать совершенно имперским проектом. Индийской армии отводилась решающая роль во всех кампаниях против Турции[567]. В 1917 году Лондон рассматривал возможность передачи германских колоний в Восточной Африке под индийский мандат[568]. Адмиралтейство было занято разработкой схем расположения баз имперского флота в Индийском и Тихом океанах.
Эта всеобъемлющая концепция империи, зародившаяся в мгновения триумфа, пришла на смену возникшей в разгар кризиса, последовавшего за заключением Брест-Литовского договора и наступлением Людендорфа на Западном фронте весной 1918 года, концепции построения оборонной цитадели, в которой Британия могла бы укрыться в случае краха Франции и перехода континента под контроль Германии. Это делало еще более насущным решение о том, как такой экспансионизм может быть согласован с главной силой будущего – Соединенными Штатами. По словам Мильнера, «оставшиеся свободные народы мира, Америка, наша страна и доминионы» должны «составить самый тесный союз»[569]. Каким образом подобные устремления могли уживаться с позицией Вильсона, направленной против любой имперской экспансии на Ближнем Востоке? Вашингтон не пошел даже на то, чтобы объявить войну Турции.
Тем временем после свержения царя изменилась политика России. В мае 1917 года видный патриот-либерал Павел Милюков, выдвинувший требования в отношении Османской империи, был вынужден под давлением Петроградского совета оставить пост министра иностранных дел. Теперь, когда демократическая Россия призывала лишь установить международное наблюдение в черноморских проливах, чем Британия может объяснить свои притязания? Как говорил один из ближневосточных игроков летом 1918 года, «если открытая аннексия утратила практический смысл и противоречит тому, о чем заявили союзники», то Британия должна занять место в авангарде движения за самоопределение[570]. В 1915 году Лондон официально выступил на стороне армянского меньшинства. Летом 1916 года Британия финансировала восстание в Аравии. В 1917 году проблемы, вызванные революцией в России и ростом мощи Америки, заставили стратегов Британской империи поддержать сионистов[571].
Начиная с 1914 года небольшая группа сионистских активистов в Британии и Америке призывала Лондон принять их под свое покровительство. Это польстило тем, кто, как Бальфур и Ллойд Джордж, были погружены в религию Ветхого Завета. Но далеко не все оказалось очевидным в этом вопросе. Проживавшие в Британии евреи были малочисленны и в значительной мере ассимилированы. В 1914 году штаб международной сионистской организации расположился в Германии, демонстративно заявив о своем нейтралитете. В 1915 году сионисты в Европе и Америке на скрывали своего ликования по поводу того, что войскам кайзера удалось вытеснить части царской армии из западной Польши. Сложно с уверенностью говорить об этом в ретроспективе, но обеспечение режима толерантности на Востоке было одним из устремлений говорящих по-немецки евреев, связанным с подписанием Брест-Литовского договора. Когда в декабре 1916 года Ллойд Джордж вступил в должность, британские сионисты попытались создать новый союз с Британской империей именно для того, чтобы нейтрализовать возникший дисбаланс и опять привлечь «мировое (world Jewry) еврейство» на сторону Антанты. К весне 1917 года влиятельные голоса в Лондоне призывали включить сионистов, наряду с армянами и арабами, в число сателлитов Британии. Наконец, в августе, когда войска под командованием генерала Алленби были готовы двинуться на Иерусалим, министерство иностранных дел предложило кругу избранных сионистов Британии во главе с Хаимом Вейцманом подготовить проект декларации, призывающей к созданию очага для евреев в Палестине.
Это предложение стало предметом жарких дискуссий в кабинете министров: против него категорически выступили Керзон, считавший, что основная угроза исходит не от турок, а от России, и государственный секретарь по делам Индии Эдвин Монтегю. Работая над текстом важнейшей декларации о политике в Индии, Монтегю ужасался тому, с какой легкостью Британия, правящая Индией, в которой проживало мусульман больше, чем в любой другой стране мира, делала предложение, оскорбительное для Османской империи. Это неизбежно вело к сплочению членов Мусульманской лиги и сторонников самоуправления Индии. Но Монтегю выступал не только в качестве государственного секретаря. Он также был видным членом общины ассимилировавшихся британских евреев. И в этом качестве Монтегю был глубоко возмущен претензиями сионистов на то, чтобы представлять весь «еврейский народ», и его особенно задевали антисемитские рефлексы его коллег из числа неиудеев, которые Вейцман с готовностью оборачивал в свою пользу[572].
Во-первых, и это было главным, британский кабинет министров рассматривал вопрос покровительства сионистам исходя из того, что они придавали «мировому еврейству» силу, позволяющую влиять на события в Соединенных Штатах и в революционной России. В 1917 году известный своими антисемитскими взглядами корреспондент The Times в Петрограде поддержал широко распространенные слухи о роли евреев в свержении царя. Предположения о влиянии нью-йоркского еврейского лобби, эхом отозвавшиеся в опасениях, связанных с действенностью ирландско-американского механизма, отражали нисколько не приукрашенное представление о функционировании американской демократии. Сами сионистские активисты и не пытались опровергнуть эти незрелые идеи. Они стремились именно к тому, чтобы выступать в роли представителей «мирового еврейства». А оппоненты сионизма в самой американской еврейской общине обнаружили, что их представляют как реакционную денежную элиту, противящуюся демократическим устремлениям «еврейских масс». Сообщения о том, что на самом деле многие сионистские организации в революционной России значительным большинством голосовали против любых агрессивных претензий в отношении Османской империи, просто замалчивались.
И снова Соединенные Штаты играли решающую роль. А готов ли был Вильсон взять эту роль на себя? В августе 1917 года президент не проявил энтузиазма в отношении декларации о Палестине, и британский кабинет министров отступил. Только в октябре под давлением близкого окружения президента неопределенность позиции была преодолена[573]. В свете таких приоритетных «политических соображений» Керзон снял свои возражения. В ходе голосования предложение Монтегю было отклонено, и кабинет министров принял короткую декларацию, предложенную Бальфуром, в которой говорилось о поддержке Британией стремления евреев создать национальный очаг в Палестине. 2 ноября 1917 года эта декларация была передана лорду Ротшильду как признанному предводителю проживающих в Британии евреев.
VII
Позиции правительств Франции и Италии были непрочными, а положение самого Ллойда Джорджа вызывало сомнение, и в такой ситуации 20 ноября 1917 года он лично приветствовал первую правительственную делегацию США, прибывшую во время войны в Британию для того, чтобы принять участие в совместном заседании с членами британского кабинета министров военного времени. Встреча происходила не в зале заседаний кабинета министров на Даунинг-стрит, 10, как обычно, а в кабинете министерства финансов, расположенном по соседству, откуда, как не преминул сообщить Ллойд Джордж своим гостям, лорд Норт в 1770-х годах столь неудачно руководил политикой, которая привела к восстанию американских колонистов. Эта политика, как признал Ллойд Джордж, была «кардинальной ошибкой»[574]. Британия усвоила этот урок. В то время как война в Европе становилась все более беспорядочной, Британия работала над тем, чтобы привести облик империи в соответствие с ее либеральным будущим. Программа перемен в Индии и новой политики на Ближнем Востоке свидетельствовала о решимости Ллойда Джорджа превратить империю в «великое содружество наций». Девять дней спустя делегации Британии и США присоединились в Париже к 16 делегациям других стран, участвовавшим в Конференции союзников. Несмотря на проблемы, связанные с действиями большевиков и Германии в Брест-Литовске, Франция и Италия, чувствуя себя недостаточно сильными, отказались от дискуссии о более широком толковании целей войны. Красноречивой была реакция Ллойда Джорджа на создавшуюся тупиковую ситуацию.
Сначала он хотел направить в Швейцарию харизматичного южноафриканского генерала Яна Смутса для проведения секретных переговоров с австрийцами, которые находились в совершенно отчаянном положении, а потому могли соблазниться возможностью избавиться от своей зависимости от Германии. Послание, переданное Смутсом австрийцам, свидетельствовало о том, что уже тогда у Британии была готова собственная концепция. Смутс заверил австрийского посланника, что если Австрия разорвет отношения с Германией, то Лондон «будет содействовать Австрии в предоставлении широчайшей свободы и автономии находящимся в ее подчинении народам…» «Если Австрия превратится в по-настоящему либеральную империю… то она во многом станет для Центральной Европы тем, чем Британская империя стала для всего мира.» – благосклонным либеральным защитником[575]. Конечно, это было фантазией, но эта фантазия приобрела реальную силу.
Тем не менее секретной дипломатии было недостаточно, чтобы ответить на звук фанфар, раздававшихся в Брест-Литовске. 5 января 1918 года Ллойд Джордж, пользуясь случаем, выступил на конференции лейбористов, проходившей в Центральном зале церкви методистов в Лондоне – том самом, в котором в 1946 году будет проходить первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН, – с заявлением о военных задачах Британской империи. Проект речи составлялся в тесном сотрудничестве со сторонниками продолжения войны в рядах лейбористской партии и представителями империи. Антанта, сказал Ллойд Джордж, представляет собой союз демократий, сражающихся за демократический мир. «Дни Венского договора, – отметил премьер-министр, – давно миновали»[576]. Это будет мир, во всеуслышание заявил он, на основе самоопределения, при котором правительство выполняет функции управления, заручившись согласием тех, кем оно управляет. Этот мир восстановит незыблемость договоров, и его гарантом будет выступать международная организация, на которую будет возложено поддержание мира и сокращение вооружений. Похоже, Ллойд Джордж опередил Вильсона, все еще работавшего над своими «14 пунктами». Сумеет ли занять его место Ллойд Джордж, предводитель «британской демократии», претендующий на идеологическое руководство в войне против Германии? Это был не праздный вопрос. Как позже признал полковник Хауз, «после выхода в свет речи Ллойда Джорджа…» настроение в Белом доме было «подавленным».
Вильсон планировал выступить с обращением к Конгрессу несколькими днями позже, но что он мог добавить к тому, что уже сказал Ллойд Джордж? Хауз был непоколебим: «Я настаивал на том, что ситуация стала более благоприятной и нисколько не ухудшилась». Ллойд Джордж лишь развеял атмосферу возможных разногласий между США и Лондоном. И президенту тем более «надо было действовать. Обращение президента произведет такое впечатление, что о речи Ллойда Джорджа забудут, и президент, обращаясь к Антанте, вновь будет на самом деле… обращаться к либералам всего мира»[577]. Хауз оказался прав. А то, что мировое мнение было готово не просто уделить особое внимание «14 пунктам» Вильсона, но найти в них фразы, которые на самом деле принадлежали Ллойду Джорджу, а не Вильсону, предвещало новое развитие событий. Однако нельзя закрывать глаза на то, что столь уверенная позиция руководителей Британской империи в ноябре 1918 года была обусловлена их уверенностью в том, что они сумели обеспечить безопасность основ империи как основы нарождающегося либерального мирового порядка.
10 Арсеналы демократии
Франция, Британия и Италия переживали кризис политической легитимности, который уже подкосил Россию и вскоре должен был привести к краху Центральных держав. Но население стран Антанты не выходило на улицы, а их армии воевали на фронтах за счет того, что экономика этих стран оставалась на высоком уровне. Даже самые богатые из втянутых в сражения Первой мировой войны стран не были богатыми по современным понятиям. Уровень доходов на душу населения в предвоенной Франции и Германии можно сравнивать с показателями, характерными для современных Египта или Алжира, притом что уровень технологий на транспорте, в связи и здравоохранении был значительно ниже. Но при этом в 1918 году основные воюющие страны расходовали на военные нужды не менее 40 % общего валового продукта. Это был решающий момент, когда складывалось современное понимание экономического потенциала. Еще в 1914 году устоявшиеся либеральные стереотипы указывали на то, что в условиях глобализации мировой экономики длительные войны будут невозможны. Торговый и финансовый коллапс уже через несколько месяцев вынудит прекратить военные действия. И такой кризис действительно случился осенью 1914 года, когда финансовые рынки пошли вверх, а акции оборонной промышленности стали падать. И то и другое удалось преодолеть лишь в результате решительного вмешательства государства. Центральные банки приняли на себя управление рынками денег в Нью-Йорке, Лондоне, Париже и Берлине[578]. Было установлено жесткое регулирование экспорта и импорта и введены карточки на дефицитные виды сырья и продовольствия. Мобилизация промышленности и внедрение технологических новинок не только не способствовали ограничению военных действий, но и раскручивали маховик войны[579]. Эти колоссальные затраты породили три новые концепции современной экономики, из которых две стали частью общепринятого описания войны, а третья, что примечательно, во многом оказалась забытой.
Первой моделью экономики, порожденной войной, была независимая государственная плановая экономика. В мае 1918 года Ленин объяснял свою ориентацию на Германию только ссылками на ее высочайшие достижения в современной экономике и промышленности[580]. Именно в Германии, утверждал он, зародилась такая форма капитализма, которая станет краеугольным камнем социалистического будущего. Вальтер Ратенау, директор международной электротехнической группы AEG, стал признанным представителем новой капиталистической формации, предусматривавшей гармоничное взаимодействие корпораций с государственной властью[581]. Ирония состояла в том, что в данном случае Германия представлялась как олицетворение организованной плановой экономики, хотя еще в 1916 году была совершенно очевидна ее неспособность привести организацию экономики и производства в соответствие со своими военными потребностями. Осенью 1916 года Гинденбург, тщетно пытаясь превзойти успех министра по делам вооружений Ллойда Джорджа, предложил свою программу развития вооружений[582]. К 1918 году производственные мощности Антанты и Америки, достигнутый уровень кооперации и готовности идти на определенный риск позволили союзникам достичь сокрушительного превосходства[583]. По всем направлениям союзнические армии вступили в эру новых технологий. 8 августа 1918 года в разгар наступления на линии обороны Гинденбурга 2 тысячи самолетов союзников обеспечили подавляющее превосходство в воздухе. Германские эскадрильи, одной из которых командовал Герман Геринг, численно уступали противнику в соотношении 1:5. На земле разница была еще заметнее. К 1917 году все операции французской и британской пехоты осуществлялись при поддержке сотен танков. У Германии танков были единицы.
Но основное различие состояло в огневой мощи. Артиллерия достигла наивысшего уровня развития в 1918 году. 28 сентября 1918 года в ходе подготовки к решающему прорыву германской линии обороны британская артиллерия в течение продолжавшегося круглые сутки обстрела позиций противника израсходовала 1 млн снарядов – 11 снарядов в секунду в течение 24 часов[584].
В ноябре 1918 года плановая экономика Германии уступила другой, еще более мощной экономической концепции – триумфальной модели «демократического капитализма». Сердцевиной военной экономики демократических стран стала многообещающая экономическая мощь США. Первая мировая война стала рубежом, на котором богатство Америки сделало зримый отпечаток на истории Европы. Разъезжавший по всему миру инженер и филантроп Герберт Гувер выступал в роли первого именитого посланника американского изобилия. Его организации, занимавшиеся обеспечением продовольственной помощи, начали свою деятельность в оккупированной Бельгии, а затем развернули ее по всей территории охваченной войной Европы. Превращение Генри Форда в пророка новой эры процветания, в основе которой лежало массовое производство, почти полностью пришлось на военное время. В январе 1914 года Форд внедрил ставшую легендарной оплату труда в размере 5 долларов в день на производственном конвейере, где собиралась модель Т[585]. После того как Вильсон объявил о вступлении Америки в войну, Форд превзошел самого себя, заявив о следующих обязательствах: производить по 1 тысячи двухместных танков и сверхмалых подводных лодок в день, 3 тысячи авиационных двигателей в день и 150 тысяч укомплектованных самолетов. Ни одно из этих обещаний так и не было выполнено. Европейцы, в первую очередь Британия, Германия, Франция и Италия, организовали крупнейшее массовое производство самолетов еще в начале XX века. Но легенда о Форде была такой же жизнеспособной, как и его автомобили. Зимой 1917 года британский генерал Алленби посвятил свой знаменитый поход на Иерусалим «трудящимся Египта, верблюдам и модели Т»[586].
Американская идеология «производительности» вскоре стала одной из ведущих идеологий начала XX века. Увеличение производительности в единицу времени сулило уход от сложных политических решений и открывало путь к новой эре гармонии внутри страны и в международном масштабе. Эта концепция устраивала социалистов и либералов и даже обрела сторонников среди нарождавшихся «реакционных модернистов»[587]. Однако к самопровозглашенной идеологии «производительности», как и к связанной с ней сказке об американском изобилии, следует относиться с должной осторожностью. Слава производительных сил в Америке была преувеличенной. У историков появляется соблазн спроецировать доминантное положение, которого Америка достигла в массовом производстве к 1940-м годам, на более ранний период. С идеологической точки зрения такая попытка вуалирует интересы тех, кому она служит, и, акцентируя внимание на осязаемых материальных товарах, уводит в сторону от подлинного источника американского влияния, которым в 1918 году являлись прежде всего деньги, а вовсе не товары. В сфере экономики с еще большей очевидностью, чем в политике, мы наблюдаем как европейская история вдруг оказывается в тени, уступая место будущей доминирующей роли Соединенных Штатов. Если мы внимательно посмотрим на то, как на самом деле американские ресурсы поступали в Европу, то увидим, что такая тень создавалась целенаправленно, а фасад, который эту тень отбрасывал, был весьма хрупким.
I
Начиная с лета 1917 года Антанта строила свои планы исходя из того, что к концу 1918 года в Европу прибудет 1 млн американских солдат[588]. Но на начало года Атлантику пересекло только 175 тысяч солдат, из которых генералу Першингу удалось сформировать лишь два укрупненных пехотных дивизиона. В самих Соединенных Штатах в пехотинцы записались многие. Но в ходе их обучения использовались деревянные винтовки и устаревшие пулеметы. Тяжелого вооружения, которое царило на полях сражений в Европе, у них не было. В начале 1918 года Америка также не была готова снабжать свою армию современным оружием собственного производства. Америка поставляла значительные объемы предметов военного назначения, однако основную часть заказов Антанты составляли сырье, полуфабрикаты, взрывчатка, порох и боеприпасы[589]. Настоящее оружие войны разрабатывалось и производилось самими европейцами. Американцы начинали наращивать производство оружия, но это было оружие европейского образца. Основным вкладом Форда стало не производство тысячи обещанных им танков, а обеспечение низкой себестоимости при массовом производстве цилиндров для авиационного двигателя «Либерти», конструкцию которого американские инженеры выполнили на основе французских, британских, итальянских и германских разработок. Несмотря на уже ставшие легендарными достижения детройтских мастеров, у Америки было слишком мало времени для того, чтобы ее новая система массового производства сыграла действительно решающую роль[590]. 1918 год не следует путать с 1944 годом. В 1918 году американская армия сражалась французским оружием, а не наоборот. Три четверти самолетов, на которых летали пилоты ВВС США, были изготовлены во Франции[591].
То, что американцы начали свое обучение на Западном фронте в качестве учеников британцев и французов, было неудивительным, и такое трансатлантическое разделение труда оказалось эффективным. Но существовал один фактор, ограничивающий скорость поступления и размеры помощи Америки, – транспортировка. Когда бралось обязательство о направлении 1 млн американских солдат, то подразумевалось, что их перевозку в Европу будут обеспечивать преимущественно американские суда. Но внутренние раздоры в Вашингтоне привели к тому, что в 1917 году для строительства грузовых кораблей было сделано совсем немного. К концу года Генеральный штаб США располагал судами, способными перевезти лишь 338 тысяч тонн груза. Для того чтобы к лету обеспечить транспортировку личного состава, американцам требовалось сосредоточить свои усилия и увеличить этот показатель как минимум в 10 раз[592] Развернувшаяся впоследствии борьба проливает свет на отношения между администрацией Вильсона и ее европейскими партнерами в ходе кризиса последнего этапа войны.
Действующая мировая монополия на морские перевозки, установленная Британией и ее союзниками после 1914 года, была прямым вызовом концепции Вильсона, предусматривающей руководящую роль Америки в мировом устройстве. Акт о грузовых морских перевозках, принятый в сентябре 1916 года, был нацелен на то, чтобы содействовать созданию американского торгового флота, способного соперничать с торговым флотом Британии[593]. Но разработанные меры были рассчитаны на мирное время, когда у американских конкурентов еще была возможность неспешно обсуждать подробности. С началом подводной войны американское правительство было вынуждено в апреле 1917 года принять чрезвычайные меры по созданию государственного торгового флота. Однако к этому моменту все свободные стапели и сухие доки в США были заняты предусмотрительными британцами. Вильсону пришлось объявить мораторий на размещение новых зарубежных заказов. Самые крупные заказы из Британии и Франции были выкуплены американским правительством. Наконец, в октябре 1917 года все американские корабли, имевшие стальной корпус, были поставлены на федеральный учет. На этой базе была создана судостроительная компания Emergency Fleet Corporation, на которую возлагалось выполнение грандиозной программы построения флота. Американские промышленные магнаты с присущим им умением показать товар лицом, предпринимательской энергией и своими взглядами на техническую сторону вопроса соревновались друг с другом, ставя все более далеко идущие цели. Было израсходовано 2,6 млрд долларов, и результаты оказались впечатляющими. Лишь во второй половине 1918 года на американских верфях было построено столько же судов, сколько их было заложено в 1913 году во всем мире, – 100 судов только к 4 июля (Дню независимости) 1918 года[594]. Но к третьему кварталу 1918 года военный кризис уже миновал.
В действительно критический период с марта по июль 1918 года, когда американскую армию с нетерпением ожидали во Франции, на американских верфях закладка новых судов была практически остановлена. Более того, даже в самый разгар кризиса администрация Вильсона не относила удовлетворение потребностей продолжавшейся в Европе войны к числу приоритетных задач. Лишь незначительная часть реквизированных федеральным правительством судов действительно использовалась для транспортировки войск. Когда в августе 1918 года германские войска приблизились к Парижу на расстояние пушечного выстрела, Вильсон все еще настаивал на увеличении американского присутствия на выгодных торговых маршрутах в Бразилию и Японию. Основная нагрузка приходилась на флот Британии и Франции. Еще в январе британцы согласились с ужасающей сменой приоритетов. Чтобы обеспечить ежемесячную транспортировку 150 тысяч американских солдат, они были вынуждены сократить импорт продовольствия[595]. Когда 21 марта германская армия совершила прорыв позиций союзников, потребовались еще более жесткие меры. Теперь Ллойд Джордж, поменявшись местами с Вильсоном, напрямую обращается к американской общественности. Вильсона это так возмутило, что он был готов отозвать своего посла в Британии. «Боюсь, – пожаловался он однажды, – что к концу войны я возненавижу англичан»[596]. Но реакция американских военных властей все же последовала. В мае было перевезено 250 тысяч человек, а общее число перевезенных в период с февраля по ноябрь 1918 года составило 1 млн 788 тысяч человек, и по меньшей мере половина из них была перевезена на британских судах.
Транспортные проблемы превратили трансатлантическую военную экономику в примитивный экономический обмен: людей меняли на предметы. Для экономии места американские солдаты перевозились практически без военного оборудования. Британия и Франция обеспечивали вновь прибывшие американские подразделения винтовками, пулеметами, артиллерией, самолетами и танками. Даже их питание осуществлялось за счет и без того сильно уменьшившихся запасов. Этот живой груз и стал главным вкладом Америки в военную победу – хорошо упитанные молодые люди нового урожая и в расцвете сил, каких уже мало оставалось в Европе[597]. Большинство прибывших американцев не имели боевого опыта, и их нельзя было сразу отправлять на фронт. Однако их прибытие сулило окончательную победу и позволяло создать стратегическую подушку на случай возможного прорыва германской армии. На итальянском фронте единственный американский полк был развернут именно в пропагандистских целях. Три батальона, состоявших из тысячи рослых молодых людей из штата Огайо, появлялись то в одном, то в другом городе, где, переодеваясь то в одну, то в другую форму, маршировали на парадах, чтобы создать впечатление присутствия десятков тысяч солдат, прибывших для подкрепления[598].
Особую роль в трансатлантических перевозках сыграла отлаженная система экономического сотрудничества союзников, над которой Антанта работала с 1915 года. Изначально предназначенная лишь для финансирования и закупок пшеницы, а затем для распределения угля, к осени 1917 года эта система уже использовалась для общего управления перевозками наиболее важных грузов[599]. Союзнический совет по делам морского транспорта располагался в Лондоне, в его работе участвовали представители всех правительств воюющих стран под руководством Британии и Франции. Несмотря на то что каждый в первую очередь защищал интересы правительства своей страны, вместе они образовали межправительственный орган, от решений которого зависела жизнь буквально каждого жителя Европы, независимо от того, был он гражданским или военным. Понимая всю исключительность ситуации, именно страны Антанты, а не Вильсон приступили в начале 1918 года к поиску совершенно новых форм сотрудничества и координации. Стремясь остановить решающее наступление германских войск, страны Антанты достигли уровня межправительственной кооперации, намного превосходивший тот, который когда-либо существовал в Лиге Наций. Начиная с 1916 года Франция, Россия и Италия получали займы у Британии. В 1916 году в Париже была созвана конференция по экономическим вопросам, которой предстояло четко определить масштабы долгосрочного сотрудничества союзников в борьбе против общего врага. В ноябре 1917 года, после катастрофы под Капоретто, был создан Высший военный совет. К апрелю 1918 года британские и французские солдаты воевали под общим верховным командованием. В мае маршал Фош получил полномочия координировать действия на всей линии Западного фронта от Северного моря до Восточного Средиземноморья. Тогда же началась координация закупок и транспортировки продовольствия для британских и французских войск. Сотрудничество целого поколения бизнесменов, инженеров и технократов, в число которых вошли британец Артур Солтер и его близкий друг и коллега француз Жан Моне, стало прообразом Европейского союза, начало которому положила функциональная интеграция в рамках Европейского объединения угля и стали (ЕОУС; European Coal and Steel Community, ECSC) после Второй мировой войны[600].
Эту третью модель экономики, возникшую в годы войны, модель сотрудничества союзников затмили в исторической памяти ее два основных конкурента: плановая экономика Германии и капиталистическое изобилие Америки[601]. Это не было случайностью. В странах-победительницах действовали либеральные политико-экономические системы, отторгавшие саму мысль о государственном регулировании[602]. И такая оппозиция, существовавшая во Франции, Италии и Британии, находила энергичный отклик в Вашингтоне[603]. Администрация Вильсона относилась к межсоюзническим организациям с глубоким подозрением. В предвоенный период главной задачей политики «открытых дверей» был подрыв картельных соглашений и протекционистских торговых режимов европейских империй. Противостояние Америки смелым требованиям Парижской конференции 1916 года, которые в Вашингтоне расценили как попытку создания мирового картеля и абсолютное отрицание политики «открытых дверей», граничило с враждебностью[604]. Американцев, работавших долгое время в межсоюзнических организациях, заставляли держаться на расстоянии, опасаясь, что они «утратят связь с ситуацией в Америке… и по своим взглядам превратятся в европейцев». Вильсон считал, что американцам, работавшим в Лондоне, хватало полгода, чтобы «обангличаниться»[605]. Однако на практике любой американский проект в Европе – будь то программа Гувера по оказанию помощи Бельгии или независимая армия под командованием Першинга – зависел от совместной деятельности логистического аппарата, созданного Антантой. В 1918 году Бельгия получала продовольствие не только благодаря организаторскому гению Гувера или американской щедрости, но и за счет того, что межсоюзническое транспортное управление обеспечило первоочередную доставку помощи даже в ущерб потребностям тыла во Франции, Британии и Италии[606].
II
В корне неконструктивное поведение генерала Першинга и администрации Вильсона привело к тому, что в Британии стали в открытую говорить о стратегическом соотношении на Западном фронте как об игре с нулевым результатом. Если бы война завершилась в 1918 году, это было бы триумфом Британской империи. Если война продолжится и в 1919 году, то Британия, равно как и Франция, будет полностью истощена. Даже если привлечь значительные человеческие ресурсы из Индии и Африки, все равно американцы будут претендовать на лавры победителя. Некоторые даже начали задумываться о том, что для Британии и Франции было бы лучше, если бы Америка не вступала в войну. Уинстон Черчилль дал характерную оценку атлантическому единству: «Независимо от насущных военных потребностей, отношения между британскими и американскими частями на полях сражений, общие тяготы и потери, пережитые ими, окажут огромное влияние на будущую судьбу англоговорящих народов». Это, полагал Черчилль, «будет, возможно, единственной гарантией безопасности в случае, если Германия после войны окажется сильнее, чем была перед ней»[607].
Менее горячие головы указывали на то, что фантазии о независимости в любом случае оставались напрасными. Антанта зависела от Америки, и уже не имело значения, закончится война в 1918 или в 1919 году и участвовала ли в войне многочисленная американская армия. За авиационными двигателями из Детройта и сталью из Питтсбурга стояло нечто, пусть не столь осязаемое, но имевшее решающее значение – выданные в долларах кредиты. Начиная с 1915 года Уолл-стрит содержала Антанту. Даже без неожиданной интервенции ФРС в ноябре 1916 года и сотрудничества симпатизировавшего Антанте Дж. П. Моргана, ее кредитный лимит был бы исчерпан в 1917 году. Соединенные Штаты преодолели ограниченность рынка частного капитала, заменив ее новой геометрией финансовой и экономической мощи богатой демократии, и направили в Лондон, Париж и Рим огромные государственные займы. Именно прямое финансирование за счет государственного кредитования США позволило Антанте добиться пускай незначительного, но имевшего жизненно важное значение преимущества над Германией. 24 апреля 1917 года Конгресс заложил фундамент долгосрочного финансирования, одобрив выпуск облигаций «Займа свободы». Первоначально на военные нужды Америки предусматривалось израсходовать 5 млрд долларов, из которых 3 млрд долларов предназначались для предоставления кредита Антанте. В отличие от американских войск, американские деньги пришли быстро. Уже к июлю 1917 года министр финансов Уильям Макэду перевел в Британию аванс в размере 685 млн долларов[608]. К моменту перемирия 1918 года полученная сумма составляла чуть более 7 млрд долларов. К весне 1919 года был достигнут максимальный лимит в 10 млрд долларов.
Деньги определяли все остальные проблемы. До апреля 1917 года, стремясь сэкономить доллары, Британия направляла грузопоток по очень длинному маршруту через Австралию. После апреля 1917 года, когда долларов стало в избытке, закупки и транспортировка грузов осуществлялись по значительно более эффективному трансатлантическому маршруту. Связь государственного кредитования с развитием экспорта стала еще одной определяющей чертой новых отношений с Америкой. До апреля 1917 года Антанта занимала у Америки деньги для того, чтобы оплачивать закупки в США и за границей. Конгресс, утверждая ассигнования, ставил условие, что получаемые в виде займа доллары должны расходоваться исключительно в Америке. После апреля 1917 года под управлением федерального правительства США находился уже гигантский механизм экспортных поставок за счет государственных средств. Фискальный аппарат Америки и производственные возможности американского бизнеса были связаны как никогда прежде. Никакое «финансовое господство» Испании, Голландии или Британии в период XVII–XIX веков нельзя было даже приблизительно сравнивать с подобным масштабом и степенью координации. Союзнический совет по вопросам снабжения, сформированный, в отличие от других союзнических агентств, по настоянию Вашингтона, работал под плотным контролем заместителя министра финансов США и направлял заказы непосредственно в Американский совет военной промышленности[609].
Как и предсказывали критики, в их числе блестящий молодой экономист, советник министерства финансов США Джон Мэйнард Кейнс, нанесение Германии нокаутирующего удара оставило Британию на милость Соединенных Штатов. Ллойд Джордж с готовностью пошел на этот риск в надежде на то, что Америка понимает собственные интересы в Атлантическом союзе. Но, как летом 1917 года мог убедиться на собственном опыте работавший в Вашингтоне Кейнс, реалии трансатлантического партнерства были менее обнадеживающими, чем предполагалось демократическим альянсом. Кейнс считал, что администрация Вильсона намерена воспользоваться возможностью, чтобы довести Британию до состояния «полной финансовой беспомощности и зависимости»[610]. Такая зависимость проявлялась на самом основном уровне валютно-финансовой системы. До войны международный золотой стандарт был привязан к золотому паритету фунта стерлингов. После 1914 года, притом что его свободная конвертация внутри страны была прекращена, фунт стерлингов номинально оставался привязанным к золоту и по-прежнему обменивался в Нью-Йорке. Для стран Антанты было жизненно необходимым сохранить курс своих валют по отношению к доллару. Они не могли с уверенностью обещать возврат займов, полученных в долларах, в условиях, когда лира, рубль, франк и фунт стерлингов значительно обесценивались. Стоимость обслуживания долгов, выраженная в долларах, стала бы заоблачной. В январе 1917 года в своей конфиденциальной записке в министерство финансов Кейнс категорически возражал против отказа от золотого стандарта: «Мы превратили золотой стандарт в фетиш. Мы так гордимся им…Нашей любимой формой пропаганды стало особое внимание к падению курса на германских биржах и стабильности нашего курса»[611].
Характерно, что Кейнс попал прямо в точку. Зависимость Антанты от Соединенных Штатов не была неизбежной. Антанта, подобно Германии, могла попытаться воевать, не прибегая к американским ресурсам. Но тогда это была бы совсем другая война, а не та, которую в начале 1917 года планировали Лондон, Париж и Петроград. Решение Лондона привести Антанту на Уолл-стрит было связано с преднамеренно рискованной стратегией, представлявшей собой часть общего намерения нанести «нокаутирующий» удар. И это решение обеспечило Антанте значительное материальное превосходство и на поле боя, и в тылу. Но после того как решение обратиться к США было принято, когда оно легло в основу военной стратегии и пропаганды Антанты, возникла серьезная зависимость, и администрация Вильсона осознавала наличие этой зависимости и до, и после того, как Америка вступила в войну. Весной 1917 года Уильям Макэду, министр финансов (и зять) Вильсона, дал ясно понять, что он намерен заменить фунт стерлингов на доллар в качестве ключевой резервной валюты[612]. В первую очередь Макэду предложил отказаться от использования средств, выделенных с согласия Конгресса для «Займа свободы», в целях поддержки курса фунта стерлингов или франка. Кроме того, не следовало позволять Лондону использовать эти средства для погашения овердрафта, полученного у Дж. П. Моргана в период, когда зимой 1916/17 года по распоряжению Вильсона были заморожены кредиты. Это поставило Лондон в очень тяжелое положение. Первый раз в конце июня, а потом еще раз в конце июля 1917 года Британия была в нескольких часах от объявления дефолта[613]. Лондон и Уоллстрит были близки к панике, и этого оказалось вполне достаточно, чтобы убедить администрацию Вильсона в том, что даже если доллару в конечном счете и предстояло прийти на замену фунта стерлингов, то краткосрочная защита фунта стерлингов будет наиболее дешевым способом поддержать военные действия Антанты. Но действие этой гарантии ограничивалось продолжительностью войны. После окончания боевых действий Антанта будет оставлена на волю судеб. Американский доллар станет единственной мировой валютой, обеспеченной золотом. То, что американская поддержка ограничивалась сохранением курса доллара и фунта стерлингов, было примечательно в свете валютно-финансовых отношений внутри Британской империи. Империя опиралась на две неравные валютные системы: с одной стороны, на фунт стерлингов, поддерживаемый золотом, значительная часть которого добывалась в Южной Африке, а с другой – на индийскую рупию, зависящую от колебаний цены на серебро. Война подвергла эту систему крайне жестким испытаниям. Британский импорт из доминионов и Индии стремительно увеличивался, а ее экспорт в остальные части империи сокращался до минимума. У империи накопился значительный профицит в торговле с Британией, но в условиях огромной потребности в долларах и золоте Лондон не мог позволить империи неограниченный импорт с третьих рынков, в том числе из США. Уже через несколько дней после начала войны Лондон объявил о монополии на золото, добываемое в Южной Африке, установив искусственно заниженную официальную цену на золото и непомерно высокие ставки на его транспортировку и страхование. Против южноафриканских банков, пытавшихся продавать золото по высоким рыночным ценам напрямую в США, были применены санкции и развернута пропагандистская кампания, обвинявшая их в пособничестве врагу[614]. Несмотря на протесты золотодобывающих корпораций, которые на самом деле были вынуждены субсидировать военную экономику Британии, низкая цена на золото сохранялась до окончания войны. В результате значительная часть мировых золотых запасов сосредоточилась в Лондоне, что вызывало ожесточенные протесты националистов. В Трансваальском золотодобывающем районе бурские активисты громогласно требовали, чтобы Южная Африка сама распоряжалась своим золотом, открыв собственные аффинажные заводы и монетный двор.
И если в Южной Африке все внимание было сосредоточено на одном главном продукте, добываемом гигантскими золотодобывающими корпорациями, принадлежащими Британии, где белые шахтеры составляли меньшинство, то в Индии финансовые отношения военного времени потенциально были еще более взрывоопасными, так как они касались отношений между британцами и 240 млн человек, кормившихся в основном за счет сельского хозяйства. «Экономическая дыра», которую собой представляла Индия, уже давно была основным аргументом националистов[615]. Какими бы ни были преимущества такой ситуации до 1914 года, с началом войны масштабы этой «дыры» стали чрезмерными. С осени 1915 года торговый баланс решительным образом изменился в пользу Индии. В обычных обстоятельствах это могло привести к увеличению индийского импорта или к притоку драгоценных металлов. Но теперь, чтобы предотвратить резкий рост «ненужного» импорта, вызванного возросшей покупательной способностью Индии, законы военного времени были введены и на субконтиненте[616]. Доходы Индии от экспорта, хранившиеся на счетах в лондонских банках, были направлены в британские облигации военного займа. Таким образом, Индия, помимо ее воли, стала участницей программы экономии в условиях военного времени, что было для нее особенно болезненным, потому что военные расходы вынуждали индийское правительство сократить давно обещанные ассигнования на инвестиции в начальное образование[617].
В начале 1916 года была официально отменена зависимость индийской валюты от цен на серебро. Теперь рупия поддерживалась за счет хранящихся в Лондоне облигаций британского правительства, оформленных на Индию. Предполагалось, что после войны эти облигации можно будет обменять на мерные слитки или товары при условии, что фунт стерлингов сохранит свой довоенный номинал. Однако в случае девальвации фунта стерлингов после войны, которая представлялась вполне вероятной, Индии грозили соответствующие убытки. А Индия уже купалась в деньгах, не обеспеченных драгоценными металлами. Даже в лучшие времена индийские крестьяне крайне неохотно пользовались бумажными деньгами. Риск инфляции становился все более очевидным, с рынка исчезало оставшееся серебро. Это, в свою очередь, делало еще более затруднительным поддержание вымысла о том, что когда-нибудь будет возможен выкуп имеющейся массы бумажных денег. В качестве контрмеры в апреле 1916 года индийское правительство запустило в оборот серебро, приобретенное в США[618]. Однако при отчаянном дефиците долларов такая мера не могла удовлетворить спрос. Вступление в войну Америки также не принесло немедленного облегчения. Более того, в сентябре 1917 года Вашингтон заявил, что если Индия обеспечивает Британию поставками в кредит, то подобная льгота должна распространяться и на США. Соединенные Штаты вынудили Индию предоставить кредит в рупиях в размере, эквивалентном 10,5 млн долларов.
К началу 1918 года валютная система Индии была близка к краху. В Бомбее политические дискуссии о реформах Монтегю – Челмсфорда омрачались бурными событиями на биржах, где торговцы спешили обменять бумажные рупии на серебро, запасы которого подходили к концу. С учетом плачевного положения, в котором находился Лондон, взять на себя гарантии сохранения системы «раджа» могли только Соединенные Штаты. 21 марта Вашингтон объявил об открытой продаже огромных запасов серебра США. Согласно закону Питтмана, было разрешено продать 350 млн унций серебра при фиксированной цене один доллар за унцию. Правительство Индии получило разрешение использовать свои авуары, хранящиеся в Лондоне, для того чтобы пополнить собственные запасы серебра за счет официального американского резерва[619]. На деле это означало отход Индии от фунта стерлингов и ее переход к расчетам на основе серебряного доллара при курсе рупии, составлявшем приблизительно одну треть унции серебра, или 35,5 цента. По отношению к фунту стерлингов курс рупии немедленно увеличился с 16 до 18 пенсов. Такая девальвация фунта стерлингов увеличила стоимость британского импорта. Но она принесла значительное облегчение в политике. Как и предупреждал индийский инспектор по валютным операциям, неспособность Лондона удовлетворить спрос на серебро нанесет по системе «раджа» более сокрушительный удар, чем военное поражение или даже «высадка германских войск в Норфолке»[620].
III
Первая мировая война привела к тому, что США превратились в основную силу мировой экономики. Противостояние на переговорах в Лондоне и Вашингтоне могло создать впечатление, что речь идет о том, каким образом Америка будет наследовать преимущественное положение, которое занимала Британия. Но это было бы серьезной недооценкой всей новизны ситуации, сложившейся в ходе войны. При всем своем великолепии викторианская Британия никогда не обладала такими рычагами воздействия на Пруссию, Францию Наполеона III или Россию Александра III, которыми теперь располагал Вашингтон. В своей борьбе за разгром Германии Антанта вступила в беспрецедентный период зависимости от США. Эта новая асимметричная геометрия финансов свидетельствовала о конце эры конкуренции между великими державами, определявшей эпоху империализма, что можно рассматривать с двух позиций. С одной стороны, помощь в военной мобилизации экономики стран Антанты, поступившая из-за океана, позволила им одержать победу над Германией. Но, с другой стороны, США получили беспрецедентную возможность доминировать как над своими карибскими сатрапиями или Филиппинами, так и над ведущими европейскими странами – Британией, Францией и Италией. В общих чертах это было именно то одностороннее влияние, к которому стремился Вудро Вильсон в своей стратегии «мира без победы». Получит ли в результате Вашингтон столь желанные рычаги воздействия, зависело от трех вопросов. Готовы ли европейские демократии сотрудничать, признав финансовые требования своего нового кредитора? Сумеет ли Вашингтон блокировать попытки европейских держав вовлечь США в создание нового мирового экономического порядка, который они представляли более многосторонним? Будут ли сами американские институты соответствовать своей совершенно новой роли финансового лидера?
К 1918 году стало до боли ясно, что такой лидер необходим. Поддержка США не могла скрыть слабости британской, французской и итальянской валют. Резкие колебания валютных курсов в этих странах были обусловлены одной мировой тенденцией – инфляцией. Легендарной стала послевоенная гиперинфляция, уничтожившая Веймарскую республику в 1923 году. И она не была уникальным событием. После окончания войны разорительная гиперинфляция разразилась в Польше, Австрии и России. Траектория развития этих стран начала разительно отличаться от траектории развития других воевавших стран только с 1920 года. В период с 1914 по 1920 год инфляция охватила весь мир. В Сьерра-Леоне цена на чашку риса выросла в 5 раз[621]. В Хараре реальный заработок африканских рабочих уменьшился вдвое[622]. В Египте, как и в Индии, на смену обеспечению валюты драгоценными металлами пришло сомнительное обеспечение за счет государственного долга Британии. За короткое время количество денег удвоилось, что привело к катастрофическому росту стоимости жизни в городах (табл. 4)[623].
Столь масштабное изменение цен привело к жестоким социальным конфликтам вокруг распределения власти и благосостояния. Производители пользовавшихся спросом товаров и те, кто мог назначать цену на товар по своему усмотрению, обычно получали выгоду от войны. Однако достаточно влиятельные покупатели, такие как Британская империя, могли регулировать рынок в свою пользу. Британия не только устанавливала цену на южноафриканское золото. Она также манипулировала ценами на египетский хлопок[624]. Во всех воевавших странах незаменимые рабочие, занятые на военном производстве, могли получать дополнительную оплату. Но это, в свою очередь, вело к тому, что работодатели и органы планирования старались наряду с мужчинами брать на работу женщин, которым можно было платить меньше. С ростом инфляции борьба за свою долю дохода превратилась в общую войну всех против всех. Наиболее опасным было растущее нежелание крестьян обменивать свой урожай на обесценивающуюся валюту. Только обещанием промышленных товаров можно было удержать их от перехода на самообеспечение. В 1917 году хлебные бунты привели к свержению царской монархии. К 1918 году большая часть Центральной Европы голодала, а вся экономика стран Индийского и Тихого океанов жестоко страдала от острой нехватки риса[625]. В Японии, вторгшейся в августе 1918 года в Сибирь, правительство премьер-министра Тераути Масатаке было свергнуто в результате рисовых бунтов, начавшихся в рыбацких поселках и перекинувшихся на промышленные центры побережья, а затем добравшихся и до самого Токио[626].
Главной причиной этой волны инфляции была валютная экспансия, зародившаяся в самом сердце мировой валютноденежной системы – в Европе и США. С ростом военных расходов ни в одной из воюющих стран не были увеличены налоги. Государство решало проблему роста покупательной способности выпуском правительственных облигаций, выполнение обязательств по которым откладывалось на многие годы после окончания войны. Но избыточная покупательная способность во многом сохранялась. Более того, значительная часть облигаций приобреталась не вкладчиками, а банками. Вместо того чтобы мобилизовать хранящиеся по домам средства, банки обеспечивали этими облигациями надежные инвестиции, которые можно было перепродать за наличные центральному банку – Банку Англии, Банку Франции или Рейхсбанку. Подобно депозиту в наличных, эти облигации служили основанием кредитной пирамиды. Центральные банки превратились в насосы, разгонявшие инфляцию. Вся зона фунта стерлингов Британской империи была охвачена инфляцией, бравшей начало в Лондоне, в министерстве финансов и в Банке Англии. Через эти же механизмы инфляция достигла даже сердцевины новой структуры финансовой власти – Соединенных Штатов.
История американских финансов военного времени преподносилась сторонниками линии Вильсона как история «Займа свободы»[627]. Перед войной не более 500 тысяч состоятельных американцев делали регулярные вложения в государственный долг. В конце войны министр финансов Рассел Леффингвелл говорил, что 20 млн американских граждан были подписаны на «Заем свободы», и, возможно, около 2 млн американцев добровольно участвовали в мероприятиях по продаже облигаций, проходивших практически во всех населенных пунктах страны. Было собрано более 30 млн долларов. Эта огромная массовая мобилизация сбережений населения представлялась администрацией Вильсона как серьезное наступление демократии и отказ от старого прошлого, когда главную роль играла Уоллстрит. На самом деле, во многих случаях это был принудительный сбор средств под сильным нажимом, особенно на недавних иммигрантов, от которых требовали доказать, что они стали стопроцентными американцами. Тех, кто хотя бы осмеливался выступать против официальной пропаганды «Займа свободы», приговаривали к длительным тюремным срокам. Облигации «Займа свободы», если бы они подкреплялись соразмерными частными накоплениями, могли бы стать серьезной, не подверженной инфляции поддержкой военной экономики всех стран-союзниц. Разумеется, в последующие годы эти займы были окружены соответствующей риторикой. Миллионы простых американцев отдали свои заработанные тяжелым трудом накопления на мобилизацию военной экономики союзников и теперь должны были получить свои средства обратно. И хотя облигации «Займа свободы» многое значили в массовом сознании и, безусловно, сыграли жизненно важную роль в коллективной поддержке военной экономики, они не имели прямого отношения к реальным сбережениям. В 1918 году сбережения американских семей и предпринимателей действительно сократились. Поэтому значительную часть денежных поступлений федерального правительства составляли банковские кредиты. Министерство финансов и ФРС, отчаянно пытаясь предотвратить любые нарушения в хрупкой банковской сфере, прибегли к валютной экспансии. Были ослаблены резервные требования. Прежде чем выпустить очередной транш облигаций «Займа свободы», министерство финансов передавало непосредственно банкам огромное количество своих краткосрочных сертификатов. Предполагалось, что эти сертификаты будут обмениваться на доллары, полученные от продажи облигаций «Займа свободы». Однако на практике крупные пакеты сертификатов оставались у банков, что вынуждало министерство финансов прибегать к рефинансированию (табл. 5)[628].
Увеличение правительственных расходов и недостаточное удовлетворение частного спроса могли компенсироваться, как это происходило во время Второй мировой войны, повышением реальной экономической активности. Рост покупательной способности мог подкрепляться предложением дополнительных товаров и услуг. В первые годы войны такую роль в американской экономике играли закупки Антанты, способствовавшие увеличению занятости и производства[629]. Но в 1916 году рост производства достиг своих пределов. ВВП США в ценах 1914 года за два года увеличился крайне незначительно: с 41,3 млрд долларов в 1916 году до всего лишь 42,9 млрд долларов в 1918 году, чтобы упасть до 41 млрд долларов в 1919 году[630]. Несмотря на пропагандистскую шумиху, существенного прогресса не наблюдалось ни в производстве, ни в производительности. При растущем спросе и неизменном объеме производства результат был предсказуем. Война оплачивалась за счет инфляционного налога. При едва заметном росте объема производства в период с 1916 по 1920 год номинальный национальный доход вырос с 43,6 млрд до 82,6 млрд долларов. Цены выросли вдвое. В 1914 году Форд назначил дневную оплату труда в размере 5 долларов, чем произвел мировую сенсацию. К концу лета 1917 года эта сумма не превышала абсолютного минимума. Стоимость жизни стремительно росла, притом что реальная оплата труда отставала[631]. В период с 1914 по 1916 год доходы от американского экспорта были феноменальными[632]. Профсоюзы боролись за сохранение реальных доходов своих членов, и в период с 1917 по 1919 год Америку сотрясали небывалые трудовые споры.
Последствия мобилизации экономики США в военное время, вместо того чтобы выступить в роли стабилизирующего фактора нового мирового экономического порядка, сыграли значительную дестабилизирующую роль. Американское общество и ключевые фигуры в администрации президента Вильсона ощутили, что Америка уже не стоит в стороне от мирового кризиса, сохраняя свое исключительное положение, но оказалась опасным образом вовлеченной в него. Все было готово для послевоенной реакции.
Таблица 4. Изменение мировой системы цен в военное время: оптовые цены (1913 г. = 100)
Таблица 5. Рост военной экономики: Соединенные Штаты, 1916–1920 гг.
11 Перемирие: сценарий Вильсона
В первые недели июля 1918 года события на Западном фронте решительным образом оборачивались против Германии. 22 июля Людендорф отдал приказ об отступлении с позиций на реке Марне. С начала года германская армия потеряла 900 тысяч человек. Каждый месяц прибывало по 250 тысяч американских солдат. Во Франции уже было сформировано 25 мощных дивизий. Еще 55 дивизий формировались по ту сторону Атлантики[633]. Каждую неделю баланс все сильнее изменяется не в пользу Германии. Это, однако, не означало немедленного окончания войны. Германская армия начнет распадаться только в октябре. Гитлер, находясь в гораздо более неблагоприятных обстоятельствах, использовал все средства принуждения и пропаганды для того, чтобы поднять рейх на последнюю кровавую битву. В 1918 году в Германии были люди, готовые сделать то же самое. Если бы им удалось одержать верх, то в 1919 году могли произойти ужасные события, подобные тем, которые привели к разрушению значительной части Германии и Центральной Европы в 1944–1945 годах. Но в результате решений, принятых «остатками» режима кайзера, партиями, составлявшими большинство в рейхстаге, и сотнями тысяч простых жителей страны, война была окончена утром 11 ноября 1918 года.
До сих пор принятое в ноябре 1918 года решение в пользу мира не получило должной оценки как выдающейся победы демократической политики. Труднее всего пришлось Германии. Однако прекращение военных действий было неоднозначно воспринято в Лондоне, Париже и Вашингтоне. Руководителям этих стран пришлось пойти на мир. Правильно ли они сделали, что согласились на перемирие, а не продолжили войну до тех пор, пока Германия не сдастся? К октябрю германская линия обороны разрушилась. Если бы война продолжилась еще несколько недель, Антанта могла бы к концу года потребовать безоговорочной капитуляции. Теперь же Германия не только смогла избежать полного поражения, но и, к удивлению, определять политику мира. Разумеется, Германия уже не могла требовать «мира равных», обещанного Вильсоном в 1917 году. Тем не менее в ходе переговоров о перемирии Берлин вполне намеренно внес в план перемирия имя Вильсона и его обещание мира без поражения.
I
После провала последнего наступления германской армии в июле и последовавшей немедленно контратаки французов прорыв британских частей в направлении Амьена поставил Германию в безвыходное положение. После 8 августа, «черного дня для германской армии», Людендорф и Гинденбург так и не смогли восстановить свое влияние[634]. Однако стремление принимать желаемое за действительное и сложности на линиях связи между Берлином и штабом кайзера в Спа привели к тому, что германские политики сумели осознать всю тяжесть военной ситуации лишь в середине сентября. В ноябре 1917 года большинство в рейхстаге утвердило на должность канцлера члена партии христиан-демократов Георга фон Гертлинга. Ожидалось, что он сумеет защитить права гражданского населения в тылу, провести в Пруссии демократизацию и добиться устойчивого и легитимного мира на Востоке. Ему не удалось выполнить ничего из перечисленного. Фиаско в Брест-Литовске привело к тому, что Германия утратила доверие как игрок на мировой арене. Как заявил комитету рейхстага член социалистической партии Фридрих Эберт, «мы проводим политику, нечестную изнутри. Каждый берет что может! И заявляет о примирении и переговорах… На политическом уровне мы не видим ничего, кроме кучи мусора!»[635] В середине сентября 1918 года Австрия в открытую призвала к миру, но правительство Гертлинга оставило этот призыв без внимания. Союзники выбивались из сил, и было очевидно, что Германии нужны переговоры, но пойти на них могло только новое правительство. Конечно, Британия и Америка заявляли, что ожидают смены режима в Германии. Даже консерваторы из окружения кайзера начинали привыкать к мысли о том, что им придется пойти на создание демократического фасада. Но власть ускользала у них из рук. Партиям, входящим в большинство в рейхстаге, не было нужды заискивать перед Западом. Они требовали власти, потому что правящий режим стал политическим банкротом. Только либералы, партия Центра и СДП, похоже, были в состоянии сформулировать последовательную внешнюю политику и заручиться необходимой для ее проведения поддержкой населения. Как и русские революционеры в феврале 1917 года, они не ставили перед собой цели сдаться. Напротив, обеспечив основы демократии в тылу, они надеялись на переговоры с позиции относительной силы[636]. 12 сентября 1918 года Маттиас Эрцбергер впервые призвал СДП присоединиться к партии Центра в формировании нового правительства рейха, и представитель либералов Фридрих Науман привел красноречивую историческую аналогию. Он надеялся, что участие социалистов в правительстве вызовет в рейхе такой же патриотический подъем, который позволил французскому радикалу Леону Гамбетте возродить сопротивление наступающим войскам Бисмарка осенью 1870 года[637].
В первых числах октября принц Макс фон Баден, либерал, вступил в должность канцлера и возглавил правительство, состав которого был согласован с СДП, либералами и партией Центра. В области внутренней политики его правительство обещало провести демократизацию Пруссии, отменить военное положение и принять конституцию, провозглашавшую рейх парламентской республикой. Мир на принципах Лиги Наций логически дополнял внутриполитические реформы. Берлин предлагал полное восстановление Бельгии и предоставление полной автономии всем территориям, освободившимся из-под власти русского царя. Но если в мире будет отказано, то новое правительство Германии создаст демократическое народное ополчение и будет готово сражаться до конца[638]. Неудивительно, что такое правительство обратилось к президенту Вильсону с просьбой о посредничестве. Но это был не автоматический выбор. Новый канцлер не доверял американскому президенту. Фон Баден особенно возражал против любых односторонних контактов с Вашингтоном. Лондон и Париж могли воспринять подобные шаги как попытку выторговать какие-то преимущества, настроив Антанту и Америку друг против друга, что будет истолковано как еще одно доказательство вероломства. Правительство, девизом которого были доверие и последовательность, не могло так начинать свою деятельность. Если Германия говорит о мире всерьез, ей следует говорить о нем непосредственно со странами, армии которых близки к сокрушительной победе на поле боя (то есть с Британией и Францией), а не пытаться заполучить рычаги влияния, ведя переговоры с их американским союзником[639].
Враждебное отношение к Вильсону разделяли и видные члены СДП. Член правого крыла партии Альберт Зюдекум подготовил памятную записку, в которой отмечал, что настоящим врагом Германии и Европы в целом является американский капитализм. Вильсон «открыто стремился к роли мирового арбитра»[640]. Его цель состояла в том, чтобы подчинить себе всю Европу, превратив целый континент в набор экономически зависимых от Америки национальных республик. Единственным спасением Европы от такого коллективного «вторжения» оказывается социал-демократическая партия, которая определит условия демократического мира вместе с социалистами во Франции и лейбористской партией Британии.
Но это мнение не совпадало с мнением представителей большинства в рейхстаге. В августе 1918 года Маттиас Эрцбергер закончил работу над книгой Der Völkerbund: Der Weg zum Weltfrieden («Лига Наций: путь к миру во всем мире»)[641]. Эрцбергер пытался убедить германскую общественность в том, что вопреки распространенному мнению Вильсон был не просто лицемером, а на самом деле представлял традиции либерализма, имевшего глубокие корни в американской демократической и антимилитаристской политике. Более того, несмотря на воинственную риторику правительств Британии и Франции, многие члены правительств этих стран искренне поддерживали идею создания Лиги Наций. Германия пошла по неверному пути еще до 1914 года, выказав свое пренебрежение к Гаагской мирной конференции. Перед лицом врагов Германии не пристало отказываться от своей мирной политики. Она должна настоять на идее создания лиги мира как части собственной национальной истории, представленной средневековым Ганзейским союзом и трудами философа Иммануила Канта, посвященными вечному миру. Кроме того, после пережитого в этой войне кто мог усомниться в глубокой заинтересованности Германии в мире? Если война завершится созданием Лиги Наций, указывал Эрцбергер, Германия получит гораздо больше, чем потеряет[642]. Что касается Филиппа Шейдемана и СДП, то они считали, что для Германии война перестала быть средством политики. При всей доблести своих солдат Германия не могла противостоять мировой коалиции[643]. Поэтому Германия должна предстать перед международным арбитражем под наблюдением Лиги Наций, который будет наделен широкими полномочиями и чьи решения будут носить обязательных характер. Эрцбергер видел в Лиге Наций выразительницу мирового общественного мнения, которая руководствуется общехристианскими и общедемократическими ценностями. Конечно, общественное мнение – субстанция весьма неопределенная. Но германские милитаристы игнорировали силу общественного мнения слишком долго. В октябре 50 тысяч экземпляров первого тиража книги Эрцбергера были распроданы в течение нескольких недель[644].
Но прежде всего германский интернационализм выступал на стороне атлантизма. 12 сентября 1918 года, за две недели до окончательного кризиса на Западном фронте и вступления в должность Макса фон Бадена, Эрцбергер призвал своих коллег в рейхстаге считать Лигу Наций первым шагом к тому, чтобы сделать «широкий жест через океан навстречу Вильсону»[645]. Невзирая на антиамериканизм канцлера, была избрана именно эта стратегия[646]. 6 октября фон Баден обратился к Вильсону с просьбой о начале мирных переговоров на основе принципов, изложенных в «14 пунктах»: самоопределение без аннексий и контрибуций. Берлин представлял себе серьезные последствия такого шага. Германия смирялась. Отчаянно пытаясь выжить, Германия пользовалась очевидным желанием Вильсона выступать в роли мирового арбитра. Вероятность того, что Берлин может на деле принять предложение Вильсона о «мире без победы», было кошмарным сном для стратегов Антанты еще со времени мирной ноты декабря 1916 года. До осени 1918 года политические разногласия внутри самой Германии не позволяли Берлину пойти по этому пути. Призыв к миру, с которым рейхстаг выступил в июле 1917 года, остался в тени военного триумфа Германии над Россией. Попытки заключить прогрессивный мирный договор в Брест-Литовске были сорваны катастрофическим противостоянием германских милитаристов и большевиков. Осенью 1918 года еще одна попытка Германии заключить мир на либеральной основе была близка к фиаско. В ноябре политика проведения переговоров о перемирии могла привести к мятежу, который перешел бы в революцию, но лишь до тех пор, пока Берлин не предоставил Вильсону возможность нажать на Лондон и Париж. Потерпев поражение, Германия дала Вильсону шанс, которого его столь старательно лишала Антанта. Перемирие позволяло Вильсону превратиться из представителя воюющей стороны в арбитра европейских событий. Находясь на грани краха, Германия позволила Вильсону осуществить сценарий, который отныне стал определяющим для вопросов мира.
II
27 сентября 1918 года, чувствуя приближение конца, Вильсон воспользовался кампанией, проходящей в Нью-Йорке в связи с четвертым выпуском облигаций «Займа свободы», чтобы выступить с речью, в которой он еще раз определил основные направления «либерального» мира. «Надежный и прочный мир» можно обеспечить, лишь пожертвовав собственными «интересами» во имя «объективной справедливости». «Неотъемлемым инструментом» такого мира должна стать Лига Наций. В своей новой попытке сформулировать основы мира, известной как «пять особенностей», Вильсон еще раз показал, с каким нежеланием он вступал в антигерманскую коалицию. Лигу нельзя было формировать в военное время, потому что в этом случае она превращалась в инструмент в руках победителей. Новое устройство мира должно обеспечивать беспристрастный справедливый подход как к победителям, так и к побежденным. Никакие особые интересы не должны ставиться выше общих интересов. В самой Лиге не может быть никаких исключений. В ней не должно быть места корыстным экономическим комбинациям, любым видам бойкотов и блокад, сравнимых с военными действиями. Все международные соглашения должны быть совершенно открытыми. И вновь Вильсон претендовал на то, что он является выразителем «незатуманенной» мысли «человеческих масс» и призывает лидеров европейских государств набраться смелости и заявить о своем несогласии с предлагаемыми им принципами. Неудивительно, что Лондон и Париж хранили молчание, а правительство Макса фон Бадена поспешило заявить о своем полном согласии. В первой ноте о перемирии, направленной Вильсону 7 октября, Берлин предложил провести переговоры на основе, которую Вильсон выдвинул в своей речи 27 сентября, а также «14 пунктов».
Понять ход событий после октября 1918 года будет намного проще, если с самого начала помнить о том, что Вильсон всегда относился к процессу демократизации в Германии с большой долей скептицизма. Американский президент не был универсалистом, каким его часто изображают, совсем наоборот. Вильсон считал, что подлинное политическое развитие представляет собой постепенный процесс, во многом определяемый глубокими этнокультурными и «расовыми» влияниями. Его взгляды на Германию были просты. Начиная с лета 1917 года он придерживался убеждения, что «милитаристские властители» Германии избрали двусторонне направленную стратегию: «…ничего не изменять, если победят, и пойти на создание парламентского правительства, если окажутся побежденными»[647]. Именно поэтому судьба большинства в рейхстаге и Веймарской республике имела второстепенное значение в расчетах Вильсона. На Парижской мирной конференции он всячески старался избегать встреч с делегацией Германии. Как отмечал Вильсон, «он не возражал бы… встретить старую кровь и железных людей старого режима, но одна только мысль о том, что придется наблюдать эти бесцветные создания нового режима.» была ему противна[648]. «Бесцветные», подобные Эберту и Эрцбергеру, могли предпринять определенные шаги в нужном направлении, но для того, чтобы в Германии укоренилось настоящее самоуправление, требовались годы, если не десятилетия. Вильсон воспринимал переговоры с Германией прежде всего в качестве рычага, обеспечивающего ему преимущество над победителями. Теперь, когда Германия была на грани поражения, именно французский и британский империализм, по мнению Вильсона, представлял собой основную опасность для его концепции нового мирового порядка. Вот почему, хотя сотни тысяч американцев сражались плечом к плечу с солдатами Антанты, он решил откликнуться на призыв Берлина в одностороннем порядке, без консультаций с Лондоном или Парижем. Вильсон попросил германскую сторону изложить свою позицию более подробно, на что правительство Макса фон Бадена с радостью сообщило, что целиком и полностью принимает каждый из «14 пунктов» и готово вывести германские войска со всех оккупированных территорий под наблюдением «смешанной комиссии».
В октябре 1918 года Британия и Франция оказались в чрезвычайной ситуации. В минуту военного триумфа казалось, что Вильсон неожиданно возвращается к позиции исключительного положения США как мирового арбитра, с которой они впервые столкнулись в январе 1917 года. Начиная с весны 1918 года в отношениях между Вашингтоном и европейскими столицами возникла значительная напряженность. Антанта негодовала по поводу неспешной реакции Вильсона на последнюю наступательную операцию Людендорфа. В течение лета отношения обострились в связи с интервенцией в России. Аналогичным образом, хотя позиция Лондона в вопросе о Лиге Наций оказалась более твердой, чем позиция Вашингтона, Вильсон и Ллойд Джордж уже спорили по поводу структуры и задач этой организации. В близких к Вильсону кругах о европейцах высказывались в открыто враждебном ключе. В Европе даже в официальных протоколах звучало презрение британского кабинета министров по отношению к тому, с какой беззастенчивостью Вильсон вступил в односторонние мирные переговоры с Берлином. Менее сдержанные отчеты о заседаниях с участием Ллойда Джорджа в начале октябре сообщают о его взрывах гнева. Вильсон действовал в одиночку. Он оставлял Германию безнаказанной и делал это во имя прогресса и справедливости. Когда даже The Times расценила заметки Вильсона о мире как великодушный либеральный шаг, Ллойд Джордж едва сдерживал себя[649]. Воспоминания о «мире без победы» пробудились не только в Европе. В США республиканцы требовали не перемирия, а безоговорочной капитуляции.
Раздосадованный гневной реакцией на свою одностороннюю дипломатию, но полный решимости использовать предоставленную Германией возможность, Вильсон решил поднять ставки. 14 октября в ответ на вторую записку Макса фон Бадена по вопросу перемирия президент потребовал доказательств того, что Германия действительно встала на путь демократии. Скрытый смысл был ясен: кайзер должен уйти. И снова общественное мнение в Америке заботило Вильсона не больше, чем действительные перемены в Германии. Ему надо было казаться одновременно и сильным, и либеральным. Но для Лондона и Парижа это было серьезным промахом: в Германии требование демократизации как условия заключения мира неизбежно давало противоположный результат; сторонники реформ будут восприниматься как вражеские марионетки. И европейские союзники были правы.
В Берлине были обескуражены второй нотой Вильсона. Правительство Макса фон Бадена оставалось верным идее переговоров с Вашингтоном. К концу октября военная обстановка была столь безнадежной, что большинство в рейхстаге оставило всякую мысль об организации кампании массового сопротивления вторжению союзников. Однако крайне правые восприняли требование Вильсона об отречении кайзера как подстрекательство. Пренебрегая позицией гражданского правительства, Людендорф отправился в Берлин, чтобы заявить протест и поднять правые силы на последнее сражение за имперский штандарт кайзера. 26 октября Макс фон Баден отправил его в отставку. Успокоить моряков оказалось сложнее. Под предлогом подготовки эвакуации с побережья Фландрии германское адмиралтейство отдало приказ о последнем массовом выходе в Северное море, где должно произойти решающее столкновение с британским флотом. Именно этот самоубийственный мятеж офицеров привел их к окончательному поражению. В первые дни ноября 1918 года команды кораблей, стоявших в Киле, отказались подчиняться приказам мятежных офицеров. Телеграф и телефон быстро разнесли эту новость, и смелый пример моряков поднял революционную волну по всей Германии.
Зимой 1917/18 года, когда в Брест-Литовске шли переговоры, германские милитаристы своими агрессивными действиями саботировали попытки рейхстага заключить легитимный мир на Востоке, что привело к забастовкам в Берлине и Вене, расколовшим демократическую оппозицию. Теперь попытка правого крыла саботировать мир на Западе привела к полному краху режима кайзера. Несоблюдение субординации и неразумные действия германских ультранационалистов поставили попытки германских парламентариев обеспечить упорядоченный демократический выход из войны на грань провала. Когда в первых числах ноября со всей Германии начали поступать сообщения о мятеже и бунтах, правительство фон Бадена, почти утратившее власть, с замиранием сердца ожидало сообщений с Запада. Сумеет ли Вильсон заставить Антанту принять условия перемирия, на которые с готовностью соглашалась Германия? Сядут ли союзники за стол переговоров, прежде чем германское государство развалится в ходе столкновений между левыми революционерами и правой фрондой? К 4 ноября казалось, что Лондон и Париж тянут время, а германская оборона рассыпается на глазах. В Берлине царила тихая паника.
III
Позже Германия будет считать это подлой тактической комбинацией, гениально разработанной макиавеллевским гением англо-американского империализма, когда Вильсон со своим либеральным морализмом обманом склонял Германию к перемирию, после чего в Версале франко-британские агрессоры наносили ей кинжальный удар. Для находящихся в преимущественном положении Лондона и Парижа это выглядело иначе. В октябре 1918 года Вильсон вступил в переговоры с Берлином, никак не координируя свои действия с Антантой. Чтобы хоть как-то понимать происходящее, Лондон и Париж потребовали от Вильсона прислать в Европу полномочного представителя, с которым они вместе могли бы сформулировать окончательные условия перемирия. 27 октября в Париж прибыл полковник Хауз[650]. Сначала британцы, французы и итальянцы заняли твердую позицию и отказывались идти на соглашение о мире, включающее положения «14 пунктов», которые президент также внес в одностороннем порядке. Французы и итальянцы не возражали против идеи Лиги Наций, но не хотели, чтобы она была включена в мирное соглашение. Британцы возражали против общего обязательства обеспечения свободы морей. Не принимая условий, ограничивающих их возможности в такой степени, британцы предпочитали продолжить войну и самостоятельно довести ее до конца. Мирные предложения Германии вновь обнажили глубокое различие позиций Вильсона и Антанты. Осенью и зимой 1918 года по мере приближения победы Вильсон не единожды при случае напоминал окружавшим свою основную позицию. Его неприятие европейской силовой политики распространялось и на море, и на сушу. «Если бы он не понимал, что Германия угрожает всему миру, он нашел бы случай разобраться с Англией»[651]. Теперь, после поражения Германии, этот момент, похоже, настал. В конце октября на заседании американского кабинета министров, когда один из коллег предостерег его от того, чтобы принуждать страны Антанты к миру на условиях, к которым они не были готовы, Вильсон резко ответил: «Их следует принудить». Нет никаких сомнений, что так и произошло[652].
Обмен нотами с Германией взбудоражил общественность. Потери в последних сражениях 1918 года были не менее ужасны, чем на протяжении всей войны. Это привело не только к истощению сил, но и к обострению проблемы людских резервов. В начале ноября 1918 года Жорж Клемансо был вынужден пойти на сделку с сенегальским лидером Блезом Дяном, пообещав предоставить политические права коренным сенегальцам в обмен на поставку рекрутов для французских ударных частей, что позволило Франции претендовать на свою долю в победе в 1919 году[653]. Ситуация в Ирландии вышла за пределы возможного компромисса. В случае продолжения войны предстоящей зимой Лондону пришлось бы насильно призвать на воинскую службу сотни тысяч мятежных сторонников «Шинн фейн». При всей воинственной риторике ни Клемансо, ни Ллойд Джорджу война сама по себе была не нужна. Еще не представляя, насколько близка Германия к полному краху, они понимали, что одержали историческую победу. Продолжив войну в 1919 году, они могли бы обоснованно рассчитывать на безоговорочную капитуляцию Германии. Но в этом случае основные заслуги в достижении победы принадлежали бы американцам. А если Франция и Британия идут на соглашение о мире сейчас, то они становятся героями. Единственное, что могло поставить их триумфальную победу под вопрос, были бы безуспешные попытки саботировать перемирие, в которых они выглядели бы реакционными противниками Вильсона в его видении мира и демократии[654].
Более того, хотя полковник Хауз имел инструкции «принудить» европейцев, на деле он был в большей степени расположен к тому, чтобы пойти на уступки, чем Вильсон. В обмен на согласие принять «14 пунктов» в качестве основы соглашения о мире Хауз согласился с тем, что военные условия перемирия будут определены главнокомандующим союзнических армий генералом Фошем. К радости французов, Фош настоял на полном разоружении германских военных и выводе германских войск с территорий к востоку от Рейна. Союзническим войскам предстояло занять Рейнскую область и плацдармы на восточном берегу Рейна. Это были требования временного характера, не окончательный мир, но Фош удивился, когда узнал, что требования приняты. Он считал их очень жесткими и рассчитывал, что Берлин отвергнет их, дав ему тем самым возможность довести войну до действительно окончательной победы.
Что касалось Британии, то здесь Хауз пошел еще дальше. Он согласился с тем, что Британия сама сформулирует свои возражения в качестве оговорок в окончательном варианте ноты, которая будет направлена Германии. Это вызывало у Британии чувство раздражения, но по крайней мере позволяло ей упрочить свои законные позиции. Британия могла согласиться с договором о мире, не требующим карательных контрибуций. Но в войне, принесшей разруху во многие страны мира, было несправедливым ограничивать компенсации лишь территориями, которые германская армия опустошила в прямом смысле слова. Именно поэтому в ноте о перемирии указывалось, что Германия несет ответственность за все расходы, возникшие в связи с ее агрессией, а это уже была статья, имевшая значительно более широкий смысл. Вторая оговорка касалась свободы морей. Британия не оспаривала законные интересы своих партнеров на море. Начиная с 1917 года Британия призывала администрацию Вильсона рассмотреть вопрос о партнерстве в области судоходства[655]. Когда заключить двусторонний договор не удалось, Лондон предложил четырехстороннее соглашение при участии Японии и Франции. Ведь если объявить океаны нейтральными водами, то агрессоры получат неограниченную свободу действий. Поражение Германии поднимало вопрос о контроле над Атлантикой. Если бы Лига Наций располагала мощным механизмом экономических санкций, то можно было бы прибегать к эффективным морским блокадам. Единственный способ обеспечить безопасность либерального мира состоял в том, чтобы исключить опасность действий агрессивных сил, передав мировые морские пути государствам, которым можно было доверять. Полковник Хауз был против этого принципа, но согласился с тем, чтобы Британия внесла эту оговорку в текст условий перемирия. Если Британия и США достигнут согласия, то Клемансо останется лишь присоединиться к ним.
5 ноября информация об условиях перемирия была доведена до правительства Германии. В Берлине почувствовали огромное облегчение, ведь именно в эти дни режим Бисмарка рушился под ударами революции. 9 ноября была провозглашена Республика Германия, причем провозглашена дважды: сначала радикальным крылом, а затем и умеренной частью партии социал-демократов. К 10 ноября в германской армии царил такой разброд, что делегация Германии на переговорах о перемирии в Компьене не имела надежной связи со штаб-квартирой в Спа. Лишь в 2 часа ночи 11 ноября делегация, возглавляемая Эцбергером, получила из Берлина сообщение о том, что новое революционное правительство подтверждает ее полномочия на подписание соглашения о прекращении огня. При таких обстоятельствах согласие Антанты принять «14 пунктов» за основу будущего соглашения о мире стало удивительным триумфом дипломатии, начало которой было положено в начале октября большинством в рейхстаге. Если бы Франция и Британия представляли, сколь близка к распаду была Германия, то могли бы с легкостью нарушить планы Вильсона. Революционная волна окончательно лишала Германию способности противостоять их дальнейшему военному продвижению уже через несколько дней. Теперь же германское правительство предоставило Вильсону определять политику мира.
IV
Те, кто симпатизировал воззрениям Вильсона, теперь считали соглашение о перемирии основополагающим документом новой эпохи, сулящим Германии и всей планете «либеральный мир». Критики грядущего Версальского договора говорили о соглашениях, контрактах и конституциях[656]. И правда, Вильсон будто вызвал пророческое вдохновение. Однако на деле такая конструкция предполагала арьергардные действия, риторическую попытку поддержать и укрепить крайне противоречивые политические основы мира[657]. Односторонние переговоры Вильсона с Берлином в октябре 1918 года, принуждение Британии и Франции к принятию поставленных им условий служили ненадежной основой для соглашения о перемирии. Это хорошо понимали и в Берлине, испытывая, подобно самому фон Бадену, сомнения относительно односторонних контактов с Вильсоном. Об этом в гневных повышенных тонах говорили за закрытыми дверями в Лондоне и Париже. В Белом доме Вильсон пресекал всякую критику со стороны членов кабинета. От совпадения военного и политического краха Германии с переговорами о перемирии волосы вставали дыбом, и это лишь усугубляло положение. Люди, подобные Джону Мэйнарду Кейнсу, позже утверждали, что Германия стала объектом манипуляций, а Антанта мошенническим путем добилась перемирия с храбрым и сохранившим боеспособность противником, но эти обвинения не соответствуют действительности. До последнего момента Антанта относилась к Германии как к суверенному партнеру, хотя рейх на самом деле погружался в хаос. Именно германская делегация в период с 9 по 11 ноября 1918 года продолжала переговоры в Компьене так, как если бы она представляла правительство и армию, способные продолжать борьбу, хотя на деле и правительство, и армия Германии находились в состоянии распада. Германия выразит свой протест по поводу этого предательства, но в свете происходящего по всей стране в первой половине ноября (с точки зрения Британии и Франции) этот протест лишь в очередной раз подтверждал вероломство Германии[658].
Ставки в игре Вильсона были высоки. Он решил отказаться от того, чтобы установить мир, каким он его видел, силой американского оружия, и играл на том, что перемирие, заключенное на основе «14 пунктов», заставит Антанту остановиться. Для этого Вильсону требовалась поддержка общественности, но в первую очередь ему было необходимо обеспечить собственное влияние в Вашингтоне, превратившемся в новый центр мировой власти. Однако именно здесь, за неделю до подписания соглашения о перемирии, Вильсон утратил контроль. В Америке, несмотря на грядущую военную победу, царили противоречивые настроения. Клемансо и Ллойд Джордж не могли себе позволить в открытую выступать против Вильсона, зато это могли сделать политические оппоненты президента в самой Америке. Готовность Вильсона к одностороннему обмену телеграммами с Берлином, в то время когда десятки тысяч американских солдат погибали в лесах Аргона на северо-востоке Франции, вызвала волну негодования. 7 октября по инициативе республиканцев в Сенате состоялись дебаты, на которых было выдвинуто требование полной победы. Сенатор от Аризоны Генри Ф. Эшарст призвал союзников оставить за собой «широкую полосу из огня и крови на всем протяжении от Рейна до Берлина». Неудивительно, что подобные аллюзии на поход генерала Шермана на Атланту не понравились Вильсону. Он пригласил Эшарста на личную беседу и раскрыл перед ним свои стратегические замыслы. Безоговорочная капитуляция Германии развяжет руки Британии и Франции, утверждал Вильсон, в то время как он сам «думал теперь не только о том, чтобы обеспечить сильную и справедливую позицию Соединенных Штатов, но и о том, что будет через сто лет»[659]. Оппоненты Вильсона оставались непоколебимы. 21 октября сенатор Майлз Пойндекстер выступил с инициативой импичмента Вильсона, если тот продолжит переговоры с Германией[660]. Спустя несколько дней оба экс-президента, Тафт и Рузвельт, сделали то, на что не решался ни один европеец, – они публично отказались признавать «14 пунктов». В своей характерной манере Теодор Рузвельт заявил: «Давайте же мы будем диктовать мир громом наших пушек… а не болтовней о мире под аккомпанемент пишущих машинок»[661].
Это не было пустым позерством. Вашингтон был на полпути к предвыборной лихорадке. Как и на президентских выборах 1916 года, активность сторонников партий была высока. 21 октября Rocky Mountain News предоставила на своих страницах слово сторонникам оголтелой антивильсоновской политики, разоблачавшим «большевиков в стане демократической партии»[662]. Выступая в Нью-Йорке с трехчасовой речью, Рузвельт высказал предположение о том, что готовность Вильсона идти на переговоры с германским правительством, в котором орудуют связанные с Лениным социал-демократы, свидетельствовало о его подлинных симпатиях «германизированным социалистам и приверженцам большевиков всех мастей»[663]. В своем ответном выступлении 26 октября Вильсон испытывал большой соблазн сделать крайне рискованный шаг. Вынужденный выступать в столь необычной роли в середине предвыборной гонки, президент заявил избирателям, что «в этом году народы Европы будут оценивать то, как вы проголосуете, с одной-единственной позиции. Они не будут вдаваться в тонкости». Отказ поддержать демократическое большинство будет воспринят как «отказ поддержать войну и как поддержка нашей миссии мира, направленной на закрепление результатов войны»[664]. Такое заявление полностью отвечало вильсоновскому представлению роли президента как лидера. Но это был шокирующий отказ от сделанного раньше, и многие считали, что это заявление изменило отношение электората не в пользу президента. 5 ноября 1918 года республиканцы получили большинство в обеих палатах Конгресса. Генри Кэбот Лодж, ярый оппонент Вильсона, стал лидером большинства в Сенате и председателем Комитета по международным делам.
Не вызывает сомнения, что многие обвинения в адрес Вильсона и демократов, звучавшие в 1918 году, носили безответственный характер. Они подобно вирусу распространились по всей политической системе Америки, создавая почву для бредовой кампании «красной угрозы» 1919 года. Симпатии демократов социализму фактически означают, что они не могут быть патриотами, – такие обвинения и сегодня эхом отзываются в демагогических выступлениях правых сил в Америке. Однако это не должно затмевать суть разногласий. Односторонняя дипломатия Вильсона носила исключительно силовой характер. В основе такой дипломатии лежала не забота о демократии в Германии, но желание Вильсона подчинить Британию и Францию его собственному видению власти Америки. Республиканские критики Вильсона представляли себе мир совершенно иначе. Как подтвердил Рузвельт в разговоре с министром иностранных дел лордом Бальфуром, Америка будет настаивать на «безусловной капитуляции Германии и абсолютной своей лояльности по отношению к Франции и Англии на мирных переговорах…Америка должна выступать не в роли третейского судьи в споре наших союзников и наших врагов, но как один из союзников, которому предстоит достичь с ними соглашения». «Мы рады любому возможному плану построения Лиги Наций, но предпочитаем, чтобы у ее истоков стояли наши союзники, а сама эта организация приемлема лишь в качестве дополнения и ни в коем случае не в качестве заменителя готовности наших сил и нашей обороноспособности»[665]. Одному из своих друзей- журналистов Рузвельт говорил о рабочем соглашении между Британской империей и США, которое он теперь называл «союзом»[666]. Главные оппоненты Вильсона из числа республиканцев являлись изоляционистами не в большей степени, чем Клемансо и Ллойд Джордж – реакционерами. Общим у них было то, что они отвергали особый взгляд Вильсона на мировое лидерство Америки. Их концепция послевоенного порядка основывалась, скорее всего, на привилегированном стратегическом союзе между США и другими государствами, которых они считали своими партнерами по эксклюзивному демократическому клубу, имея в виду в первую очередь Британию и Францию. Такой подход был опасен для Германии и глубоко неприятен Вильсону. И в этом смысле его связи с Берлином не были просто плодом воображения партийных активистов.
12 Демократия под нажимом
Старая Европа исчезла в период с октября по декабрь 1918 года. Революция смела Габсбургов и Гогенцоллернов, а вместе с ними королевские династии Баварии, Саксонии, Вюртемберга, 11 герцогств, великих герцогств и 7 более мелких княжеств. Мало кто об этом сожалел. Германия, Австрия и Венгрия, Польша, Чехословакия, Финляндия, Литва, Латвия и Эстония провозгласили себя республиками. Примечательная особенность Европы в период между войнами, если не считать прочих политических проблем, состояла в том, что восстановление монархий оказалось невозможным. Единственным исключением стало новое государство южных славян – Югославия, – созданное вокруг сербской королевской династии, которая вновь была легитимизована как основа национальной идентичности в ходе войны. Но падение династий, как показала революция в России, оказалось лишь первым этапом. Что будет дальше? Как и в России 1917 года, на политической сцене Центральной Европы на протяжении осени 1918 года преобладали социал-демократы и либералы. Настоящие коммунисты повсюду составляли незначительное меньшинство. Тем не менее легко было представить, как Советы выжидающе посматривают в сторону Востока. На следующий день после провозглашения республики в Берлине главная советская газета «Правда» выступила с призывом объявить 10 ноября 1918 года национальным праздником, чтобы отметить восстание рабочего класса Германии. Было ли это сигналом к мировой революции?
Конечно, Вудро Вильсон, ставший первым в истории американским президентом, посетившим с визитом Европу, воображал себя центром мировой бури. «Консерваторы не осознают, какие силы вырвались на свободу в современном мире, – наставлял Вильсон сотрудников своей администрации в декабре 1918 года, находясь на борту военного корабля «Джордж Вашингтон». – Либерализм – это единственное, что может спасти цивилизацию от хаоса – от вала крайнего радикализма, который затопит мир…Либерализм должен стать еще более либеральным, чем прежде, он даже должен стать радикальным, если цивилизации суждено избежать урагана»[667]. Россия предложила свой взгляд на мировую революцию, и многим казалось, то Вильсон предлагает еще один взгляд на нее. Внесенные в соглашение о перемирии «14 пунктов» теперь становились своего рода мировой валютой. В Корее, Китае и Японии демонстранты несли лозунг Вильсона на своих плакатах. В горах Курдистана искушенные сыновья вождей племен окружали турецкого националиста Кемаля Ататюрка, требуя, чтобы отношения между турками и курдами строились на основе «14 пунктов»[668]. Живущие в ливийской пустыне берберы, вступив от имени недавно созданной Триполитанской республики в переговоры, поучительно говорили своим итальянским оппонентам, что «век империализма миновал и то, что было возможным в XIX веке, стало невозможным во втором десятилетии XX века». Они заключили мир строго на условиях, о которых говорил Вильсон, и отметили это событие парадом автомобилей, украшенных эмблемами Лиги Наций[669].
Расширение политического горизонта, ознаменовавшееся подобными событиями, было примечательным. Оно говорит нам о событиях в мире во многом то же самое, что говорило историкам, писавшим об эпохе холодной войны, противостояние между Лениным и Вильсоном[670]. Но в 1919 году мировой революции не произошло, ни в том смысле, какой ее ожидал Ленин, ни в том виде, как ее представлял Вильсон. Революция в Европе не получила столь широкого распространения и не продвинулась так далеко, как это случилось тремя поколениями раньше, в 1848 году[671]. Радикальный социализм в 1919 году потерпел еще большее поражение, чем то, которое постигло европейских либералов в 1848 году. «Революция» Вильсона закончилась печально известным фиаско. Ленин и Вильсон ушли из жизни в 1924 году с интервалом в несколько недель глубоко разочарованными людьми. С тех пор верные сторонники Вильсона и последователи Ленина делают из этой неудачи довольно значимые выводы. Считается, что прерванная или столкнувшаяся с поражением революция 1918–1919 годов определила ход событий XX века. И Ленин, и Вильсон приходили в отчаяние, глядя на консерватизм, ярый национализм и закоснелый империализм Старого Света, мешавшие расстаться с прошлым[672]. А жестокость Великой войны обусловила еще большую жестокость последующих событий.
Но провал марксизма-ленинизма и вильсоновских построений не должен закрывать нам глаза на силы, действовавшие в период этого кризиса. Без революции не было бы и столь масштабной контрреволюции. Война высвободила очень мощные силы перемен, не вписывавшиеся ни в ленинский, ни в вильсоновский сценарии. Даже если бы последствия этих событий оказались более умеренными, чем те, на которые надеялись сторонники Вильсона и Ленина, то все равно необходимо признать двусмысленную роль этих самопровозглашенных подвижников прогресса в том, что эти последствия принесли столько разочарования.
I
В ноябре 1918 года, оправившись от почти смертельного ранения, полученного в результате покушения отчаянного наемного убийцы, Ленин был далек от мысли о революционном наступлении и испытывал чувство глубокой тревоги. Он был рад тому, что революция в России повлияла на мировое движение, но в то же время видел в этом огромную опасность. После захвата власти Ленин воображал, что ему удастся противопоставить имперскую Германию превосходящим силам Антанты. Теперь противовес, роль которого играла Германия, исчез. Как говорил Ленин, теперь, «когда Германию разлагает изнутри революционное движение, англо-французский империализм считает себя владыкой мира»[673]. Вторжение в Россию, начавшееся в июле 1918 года, будет неизбежно разрастаться. Что касается самой германской революции, то здесь Ленин проявлял такую же осторожность, как и в отношении Февральской революции в России. Патриотически настроенные германские социал-демократы, захватившие власть в ноябре, были ничем не лучше «либеральных империалистов» Антанты. Неожиданный уход германских войск с Украины позволил большевикам установить свою власть в Киеве. Троцкий в спешном порядке проводил мобилизацию сотен тысяч новобранцев в Красную армию. Перед Лениным и Троцким стояли сложнейшие задачи. Независимо от Брест- Литовского договора огромные части бывшей царской империи заявляли о своей независимости. Японские, американские, британские и французские войска занимали плацдармы на всем протяжении от Крайнего Севера до Крыма и Сибири. Крупные контрреволюционные армии собирались повсюду: силы генерала Евгения Миллера на севере действовали в Архангельске под британским прикрытием; армия Николая Юденича в Балтии сотрудничала с финнами, германцами и эстонцами; Добровольческую армию Антона Деникина поддерживали казаки, а также Британия и Франция; армия под командованием Александра Колчака на востоке занимала позиции, которые ранее удерживал Чешский легион в Сибири[674]. Впервые за два столетия Россия не нависала над Западной Европой, а была обессилена и изолирована.
В Антанте звучали голоса тех, кто, как воображал Ленин, призывали к полному уничтожению советской власти. Уинстон Черчилль, которому вскоре предстояло занять должность министра по делам вооружений, считал необходимым устранить большевистскую угрозу. В телеграмме, составленной в январе 1919 года, он писал: «О каком мире можно говорить, когда вся Европа и Азия от Варшавы до Владивостока находится под властью Ленина»?[675] 29 декабря 1918 года Франция объявила о введении общей блокады, направленной на неизбежное ослабление советского режима. Но если политика революционного интернационализма находилась в изоляции, то и политика контрреволюции была в том же положении[676]. Причиной начавшейся в июле интервенции была не враждебность к большевикам, как это воображал Ленин, но его явная решимость передать власть в руки имперской Германии. Капитуляция Германии привела, скорее всего, не к объединению капиталистического империализма против коммунистического режима, а к спасению советского правительства. Перемирие не только избавило Ленина от необходимости пойти на еще более тесный позорный союз с Людендорфом. Оно ослабило размах интервенции почти сразу после ее начала. Более того, теперь, когда Германия отступила, русские патриоты считали прислужниками иностранных держав не большевиков, а белых, представлявших собой антибольшевистские силы.
16 января 1919 года, выступая в министерстве иностранных дел Франции на конференции правительств ведущих мировых держав, где обсуждалась ситуация в России, Ллойд Джордж изложил свою позицию[677]. Он не сомневался в том, что большевики по меньшей мере столь же «опасны для цивилизации», как и германские милитаристы. Их немедленное уничтожение должно стать показательным примером. Однако с учетом нарастающей мощи Красной армии это уже не могло быть небольшим мероприятием. Потребуется вторжение не менее 400 тысяч солдат. Теперь, когда все стремились к демобилизации, ни один из присутствующих не испытывал желания предоставить необходимые ресурсы. Закончить войну с Германией и сразу развернуть полномасштабное наступление на Россию означало вызвать взрыв ярости на Западе. Выступая на заседании кабинета министров военного времени, Ллойд Джордж отметил: «Армия наших граждан пойдет куда угодно во имя Свободы, но их невозможно убедить в том (независимо от позиции самого премьер-министра), что подавление большевизма означает войну за свободу»[678]. Десять тысяч французских матросов, отправленных в Крым, уже подняли мятеж[679]. Антанта могла продолжать политику блокады. Но, продолжал Ллойд Джордж, в России проживает 150 млн гражданских лиц. Политика блокады была бы не «оздоровительным кордоном, а кордоном смерти». И умирать будут не большевики, а русские люди, которым Антанта хочет помочь. Оставался лишь один путь: переговоры. Но переговоры с кем и при каких обстоятельствах?
Ллойд Джордж предлагал пригласить все воюющие в России стороны в Париж «предстать перед» Америкой и великими державами Антанты, «примерно так, как в Римской империи вызывали вождей отдаленных населенных племенами провинций…» Однако решительно настроенные против большевиков французы и слышать об этом не желали. Они не «будут договариваться с преступниками»[680]. И они не бросят своих антибольшевистских союзников в России. Франция теряла в России больше, чем любая другая страна. В конце концов решили пригласить представителей всех участников событий в России на конференцию, которая будет проведена на отдаленных Принцевых островах в Мраморном море. Жорж Клемансо пошел на это, лишь стремясь избежать разрыва с Британией и Америкой.
В стане Советов идея переговоров с Вильсоном и Антантой разбередила раны, полученные в Брест-Литовске. Троцкий возражал против любых переговоров. Красная армия сражалась, невзирая ни на какие призывы к перемирию. Но Ленин дал понять, что готов к переговорам. Вину за срыв запланированной конференции возложили на белых, которые по настоянию сторонников жесткой линии в Лондоне и Париже отказались от участия в переговорах. Это снова открыло двери перед сторонниками интервенции. Между 14 и 17 февраля 1919 года, когда Ллойда Джорджа не было в Париже, Черчилль попытался заручиться поддержкой Америки в военном решении вопроса. Но Вильсон и Ллойд Джордж отказывались от такого предложения. Зато Вильсон направил в Россию одного из своих самых радикально настроенных советников, Уильяма Буллита. Тот провел длительные переговоры с Георгием Чичериным и Лениным, но ко времени его возвращения в конце марта на Запад конференция была настолько поглощена вопросом о мирном договоре с Германией, что не могла заниматься слишком сложным русским вопросом. Тем временем Ллойд Джордж выдвинул новый аргумент, состоявший в том, что если русские действительно столь решительно настроены против большевиков, как об этом часто говорилось, то они должны покончить с Лениным сами. Вудро Вильсон также предпочел предоставить русским самим выяснить отношения. К маю самые серьезные опасения революционной заразы прошли.
Необходимость договориться либо навсегда избавиться от советской угрозы носила бы более серьезный характер, если бы существовала реальная опасность русско-германского союза. Но зимой 1918/19 года Ленин был в значительно большей степени заинтересован в примирении с Антантой, чем в развитии отношений с молодой Германской республикой, и такая заинтересованность очень во многом была взаимной. Война вынесла свой приговор. Сколь далеко ни заходили бы в своих фантазиях революционеры и контрреволюционеры, центр власти находился на Западе, а не на Востоке[681]. Диктатура в России не вызывала дружеских чувств у германских социалистов – ни в СДП, ни в НСДП. Ленинский режим и охвативший Россию хаос вызывали неприятные воспоминания о неудачной политике Германии на Востоке. Поэтому неудивительно, что молодая Германская республика спешно закрыла советское посольство в Берлине и отказалась от предложенных Россией поставок зерна. Не было совпадением и то, что обе политические акции, направленные против советского режима, были инициированы германскими левыми. Крайне левая Роза Люксембург призвала к восстанию рабочего класса Германии, которое позволит осуществить подлинно марксистскую революцию и оставить в тени иерархическую ленинскую диктатуру[682]. Центрист Карл Каутский, давний непререкаемый авторитет принятого в СДП ортодоксального марксизма, осуждал советский террор и призывал социалистов признать значение своего участия в работе институтов парламентской демократии[683].
Главным вопросом повестки дня было становление демократии в самой Германии[684]. СДП и ее друзья в составе большинства в рейхстаге стремились как можно скорее провести выборы в Учредительное собрание, которые были назначены на третью неделю января 1919 года. Однако НСДП и незначительное меньшинство, стоящее на еще более левых позициях, считали, что это создаст угрозу всей революции. По словам Розы Люксембург, «созвать Национальное собрание сегодня означает сознательно или неосознанно вернуть революцию на историческую стадию буржуазной революции, а значит, вернуть революцию в руки ее врагов»[685]. Проводить выборы в январе означало заморозить создавшееся положение. Если Германии суждено пережить подлинно революционный момент, то она должна не повторять Французскую революцию 1789 года, а сразу переходить к системе Советов, за которой будущее. К ужасу Люксембург, когда в декабре 1918 года состоялся Германский съезд Советов, подавляющее большинство делегатов проголосовали за демократизацию. Они хотели обобществления тяжелой промышленности и коренной реформы армии. Но прежде всего они хотели выборов в Конституционное собрание. Заручившись этим решением, СДП настаивала на проведении выборов в третью неделю января. И для окончательной уверенности СДП подкрепила свою позицию, определив «понимание» по двум вопросам. Первый вопрос касался «понимания» между профсоюзами и работодателями относительно необходимости сохранить функционирование германской экономики[686]. Второй касался «понимания» между временным правительством и остатками армейского командования. При внимательном прочтении становилось ясно, что оба эти «понимания» объединяла решимость не допустить возникновения в Германии «условий для большевиков» и падения страны в пучину хаоса и гражданской войны[687]. СДП опасалась повторения беспорядков, охвативших страну за неделю до 9 ноября 1918 года.
И эти опасения, как оказалось, не были совсем уж необоснованными. Но к хаосу привели неуклюжие попытки правительства взять ситуацию под контроль. Отряды революционных солдат в Берлине отказались покинуть центр города и требовали выплаты жалованья. В результате на рождественские и новогодние праздники на улицах столицы Германии развернулись серьезные бои. Тем временем 1 января 1919 года фракция «Союз Спартака» под руководством Розы Люксембург и Карла Каутского вошла в коалицию с ультралевыми группами и создала Коммунистическую партию Германии (КПГ). Ей предстояло играть ведущую роль там, где это не удавалось МСДП и НСДП. 5 января отставка мятежного близкого левым кругам начальника берлинской полиции вызвала массовые уличные демонстрации, и эта малочисленная группа, вопреки возражениям Розы Люксембург, решила, что настало время действовать. Мелкие и плохо вооруженные отряды коммунистов и сочувствующих из числа членов НСДП возвели баррикады и заняли помещения редакций газет, принадлежавших СДП, что стало актом неповиновения в самом центре столицы. Как должно было реагировать временное правительство? Когда народный комиссар по военным вопросам Густав Носке потребовал прекратить восстание, Фридрих Эберт, стоявший во главе СДП, ответил, что тот «должен это сделать сам». На что Носке, как он сам вспоминает, ответил: «Так тому и быть! Кто-то должен выступить в роли гончей»![688] Переговоры с участием посредников ничем не закончились, и субботним утром 11 января регулярные армейские части под командованием Носке проложили путь сквозь баррикады к рейхсканцелярии. Там появился Эберт, который поблагодарил войска за то, что они позволили Национальному собранию начать работу, несмотря на сопротивление безответственного меньшинства, стремящегося развязать гражданскую войну. В итоге 53 руководящих члена революционного комитета были отправлены в тюрьму, допрошены и в конце концов оправданы летом 1919 года. Карлу Либкнехту и Розе Люксембург, вызывавшим особую ненависть у крайне левых, повезло намного меньше. 15 января их схватили, избили, а затем расстреляли. Именно это убийство, а не жестокость, проявленная во время восстания, в ходе которого погибло, может быть, 200 человек, бросило тень на проводимую Носке политику поддержания порядка. Это была не республиканская дисциплина. Это было контрреволюционное варварство, поощряемое СДП. Весть об убийстве повергло рядовых партийцев в ужас. Раздавались призывы к отставке правительства. Носке отвечал жестко: «Война есть война»[689].
Ожесточенные столкновения оказались катастрофой для крайне левых в Германии. Но они не были прелюдией к установлению военной диктатуры. Спустя неделю после подавления восстания «Союза Спартака», 19 января 1919 года, 30 млн мужчин и женщин, составлявших более 83 % всего взрослого населения Германии, приняли участие в выборах в Учредительное собрание. Это было самым ярким проявлением демократии во всем западном мире после Первой мировой войны. В выборах приняло участие на 3 млн больше человек, чем участвовало в выборах президента США в 1920 году, хотя население Германии составляло лишь 61 млн человек, по сравнению со 107 млн человек в США. Наибольшее число голосов (38 %) получила СДП. Это было примечательно для столь внутренне разделенного германского общества. Это был лучший результат, достигнутый какой-либо политической партией за всю историю Германии. И это было больше, чем смог заполучить Гитлер на вершине своей популярности в 1932 году. Ни одной другой партии не удавалось привлечь больше голосов вплоть до триумфа Конрада Аденауэра в разгар послевоенного экономического чуда 1950-х годов. Но до большинства было еще далеко, а номинальный партнер по правительству социалистического единства – крайне левая НСДП набрала лишь 7,6 % голосов. В любом случае к этому моменту из-за насильственных событий в Берлине о коалиции между СДП и НСДП не могло быть и речи. Они стояли по разные стороны в неравной гражданской войне.
Хотя результаты голосования в январе 1919 года говорили не в пользу социалистической республики, это не был выбор в пользу реакции. Выступая против социалистического авантюризма крайне левых, СДП подтвердила свою приверженность стратегии, избранной ею еще летом 1917 года. Вместе с католической партией Центра и прогрессивными либералами СДП могла сформировать столь значительное демократическое большинство, что крайне левые и крайне правые становились маргиналами. В ходе последних состоявшихся до войны выборов 1912 года три партии, составлявшие большинство в рейхстаге (СДП, партия Центра и Партия прогрессивных либералов), набрали две трети голосов. 19 января 1919 года эти три партии вместе располагали 76 % голосов избирателей. Большинство электората высказалось не за социалистическую революцию, а за демократизацию и дипломатию, обеспечившие перемирие на столь благоприятных условиях. Правое крыло, включая партию национал-либералов, в которую входили сторонники Бисмарка, такие как Густав Штреземан, ухудшило свои позиции, набрав менее 15 % голосов. Окрыленные столь внушительным результатом, партии, получившие большинство, приступили к работе над пространным проектом республиканской конституции, в которой предстояло совместить либеральные свободы с основными требованиями социальной демократии. Объединив ряды, они готовились к мирной жизни.
II
После поражения Парижской Коммуны в 1871 году Французская республика силой ограничила призывы к социалистической революции. В 1919 году такой же жесткий вердикт был вынесен в Германии. Какие последствия это имело для европейского социализма и его роли в послевоенном восстановлении? 3 февраля, через две недели после выборов, СДП и НСДП направили своих делегатов на первую послевоенную конференцию II интернационала (известного также как Социалистический интернационал) в Берне[690]. В качестве преемников довоенного Интернационала в конференции приняли участие 26 партий из различных стран. Впервые после 1914 года делегаты из Германии и Австрии выступали против своих бывших товарищей из Социалистической партии Франции и Рабочего движения Британии. Организаторы конференции надеялись, что, восстановив единство, смогут укрепить поддержку политики демократических преобразований, отрицающей насилие, к которому прибегали большевики. Они также надеялись поддержать стремление президента Вильсона к построению «демократического мира». В декабре 1918 года, в ходе своей продолжавшейся несколько недель поездке по столицам стран Антанты, Вильсон дал понять, что приветствует поддержку европейских левых. Во время визита во Францию первыми его приветствовали члены социалистической партии. 27 декабря на приеме в Букингемском дворце он был одет подчеркнуто строго и держался как стойкий последователь Кромвеля. Его посыл был ясным: «Не надо говорить, что мы встречаемся здесь как двоюродные братья, а тем более как братья. Таковыми мы не являемся. Нельзя думать о нас как об англосаксах, потому что этот термин уже нельзя применять по отношению к американскому народу. И не надо придавать слишком большого значения тому, что мы говорим на общем для нас английском языке. Нет, лишь две вещи могут создать и поддерживать близкие отношения между вашей и моей страной: это общность идеалов и интересов»[691]. Вильсон не делал секрета из того, что ему значительно ближе были ценности, которые воплощала оппозиционная лейбористская партия, чем те, которые представляла коалиция Ллойда Джорджа.
И неслучайно поэтому лейбористское движение Британии входило в число основных сил, поддерживавших провильсоновскую повестку дня на конференции в Берне[692]. Однако сама конференция обернулась неудачей и не вызвала особых откликов. Болезненно очевидными стали многочисленные ошибки европейского социализма, которые грозили либо привести к гражданской войне, как это было в Германии, либо вызвать почти полный паралич. Единственной партией, сумевшей выйти из войны, сохранив свое единство на основе радикальной повестки дня, была партия итальянских социалистов. Но это означало, что они отказываются от участия в Бернской конференции. Они не собирались иметь что-либо общее с собранием «национальных шовинистов», большинство которых предало дело интернационализма, выступив в поддержку военных действий правительств своих стран. Зато итальянские социалисты стали одной из первых западноевропейских партий, принявших ленинское приглашение участвовать в III Интернационале (известном также как Коммунистический Интернационал, Коминтерн), первое заседание которого состоялось в Москве 19 марта 1919 года при незначительном количестве участников. Французская социалистическая партия также сумела сохранить свое организационное единство, но, как показало ее поведение на Бернской конференции, заплатив за это полной идеологической и практической непоследовательностью.
На первом заседании правое крыло делегации французских социалистов, так называемые социалисты-патриоты, занимавшие различные правительственные посты до кризиса 1917 года, монополизировали трибуну и потребовали восстановить ход судьбоносных событий июля 1914 года. Где находились германские товарищи, когда требовалась их поддержка? Раны, полученные на войне, еще не затянулись, и результат этой встречи был предсказуем. Однако это полностью противоречило интернационализму, о котором говорил Вильсон и которого официально придерживались организаторы конференции со своей риторикой «мира между равными», или позиции Рамсея Макдональда из британской Независимой лейбористской партии, возлагавшим вину за развязывание войны на франко-русский союз в той же мере, что и на Германию. Ожесточенные дебаты между правым крылом французских социалистов и большинством германских социал-демократов, продолжавшиеся на протяжении двух дней, поставили конференцию на грань срыва. Члены СДП с готовностью осуждали безрассудство кайзера, но лишь как одного империалиста среди других. За что им было извиняться? Может быть, им надо было сдаться в августе 1914 года под натиском франко-российского империализма или под угрозой голодной смерти, исходившей от Британии? Они прибыли в Берн как партия, свергнувшая кайзера и совершившая революцию. С какой стати они должны унижаться перед французскими товарищами, не сделавшими ничего для того, чтобы порвать с империалистическим прошлым своей страны? Если французы хотят решить вопрос Эльзаса и Лотарингии демократическим путем, то надо провести плебисцит. Но патриотически настроенное крыло французской делегации и слышать об этом не желало. Как признавал сам Вильсон, вопрос Эльзаса и Лотарингии был вопросом не самоопределения, а просто восстановления справедливости[693].
На фоне упорствующих патриотов из числа правых в германской и французской социал-демократических партиях производил впечатление представитель левой НСДП Германии Курт Эйснер. Будучи премьер-министром Баварии, он оказался единственным среди всех делегатов, готовым не только осудить империализм в целом, но и признать принципиальную вину своей страны[694]. Именно его готовность выйти из числа патриотов приведет к тому, что в 1919 году НСДП превратится в приемлемого для стран-союзников представителя германской демократии[695]. Но это делало Эйснера и его товарищей катастрофически непопулярными у германских избирателей. В начале 1919 года, столкнувшись с вооруженными формированиями добровольческого корпуса, НСДП заняла еще более левые позиции, приняв большевистский лозунг «Вся власть Советам!» и носясь с идеей присоединения к ленинскому Коминтерну. За это партии пришлось заплатить, и не только голосами избирателей. 21 февраля, через 11 дней после Бернской конференции, признав сокрушительное поражение своей партии на выборах в Национальное собрание, Эйснер шел по мюнхенским улицам, собираясь подать в отставку с поста премьер-министра, и был застрелен одним из сторонников правых.
Тема насилия стояла в повестке дня Бернской конференции. Но большинство участников конференции интересовали не отдельные, до поры до времени, нападки справа. Их волновал систематический террор на классовой основе, за который открыто выступали Ленин и Троцкий. Организаторы конференции хотели присоединиться к Каутскому, который присутствовал на конференции как делегат от НСДП, и заявить о том, что европейский социализм дистанцируется от этой насильственной догмы. Второй социал-демократический Интернационал вскоре направит делегацию в Грузию, чтобы выразить свою поддержку воюющей республике, где социал-демократы боролись с надвигавшейся угрозой со стороны Красной армии. Но в Берне единой позиции в вопросе о большевизме не было. После двух дней, в течение которых правые социал-демократы из Франции, развернув антигерманскую кампанию, монополизировали трибуну, настал черед французских левых, которые объединились с крайне левыми в Социалистической партии Австрии, чтобы заблокировать общую резолюцию по вопросу о диктатуре в России.
В Берне единственным, не вызывавшим протеста ни у кого из французских социалистов, был вопрос о голосовании в поддержку обещания Вильсона установить прогрессивный мир и создать Лигу Наций. У реформистов из числа социал-демократов, разумеется, были свои соображения, чтобы занять такую позицию. Лига Наций обеспечит международное посредничество, которого столь трагическим образом не хватало в июле 1914 года. Скоординированный в международном масштабе подход к трудовому законодательству позволит устранить ожесточенную международную конкуренцию, представлявшую основное препятствие на пути социального обеспечения во всех странах. Имело смысл объединить рабочие движения, чтобы потребовать построения Лиги Наций на надлежащих демократических принципах. Но представители левых радикалов легко находили причины, как это скоро будут делать и члены ленинского Коминтерна, чтобы отвергнуть подобные разговоры как проявление «буржуазного интернационализма». В Берне левые оставались на своих позициях. При всех прочих различиях если и было что-то общее между германскими и французскими социалистами всех мастей, так это чувство радости по поводу того, что в тени фигуры Вильсона терялись такие «империалисты», как Клемансо и Ллойд Джордж[696].
Несомненно, негативные стереотипы могут оказаться полезными для достижения политической сплоченности, и интернационализм по Вильсону мог бы способствовать объединению разрозненного рабочего движения в Европе в качестве демократической силы. Но социалистический вильсонизм, хотя и помог подлечить раны, был слишком слаб для того, чтобы восстановить единство, нарушенное войной и приходом к власти большевиков. Идея о том, что сплотившиеся левые от Розы Люксембург до Густава Носке смогут получить демократическое большинство в Центральной или Западной Европе, в то время как Ленин все плотнее сжимал Россию в своих тисках, представлялась миражом. Во многих странах большинство выступало за демократическую программу национальных реформ. Однако такая программа строилась не на едином социалистическом блоке, а, как показала Германия, на решении правого крыла социал-демократии порвать с крайне левыми и создать коалицию с христианскими демократами и либералами[697]. Это был болезненный выбор. Пример Германии показал, что он может иметь летальные последствия для крайне левых, тем более когда они допускают репрессии, поддерживая риторику и практику развязанной Лениным гражданской войны. Вильсонизм не делал этот выбор проще. Вильсоновская риторика, допускавшая подозрение в отношении таких людей, как Эрцбергер, Клемансо и Ллойд Джордж, способствовала дискредитации именно тех, от кого действительно зависело будущее широкой прогрессивной коалиции. Давая умеренным социал-демократам ложную надежду на радикальный интернационализм, который не был большевизмом, вильсонизм вел к тому, что вероятность создания широкой прогрессивной коалиции не росла, а уменьшалась. Ирония истории в отношении последствий этого нигде не проявились так, как в Британии, где существовало в наименьшей степени связанное с большевиками и наиболее близкое вильсонизму рабочее движение в Европе.
III
В Британии начиная с 1870-х годов радикальные реформы проводились при поддержке более или менее сформировавшегося союза основной массы либералов с организованным движением лейбористов. В 1914 году подавляющее большинство участников движения лейбористов выступило в поддержку войны. С декабря 1916 года Ллойд Джордж обязательно включал представителей трейд-юнионов в ближний круг кабинета министров военного времени. Однако дебаты по вопросам мира, развернутые Вильсоном в 1917 году, стали настоящим испытанием для такого сотрудничества. В 1914 году Рамсей Макдональд возглавил немногочисленную оппозицию, выступавшую против войны и поддерживавшую тесные контакты с Союзом демократического контроля – группой британских радикальных либералов, составлявших благодарную аудиторию Вудро Вильсона. В 1917 году этот антивоенный блок приобрел значительное влияние, после того как лейборист Артур Хендерсон, выступавший ранее за продолжение войны, вышел из состава правительства Ллойда Джорджа в знак протеста против запрета участвовать в Стокгольмской мирной конференции. Заявление Ллойда Джорджа о целях войны, с которым он выступил в 1918 году, было направлено на сохранение поддержки лейбористов в вопросе о войне. Но после того как Хендерсон стал лидером лейбористов, они начали готовиться к тому, чтобы выступать в роли альтернативного правительства, а не в качестве придатка либералов[698]. Теперь, когда правом голоса обладала значительно большая часть населения, лейбористы могли претендовать на большинство электората, подавляющую часть которого составлял уже рабочий класс.
Эти прогнозы сбылись в свое время. В период с 1923 по 1945 год в Британии к власти трижды приходило лейбористское правительство, стоявшее на платформе британской формы социализма, и это следует считать одним из наиболее заметных мирных переходов в современной политической истории. Однако самостоятельно добиться безоговорочного большинства лейбористы сумели лишь в 1945 году. В 1923 и 1929 годах правительство лейбористов зависело от поддержки либералов. В 1918 году партии дорого обошлась ее чрезмерная самоуверенность. Ллойд Джордж, решив быстро провести послевоенные выборы, предложил кандидатам от лейбористов гарантированные места в коалиции. Руководство партии отвергло это предложение. Полагаясь на свою новую организационную структуру в национальном масштабе и претендуя на половину мест, лейбористы рассчитывали получить значительное преимущество и намеревались решительно отмежеваться от правительства, которое они теперь осуждали за разжигание войны[699]. Но на выборах 14 декабря абсолютную победу одержало правительство. Ллойд Джордж вместе с тори, входившими в его коалицию, практически разгромил остатки либеральной партии, возглавляемой бывшим премьер-министром Гербертом Асквитом. Из 300 кандидатов-лейбористов в палату общин прошли только 57.
Ирония заключалась в том, что первые выборы после того, как в Британии было введено широкое избирательное право, не стали триумфом демократических реформ, а запомнились как торжество воинствующего национализма. Выборы «цвета хаки», на которые в немалой степени повлияла позиция Вильсона, вызвали шквал критики не со стороны правых, а со стороны левых. Столкнувшись с «деградацией действующего парламента», Рамсей Макдональд, расставшийся со своим креслом, окончательно разочаровался в человеческой природе[700]. Ллойд Джордж и его партнеры-консерваторы, похоже, нашли способ использовать демократию как средство перехода к реакции. Ллойда Джорджа, ярого противника англо-бурской войны, обвиняли в использовании самых низменных националистических инстинктов. Произвол, царивший в вестминстерской мажоритарной избирательной системе, лишь усиливал ощущение обмана. И хотя сторонники Асквита, либералы и лейбористы, заручились поддержкой более трети электората, им досталась лишь одна восьмая всех мест[701]. Это вызывало чувство раздражения, но недостатки вестминстерской системы были предсказуемы, и они не обрекали ее на консервативность. В 1906 году коалиция либералов и лейбористов добилась блестящей победы именно благодаря этой системе. В ходе дебатов о реформе 1917 года именно консерваторы выступали за пропорциональное представительство, стремясь оградить себя от большинства, которое после введения всеобщего права голоса, как они считали, неизбежно окажется на стороне рабочего класса. И хотя в 1918 году число избирателей действительно увеличилось на две трети по сравнению с 1910 годом, правительство оказалось не в состоянии предвидеть самоубийственную некомпетентность своих оппонентов. В 1918 году лейбористская партия не пошла на соглашение с либеральными сторонниками Асквита, что привело к расколу оппозиции с предсказуемым исходом выборов.
Коалиция, однако, не питала иллюзий относительно подлинных настроений населения. Даже если оставить в стороне демонстрации и газетные заголовки, было понятно, что у правительства нет поддержки в виде волны националистического энтузиазма. Несмотря на призывы Ллойда Джорджа к «голосованию в окопах», среди подавляющего большинства солдат царило такое чувство усталости и апатии, что они даже не пошли на выборы. Консерваторы получили большинство мест в палате общин, набрав лишь 32,5 % голосов, что составляло самый плохой показатель за всю истории британских выборов в XX веке, если не считать исторических поражений 1945 и 1997 годов. Конечно, отчасти сыграло свою роль их соглашение о коалиции с Ллойдом Джорджем. Но руководство тори было убеждено в том, что Ллойд Джордж необходим в качестве щита, который предотвратит восхождение лейбористов[702]. А небольшая доля набранных голосов должна была доказать стабильность везения, сопровождавшего тори на выборах в 1920-х годах, десятилетия, на протяжении которого они смогли преодолеть 40-процентный барьер лишь однажды. Несмотря на видимое превосходство коалиции в парламенте, было понятно, что почва уходит у нее из-под ног. На выборах в Британии, состоявшихся 14 декабря 1918 года, профсоюзы оказались достаточно сильны, чтобы оплатить расходы половины общего числа кандидатов-лейбористов[703]. При этом происходил беспрецедентный приток в ряды лейбористов за пределами парламента.
В 1910–1920 годах во всем мире наблюдался феноменально резкий подъем активности рабочего класса[704]. И это было, скорее, не явлением, сопутствующим несостоявшейся социалистической революции, а самостоятельным трансформационным процессом. В США это вызвало настоящую панику в стане правых, продолжавшуюся в течение последних полутора лет срока президентских полномочий Вильсона. Во Франции в мае 1919 года делегаты Версальской мирной конференции могли наблюдать настоящие уличные сражения. К лету 1919 года Рим был близок к утрате контроля над большинством городов страны. Рост воинственной активности в Британии не сопровождался радикальной риторикой, но это не умаляло ее масштабов. Пока Британия продолжала вести сражения на линии Гинденбурга, правительство Ллойда Джорджа было вынуждено реагировать на забастовку полицейских и серьезные перебои на железных дорогах[705]. Положение было столь тревожным, что правительство разрешило местным силам полиции привлекать на помощь военных (табл. 6)[706].
Таблица 6. Война, инфляция и выступления трудящихся, 1914–1921 гг.: количество забастовок
Война подходила к концу, и на смену репрессиям шло ощущение значительного успокоения. 13 ноября 1918 года Ллойд Джордж проявил великодушие, обещав сохранить реальную покупательную способность заработной платы на уровне, соответствующем периоду заключения перемирия. Но повышение заработной платы уже не было единственным требованием профсоюзов. По всей Европе, в Америке и даже в зарождающемся рабочем движении в странах Азии восьмичасовой рабочий день стал таким же символом нового порядка, как и Лига Наций. В декабре возникла опасность всеобщей забастовки на железных дорогах, и Ллойд Джордж заставил своих коллег- консерваторов в правительстве согласиться с введением восьмичасового рабочего дня с выплатой полной заработной платы. Весной то же самое сделал Клемансо. Восьмичасовой рабочий день был установлен и в Веймарской республике. Третье основное требование профсоюзов состояло в установлении государственного контроля над ключевыми отраслями промышленности. В Британии основные баталии развернулись вокруг угольных шахт – важнейшего источника ископаемого топлива не только для Соединенного Королевства, но и для многих других европейских стран. Так называемый тройственный союз, в который входили железнодорожные рабочие, докеры и шахтеры, был в состоянии парализовать не только Британию, но и всю сеть поставок союзнических стран.
В отличие от политического руководства лейбористской партии, профсоюзы ясно понимали реалии власти. Они чувствовали свою силу, но осознавали при этом, что всеобщая забастовка не оставит правительству иного выбора, кроме как прибегнуть к силе. Как говорил Эрнст Бевин, лидер влиятельного профсоюза транспортных рабочих, если «тройственный союз» осуществит свои угрозы, «я полагаю, должна будет начаться гражданская война, но не представляю, как правительство сможет, если в этом примут участие все профсоюзы, избежать битвы за верховенство и власть, и я не думаю, что наши люди решатся на такой шаг, если поймут, о чем идет речь»[707]. Лейбористская партия потерпела поражение на выборах, и Ллойд Джордж мог рассчитывать на поддержку парламента. Обе стороны в случае столкновения рисковали образом Британии как «мирного королевства», поэтому профсоюзы и коалиция Ллойда Джорджа предпочли торг.
24 февраля 1919 года Ллойд Джордж, пытаясь успокоить «тройственный союз», убедил Федерацию шахтеров Великобритании согласиться с созданием Королевской комиссии по вопросам национализации. В ноябре 1918 года премьер-министр склонил противившихся этой идее партнеров-консерваторов поддержать платформу со смелым названием «Демократическая программа реконструкции». Лидер консервативной партии Эндрю Бонар Ло со всей откровенностью объяснил аристократу лорду Бальфуру логику этого соглашения. У тори был соблазн поквитаться со своим давним злейшим врагом Ллойдом Джорджем. Но если они решатся на это, то рискуют вступить в противостояние и «с либеральной, и с лейбористской партией вместе…» И даже если консерваторам удастся в одиночку обеспечить себе большинство, возникшая поляризация окажется крайне опасной. «Единственный шанс… найти рациональное решение» множеству проблем, связанных с восстановлением, состоял в том, чтобы ими занялось правительство, в котором представлена не одна «часть» британского общества, а элементы всех основных лагерей. Тогда может появиться «хотя бы шанс на то, что реформы, которые, несомненно, необходимы, будут проведены наименее революционным путем, из всех возможных в имеющихся условиях»[708]. В решающую минуту Ллойд Джордж напомнил своим коллегам по кабинету министров об этом важном политическом моменте. После того что они потратили для победы в войне, было бы глупо препираться из-за нескольких сотен миллионов, необходимых для обеспечения мира в своей стране. Если бы война продолжалась еще один год, разве не смогли бы они собрать тем или иным способом еще 2 млрд фунтов стерлингов? А по сравнению с этим «71 млн фунтов стерлингов был дешевой страховкой от большевизма»[709].
Разумеется, привычка к расходам военного времени не может сохраниться навсегда. 30 апреля 1919 года канцлер Казначейства Остин Чемберлен представил в парламент бюджет, согласно которому государственные расходу урезались наполовину[710]. Но если военные расходы сокращались, то одна пятая бюджета направлялась на субсидирование цен на хлеб и железнодорожных тарифов, военных пенсий и других расходов, связанных с демобилизацией. Никогда прежде расходы на социальные нужды не занимали столь приоритетного положения перед расходами на имперскую оборону.
До войны Ллойд Джордж проявил себя как один из главных архитекторов современной демократии, выступая против палаты лордов в вопросе о создании современной системы прогрессивного налогообложения. В то время перед ним стояла задача построения демократических основ, опираясь на которые можно было обеспечивать растущие расходы на социальные нужды и на финансирование гонки морских вооружений с кайзеровской Германией. В 1919 году возглавляемое им правительство, внесшее свой вклад в разгром Германии, столкнулось с фискальным кризисом невиданного масштаба. В 1914 году государственный долг Британии составлял только 694,8 млн фунтов стерлингов. Пять лет спустя он увеличился до умопомрачительных 6,142 млрд фунтов стерлингов, из которых 1 млрд фунтов стерлингов составляла задолженность перед Америкой, причем не в фунтах стерлингов, а в долларах (табл. 7)[711]. Еще в 1919 году на обслуживание задолженности расходовалось 25 % всего бюджета, а в обозримом будущем этот показатель должен был приблизиться к 40 %. Ноша была тяжела, но и Британия была богата. Внутренняя и внешняя задолженность Франции и Италии была пропорционально еще выше. По оценкам современников, за время войны размер государственного долга Италии достиг 60 % ее довоенного национального богатства, в сравнении с 50 % в Британии и всего лишь 13 % в США[712].
Таблица 7. Новая иерархия финансовой власти: американская оценка бюджетных позиций перед заключением Версальского договора, декабрь 1918 г., млрд долл. США
11 декабря 1918 года в своей импровизированной речи в Бристоле Ллойд Джордж сделал самое провокационное заявление за всю предвыборную кампанию «цвета хаки». Когда речь зашла о репарациях, он сообщил ликующей толпе, что немцам не удастся легко отделаться – «мы проверим, что у них в карманах»[713]. Столь популистское заявление, отмечали критики премьер-министра, привело к катастрофе на Версальской мирной конференции. Если считать это высказывание простой демагогией, можно упустить из виду реалии финансового кризиса и беспрецедентную глубину социального конфликта. Несмотря на все разговоры левых лейбористов о вильсоновском мире без контрибуций, репарации были не просто предметом разногласий между левыми и правыми. Для того чтобы выплата военных долгов не сделала тщетными все усилия по созданию более справедливого общества, в котором обеспечены государственное образование, социальное страхование и государственная жилищная программа (а именно эту повестку дня разделяли новые либералы и социалисты-реформаторы по всей Европе), требовалось найти дополнительные источники финансирования. Джон Мэйнард Кейнс, ставший позже одним из наиболее ярых критиков репараций, признавал весной 1919 года, что «чувствительный для населения вопрос о контрибуциях… не основывался хоть на каких-то разумных расчетах того, сколько на самом деле сможет заплатить Германия». Вопрос исходил из «обоснованного понимания невыносимости ситуации», с которой столкнутся европейские победители, если Германия не возьмет на себя значительную часть этого груза[714]. Когда отец британской системы социального страхования Ллойд Джордж говорил, что при сборе репараций надо будет проверить содержимое карманов немцев, то тем самым он давал понять обеспокоенным налогоплательщикам, принадлежащим к среднему классу, что этот новый груз им не придется нести в одиночку.
Конечно, для критиков Ллойда Джорджа это было именно демагогией: увязать пенсии вдов с германскими репарациями. Либеральный мир вполне вписывался во внутренние реформы, при условии что у правительства хватало смелости обложить высокими налогами собственные состоятельные элиты[715]. Вопросы налога на капитал, налога на имущество в противовес налогу на доход в 1919 году широко обсуждались в Британии, равно как во Франции и Германии. Ему уделяли серьезное внимание самые влиятельные экономисты современности, включая специалистов Казначейства Ее Величества, этого бастиона экономической ортодоксии[716]. Деятельность Клемансо и Ллойда Джорджа до войны свидетельствовала о том, что ни тот, ни другой не упускали случая залезть в кошелек к богатым. Но для осуществления столь радикальных мер требовалась такая широкая коалиция либералов и лейбористов, которую даже не рассматривали ни французские социалисты, ни британские лейбористы. Именно неспособность левых сформировать конкурентоспособное альтернативное большинство делала невозможными более радикальные варианты финансирования.
В любом случае то, что налог на капитал не получил широкого распространения, не означало, что европейскую элиту оставили в покое. Повсеместно налоговые ставки достигли беспрецедентного уровня. Несмотря на неудавшиеся намерения «выкупить» революцию, используя инфляцию или налогообложение, одним из последствий Первой мировой войны стало начало беспрецедентного выравнивания размеров богатства по всей Европе. Это изменение затронуло не одну страну. Ни одной из ведущих европейских стран, участвовавших в войне, не суждено было остаться такой, какой она была прежде.
Более того, это был взаимосвязанный процесс. Через репарации и огромные международные долги, накопленные во время войны, правительства и общества европейских стран оказались взаимозависимыми как никогда. 27 мая 1919 года незадачливый министр финансов Франции Луи Люсьен Клоц выступал в палате депутатов с предложением утвердить болезненное повышение налогов, чтобы показать «нашим союзникам, что Франция все еще помнит, как следует приносить жертву, если того требует ситуация, а потому заслуживает… выполнения соглашений в военной, экономической и финансовой областях, которые обеспечили победу права над силой»[717].
Налогообложение переставало быть вопросом, касавшимся лишь одной страны. Одно из решений этой дилеммы состояло в том, чтобы обложить Германию тяжелыми репарациями. Но это был не единственный способ. США и Антанта победили в войне в результате сотрудничества. Для особо сильно пострадавших в войне экономик главная надежда была на то, что эта взаимопомощь будет продолжена и в мирное время. В 1918 году Британия и Франция предложили планы послевоенной организации экономики, которые обезопасили бы их на период восстановления[718]. В этих планах предусматривались беспрецедентные обязательства перед населением своих стран. Как отмечал французский социалист Леон Блюм, впервые в истории воюющие государства пообещали своим гражданам возместить нанесенный им ущерб[719]. Это имело последствия как на мировой арене, так и в самих этих странах. Именно в этом духе французский министр торговли, солидарист и социальный реформатор Этьен Клементель писал в декабре 1918 года Клемансо, выражая свою уверенность в том, что «наш новый союзник, США, обязательно придет к этому образу мысли и согласиться с тем, что полное восстановление Севера Франции и Бельгии в основе своей представляет общую изначальную цель, стоящую перед экономическим объединением свободных народов»[720]. Это предстояло проверить в Версале.
Часть III Несостоявшийся мир
13 Заплатки на мировом порядке
18 января 1919 года в Зеркальном зале дворца Людовика XIV в Версале под Парижем начала свою работу долгожданная мирная конференция. Пятьдесят лет назад именно здесь был провозглашен первый император новой Германии. Казалось, должно быть очевидным, что в условиях, когда в Центральной Европе разгорается революция, а 12 млн солдат из Америки и стран Антанты стоят на границах поверженной Германии в ожидании демобилизации, начинать следует с обсуждения общих вопросов европейского мира. Но тремя неделями раньше президент Вильсон, находившийся в Британии в ходе своего европейского вояжа, дал ясно понять, что не согласен с подобной расстановкой приоритетов. Америка, заявил он своим английским слушателям, «теперь не интересуется европейской политикой» или «просто миром в Европе». Америку интересует «мир во всем мире»[721]. И будто для того, чтобы указать старому миру его место, 25 января Высший совет принимает свое первое решение не о том, чтобы начать работу конференции с обсуждения ситуации в Европе, а о том, чтобы создать Комиссию из представителей пяти великих держав – США, Великобритании, Франции, Италии и Японии при участии делегаций Китая, Бразилии, Сербии, Португалии и Бельгии – для выработки проекта Статута Лиги Наций. На свое первое заседание Комиссия в полном составе собралась в понедельник 3 февраля в номере 351 отеля «Крийон» в апартаментах полковника Хауса, окна которых выходили на площадь Согласия. Еще в конце XVII века начались разговоры о создании Лиги мира. Теперь первый проект Лиги Наций был подготовлен за две недели в ходе десятка заседаний, проходивших по вечерам и продлившихся в общей сложности, наверное, 30 часов. 14 февраля изможденный Вудро Вильсон представил первый проект Статута на пленарном заседании мирной конференции, проходившем в заполненном зале на Кэ д’Орсэ. После внесения поправок, продолжавшегося несколько месяцев, этот проект составит первую часть Версальского договора.
Как заметил по этому поводу один из биографов Вильсона, «14 февраля 1919 года будет казаться самым важным днем, к которому Вильсона как нельзя лучше подвела вся его жизнь»[722]. Вильсон намерено занял место в центре событий, взяв на себя ведение всех заседаний Комиссии, за исключением одного. Это был час его триумфа, который обернется поражением. Надежды президента на создание нового мира, если верить тому, что рассказывали вильсоновские пропагандисты, разбились об алчность Европы и Японии[723]. Именно они сумели настолько исказить президентскую концепцию, что она стала легкой добычей для врагов Вильсона в самой Америке. Но рассказ о создании Лиги Наций как о результате крестового похода Вудро Вильсона против пороков старого мирового империализма не выдерживает критики. В нем нет признания того факта, что в начале 1919 года Британия, Франция и Япония хотели провести конференцию, чтобы найти ответ на вопрос, каким должен стать новый мир. У каждой из этих стран были свои интересы, которые они были готовы защищать, и цели, к достижению которых они стремились, но они были крайне ослаблены войной и волнениями, охватившими всю Евразию. Было очевидным, что империалисты уже не смогут действовать так, как они действовали до войны. Эпоха империалистической Weltpolitik оказалась катастрофически опасной. И не потому, что пустопорожние разговоры о Старом Свете или «традиционном» империализме при прямом соперничестве между крупными державами во всех уголках мира превратились в укоренившуюся привычку. Это относилось еще к 1880-х годам. Британия, Франция и Япония не в меньшей мере, чем американская делегация, стремились к созданию нового порядка, обеспечивающего безопасность. Работая над проектом Статута Лиги Наций, они надеялись услышать от Вильсона ответ на основополагающий для послевоенного мира вопрос: чего им ожидать от Соединенных Штатов? Полученный ответ оказался несвязным. Для наиболее проницательных критиков определяющей чертой Лиги Наций был не ее интернационализм, не логика имперской власти, которую она маскировала, но ее неспособность реагировать на вызовы XX столетия созданием понятной новой модели территориальной или политической организации[724]. Сам Вильсон настаивал на том, что Статут Лиги не должен носить ограничительный характер, «быть смирительной рубашкой». Статут должен стать «инструментом власти, но таким инструментом власти, который может применяться по усмотрению тех, кто им пользуется, и с учетом изменяющихся обстоятельств времени»[725]. Вопрос, которым задавался весь остальной мир, заключался в том, по чьему усмотрению будет использоваться эта власть, кто будет ей распоряжаться.
I
Вильсон и его окружение считали, что важная линия фронта с европейцами была уже определена в конце 1918 года. Когда в начале декабря американский военный корабль «Джордж Вашингтон» с направлявшимся в Европу президентом на борту пересекал Атлантику, отношение к старому континенту в близких к Вильсону кругах было жестким. Вильсон был возмущен тем, что Британия выступает против «свободы морей», он яростно поносил планы Франции, Великобритании и Италии «вывезти из Германии все», что возможно. Вильсон был «категорически против». Он говорил приближенным журналистам: «Мое заявление о том, что это должен быть «мир без победы», сегодня важнее, чем когда бы то ни было»[726]. Чем ответит Старый Свет?
29 декабря премьер-министр Клемансо выступил в палате депутатов. На протяжении нескольких месяцев его забрасывали вопросами. Поддержит ли правительство «14 пунктов»? Поддержит ли оно создание Лиги Наций? Клемансо, в отличие от Вильсона и Ллойда Джорджа, продолжал упорно молчать о целях войны. Теперь наконец-то он набросился на своих критиканов[727]. Отдав дань уважения надеждам, связанным с Лигой Наций, он заявил, что основы безопасности остаются прежними.
Франция должна обеспечить свою военную мощь, оберегать свои границы и поддерживать союзников. Вот так своим коротким высказыванием французский премьер-министр определил ход грядущей дискуссии. Для Джозефа Тумулти, руководителя аппарата президента Вильсона, выступление Клемансо стало подтверждением неоднозначности решения Вильсона лично присутствовать на Парижской конференции. Все было готово для «окончательного решения вопроса о балансе власти и Лиге Наций»[728]. Но согласиться с мнением Вильсона о Клемансо означает упустить самое главное. Клемансо был не простым сторонником старой школы Realpolitik. Система трансатлантической безопасности, о которой он думал, не была ни старомодной, ни реакционной. На самом деле она не имела аналогов в прошлом[729]. Начиная с весны 1917 года Клемансо говорил об уникальной исторической возможности создания союза трех великих демократий, который приведет к миру, стоящему на «защите справедливости»[730]. Клемансо скептически относился к разговорам о разоружении и к арбитражу как панацее. Но больше всего в связи с Лигой Наций его тревожило то, что это позволит Британии и Соединенным Штатам уйти в самодостаточную изоляцию, оставив Францию в одиночестве. Чтобы избежать такой перспективы, мыслящие в международном масштабе французские республиканцы, такие как представитель Франции в Комиссии Лиги Наций Леон Буржуа, настаивали на том, что Лига должна стать многосторонним демократическим союзом с широкими полномочиями по обеспечению коллективной безопасности. На тот момент действительно сильная концепция международного сотрудничества, поступившая на рассмотрение Комиссии Лиги Наций в начале февраля 1919 года, была предложена не Вильсоном, а представителями Французской республики[731].
Для Британии стратегические отношения с Соединенными Штатами были не менее важны, чем для Франции. По выражению Ллойда Джорджа, «в реальности» Лига Наций как организация, обеспечивавшая мир во всем мире, должна опираться на «сотрудничество между Великобританией и США»[732]. По сравнению с французами, британцы предпочитали самую простую организационную структуру Лиги Наций именно потому, что хотели использовать ее в качестве гибкого инструмента построения своих отношений с Вашингтоном. В глазах французов предложение британцев было совершенно новым. Стратегическая концепция подобного масштаба не появлялась с 1494 года, когда Испания и Португалия произвели раздел Нового Света, заключив Тордесильясский договор. Французские и германские обозреватели считали, что создание подобного англо-американского кондоминиума в перспективе будет означать конец Европы как независимого центра мировой политической власти[733].
А что же четвертая великая держава? То, что в 1919 году японский империализм был осужден в ходе «спора вокруг договора» в Конгрессе, наносило непоправимый ущерб репутации Версальского договора. У Японии было плохое прошлое. Последним подтверждением агрессивности Японии была готовность, с которой она осенью 1918 года направила в Сибирь свою армию численностью 75 тысяч человек, что в 10 раз превышало численность войск, с которой летом столь неохотно согласился Вильсон. Ирония состояла в том, что теперь политика Японии стремительно развивалась в противоположном направлении. Охватившие всю страну рисовые бунты в сентябре 1918 года привели к отставке кабинета министров консерватора Тераути Масатаке. Премьер-министром стал лидер самой многочисленной парламентской партии Хара Такаси, первый простолюдин, назначенный на этот пост в современной политической истории страны[734]. Хара не был прогрессистом. Но в основе его консервативной стратегии лежал поиск договоренности с Соединенными Штатами. Хара нашел важных союзников в лице баронов-либералов Сайондзи Кинмоти и Макино Нобуаки, возглавлявших делегацию в Париже. В 1870-х годах Сайондзи в кругах радикальных либералов свел знакомство с Клемансо. Почтенный барон был выбран в качестве главы делегации с учетом его популярности в японском обществе[735]. Макино тоже принял новые правила. «В современном мире превалируют стремление к сохранению мира и отказ от произвола», – утверждал Макино. Понимая, что «американизм» получил «распространение по всей земле», Япония не могла продолжать политику военной агрессии в отношении Китая.
И это было не просто вопросом стратегии, проводимой элитой. Общественное мнение становилось все более весомой силой, что часто недооценивалось западными обозревателями. Мощные демократические волнения охватили Японию, и в 1925 году право голоса получила мужская часть населения страны. Японские профессора, десятки тысяч студентов, читатели недавно появившихся полноформатных газет интересовались политикой как никогда прежде. Наиболее влиятельному либеральному мыслителю Йошино Сакузо было ясно, что победа в ноябре 1918 года стала гегельянским приговором истории. Война принесла либерализму, прогрессивизму и демократии триумфальную победу над авторитаризмом, консерватизмом и милитаризмом. В прошлом видный сторонник империи, либерал Йошино теперь выступал за принцип «без аннексий» и считал, что Лига Наций представляет «преобладающую в мире тенденцию обеспечения большей справедливости в мире за счет укрепления внутренней демократии и равенства в международном масштабе»[736]. Но политический подъем населения Японии коснулся не только левых. Возрождался и массовый национализм. Националисты также хотели знать, может ли мир обеспечить их стране законное место равной среди равных в новом мировом порядке?
II
В американской делегации ко времени прибытия в Париж в январе 1919 года осознавали практическую необходимость сотрудничества с Британской империей. Еще до начала заседаний Комиссии американские и британские переговорщики договорились о необходимости ликвидации Германской и Османской империй путем введения в действие системы мандатов и подготовили проект Статута Лиги Наций. По словам Вильсона, «правильной политикой было бы поддерживать в той или иной степени предлагаемую британцами игру при работе над Статутом Лиги, чтобы Англия чувствовала, что в основном ее взгляды найдут воплощение в окончательном проекте»[737]. Основы устройства организации были ясны. Создаются Совет Лиги и Генеральная Ассамблея. Суверенитет и территориальная целостность будут защищены. Предусматриваются коллективные меры по обеспечению безопасности. Разногласия возникли в связи с важными деталями в тексте Статута. Роберт Сесил прояснил позицию Британии. Чтобы быть функциональным, Совет должен быть немногочисленным. Во всех случаях великие державы должны обладать большинством голосов. Ни одна из великих держав не должна «втягиваться», помимо своей воли, в серьезные международные споры, вызванные малозначимыми претензиями малых стран, входящих в состав Лиги Наций. Сараево не должно повториться. Поэтому решения в Совете принимаются единогласно, что еще раз подтверждает преимущество компактности органа, принимающего решения.
В соответствии с этой концепцией в первом совместном англо-американском проекте состав участников внутреннего Совета Лиги ограничивался пятью великими державами[738]. Остальные члены Лиги участвовали в консультациях в тех случаях, когда великим державам требовался их совет. Неудивительно, что это задевало «малые народы». На втором заседании Комиссии, как скромно отмечалось в протоколе, дискуссии были «очень оживленными»[739]. Делегаты от малых стран настояли на своей точке зрения и вопреки возражениям американцев и британцев добились включения в состав Комиссии по подготовке проекта Статута еще четырех участников: представителей Греции, Польши, Румынии и Чехословакии. И хотя британцы считали, что настаивать на абсолютном равенстве государств «совершенно нереалистично», а преимущества узкого состава Совета при участии в нем великих держав были очевидны, Сесил поступил как настоящий интернационалист: главная задача Лиги состояла в том, чтобы выступать в качестве «голоса всего мира», и подтверждать «равенство всех стран»[740]. Вильсон, выступавший в роли председателя Комиссии, не высказал своего мнения. Он не дистанцировался в открытую от позиции Британии и утверждал, что существуют веские основания для того, чтобы великие державы имели особое представительство. В конце концов, основная тяжесть обеспечения выполнения решений Лиги непропорциональным образом ложилась именно на них. Кроме того, если говорить о связи представительства с заинтересованностью, то именно великие державы были «всегда заинтересованы» хотя бы потому, что действовали в мировом масштабе. Напротив, у малых стран после создания Лиги Наций было еще меньше причин вести независимую дипломатическую деятельность, так как теперь они могли быть уверены в том, что их основные интересы находятся под защитой мирового сообщества[741]. Но, как всем было известно, первый проект Статута, предложенный самим Вильсоном, предусматривал значительное представительство в Совете малых стран, и когда он, как председатель, открыл заседание, то с удовольствием предоставил слово делегатам Сербии, Бельгии и Китая, чтобы они могли внести свои критические поправки[742].
Натолкнувшись на стену оппозиции, Сесил согласился с необходимостью переработки проекта, но это вызывало вопрос о том, какими критериями следует руководствоваться, распределяя места в Совете. Ряду делегатов не нравилось разделение на малые и большие страны, не говоря уже об оскорбительном разделении Вильсоном стран на «великие», «средние» и «малые». К тому же, как отметила бельгийская делегация, подобная система классификации предполагала возможность того, что «могут возникнуть другие страны, вполне отвечающие критериям великих держав…» Поэтому следует предусмотреть возможность принятия таких стран в состав Совета на постоянной основе и добавления в его состав небольших стран для поддержания баланса. Сесил в свою очередь поинтересовался, считают ли бельгийцы Германию потенциальным будущим членом Совета. Это вызвало общее замешательство и привело к тому, что Фердинанд Ларно, второй член французской делегации, со всей ясностью изложил, что на самом деле поставила на карту Франция. Следуя логике Сесила, Ларно предположил, что «вообще использование терминов „великие“ и „малые“ державы нежелательно». Лига Наций возникла в «результате войны». Конечно, в ее создание вклад внесли не только страны «Большой пятерки». «Но при обсуждении этого вопроса не следует рассуждать абстрактно или руководствоваться чувствами; нужны только факты, а факты говорят о том, что в войне победили Великобритания, Франция, Япония, Италия и Соединенные Штаты. Поэтому важно, чтобы Лига строилась вокруг этих влиятельных держав…»[743]
«В ходе войны, – продолжал еще один член французской делегации, Буржуа, – пять стран составили Лигу Наций по определенному образу; они воевали, вдохновленные единой идеей. Сейчас важно, чтобы весь мир узнал, что они создают эту Лигу под влиянием единой идеи»[744].
Наконец, 13 февраля 1919 года на девятом заседании Комиссии было определено соотношение, отвечающее концепции, с самого начала предложенной Вильсоном: 5:4 в пользу великих держав[745]. В целом это знаменовало собой компромисс в пользу идеи о том, что Лига Наций – это не инструмент господства великих держав, а представительная ассамблея «семьи народов», организация, которая, как выразился бельгийский делегат Поль Иманс, подтверждает «достоинство народов»[746]. Теперь в Статуте не было строгого разделения на великие и малые страны. Страны «Большой пятерки» были просто включены в список в качестве постоянных членов. Остальные члены Совета выбирались из числа «других стран-участниц». В проекте, согласованном в феврале, не содержалось определения статуса «Большой пятерки», не упоминались ни их размеры, ни их роль в войне. Не проводилось различий между великими и малыми странами, союзниками, участниками и побежденными. В Статуте избегались упоминания подлинной иерархии мировой власти. Точно так же не предлагалось никаких критериев, позволявших обосновать необходимость внесения изменений в текст самого Статута.
Подобное столкновение мнений происходило по каждой статье Статута. Например, кто может стать членом Лиги Наций? В первом проекте Статута, предложенном самим Вильсоном, говорилось о «народном самоуправлении» как критерии, которому должен соответствовать кандидат на вступление, что должно было сделать Лигу союзом демократий. Но этот пункт был отклонен экспертами-юристами. На третьем заседании Комиссии, состоявшемся 5 февраля, Вильсон попытался исправить это, предложив, чтобы в будущем членами Лиги Наций могли становиться «только самоуправляемые государства». Ответ Буржуа был жестким. Просто самоуправления недостаточно. «Неважно, какая форма правления: республиканская или монархическая, – продолжал он, – вопрос должен ставиться так: отвечает ли это правительство перед народом»?[747] Для французов речь шла о «политическом» характере Лиги и ее членов.
Для того чтобы установить самый жесткий отбор, они настаивали на том, что все решения о приеме новых членов должны приниматься единогласно. Выступавший от имени Британии Сесил проявил характерную гибкость. Самоуправление, сказал он, это просто «слово, трудно поддающееся определению, и по нему сложно судить о стране». Для Британии было принципиальным, чтобы в состав организации вошла Индия, и хотя страна развивалась в направлении к самоопределению, Комиссия не была готова согласиться с тем, что Индия уже отвечает необходимым требованиям. Неловкую ситуацию разрешили, включив Индию в число стран, изначально подписавших Статут, на которые не распространялись требования, предъявляемые к новым кандидатам. После того как Ян Смэтс решил этот процедурный вопрос, Сесил был готов согласиться с любой формулировкой, предложенной Вильсоном. Если основное беспокойство вызывала Германия, то британцы считали, что лучше всего отказаться от единой формулы для всех. В конце концов, на бумаге невозможно было отрицать, что рейхстаг был «демократическим институтом». Кроме того, «через несколько лет рейхстаг мог привести к становлению в Германии конституционного правления в подлинном смысле слова». Чтобы установить жесткие условия вступления в организацию стран, бывших ранее врагами, Сесил предложил внести в статью изменения, позволявшие Лиге «по своему усмотрению определять условия приема любой страны, желающей вступить в организацию». Это позволит Лиге «указать одной стране на ее излишнюю милитаризацию, другой – на чрезмерно деспотичный режим правления и т. д.»[748]
Вильсон не стал уточнять, что именно он имел в виду, хотя поправка принадлежала ему. Он с готовностью соглашался с тем, что «на протяжении 20 лет своей жизни читал лекции о государствах, построенных на самоуправлении, и о признаках таких государств», но так и не смог прийти к совершенно ясному их определению. В конце концов, все свелось к практической мудрости. Вильсон утверждал, что ему достаточно лишь «взглянуть», чтобы «узнать» подобное государственное устройство. Рейхстаг и громоздкий аппарат политических выборов в Германии никого не должны вводить в заблуждение. Независимо от того, как «это выглядело на бумаге, до войны никто не мог, глядя на германское правительство, сказать, что в стране действует самоуправление»[749]. На предложение французов обсудить идею Сесила и определить требования к конкретным кандидатам, Вильсон ответил предложением, вызвавшим еще большее замешательство. Было бы неразумным, заметил он, настаивать на особо исключительных критериях членства, потому что это может привести к «установлению стандартов, которым мы сами не всегда соответствуем». «Даже уже вошедшие в состав нашей организации страны не считаются достаточно хорошими в глазах всех остальных стран»[750]. Это встревожило французов еще больше. Для республиканцев из разряда Клемансо было странным, что из невозможности достичь международного консенсуса делали повод для ухода в минималистский релятивизм. Именно потому что миру грозил раскол в результате конфликта, демократы должны отличать друзей от врагов и учиться держаться вместе. Поэтому Лиге Наций необходимо выработать четкие критерии приема в члены организации и эффективные механизмы, обеспечивающие соблюдение этих критериев. Однако британцы и американцы выступали против любых шагов французов в этом направлении. В конце концов Комиссия пришла к компромиссу, который никого не устроил. Все разговоры о демократии, конституционализме или об ответственном правлении были прекращены в пользу поправки, просто указывающей на то, что в странах-кандидатах должно действовать «полное самоуправление». Это определенно исключало из числа кандидатов колонии, но оставляло открытым вопрос о внутреннем устройстве стран – членов организации[751].
III
Различия в видении проблем стали еще более очевидными при обсуждении механизма обеспечения выполнения решений Лиги Наций. Франция настаивала на том, что для обеспечения гарантии выполнения решений Лига должна располагать международной армией. Армия должна иметь постоянные основные подразделения и соблюдать строгий режим контролируемого разоружения. Если бы это предложение было принято, то штаб главнокомандующего союзнических сил генерала Фоша, созданный в самый последний момент кризиса весной 1918 года и все еще действующий весной 1919 года, мог стать образцом для создания постоянно действующего военного аппарата. Но для британцев и американцев это предложение оказалось неприемлемым.
Французы имели дерзость настаивать, и тогда британцы приоткрыли завесу над истинной расстановкой сил, что и определило границы возможного компромисса в Лиге Наций. Утром 11 февраля Роберт Сесил встретился с Леоном Буржуа и, «говоря откровенно, но в частном порядке», напомнил ему, что «американцы от Лиги ничего не выигрывают», что «предложение о поддержке, сделанное Америкой, фактически является подарком Франции и что в определенной, правда меньшей, степени этой позиции придерживалась и Великобритания». «Если создать Лигу Наций не удастся, – предупредил он, – Британия выйдет из переговоров и предложит создать отдельный союз Великобритании и Соединенных Штатов». С худшими опасениями относительно будущего французской политики «члены делегаций удалились на обеденный перерыв»[752]. Теперь, заручившись поддержкой Британии, Вильсон мог позволить себе более примирительный тон. Он с готовностью поддержал мнение французов о том, что война показала «абсолютную необходимость единого командования… но единое командование возникло лишь при возникновении явной и неизбежной опасности для цивилизации. Если предложить единое командование в условиях мирного времени, то такое предложение не примет ни одна страна…»[753]«Мы должны отличать возможное от невозможного»[754].
За кулисами Версаля уже знакомое распределение ролей происходило в обратном порядке. Под влиянием реалистичных взглядов Вильсона французы отказались от радикального интернационализма и стали выступать за сохранение статус-кво. Если пришлось отказаться от устремленного в будущее интернационализма, то французам оставалось довольствоваться тем, что было возможно сделать в ходе переговоров, – смягчить формулировки Статута Лиги Наций о разоружении и устранить их однобокость, угрожавшую безопасности Франции. Когда Британия и США предложили отменить призыв в армию, Франция заявила, что призыв является «фундаментальным положением демократии» и «естественным следствием всеобщего избирательного права»[755]. Достигнутый компромисс в большей мере устраивал британцев и американцев, чем их союзников. Согласно статье 8, уровень разоружения определялся с «учетом географического положения» каждой страны. «Справедливая и разумная» численность вооруженных сил, которыми могла располагать каждая из стран-участниц, определялась Советом, правда соответствующая процедура не была прописана. Говорилось о необходимости «полного и открытого обмена информацией» о вооружениях между странами, но при этом не предусматривалось проведения инспекций и других форм «контроля». Вместо постоянно действующей армии Лига будет располагать «постоянной Комиссией» для проведения консультаций по вопросам разоружения, а также «по военным и морским вопросам».
Режиму безопасности посвящалась статья 1 °Cтатута, согласно которой Высокие Договаривающиеся Стороны «обязуются уважать и сохранять против всякого внешнего вторжения территориальную целость и существующую политическую независимость всех Членов Лиги». Однако вопреки требованиям, выдвинутым позднее оппонентами Вильсона из числа республиканцев, Статут не предусматривал создания механизма автоматического обеспечения выполнения его положений. Совету предстояло самому «указывать меры к обеспечению выполнения этого обязательства». В основном в Статуте говорилось об определении процедурного механизма сдерживания конфликтов и посредничества при их разрешении. Ни одна страна не могла начать войну, не передав перед этим спорный вопрос на рассмотрение третейских судей (статья 12). На принятие решения отводилось 6 месяцев. Стороны не должны были прибегать к войне до истечения трехмесячного срока после решения третейских судей. В случае разрешения разногласий условия урегулирования подлежали опубликованию, и это стало основой зарождающегося международного права (статья 15). Обязательную силу имел лишь отчет, единогласно утвержденный членами Совета, не являвшимися сторонами конфликта. Ни один член Лиги Наций не мог объявить войну другой стороне конфликта, если та была согласна с решением Совета, принятым единогласно. Несоблюдение решений третейских судей рассматривалось как акт агрессии против всех других членов Лиги Наций и вело к санкциям, предусмотренных в статье 16. К ним относились полная и незамедлительная экономическая блока и прекращение всех сношений между гражданами государства, нарушившего Статут, и остальным миром. Исполнительный Совет в этом случае был обязан рассмотреть совместное применение военной и морской силы, но от него не требовалось ее использования. Если решение Совета было принято не единогласно, требовалась просто публикация мнений большинства и меньшинства под данному вопросу. Попытка Бельгии придать обязательную силу решениям, принятым большинством, была отклонена Британией при поддержке Вильсона. Совет не мог отменить голоса, поданные против того или иного решения. Лига Наций не могла принудить к действию ни одну из великих держав.
Стремясь еще больше уменьшить свои обязательства и избежать участия в защите статус-кво, которое невозможно было защитить, Британия настояла на том, чтобы Лиге было предоставлено право в необходимых случаях изменять границы между государствами. Однако это несло в себе опасность превращения Совета Лиги в апелляционный суд, в который стали бы обращаться по любому поводу все ревизионисты и ирредентисты. Вместо этого в статье 24 обращалось внимание на обязанность делегатского корпуса «время от времени указывать государствам – членам Лиги на необходимость пересмотра договоров, утративших силу, и международных условий, сохранение которых может угрожать миру во всем мире». Однако Статут не определял соответствующей процедуры оформления таких указаний или контроля их выполнения. Статья 25 призывала государства, подписавшие Статут, дезавуировать все договоры, несовместимые с требованиями Статута Лиги Наций, но и в этом случае не была определена процедура разрешения конфликта между новыми и ранее принятыми обязательствами.
Это глубоко разочаровало тех, кто надеялся обеспечить действенный международный режим безопасности. Но Вильсон считал неправильным начинать с недоверия и отсутствия безопасности, которые легли в основу этих дискуссий. «Не следует считать, – указывал он, – что в случае нападения на любую страну – участницу Лиги, она останется в изоляции…Мы готовы прийти на помощь тем, на кого будет совершено нападение, но мы не может сделать больше, чем это позволяют имеющиеся обстоятельства. В случае опасности мы придем и поможем вам, но вы должны доверять нам. Мы все должны зависеть от взаимной добросовестности»[756]. Вежливость не позволила Буржуа и Ларно напомнить, как менее четырех лет назад президент Вильсон заявил, что «гордость» не позволяет ему воевать, и как даже в момент величайшей опасности весной 1918 года американские солдаты не очень «спешили» на защиту Франции. Вместо этого французы попросили внести в Статут формулировку «взаимной добросовестности», о которой столь возвышено говорил Вильсон. Почему бы, помня о крови, пролитой в ходе совместных сражений, не внести в Статут конкретное заявление о солидарных действиях? Но на это предложение французов последовали неоднократные возражения британцев и американцев, которые считали, что Лигу не следует «обременять» давними обидами военных времен. Но если воинская солидарность считалась неуместной, то о каких общих связях говорил Вильсон?
Тогда Буржуа предложил, чтобы Лига Наций воспользовалась наследием довоенных Гаагских мирных договоров, опыт которых принес ряд горьких уроков. Сторонники интернационализма должны держаться вместе, потому что их проект, вопреки наивным ожиданиям Вильсона, не встретил широкой общественной поддержки. Буржуа напомнил Комиссии, что сторонники Гаагских мирных договоров подвергались «шуткам и насмешкам» со стороны «правых оппонентов», провозглашавших себя «реалистами», и недалеких представителей национального эгоизма. Они были жестоко раскритикованы теми, кто «пытался дискредитировать попытки создания первой правовой организации в мире». Буржуа с чувством завершил свое выступление: «Я заявляю и прошу занести это в протокол: я предвижу, что работа, которую мы сейчас ведем, будет встречена такой же критикой, такими же насмешками, и они даже попытаются говорить о бесполезности и неэффективности этой работы». Подобные обличения не были необоснованными. Издевательские насмешки в адрес Гаагских договоров ослабили поддержку тех, «кто должны были стать самыми твердыми их последователями». С учетом деликатности ситуации, настаивал Ларно, «замалчивание Гаагской конференции означает нечто большее, чем неблагодарность, оно может означать пренебрежение нашей заинтересованностью в том, чтобы не уклоняться от договоренностей, действительно сыгравших свою роль в этой войне»[757]. Британцев это не тронуло. Сесил, выступавший в роли председателя вместо Вильсона, назвал всю проблему «формальным вопросом». Возражал и полковник Хаус, но совсем по другим соображениям. Раз Конгресс США ратифицировал Гаагскую конвенцию с рядом оговорок, то даже упоминание о ней в Статуте Лиги Наций является «формальным вопросом», который может вызвать «многие и очень серьезные» проблемы.
IV
Клемансо не был наивным реалистом в международных делах. Напротив, в начале апреля 1919 года он создаст серьезный прецедент, предложив участникам Версальского договора привлечь к суду кайзера как международного преступника[758].
Но разочарование, выпавшее на долю Ларно и Буржуа во время их работы в Комиссии, утвердило Клемансо в том, что для Франции в Лиге Наций дело было проиграно. Стремясь извлечь максимум пользы из неблагоприятной ситуации, Клемансо присоединился к британцам и американцам, дистанцировавшись от невыполнимых требований Буржуа, в надежде создать трехсторонний трансатлантический пакт с Британией и Америкой, что и было его истинной целью[759]. В случае создания такого демократического союза Франция была готова мириться с существованием бесполезной Лиги Наций. Подлинным риском (с точки зрения Парижа) была возможность превращения Лиги в исключительно англо-американскую дуополию. И в то время, и сейчас критики продолжают утверждать, что Лига Наций выступала в роли подходящего инструмента поддержания англоамериканского превосходства[760]. На чем основаны такие утверждения? Разумеется, британцы надеялись превратить Лигу в форум трансатлантического кондоминиума, и такой подход вызывал симпатии по меньшей мере некоторых сенаторов-республиканцев[761]. Однако отношение со стороны администрации Вильсона энтузиазма не вызывало. Это было особенно заметно в самых важных вопросах – вопросах финансов и кораблей.
Зимой 1918/19 года в странах Антанты говорили о том, что Лигу следует превратить в инструмент урегулирования международных финансовых вопросов. Но, как мы увидим, эти планы были быстро забыты. Значительно большее беспокойство вызывала позиция Вильсона в вопросах мореплавания. В декабре, перед поездкой в Лондон, он дал тщательно подготовленное интервью газете The Times, в котором говорил о необходимости «самого широкого понимания между двумя великими англоговорящими демократиями»[762]. Что это могло означать для организации военно-морских сил в будущем? В октябре 1918 года, в ходе независимых переговоров с Германией, Вильсон вновь призвал к свободе морей, что было анафемой для Британии. В конце октября он усилил свой нажим, обратившись к Конгрессу с просьбой о выделении фондов на вторую трехлетнюю программу создания флота. В начале декабря во время путешествия в Европу он спонтанно объяснил, что именно он имеет в виду. Если Британия не примет предлагаемые условия, Америка «построит крупнейший флот в мире, равный и даже превосходящий британский флот… а если британцы не ограничат свой флот, то их ожидает другая, еще более ужасная война, которая сотрет Англию с лица земли»[763]. Когда Вильсон прибыл в Европу, то у Британии, похоже, оставалось мало шансов достичь хотя бы одной из своих основных целей: заключить прямое соглашения о разделе сфер влияния с Соединенными Штатами или заручиться признанием Соединенными Штатами исключительных потребностей Британии как мировой империи на море. Конфликт между военно-морскими силами обеих стран обострился до того, что в конце марта 1919 года адмиралы грозили друг другу войной и их с трудом удерживали от рукопашной[764].
В столь напряженной ситуации дискуссии о Лиге Наций принесли облегчение по меньшей мере в одном крайне важном вопросе. Как был вынужден признать сам Вильсон, существовало противоречие между тем, чтобы настаивать на создании Лиги Наций, имеющей полномочия объявлять международную блокаду, и объявлять о свободе морей как абсолютном принципе. Королевский флот, безусловно, будет играть важнейшую роль в выполнении санкций, решение о которых примет Лига. Вильсон признавал «анекдотичность» своего положения. Разговоры о свободе морей постепенно стихли. Но смогут ли сотрудничать морские силы Британии и США? Готов ли был Вильсон построить крупнейший в мире флот? Если США будут действовать в одностороннем порядке и проявлять агрессию, позволит ли Британия остаться этому незамеченным? Лига Наций стала бы посмешищем, начни она свою деятельность не с разоружения, а с величайшей гонки вооружений всех времен. Однако в то время когда в Версале начинались мирные переговоры, Америка наконец приступала к выполнению принятой еще во время войны программы строительства кораблей[765]. Любой разговор о необходимости ограничения этого строительства мог быть истолкован как признак признания превосходства Европы. Результат оказался до смешного противоположным ожидаемому.
Начиная с 1916 года Вильсон говорил о том, что Америка должна выступать с угрозами построить огромный флот, чтобы заставить британцев принять новый порядок. В конце марта 1919 года, когда мирная конференция уже вторую неделю находилась в состоянии глубокого кризиса, Ллойд Джордж изменил ситуацию в свою пользу. Вернувшись из Вашингтона, Вильсон оказался в непростом положении. Из разговоров с лидерами Конгресса стало понятно, что Статут не будет принят, если в него не будет включена доктрина Монро. Британия не возражала, она была одной из стран, подписавшихся под доктриной. А Королевский флот фактически был основой ее мощи на протяжении XIX века. Но стремление Америки к доминированию на море вызывало глубокое беспокойство, и не только в Британии. В первую неделю апреля, когда конференция зашла в тупик, Ллойд Джордж дал ясно понять, что Британия не поставит своей подписи под поправками к Статуту о включении в него доктрины Монро, если Вильсон не откажется от полномасштабной гонки морских вооружений[766]. Сесил был в ужасе от такого, как он считал, цинизма Ллойда Джорджа. Но его возмущение мало значило для логики Даунинг-стрит: «Первым условием успеха Лиги Наций является… наличие твердого понимания Британской империей, Соединенными Штатами Америки, Францией и Италией того, что они не будут конкурировать друг с другом в создании флотов и армий. Если такого понимания не будет достигнуто до подписания Статута, то Лига Наций превратится в фикцию и посмешище»[767]. Похоже, не Вильсон использовал американские морские вооружения для того, чтобы заставить Британию принять его взгляд на мировой порядок, а Британия держала Статут Лиги Наций, за который выступал Вильсон, в качестве заложника, принуждая Америку к сдерживанию своей военно-морской мощи. Ллойд Джордж поддержал внесение поправки в Статут 10 апреля лишь после того, как Вильсон уступил и пообещал, что Америка пересмотрит свою программу судостроения, принятую в 1918 году, и будет участвовать в регулярных переговорах о планах вооружения[768]. Таким образом, на чистом холсте, который представляла собой Лига Наций, появилось изображение если и не англо-американского союза, то хотя бы их обязательств воздерживаться от конфронтации.
14 «Правда о Договоре»
Для Франции переговоры начались неудачно. В Комиссии Лиге Наций британцы и американцы совместно J блокировали французскую концепцию Лиги. В Статуте, который должен был определять структуру мирового порядка после войны, слишком мало говорилось, если говорилось вообще, о том, что необходимо сделать для обеспечения мира в Европе. В борьбе, которая развернулась вокруг перемирия осенью 1918 года, британцы располагали достаточными рычагами влияния, чтобы обеспечить выполнение своей единственной важнейшей задачи: германский флот был интернирован в Скапа-Флоу. Для сравнения отметим, что Франции приходилось настаивать на жестких условиях перемирия, обновляемых ежемесячно, чтобы обеспечить свою безопасность. Ход событий в Версале во многом определялся стремлением Франции добиться признания своих интересов. Результатом стал подписанный в июне 1919 года договор, который, по словам наиболее влиятельного в период между двумя войнами французского историка и публициста правых взглядов Жака Бенвиля, был «слишком мягким при всей его жестокости»[769]. Как это могло произойти? Первое, что приходит в голову, – это условия нездорового компромисса между двумя сторонами. Французы выступали за жесткие меры, а Британия и Америка горделиво представлялись сторонниками более либерального мирного договора. «Слишком жестоким» соглашение считали прежде всего такие британские либералы, как Джон Мэйнард Кейнс. Бенвиль, как и многие его соотечественники, считал его «слишком мягким»[770].
Неудивительно, что столь простое распределение ролей вызвало возражения. А может, действительно французы мстили, а британцы и американцы были либеральны в своих подходах к Германии? Если не говорить о распределении ролей, то, возможно, существуют более серьезные причины удручающего качества Версальского договора? Не являются ли милосердие и жестокость Версаля симптомами неустойчивой эмоциональной расчетливости либеральных моралистов[771]. Ярость, сопровождавшая справедливую войну, порождала залпы карательных действий, со временем начинавших вызывать неприятие, за этим следовала не менее нестабильная обратная реакция, на этот раз в духе умиротворения[772]. В конце концов, справедливый мир мог означать и казнь кайзера через повешение, и сдерживание неразумных поляков. Но, стремясь найти объяснение двуличию Версаля, Бенвиль выходил за рамки эмоционального цикла преступления и наказания, рассматривая более глубокие исторические и структурные особенности мирного процесса. Версальский договор, независимо от того, считать ли его милосердным или жестоким, интересовал Бенвиля в первую очередь с той точки зрения, что он распространял принцип национального суверенитета на всю Европу, включая Германию. Существование единого и суверенного германского национального государства как неотъемлемого элемента нового мирового порядка считалось само собой разумеющимся, независимо от катастрофы, вызванной этим творением Бисмарка 1871 года. Для Бенвиля такое допущение было отличительной чертой сентиментального либерализма XIX века[773]. Затейливая смесь жестокости и доброты, характерная для этого мирного процесса, возникла непосредственно в результате попыток Клемансо примирить свою романтическую приверженность принципу национальной принадлежности с необходимостью обеспечить безопасность Франции. Что бы мы ни думали о политике Бенвиля, сложно отказать ему в обоснованности его позиции. То, что в договоре 1919 года допускалось создание национального германского государства, делало его уникальным на фоне всей новой истории, начиная с возникновения системы национальных государств в Европе в XVII веке. Большинство, если не все проблемы, присущие Версальскому договору, брали начало именно отсюда.
I
При той настойчивости, которую французы проявляли в вопросах демилитаризации Рейнской области, занятия стратегических плацдармов и проведения в Германии международной инспекции с изъятием ее пограничных территорий, утверждение, что проблема суверенитета Германии была определяющей на мирных переговорах в Версале, может показаться ошибочным. Клемансо с готовностью предоставлял возможность развернуться сторонникам еще более радикальных действий, когда это отвечало его тактике ведения переговоров. Но, как это хорошо понимал Бенвиль с его обостренным чувством политической истории Франции, человек такого склада, как Клемансо, на самом деле был не в состоянии отказать Германии в создании национального государства. Самоопределение как общее устремление не было идеей, которую американский президент привнес в ничего не понимающую Европу. Со времен первой Французской республики, положившей начало революционным войнам 1790-х годов, вопрос обеспечения безопасности Франции при соблюдении права других народов на самоопределение всегда оставался актуальным. Кроме того, как с сожалением признавали подобные Клемансо радикальные сторонники республики, длительная история французской агрессии сыграла пагубную роль в разжигании германского национализма. Фризы, украшавшие стены Зеркальной галереи Версальского дворца, были посвящены прославлению захвата Людовиком XIV Рейнских земель. Первые французские революционеры считали, что порывают с наследием власти Бурбонов. Они объявляли себя освободителями порабощенной Европы. Но вскоре на смену справедливой революционной войне пришел наполеоновский империализм. Понимание трагического поворота в истории Европы, ставшего следствием перерождения Французской революции, было фундаментальным моментом в определенно республиканских взглядах Клемансо на историю[774]. Венский конгресс 1815 года привел к установлению мира в Европе, но оставил неудовлетворенными национальные устремления Германии. Жестокая развязка наступила в 1860-х годах, когда тщеславие племянника Бонапарта распахнуло двери перед Бисмарком. И тому, что в 1870 году у Франции Наполеона III не оказалось друзей, имелись веские причины. Клемансо не оплакивал крах режима, при котором ему самому и его отцу пришлось побывать в тюрьме. Хуже всего было то, что уязвленная гордость Германии теперь затмевалась прусской агрессией. Клемансо мог сказать много нелицеприятных и предвзятых вещей о немцах. Но он не отрицал, что гунны 1914 года во многом были порождением зигзагообразной истории самой Франции.
Конечно, не только Франция несла ответственность за то, что Германии было отказано в ее национальных устремлениях. Любое общее решение европейских проблем и до, и после 1919 года сопровождалось разделом суверенитета Германии. Вестфальский договор 1648 года, положивший конец Тридцатилетней войне, привел к признанию суверенитета возникавших в Европе национальных государств во главе с Францией. При этом германские земли входили в состав Священной Римской империи, разделенной по границам вероисповеданий на сотни княжеств, герцогств и свободных городов. Карта была несколько упорядочена в результате наполеоновской оккупации германских земель, но в основе своей сохранилась вплоть до 1815 года. Часто проводились недоброжелательные сравнения того, с каким снисхождением в 1919 году в Париже принимали деморализованную делегацию Германии и какое гостеприимство было оказано Талейрану, который на Венском конгрессе представлял побежденную Францию. Но вопрос совершенно не в этом. Талейран был посланником возродившейся законной династии Бурбонов. В 1815 году даже малейший намек на единство Германии подавлялся силами секретной полиции Австрии, Пруссии и России. Еще в 1866 году во время кризиса, приведшего к австро-прусской войне, французский государственный деятель Адольф Тьер мог провозгласить «величайшим принципом европейской политики» то, что Германия должна состоять из независимых государств, связанных между собой не более чем федеративными отношениями[775]. И вот на этом фоне Клемансо допустил, казалось бы, нелепое высказывание: «Версальский договор может похвастаться тем… что он заложил основу и даже частично содействовал появлению определенного типа отношений, строящихся на равноправии народов, настроенных друг против друга в результате целого ряда исторических столкновений»[776]. После Версаля объединенное германское государство будет находиться в сердце Европы. Более того, и этого почти невозможно было не заметить даже при самом поверхностном рассмотрении послевоенной карты, в результате одновременного крушения трех восточных империй Германия не просто выжила в войне. В результате поражения 1918 года она приобрела намного больше территорий, чем в результате победы 1871 года.
Можно ли было повернуть вспять ход истории, приведший к образованию германского национального государства? В 1918 году среди журналистов, высших армейских чинов и даже на Кэ д’Орсэ много говорилось о «новой Вестфалии». Возможно, Франции удалось бы восстановить свои доминирующие позиции, которые она занимала при Людовике XIV. Вероятно, можно было обуздать германский национализм или направить его против него самого. В конце концов, объединение Германии было сопряжено с насилием. В 1849 году прусские войска разгромили патриотическую либеральную революцию на юге Германии. Летом 1866 года в ходе того, что ошибочно называют австро-прусской войной, Пруссия противостояла не только Австрии, но и коалиции, в которую входили Саксония, Бавария, Баден, Вюртемберг, Гессен, Ганновер и Нассау. В гражданской войне между Севером и Югом было убито и ранено более 100 тысяч немцев. Зачем было дробить государство, созданное совсем недавно и с такими потерями? Но какими бы привлекательными ни казались такие взгляды любому оценивающему события исключительно с позиций Франции, они оставляют без внимания консолидацию национальных чувств в Германии начиная с 1871 года. Как признавал сам Клемансо, патриотизм в Германии не был плодом романтического воображения либералов. И эта подтвердили драматические события войны. Если подходить к вопросу более основательно, то воплощение фантазий о повторном разделении Германии поднимало вопрос о применении силы. Даже если Франция, действуя в одиночку, могла выступить в роли инициатора отделения Рейнской области, то как она могла надеяться сохранить такое разделение? Вестфальский и Венский договоры распространялись на всю Европу, и их выполнение обеспечивалось коллективными гарантиями. Подобное решение было не столь уж невозможно вообразить в XX веке. Именно разделение Германии было навязано после 1945 года. Однако условия, из-за которых после Второй мировой войны разделение Германии стало постоянной чертой европейского устройства на протяжении жизни почти двух поколений, в полной степени показывают дилемму, перед которой стояла Франция в 1919 году.
Восстановление Западной Германии после Второй мировой войны стало своего рода ордером, подтверждающим историческую возможность успешной «смены режима». На фоне этого восстановления еще более контрастно выглядит «неудача» 1919 года. Но не следует недооценивать значительные денежные средства и политические капиталы, задействованные в ходе восстановления после Второй мировой войны, то есть ресурсы, найти и мобилизовать которые для всех стран-победительниц было намного труднее после Первой мировой войны. Не следует забывать и о принудительных международных ограничениях, сопровождавших это восстановление. Мирное урегулирование после 1945 года ограничивало суверенитет Германии в гораздо большей степени, чем то, о чем помышляли в 1919 году. Вторая мировая война привела именно к тем кошмарным последствиям, которые предвидели разгневанные националисты после Первой мировой войны. Страна подверглась масштабной оккупации, а ее территория была расчленена. Кроме того, 11 млн немцев подверглись этническим чисткам на спорных пограничных территориях на востоке страны. Точные потери до сих пор не подсчитаны. Возмущенные националисты утверждают, что жертвами этого исхода стал миллион человек из числа гражданских лиц. Были изнасилованы сотни тысяч женщин. По всей территории Германии изымались средства в счет репараций и компенсации расходов на оккупацию. За военными преступниками шла охота. Несколько тысяч из них были казнены, десятки тысяч заключены в тюрьмы и надолго исключены из общественной жизни. В Восточной и Западной зонах была нарушена и перестроена вся политическая, юридическая, социальная и культурная система, что вызывало широкую волну возмущения. Успех и легитимность этого переустройства в конечном счете были признаны только в Федеративной Республике, но не в Восточной Германии. Но и в Западной Германии для этого потребовалась целенаправленная работа нескольких поколений граждан, беспрестанно, а иногда и с определенным бесстрашием заявлявших о необходимости расстаться с прошлым своей страны. Коммунистической диктатуре на Востоке приходилось полагаться на один из самых жестоких полицейских режимов в истории. Счастливый конец наступил лишь в 1989 году, когда пала советская власть и произошло воссоединение страны. Но даже состоявшиеся в 1990 году переговоры в формате «два плюс четыре» о ратификации воссоединения Германии свидетельствовали, скорее, не о полном восстановлении суверенитета Германии, а о наличии многочисленных условий, которые Германии надлежит выполнять и сегодня в составе НАТО и Европейского союза.
Главным предварительным условием столь знаменательного развития событий стала беспрецедентная приверженность западных держав взятым на себя обязательствам. Однако не менее значимой частью данного уравнения было жесткое принуждение со стороны Красной армии. После 1945 года именно реальная угроза захвата со стороны Советского Союза вынудила Западную Германию броситься в объятия Запада и там и оставаться. Это тоже выделяет события 1919 года как единичный пример в европейской истории. Начиная с XVIII века тень России витала над германской историей[777]. Военное поражение, нанесенное России Германией в 1917 году, привело к исчезновению этого основного фактора европейской политики с позиции силы. Это имело серьезные последствия для Франции, как и для Германии. В 1890-х годах общий страх перед объединившимся рейхом привел к созданию нелепого союза царского самодержавия и республиканской Франции. Французские стратеги из разряда Клемансо всегда считали этот союз неестественным. В 1917 революция в России и вступление Америки в войну году сделали невозможным и ненужным какой-либо франко-русский союз против Германии. Теперь Французская республика могла обеспечить свою безопасность на гораздо более близкой ей основе, выстраивая стратегический союз с Соединенными Штатами и Британией. Такой трансатлантический демократический союз обладал достаточной силой не только для того, чтобы уживаться с объединенной Германией, но и для того, чтобы держать ее под контролем. На востоке Германия была усилиями союзников надежна отделена от России новыми государствами – Польшей и Чехословакией. Главный вопрос состоял в том, удастся ли Франции и в мирное время продолжить сотрудничество с Британией и Америкой, приведшее к эпохальным переменам во время войны.
Но осенью 1918 года Лондон и Вашингтон согласились с требованием Франции о возврате ей Эльзаса и Лотарингии без проведения плебисцита. В январе 1919 года, выступая во французском Сенате, президент Вильсон пошел еще дальше. Франция, заявил он, стоит «на передовых рубежах защиты свободы». Теперь ей «уже никогда» не придется «в одиночку противостоять опасностям» или задаваться «вопросом, кто придет ей на помощь». Франция должна знать, что «отныне все будет так, как произошло теперь, и впредь уже не будет места сомнениям, ожиданиям и домыслам, и когда возникнет угроза для Франции или любого другого свободного народа, весь мир будет готов встать на защиту их свободы»[778]. Если забыть о таких высказываниях, как «слишком горд, чтобы сражаться» и «мир без победы», и если слова «рубежи защиты свободы» не были просто пустыми фразами, то речь шла о серьезных изменениях, подразумевавших конкретное и абсолютное территориальное разграничение между различными политическими понятиями: свободой, с одной стороны, и ее врагами – с другой. Похожей риторикой воспользуется президент Трумен в 1947 году, когда будет разъяснять политику сдерживания, «план Маршалла» и НАТО. Но Вильсон, к глубокому сожалению французов, не сумел показать, что осознает всю важность произнесенных им слов. Уже через несколько недель на заседании Комиссии Лиги Наций он вновь заговорил о моральном равенстве. В вопросе о Статуе Лиги Наций Франция предпочла уступить. Но она не могла пойти на уступки, когда речь зашла о Германии.
II
Первоочередной задачей Франции было разоружение Германии. В этом вопросе американцы предпочли воздержаться, а разногласия с британцами носили технический характер. Они были устранены в феврале 1919 года с принятием решения об отмене призыва в армию и ограничении численности германской армии, которая не должна была превышать 100 тысяч добровольцев, вооруженных стрелковым оружием. Следующей задачей Франции было отодвинуть от своих границ то, что оставалось от германской армии. Французы хотели взять под свой контроль находящийся к северу от Эльзаса Саарский угольный бассейн. Это позволит обеспечивать Францию углем, которого она лишилась, когда отступавшие германские части затопили шахты на севере Франции. Рейн несет свои воды дальше на север в Голландию, а принадлежащая Германии Рейнская область уходит на запад от русла реки. Генералиссимус Фош и окружавшие его националисты требовали отделения Рейнской области от Германии и создания независимой республики, которая могла бы войти в одну группу с Бельгией и Люксембургом либо сохранить нейтралитет. Во время войны Клемансо подавлял подобные разговоры, но 25 февраля 1919 года он позволил своему близкому советнику, Андре Тардю, проверить на конференции реакцию аудитории на это радикальное предложение. Клемансо тщательно выбирал момент. Он избегал прямого противостояния с Вильсоном, который покинул Париж, чтобы представить вопрос о Лиге Наций в Конгрессе. К возвращению Вильсона 14 марта все было подготовлено для того, чтобы поставить мирную конференцию перед кризисной ситуацией. Вильсона ужаснули масштабы претензий Франции. Но Клемансо был непоколебим. Опасаясь полного провала конференции, Ллойд Джордж предложил Вильсону неожиданное решение. Британская империя и Соединенные Штаты предложат Франции трехсторонние гарантии безопасности. Это была серьезная уступка со стороны Британии и США, и хотя такой сепаратный военный союз противоречил ряду громких заявлений Вильсона относительно Лиги, тем не менее президента удалось убедить, что ему остается или принять это предложение, или смириться с провалом конференции, а значит, и вопроса о Статуте Лиги Наций[779].
Значение этого предложения не осталось незамеченным Клемансо. Для него был особенно важен политический союз трех западных демократий, в отличие от вопроса о закреплении французских солдат на определенных территориях[780]. Клемансо понимал, что такой жест со стороны Британии и США не имел прецедента. Он осознавал, что в будущем, в случае войны с Германией, Франция более чем когда-либо сможет надеяться на победу. Однако после нескольких дней размышлений Клемансо на встрече «Большой тройки» подтвердил свои требования. Рейнская провинция может остаться в составе Германии. Но она должна быть демилитаризована и совместно оккупирована союзниками. Союзническим силам надлежит занять плацдармы на восточном берегу Рейна, от которого германские войска следует отвести как минимум на 50 миль. Независимо от того, останется ли Саар в составе Германии, добываемый уголь предназначался Франции. Британцы и американцы были возмущены. Ллойд Джордж и его советники удалились в особняк в Фонтенбло, где приступили к работе над проектом нового заявления о «либеральных» целях мирного процесса, в котором дистанцировались от Франции, а также начали готовить сценарий примирения сторон[781]. 7 апреля Вильсон пригрозил немедленным отъездом из Парижа[782]. Отказ Клемансо проявить большую готовность к сотрудничеству в ответ на предложение заключить пакт об обеспечении безопасности всегда использовался критиками Версальского мирного процесса в качестве наглядной иллюстрации его вероломства. Но такая критика в очередной раз указывает на несерьезное отношение к тому, что говорили французы.
Своей главной задачей французы видели защиту страны не только от общей угрозы со стороны Германии или даже возможного поражения, но и от опасности вторжения и оккупации[783]. Конечно, Франция никогда не забывала событий 1870 и 1914 годов. Но и в данном случае она предлагала более общий взгляд, представлявший собой новизну. До войны нормы международного права развивались в первую очередь в направлении максимальной защиты гражданского населения от военных действий. Это позволяло таким теоретикам либерализма, как Норман Энджелл, который часто становился объектом насмешек, утверждать, что при условии соблюдения норм международного права с точки зрения гражданского населения не должно существовать особого различия, при каком цивилизованном правительстве оно живет и работает[784]. Но именно эти законы войны систематически нарушала армия кайзера во время оккупации Бельгии и Северной Франции. Союзническая пропаганда была склонна к преувеличениям, но немцы даже не пытались отрицать того, что они казнили в Бельгии и Северной Франции несколько тысяч гражданских лиц, которых они считали незаконными комбатантами[785]. Они не отрицали и того, что во время отступления к линии Гинденбурга разрушили значительную часть северной Франции. Захваченные в 1917 и 1918 годах германские документы убедили французов в том, что это делалось не только в целях получения тактического превосходства, но и для того, чтобы нанести невосполнимый ущерб их экономике[786].
Потери Франции были огромными. На территории, подвергшейся разрушению и составлявшей всего лишь около 4 % всей территории страны, Германия сумела нанести ущерб, составлявший от 2 до 3 млрд долларов[787]. К глубокому разочарованию французов и бельгийцев, Вильсон во время своей поездки по Европе отказался от посещения пострадавших районов, очевидно опасаясь за свое эмоциональное равновесие[788]. Французы не могли позволить себе такой роскоши. Для них нарушение Германией находящихся в стадии становления норм международного права стало очевидным предостережением. Было понятно, что правительство Франции считает эти нормы недостаточной защитой от поражения, и оно обязано защитить своих граждан в случае еще одной германской оккупации. Эта новая территориальная проблема требовала территориального решения. И решение должно приниматься за счет агрессора.
8 апреля, после нескольких дней упорных переговоров, «Большая тройка» избежала открытого разрыва[789]. Саар был поставлен под управление Комиссии Лиги Наций с правом возвращения Германии или присоединения к Франции по результатам плебисцита, проведение которого было назначено на 1934 год. До тех пор добываемый уголь должен поставляться во Францию. Рейнская провинция подлежала полной демилитаризации и оккупации войсками союзников на 15 лет. Поэтапный вывод этих войск зависел от выполнения Германией остальных обязательств по Версальскому договору и от того, насколько полными будут гарантии безопасности со стороны Британии и Соединенных Штатов. Как утверждал позднее Клемансо, он добился всего, на что Франция могла надеяться[790]. Он держал Германию за горло. Он добился поддержки со стороны Британии и Америки. Если они решат уйти, это будет катастрофой для Франции. Но по меньшей мере Париж по условиям договора получал право закрепиться на оккупированных территориях. Клемансо надеялся, что ему удалось обеспечить эти гарантии и скорее укрепить, чем ослабить, союз военного времени. Предусмотренное в договоре сотрудничество с Британией и Америкой имело для него почти такое же значение, как и содержащиеся в нем статьи, направленные против Германии. Британские и американские части будут защищать страну от Германии вместе с французской армией. Надзор за разоружением Германии становился общей ответственностью. Ключевым словом для Клемансо было слово «ответственность». Он не верил в обязательность выполнения договоров, если в них не было слов о «стремлении… убеждениях, мыслях», а также о «воле» к обеспечению того, чтобы «традиционно противоположные, а иногда и противоречащие друг другу интересы» отвечали общим целям. К этому союзники шли с 1917 года. Если бы такое партнерство военных лет превратилось в «нерушимый союз мирного времени», то Франция чувствовала бы себя в полной безопасности[791]. Характерно, что Клемансо не учитывал потерь, связанных с занимаемой им самим непримиримой позицией. Он вступал в разногласия с Британией и Америкой и, хотя 4 мая его правительство одобрило предлагаемый договор, во многом так и не смирился с теми во Франции, кто поддерживал довольно часто высказываемое мнение о том, что достигнутый мир наивен и либерале[792].
III
Эта напряженная обстановка осложнялась необходимостью создания системы безопасности на Востоке. Для того чтобы защититься от стратегической угрозы сближения Россией и Германии, Франции нужно было построить прочный кордон из восточноевропейских стран. Но никакая «жестокость» не отравляла немцам жизнь в такой степени, как вопрос пограничного урегулирования на Востоке, с чем с огромным пониманием соглашались англоговорящие обозреватели. Как отмечал в апреле 1919 года один американский военный обозреватель, «в Центральной Европе французская форма видна повсюду… империалистическая идея захватила французов подобно безумию, и очевидны усилия создать ряд особо милитаризованных государств, действующих, насколько это возможно, под началом Франции…»[793] Польше, Румынии и Чехословакии отводилась роль сторожевых псов Франции. Однако обсуждение вопроса в таком ключе с самого начала означало победу германской пропаганды. Как говорил сам Вильсон, отвечая критикам территориального урегулирования, Версаль был «жестким договором с точки зрения обязанностей и мер наказания, налагаемых на Германию, но… он значит намного больше, чем обычный мирный договор с Германией. Он несет освобождение великим народам, которые прежде так и не смогли найти путь к свободе»[794]. Клемансо стоял на тех же позициях. Темой мирного процесса было национальное освобождение. Миротворцы думали «меньше о старом, чем о новом»[795]. В Центральной Европе это неизбежно происходило за счет уже существующих стран.
Что касается Чехословакии, то для того чтобы рассматривать ее как часть германского вопроса, необходимо начать с пангерманизма. Королевство Богемии вошло в состав монархии Габсбургов в 1526 году. Значительная часть населения западной части королевства, позже ставшей печально известной как Судетская область, говорила на немецком языке. Эта территория имела большое экономическое значение и представляла собой естественный рубеж обороны для любого чешского государства. К 1913 году численность населения этой области, преимущественно зажиточного, достигла 3 млн человек, остававшихся немцами с этнической и лингвистической точки зрения. Однако за всю свою историю эта область никаким образом не входила в состав государств, образовавших германский рейх в 1871 году. Американская делегация, руководствуясь принципами самоопределения, скептически относилась к передаче этой территории Чехословакии. Присоединение этих земель к Австрии означало бы создание странной географической конфигурации. Но передача этих земель Германии стала бы для поверженного рейха ощутимым территориальным приобретением за счет чешских союзников Антанты. Это было неприемлемо как для Клемансо, так и для Ллойда Джорджа[796]. Если Германия и Чехословакия позже решат произвести обмен территориями на условиях приемлемых для Праги, то это будет делом этих двух стран и Лиги Наций, а сам вопрос уже не будет иметь отношения к миротворцам. На самом деле претензии по поводу Судет начали выдвигать австрийские пангерманисты типа Гитлера. Веймарская республика не заостряла особого внимания на этой проблеме.
Действительно взрывоопасной проблемой была польскогерманская граница с ее самым больным вопросом – Силезией[797]. Силезия также когда-то принадлежала Богемской короне, а значит – Габсбургам, и только в 1742 году ее захватил Фридрих Великий в ходе самой печально известной из всех его авантюрных кампаний. К тому времени Нижняя Силезия была почти полностью «германизирована». Однако в Верхней Силезии значительную часть населения составляли поляки. Ко всему прочему, этот регион был центром промышленной революции в Восточной Европе. Его экономическая карта изменилась в результате притока германского капитала, подпитываемого предпринимательской энергией магнатов-аристократов. Четверть Силезии принадлежала семи феодальным германским династиям, а ее основное природное богатство составляли металлические руды и уголь. Для настоящей экономической независимости новому польскому государству были необходимы эти промышленные ресурсы. Точно так же Польша нуждалась в выходе к морю, а для этого надо было проложить коридор по населенной этническими немцами территории к балтийскому побережью в районе Данцига.
Ситуация была предсказуемой. Поляки при поддержке французов стремились к наиболее выгодному для себя решению, которое включало передачу Польше города Данцига и всей Верхней Силезии[798]. Британия и Америка возражали, называя это чрезмерным нарушением принципа самоопределения. Начавшиеся в феврале 1919 года споры по этому вопросу продолжались вплоть до подписания Версальского договора в июне того же года. Данциг, портовый город, расположенный на выходе польского коридора к Балтийскому морю, уходил из-под суверенитета Германии. Но по настоянию Ллойда Джорджа и Вильсона Данциг не переходил к Польше. Вместо этого он как «вольный город» переходил под управление Лиги Наций. Коридор выстраивался не в пользу Польши, с тем чтобы свести численность проживавших там этнических немцев к минимуму. По настоянию Ллойда Джорджа в последний момент решение вопроса об окончательных границах Верхней Силезии было отложено до проведения плебисцита[799]. Вопреки беспочвенным обвинениям критиков позднего времени, наиболее заметным из которых был Джон Мэйнард Кейнс, миротворцы проявили ответственность по отношению к целостной индустриальной системе, отказавшись от проведения границы между двумя странами. Договор о разделе между Германией и Польшей стал одним из наиболее исчерпывающих и технически совершенных документов в истории дипломатии[800]. Никогда еще в долгой истории территориального переустройства Европы не уделялось столь пристального внимания сочетанию общих принципов справедливости и императивов власти со сложными территориальными реалиями. Никогда прежде политические и экономические интересы различных национальных и этнических групп не были столь скрупулезно уравновешены. В ходе кропотливой работы в комитете миротворцы стремились провести межгосударственные границы таким образом, чтобы железнодорожные пути проходили по территории обеих стран наиболее удобным для них образом[801]. Были предусмотрены меры для того, чтобы Польша не могла оставить Германию без угля. Мельчайшие детали истории Центральной Европы стали предметом внимания всего международного сообщества. Проект доклада Лиги по вопросу Силезии был подготовлен делегатами Бельгии, Бразилии, Китая и Испании. В роли докладчика выступил японский виконт. Учитывая долгую и полную печальных событий историю таких территорий, как Силезия, трудно не прийти к выводу о том, что Версаль сумел показать свою способность соединить дипломатию с принятием новых, свободных от предрассудков и предвзятости обоснованных решений.
И вновь бросается в глаза резкое отличие от того, что происходило после 1945 года. В период с 1918 по 1926 год около половины немцев, проживавших на отходящих к Польше территориях, предпочли эмигрировать[802]. После Потсдамской конференции 1945 года события развивались по гораздо более жесткому сценарию. В течение трех лет все немцы, проживавшие на значительной части территории Восточной Европы, были насильно высланы под дулами автоматов. В Силезии число таких людей достигало 3 млн человек. Имеющиеся данные свидетельствовали о гибели 100 тысяч человек, еще 630 тысяч человек считались пропавшими без вести, либо об их судьбе «ничего не было известно»[803]. Так же поступили и с жителями Судет.
Но эти кошмарные события были еще впереди. В 1919 году возмущению Германии не было предела. Веймарская республика так и не примирилась с новой линией границы с Польшей. Однако само по себе возмущение побежденных немцев нельзя считать доказательством допущенной несправедливости. Был ли другой способ обеспечить самоопределение для поляков и чехов? Как говорил лорд Бальфур, прекращение существования Польши как государства было «великим преступлением» политики силы ancien régime[804]. Клемансо, услышав о протестах немцев против нарушения своих прав на Востоке, вспомнил о том, как ему рассказывали о прусских учителях, бивших польских детей за то, что те читали молитву «Отче наш…» на своем славянском языке[805]. Существовало ясное и оправданное чувство, что результатом Версальского договора стало не только создание на Востоке стратегического cordon sanitaire, но и исправление исторических ошибок. Бальфур отверг претензии Германии, заявлявшей о стремлении Антанты уничтожить немецкий народ. Антанта ставила под вопрос именно «существование такого во многом искусственного образования, как современная Пруссия, включавшая многие славянские народы, которые никогда не принадлежали Германии, за исключением последних 140 лет, и, на самом деле, не должны были входить в нее и теперь»[806]. Такая ситуация заслуживала сожаления, но была «неизбежной», признавал Вильсон, потому что десятки миллионов поляков, чехов и словаков обретали независимость, а немцы, которые решали остаться на исторически колонизированных землях, оказывались в незавидном положении под управлением славян[807]. Скольким немцам выпала столь ужасная доля и как их численность соотносится с числом поляков, остававшихся под владычеством Германии, до сих пор остается предметом скрытых дискуссий. Конечно, к сведениям о том, что на Востоке пропало 4,5 млн «немцев», следует относиться с подозрением[808].
Кроме того, подход к проблеме немецких этнических меньшинств в Чехословакии и Польше зависел от того, о каких именно славянах шла речь. Наиболее наглядно после войны оказался представлен чешский национальный вопрос. Президент Томаш Масарик, женатый на американской феминистке и унитаристке, большую часть военного времени жил в США и был одним из наиболее видных носителей нового языка мирового либерализма. Вместе с министром иностранных дел Эдвардом Бенешем он прилагал все усилия к тому, чтобы сдерживать агрессивные устремления в отношении Венгрии и Польши, которыми сопровождалось становление независимой Чехии. Благодаря этому в послевоенное время Чехословакия считалась образцовой страной[809]. Положительное значение имел тот факт, что среди судетских немцев левые социал-демократы выступали в качестве самой значительной политической силы, что позволило им умело и уверено интегрироваться в новую мультиэтническую политическую среду[810]. Независимая Чехословакия располагала значительной экономической базой, а то, как Прага решала свои послевоенные финансовые проблемы, выгодно выделяло ее на фоне хаоса, царившего в соседних странах. Судетские немцы, получившие гражданство Чехословацкой Республики, могли считать себя счастливчиками, которым удалось избежать голода, насилия и экономических потрясений, выпавших на долю судетских немцев, оказавшихся в Австрии и Германии.
Подобного нельзя сказать о Польше. Перед новым государством стояли очень серьезные задачи. Польская Республика формировалась на землях, принадлежавших ранее трем исчезнувшим империям (Германии, Австрии и России) с совершенно различными политическими традициями и чрезвычайно пестрым составом населения. По состоянию на 1919 год польские земли страдали от нищеты, перенаселенности и последствий многолетних войн. Для построения успешной страны на такой основе требовались значительные усилия решительного и осмотрительного политического руководства. Предварительные условия не были благоприятными. О раздорах внутри польских политических партий ходили легенды. Между этническим национализмом польских национал-демократов, которые преобладали в русской Польше и были известны своим шовинизмом и антисемитизмом, а также более прогрессивным национализмом австрийских и германских поляков, во главе которых стоял бывший социалист Йозеф Пилсудский, лежала глубокая пропасть[811]. Острые разногласия между ними вылились в авантюрную внешнюю политику, в результате которой в период с 1918 по 1920 год Польша развязала по меньшей мере шесть военных кампаний, в том числе совершила нападение на балтийские страны, Украину и чуть не приведшее к фатальному исходу наступление на Советский Союз[812]. В тот же период, пытаясь объединить народ новой страны, Польша начала широкую программу социального обеспечения, не имея для этого необходимых финансовых средств. Результатом стала разрушительная инфляция[813].
У немцев, следовательно, были вполне обоснованные причины пожалеть о том, что они остались на территории Польской Республики. Но в целом корни враждебного отношения Германии к любому способу решения спорных пограничных вопросов с Польшей лежали глубже, чем простые рациональные расчеты. Эта враждебность была проявлением сильной этнической предвзятости и расовой неприязни. Одна только мысль о том, что он находится под властью поляков, глубоко ранила душу любого настоящего немецкого националиста. 1919 год был не только годом передела границ в Европе. Это был действительно постколониальный период. Рушились политические, культурные и этнические иерархии. Такое понимание революционных перемен, в свою очередь, позволяет объяснить атмосферу подозрительности и страха, окружавшую тех, кто занимался в Париже польским вопросом[814].
25 мая 1919 года в разгар обострения кризиса внутри «Большой тройки» польский вопрос был основным на повестке дня в Фонтенбло, где Ллойд Джордж рассчитывал вновь поставить вопрос о моральном лидерстве Британии. Если рассматривать ситуацию с позиций эмоционального цикла либерализма, то подготовка меморандума Фонтенбло пришлась на момент, когда преобладало чувство вины. Во имя мира следовало проявить больше великодушия в отношении Германии. Самым опасным, указывал Ллойд Джордж, было появление на Востоке новых Эльзаса и Лотарингии. «Я не могу представить себе более серьезного повода для будущей войны, – заявил он, – как то, что народ Германии, который, безусловно, доказал, что является одним из наиболее энергичных и сильных народов мира, окажется окруженным рядом небольших государств, населенных людьми, многие из которых никогда прежде не имели постоянного собственного правительства, но среди которых проживают значительные массы немцев, требующих воссоединения со своей родиной. Предложение Польской комиссии о передаче 2 млн 100 тысяч немцев под управление людей, исповедующих другую религию и на протяжении всей своей истории не сумевших создать прочное самоуправление, на мой взгляд, рано или поздно приведет к новой войне…»[815] В менее официальной обстановке Ллойд Джордж называл поляков «безнадежными». Лорд Сесил относился к ним как к «ориентализированным ирландцам». Ян Смэтс использовал южноафриканскую идиому. По его мнению, поляки были просто «каффирами»[816].
Именно в целях снятия напряженности вокруг вопроса о самоопределении восточноевропейских стран Смэтс с самого начала предлагал создать систему мандатов, которая действовала бы под контролем иностранных наблюдателей. Это предложение оказалось неприемлемым для всех участников конференции от этого региона. Тем не менее международное наблюдение стало неотъемлемым элементом договора 1919 года по Центральной Европе[817]. В Данциге, а также в расположенном на побережье Адриатики Фиуме непримиримые конфликты, возникшие из-за претензий различных стран, были решены только путем интерналионализации. Летом 1919 года Польше пришлось согласиться с режимом защиты меньшинств, который в 1920-х годах стал образцом для всей Восточной Европы. В Лиге Наций была создана система постоянно действующих комитетов, в которые новые меньшинства могли обращаться с апелляциями в случае их преследования и которую немцы впоследствии активно и с большой пользой для себя будут использовать. Условия проведения плебисцита для решения судьбы Силезии в марте 1921 года были продуманы очень подробно. Для поддержания порядка на территории был размещен 15-тысячный контингент войск союзников, действовали сотни международных представителей[818]. В голосовании участвовало практически все население, а когда поляки решили поднять бунт, союзнические войска восстановили порядок и вывели польских бунтовщиков со значительной части германских территорий. И вновь незавидная задача проведения окончательного разделения была возложена на Лигу Наций. Очевидно, что результаты такого разделения никоим образом не могли удовлетворить Германию. Зато Германия избежала капитуляции перед Польшей.
IV
Негодование Германии по поводу мирного договора не вызывало удивления. Поражение обернулось катастрофой. Последствия были шокирующими. Перемирие по Вильсону, заключенное в ноябре 1918 года в самый критический момент, вызвало у германской общественности иллюзорные представления о том, что в ходе мирного процесса с ней будут обращаться как с равноправным партнером. Кошмар состоял в том, что переговоры о перемирии оказались частью игры в демонстрацию сил между Вашингтоном и Антантой, а «мир равных» означал, что отныне интересы Германии будут рассматриваться наравне с интересами Польши. При всей болезненности ситуация, в которой оказалась Германия, была лишь наиболее наглядным проявлением травмирующих изменений, через которые после окончания войны предстояло пройти всем европейским странам. Клемансо утверждал, что Версаль сделал возможным осуществление германской мечты XIX столетия о создании национального государства. Но в свете происходящего по окончании войны это утверждение вызывало столько вопросов, что трудно было не заподозрить его автора в злонамеренности.
Ход войны был предопределен империалистическим соперничеством, которое к 1890-м годам привело к отказу от идеи достаточности простого национального суверенитета. В расчет брались только интересы мирового масштаба. Время, объявленное эпохой глобальной конкуренции, Германия встретила в одиночестве, лишенная своих заморских территорий и морского флота. Республиканцы из разряда Клемансо могли бы, конечно, сказать на это, что большая европейская страна, не имеющая выхода к морю, может обойтись и без разносортного набора владений в Африке и на Тихом океане[819]. Однако о будущем Франции он рассуждал совсем не в таком провинциальном ключе. Постимпериалистическую Францию ожидало более радужное будущее. Париж внес серьезные и далеко идущие предложения о создании сильной Лиги Наций. Эти предложения не нашли понимания. Но по меньшей мере Франция была по праву признана постоянным членом Совета Лиги Наций. Париж никогда не допустил бы вступления Германии в Лигу Наций, если бы это зависело от него. А что могло дать участие в Лиге Наций, которая превратилась не более чем в инструмент обеспечения гегемонии англосаксов?[820] Быть всего лишь одним из членов всеобщей ассамблеи народов отличалось от того, что Weltpolitik сулила в начале нового столетия. Руководствуясь желанием идти наперекор судьбе, Клемансо смотрел поверх Лиги Наций в предвкушении трехстороннего трансатлантического союза с Британией и Соединенными Штатами.
Для Германии все это означало появление новых вопросов. Какое значение имел европейский суверенитет Германии, когда существовала столь неотвратимо мощная и перспективная коалиция на Западе? В ответ Германия испытывала соблазн обратиться на Восток. Но и этот путь означал окружение. Под присмотром азиатских и латиноамериканских наблюдателей бюллетени Германии и Польши попадали в одну и ту же урну для голосования. Милосердие и жестокость Версальского договора ощущались особенно остро из-за того, что в них были воплощены исторически устаревшие взгляды на мировой порядок. В век глобализма простое признание суверенитета Германии казалось знаком отличия, указывавшим на принадлежность ко второму классу. Критики мирного договора, обладавшие более развитым воображением, воспринимали Германию как лабораторный материал для исследования новых форм выхолощенного деполитизированного суверенитета[821]. Негодование немцев мешало им понять, что в той или иной степени подобные болезненные перемены предстояло пережить всем европейским странам.
15 Репарации
В первые дни апреля 1919 года на конференции наступил решающий момент: центральным вопросом архитектуры мирного процесса был вопрос о репарациях. Платежи имели не только финансовое значение. Они выступали в качестве средства постоянного контроля выполнения Германией условий Версальского договора. Известная статья договора о вине за развязывание войны (статья 231) на самом деле определяла не вину Германии, а ее «ответственность» за ущерб, нанесенный союзникам вследствие «войны, навязанной им в результате агрессии» Центральных держав. Франция, со своей стороны, рассчитывала на совместную ответственность союзников за обеспечение выплат. Окончательный вывод оккупационных сил из Рейнской области и возврат Саара были обусловлены выполнением Германией своих обязательств по выплатам репараций. Франция и союзники должны были покинуть территорию Германии через 15 лет после того, как последняя начнет регулярные выплаты. Если Германия не будет платить, Франция не уйдет с ее территории – по крайней мере такие заверения дал Клемансо в палате депутатов Франции. Что касается условий перемирия, партии, составлявшие большинство в рейхстаге, никогда не оспаривали обязательств Германии по возмещению ущерба, нанесенного армией кайзера. Они также не оспаривали общей суммы выплат, составлявшей десятки миллиардов довоенных полноценных золотых марок. Однако, несмотря на эту базовую договоренность, сохранялась зияющая пропасть между тем, чего, по их собственному мнению, заслуживали французы и британцы даже в умеренном варианте, и той суммой, которую Германия была готова предложить даже в моменты своей готовности к максимальному сотрудничеству.
Помимо этого, с точки зрения Германии требования о выплате репараций имели одну особенность – беспощадную и неотвратимую тяжесть задолженности, которая делала их в определенном смысле еще более позорными, чем положения договора, касавшиеся территориальных претензий. В отличие от территориальных потерь, затрагивавших только приграничные районы, репарации касались каждого мужчины, женщины и ребенка в Германии. Они превращались буквально в повседневное бремя для всех жителей страны. И это бремя предстояло нести многим поколениям. Националистическая пропаганда называла репарации кабальной зависимостью и рабством[822]. Кошмарные случаи изнасилования немецких женщин сенегальскими солдатами, входившими в состав оккупационных сил в Рейнской области, находили отклик в более утонченных политических комментариях, приравнивавших положение выплачивающей репарации Германии к положению полуколонии. Груз внешней задолженности, похоже, грозил Германии изгнанием в потусторонний мир, предназначенный для третьестепенных стран (таких как Османская империя, Персия, Египет и Китай), которые в эпоху империализма сохраняли признаки суверенитета, но на деле находились под внешним управлением и финансовым контролем[823].
Эхо этих опасений слышалось и во Франции. Были люди, строившие фантазии о превращении Саара в угольную колонию. Когда бдительность притуплялась, в Париже поговаривали об «османизации» рейха[824]. Эти отзвуки эпохи империализма важны для того чтобы понять, почему Германия с таким возмущением реагировала на финансовые претензии. Это было обратной стороной утверждения Клемансо о том, что условия мирного договора подтверждают уважение суверенитета Германии, – утверждения, которое в ситуации, сложившейся после окончания Первой мировой войны, отражало уже устаревшие взгляды. Это не было просто унаследованным ложным восприятием Германии как имперского владения Франции, которое было жестоко опровергнуто еще в эпоху Наполеона. Дезориентацию вызывал взгляд на положение Германии, связанной условиями Версальского договора, в отрыве от мирового силового поля, втянутыми в которое оказались теперь все принимавшие участие в войне страны. Ирония состояла также в том, что к весне 1919 года будущее подчиненное положение Франции в построенной Антантой новой системе координат мировых финансов просматривалось с еще большей ясностью, чем зависимость Германии[825].
I
По завершении войны для Антанты не было ничего более очевидного, чем то, что ее экономическое и финансовое положение изменилось навсегда. Самый серьезный шок пришлось пережить Франции[826]. До войны Париж как мировой кредитор уступал только Лондону. Теперь Франция превратилась в нуждающегося заемщика. Одним из способов выхода из этого положения Франция считала восстановление баланса европейской экономики за счет Германии. Усиление французской тяжелой промышленности должно происходить прежде всего за счет поставок германского угля и руды из Эльзаса и Лотарингии[827]. Но эти попытки восстановления индустриального баланса Европы сопровождались разработкой более широкой концепции, предусматривавшей дальнейшее развитие союзнического и трансатлантического сотрудничества после окончания войны. С точки зрения стратегии это отвечало настойчивому стремлению Клемансо к установлению абсолютного приоритета создания трехстороннего трансатлантического демократического альянса. Но если Клемансо в своих мыслях обращался к многовековой европейской истории, а в его риторике был слышен радикализм XIX века, то взгляды, которых придерживался министр торговли Этьен Клементель, носили модернистский, технократических характер[828]. Следуя решениям Лондонской экономической конференции 1916 года, Клементель предвидел глобальное сотрудничество Франции, Британии и США, призванное обеспечить совместный контроль над основными видами сырья[829]. Выступая на Лондонской конференции, он заявил, что война положит начало ни больше ни меньше как «новой экономической эре, позволяющей применять новые методы, основанные на контроле, сотрудничестве, на всем, что может обеспечить определенный порядок в производственном процессе… новый порядок вещей, знаменующий собой великий поворотный момент в экономической истории мира»[830].
И если понимание французами военного союза западных демократий было предвестником создания НАТО, то концепция Клементеля предвосхищала европейскую интеграцию[831]. Среди его сподвижников был молодой бизнесмен Жан Моне, который провел годы войны в Лондоне, помогая совершенствовать союзническую систему управления морскими перевозками. После 1919 год Моне вместе со своим коллегой по военному периоду Артуром Солтером работал в экономической комиссии Лиги Наций. После непродолжительного периода предпринимательской деятельности в Китае Моне в 1940 году присоединяется в Лондоне к де Голлю и вновь занимается вопросами экономического сотрудничества между союзниками. В 1945 году Моне выступает уже в роли крестного отца промышленной модернизации Франции. В 1950 году Моне приобретает известность как создатель Европейского объединения угля и стали[832]. Пятьдесят лет спустя в своих «Мемуарах» Моне с сожалением оглядывается на возможности, упущенные в 1919 году. Именно тогда Европа могла сделать смелый шаг в направлении промышленной кооперации. «Потребовалось много лет и многие страдания, чтобы европейцы начали понимать, что им предстоит сделать выбор между объединением и упадком»[833].
Позиция США в период с 1919 по 1945 год претерпела по крайней мере не меньшие изменения, чем позиция европейских стран. Будущий президент Гарри С. Трумэн и его легендарный госсекретарь Джордж Маршалл были свидетелями боев во Франции в 1918 году. Возвратившись в Европу в 1945 году, они призвали Париж возглавить движение за развитие сотрудничества и интеграции на континенте. Жан Моне оказался в числе наиболее активных сподвижников Трумэна и Маршалла. Администрация Вильсона проводила в 1919 году совсем другую линию. Вашингтон твердо выступал против Клемансо и его планов интеграции. Еще 21 ноября 1918 года министр финансов Уильям Макэду направил представителям США в Лондоне телеграмму, в которой призывал их сократить до минимума функции союзнических органов, «для того чтобы сосредоточить все важные переговоры и решения в Вашингтоне»[834]. Герберт Гувер, отвечавший за поставки продовольствия, обещал, что «после достижения мира США не согласятся ни с одной программой, которая будет хотя бы внешне напоминать союзнический контроль над нашими экономическими ресурсами»[835]. Предложение о разработке постоянно действующего совместного плана закупок пшеницы повергло его «в настоящий ужас». По мнению администрации Вильсона, союзнические структуры, в поддержку которых выступала Франция, на самом деле «предназначались для того, чтобы англичане могли через Лондон обеспечивать весь мир нашим продовольствием за счет наших кредитов»[836]. Обеспечить «общую справедливость», утверждал Гувер, можно было лишь в том случае, если Америка будет действовать в одиночку.
Чем скорее будут сняты ограничения военного времени, тем скорее будет восстановлено беспрепятственное движение капитала и товаров. Возвратятся процветание и мир, а американская исключительность позволит Америке утвердится в качестве посредника, как ей и предназначено самим Богом. На смену политике и военной силе придут рынок и деловые отношения[837]. Но последствия этих попыток деполитизировать мировую экономику оказались прямо противоположны ожидаемым. Вместо того чтобы избавить экономику от влияния политики, Европа еще глубже втянулась в самый запутанный финансовый и политический вопрос – вопрос о репарациях. 5 февраля 1919 года Клементель поставил комитет экономического планирования Совета десяти перед конкретным выбором. Франция готова заключить мирный договор, который носил бы умеренный характер. Но это зависит от создания «в результате принятия мер, основанных на общем согласии, экономической организации, призванной обеспечить миру безопасное восстановление…» В противном случае «гарантии безопасности» придется подтверждать, обеспечивая «мир применением репрессивных мер и наказаний»[838].
II
На первый взгляд, вопрос был простой: каких репараций затребуют союзники? В Версале ответа на этот вопрос не было из-за того, что «Большая тройка» так и не смогла договориться о цифрах, которые были бы и реалистичными, и политически приемлемыми. Главным препятствием в этом споре была позиция британцев, а не французов. Основа для франко-американского соглашения была понятна с самого начала. Возмещение ущерба, нанесенного армией кайзера, со всей определенностью гарантировалось условиями перемирия. Германия даже не оспаривала это всерьез. Сумма, необходимая для восстановления Франции, была согласована с союзниками и составляла приблизительно 64 млрд золотых марок (15 млрд долларов). Франция заявила о своем согласии с тем, что с учетом неоспоримых претензий остальных стран общая сумма репараций, выплачиваемых всем странам, составит 91 млрд золотых марок, при условии что сама Франция получит львиную долю от этой суммы. Париж был готов согласиться и с большей суммой, при условии что будет признан приоритет Франции, а ее доля составит не менее 55 % от общей суммы. В январе 1919 года французские и американские эксперты сошлись на цифре 120 млрд золотых марок (28,6 млрд долларов), что было близко к окончательной цифре в 132 млрд золотых марок, которую подлежало окончательно согласовать в Лондоне в мае 1921 года.
Для Франции, чьи основные претензии были признаны бесспорными, приоритетным стало скорейшее начало выплат. Восстановление северных районов страны было невозможно откладывать. Требовалось заново обеспечить жильем миллионы людей, восстановить деревни, наладить фермерское хозяйство, поставить на ноги промышленность. Для начала финансирование можно было обеспечить или за счет сбережений французов, или за счет займов, которые предоставит Лондон или Нью-Йорк. К 1922 году французское правительство уже выделило аванс, эквивалентный 4,5 млрд долларов, на выплату пенсий и восстановление пострадавших районов. Эта сумма была отнесена на счет репарационных выплат и учтена в основном во внутренних займах. Теперь крайне важно было понять, как скоро Германия возьмет на себя бремя финансирования[839].
Совершенно иным было положение Британии. Ее территории не было нанесено значительного ущерба. Но Лондон много потерял на транспортировке и капитальных фондах, взяв на себя гигантский груз займов для финансирования всей Антанты. Теперь особое значение для Британии приобретал вопрос распределения. Требовалась уверенность в том, что богатства, благодаря которым Лондон стал центром обеспечения военной деятельности Антанты, не стали поводом для того, чтобы на нее возложили непропорциональное бремя, которое ей пришлось бы нести многие десятилетия. Существовала опасность того, что очевидный ущерб, нанесенный Франции и Бельгии, будет возмещен, а не столь бросающиеся в глаза потери Британии так и останутся непризнанными. Далее, Британия хотела иметь уверенность в том, что Германия не выйдет из войны еще более опасным конкурентом, чем прежде. Короче говоря, весной 1919 года правительству Ллойда Джорджа предстояло определить достаточно большую полную сумму выплат, из которой на долю Британии пришлось бы не менее четверти всех фактических выплат Германии. Если бы этого сделать не удалось, то Лондон был готов заблокировать любое соглашение до тех пор, пока не улягутся страсти послевоенного кризиса. Первоначальная сумма, определенная в декабре 1918 года самыми алчными экспертами, которых Ллойду Джорджу удалось подобрать, составила умопомрачительные 220 млрд рейхсмарок[840]. Это в 5 раз превышало самую благоприятную оценку национального дохода Германии до войны, а сама цифра выглядела настолько нелепой, что не оставляла сомнений в злонамеренности Ллойда Джорджа. Да он и сам был крайне удивлен этой цифрой. Британии было важно сохранить баланс европейской экономики, а для этого экономику Германии надо было лишь обуздать, но не разрушать. Французы и американцы в Париже согласились всего на 120 млрд рейхсмарок – бремя, которое Германия сумела бы вынести, но в этом случае на долю Британии приходилась бы совсем незначительная сумма. Столь досадные данные Ллойд Джордж предпочел бы обнародовать как можно позже.
Французы отказывались уменьшить свою долю, и тогда Ллойд Джордж предложил подробно рассмотреть различные виды убытков. Здесь Британия в качестве основного орудия использовала необходимость пенсионного обеспечения. Ллойд Джордж считался отцом британской системы социального страхования, и ему эта тема была особенно близка. Однако американские юристы восприняли настойчивое требование британцев о включении в повестку вопросов пенсионного обеспечения как отказ от выполнения обязательств, связанных с перемирием. Берлин был согласен платить за восстановление и за нанесенный агрессией кайзера ущерб. Но оплачивать социальное обеспечение в странах-союзниках было уже слишком. 1 апреля 1919 года к решению вопроса привлекли самого президента Вильсона. Последовавшие за этим дебаты часто считают типичным примером того, как Вильсон отступал перед напором европейцев. Как указывает в своих записях Томас У. Ламонт, партнер Дж. П. Моргана, после многочасовых споров президент в отчаянии произнес: «Логика! Логика!..Да мне наплевать на логику. Я за то, чтобы пенсии учитывались!» Ни в этот ли самый момент президент оставил Германию на милость Британии и Франции? Ламонта явно тревожило то, что его записи именно так и будут поняты. Поэтому он добавил к записям пояснение, что президент изменил свое мнение «совсем не спонтанно». Реакция Вильсона говорила «не о пренебрежении логикой, а просто о досаде из-за того, что технические вопросы занимают столько времени; о решимости прекратить словоблудие и обратиться к сути вещей». Сердца всех, «находившихся в зале, взывали к тому же»[841]. Этот вопрос невозможно было решать «в соответствии со строгими принципами законности.», Вильсону не хватало терпения вернуться к первоначальным намерениям. «Он… постоянно находил новые доводы и говорил о необходимости широкого толкования принципов, определенных ранее пусть и не самым лучшим образом, он считал, что принуждение врага к добрым делам и будет означать справедливость…»[842] При любых формулировках, использованных в соглашении о перемирии, вдовы должны получать компенсации.
1 апреля Вильсон лично одобрил предложение британцев о расширении границ возможных претензий.
Однако такой ситуативный подход имел свои недостатки. Если принять все претензии, касающиеся пенсионных выплат, то в сумме они достигнут невероятных размеров. А это грозило тем, что Германия тут же отвергнет подобные претензии. Поэтому принятие окончательного соглашения было отложено на более позднее время. Для компенсации текущих расходов на восстановление Германия должна была выплатить в 1919 и 1920 годах внушительную сумму, порядка 5 млрд долларов, на текущие расходы союзников, причем значительную часть натурой[843]. За ходом выплат предстояло наблюдать Комиссии по репарациям, на которую также была возложена обязанность определить к 1 мая 1921 года окончательную сумму задолженности. График платежей предстояло составить на срок как минимум до 1951 года. Если общая сумма платежей окажется избыточной, Германия сможет обратиться с апелляцией. Тем временем Германии предстояло выпустить долговых расписок на сумму в 20 млрд золотых марок, покрывающих ее обязательства до 1921 года, а затем еще на 40 млрд золотых марок, предназначенных для обеспечения выполнения обязательств Германии в 1930-х годах (4,8 и 9,6 млрд долларов соответственно). Предусматривался выпуск еще одного транша на сумму 40 млрд золотых марок в случае значительного улучшения экономической ситуации в Германии[844]. В идеале в случае крайней необходимости французы рассчитывали перепродать эти обязательства инвесторам в обмен на доллары. Америка настояла на своем участии в Комиссии по репарациям, а также на том, что решения относительно каждой такой продажи облигаций должны приниматься единогласно.
III
Понятно, что такой порядок носил временный характер. Но это был компромисс, устроивший все стороны. Сам Вудро Вильсон способствовал тому, чтобы эта сделка состоялась. Соглашение подписали все основные страны – участницы Антанты. Но о чем же они договорились?[845] В части, касавшейся урегулирования финансовых вопросов, определенных в Версале и выходящих за рамки текущих обязательных выплат Германии, США, Франция и Британия договорились о продолжении переговоров. В декабре 1921 года Джон Мейнард Кейнс, британский экономист, бывший советник министерства финансов, в открытую критиковавший Версальский договор, признал политическую логику такого компромисса. Договоренности о репарациях никак не представлялись разумными или практичными, а их некоторые аспекты несли в себе очевидную опасность. Однако более чем через два года после того, как эти договоренности были достигнуты, Кейнс признал, что «страсти, бушующие в обществе, и его неосведомленность играют свою роль в мире, с которой приходится считаться тем, кто берет на себя смелость возглавить демократию…Версальский мирный договор на момент его заключения был наилучшим решением, если помнить о требованиях толпы и личностях основных игроков». И если в 1919 году заключить по-настоящему надежный и выполнимый договор не удалось, то подготовка к заключению такого договора в последующие годы зависела от умения и смелости мировых политических лидеров[846]. Двумя годами раньше Кейнс, который в полном отчаянии подал в отставку со своего поста в министерстве финансов, был настроен далеко не столь снисходительно. Никому не удалось нанести больший вред политической легитимности Версальского мирного договора, чем это удалось Кейнсу в его разгромной книге «Экономические последствия мира», вышедшей в декабре 1919 года.
Поколения экономистов детально разобрали слабые стороны аргументации Кейнса[847]. Но его критика одновременно является и отражением разочарования, вызванного Версальским договором, и одной из причин возникновения этого разочарования. В книге Кейнса, с ее завораживающей риторикой, были собраны его знания как эксперта и доступная ему инсайдерская информация. Книга разошлась тиражом в сотни тысяч экземпляров. Ее дословно цитировали республиканцы, выступая против предлагаемого Вильсоном договора в Сенате США. Ленин и Троцкий рекомендовали книгу как обязательную для прочтения в Коминтерне[848]. Кейнса с распростертыми объятиями встречали в Германии, всячески помогая еще больше отравить атмосферу отношений между Лондоном и Парижем. Конечно, на первый взгляд Кейнс был на стороне Германии. Но даже с позиции Германии нельзя было определенно сказать, чего больше он принес – вреда или пользы. Авторитет Кейнса вдохновлял в Германии тех, кто настаивал на невозможности любых выплат, притом что стремление выполнять условия договора, даже не в полной мере, могло спасти Веймарскую республику от разрушительного кризиса 1923 года[849]. Разговор, конечно, совсем не о личной ответственности Кейнса за надвигавшуюся катастрофу. Просто «Экономические последствия мира» следует воспринимать не как путеводитель по проблемам репараций, а как описание симптомов надвигавшегося кризиса – основной темы книги.
Кейнс был, пожалуй, самым откровенным членом той части либеральной фракции в политическом классе Британии, для которой война была мучительным симптомом еще более глубокого упадка[850]. Находясь в самом сердце британского оборонного комплекса, начиная со стажировки в Королевском колледже Кембриджского университета и кончая работой в министерстве финансов Соединенного Королевства, Кейнс преодолевал в себе глубокие внутренние сомнения. В 1916 году он добивался освобождения от службы в армии не на том основании, что уже работал в военной сфере, а потому, что был сознательным уклонистом. Ему как государственному служащему было запрещено публиковать свои сочинения под собственным именем, поэтому в апреле 1916 года он опубликовал под псевдонимом хорошо аргументированную статью в поддержку выступавшей за мир Независимой лейбористской партии, в которой в определенном смысле предвосхитил вильсоновский призыв к «миру без победы». Однако Кейнс был не столько сторонником Вильсона, сколько его зеркальным отражением. Он был в оппозиции Ллойду Джорджу и тем, кто выступал в поддержку идеи о нокаутирующем ударе, поскольку считал, что они ведут Британию прямым курсом к еще большей зависимости от Америки. Там, где Вильсон стремился изолировать Америку от агрессивных импульсов Старого Света – Европы, Кейнс выступал за создание тонкой смеси капитализма с подлинной личной и культурной свободой[851]. Ничего этого он не наблюдал в Америке, даже в самом прогрессивном ее варианте. Общим у Вильсона и Кейнса было то, что оба стремились сохранять дистанцию. Однако реальность, с которой они столкнулись в 1919 году, требовала участия в происходившем. Если сравнить взгляд Кейнса на мирный процесс, изложенный в «Экономических последствиях», с тем, что он делал в качестве эксперта на мирной конференции, то можно заметить определенные отступления, на которые он шел, пытаясь сохранить хотя бы надежду на выход из создавшегося положения.
Бестселлер Кейнса – это книга о Европе, отражающая взгляд с выгодных позиций, которые занимала Британия, находившаяся, по мнению Кейнса, «вне» континентального кризиса[852]. Кейнс призывал британское правительство взять на себя роль лидера. Удивляет то, как автор обходит вопрос о роли Америки в этой катастрофе. В третьей главе Кейнс беспощадно изображает «Большую тройку» как бестиарий демократического порока.
Вильсон предстает в образе самодовольного пресвитерианского проповедника, Ллойд Джордж – как быстро приспосабливающийся конъюнктурщик, а Клемансо – как настоящий враг дела мира, морщинистый француз, впитавший в себя политические приемы Бисмарка. Эта картина, однако, сохраняется во всей своей простоте лишь при исключении из стилизованного группового портрета подробностей, связанных с репарациями. Условий договора и репараций Кейнс касается в последующих главах. Здесь его аргументация неуловимо, но заметно меняется. Основной упор сделан на критике пункт за пунктом каждой избыточной претензии, предъявляемой Германии. И все это ставится под вопрос. Могли ли события развиваться иначе?
Кейнс утверждал, что единственно возможным путем предотвращения кризиса было предварительное обсуждение и достижение общего понимания по экономическим вопросам между Британией и Америкой. Здесь он вновь возвращается к роли британцев, но уже не критикует лично Вильсона. Проблема состояла в том, что американская делегация прибыла в Париж без предварительно подготовленного экономического плана[853]. О том, что именно можно было бы внести в такое совместное англо-американское предложение, Кейнс говорит лишь в самом конце своего беспощадного полемического произведения. Первое, что он предложил, – это снизить уровень претензий, предъявляемых Германии. Но это, как признает сам Кейнс, было бы оправданным лишь при намного более широком пересмотре финансовых вопросов. Он вновь возлагает на Британию ответственность за выбор пути, который привел бы к полной отмене всех финансовых претензий к Германии. Но за этим, в свою очередь, должна была последовать полная отмена всех союзнических долгов и предоставление нового займа на сумму в 1 млрд долларов на выплату репараций и возобновление мировой торговли. Жестко критикуя требования Франции, Кейнс в конце своей книги признает, что рассмотрение вопроса об уменьшении размера репараций вне связи с вопросом об уменьшении размера долга союзников было бы в корне несправедливым[854].
Однако в «Экономических последствиях Версальского мирного договора» Кейнс никак не связывает предлагаемые им контуры альтернативной финансовой архитектуры с жесткой личной критикой недальновидности Клемансо и Ллойда Джорджа или со взглядами самого Кейнса на исторические предпосылки наложения репараций. Он представляет свой альтернативный план как совершенно новую идею, необыкновенную возможность, упущенную в Версале. Сотни тысяч читателей во всем мире так и не узнали, что в Версале рассматривались проекты общего переустройства мировой экономики, и даже предложения самого Кейнса, и что все они были отклонены, правда не Парижем, а Вашингтоном. К моменту выхода книги сам Кейнс надеялся на конструктивный пересмотр условий мира и, несомненно, не желал обмена взаимными упреками с американцами. А еще он разделял чувство глубокого недоверия Вильсона к французам. Все это привело к тому, что политический процесс достижения мира был представлен в искаженном свете.
По признанию самого Кейнса, Лондон располагал широким полем для стратегических действий, благодаря тому что мог позволить себе отделить вопрос о требованиях к Германии от вопроса урегулирования своей задолженности перед Соединенными Штатами. Остальным странам Антанты эта роскошь был недоступна. В начале 1919 года итальянцы, для которых при их скромном национальном доходе иностранная задолженность была тягчайшим грузом, предложили, чтобы в качестве предварительного шага Вашингтон рассмотрел возможность общего перераспределения военных расходов[855]. Логика была простой. Если США, богатейшая из воюющих стран и меньше всех обремененная долгами держава, пойдет на значительные уступки своим европейским союзникам и это получит широкую огласку, то и они смогут умерить свои финансовые и политические претензии к Германии. Правительство Клемансо немедленно поддержало такое предложение. Ответная реакция Америки не заставила себя ждать. 8 марта 1919 года заместитель министра финансов США Картер Гласс направил в Париж телеграмму, в которой сообщалось, что любое подобное предложение будет рассматриваться как завуалированная угроза объявить дефолт. И тогда не следует ожидать, что Вашингтон станет рассматривать заявки на предоставление новых кредитов. Вашингтон настаивал на том, чтобы Клемансо публично взял на себя обязательство воздерживаться от подобных предложений о снижении долговой нагрузки[856]. Когда в апреле 1919 года переговоры в Версале зашли в тупик и французы вновь заговорили об уступках, им напомнили об обещании Клемансо, занеся его в протокол заседания. Парижу в унизительной форме было указано на необходимость следить за действиями своих финансистов[857].
Британцам эти столкновения между Америкой и Францией были только на руку. Как сообщал в Лондон Ллойд Джордж, у американцев складывалось мнение о том, что «французы оказались чрезвычайно жадными… и… их доверие к британцам укрепляется пропорционально подозрительности к французам»[858]. Тем не менее британцы не могли отказать в логичности предложениям французов и итальянцев. Именно Кейнсу в министерстве финансов выпала задача подготовить ответ Британии, который был передан американцам в конце марта. По подсчетам Кейнса, полное снятие претензий союзников обошлось бы США в 1,668 млрд фунтов стерлингов. При этом значительные убытки, примерно 651 млн фунтов стерлингов, выпадали на долю Британии, выступавшей в роли крупного чистого кредитора стран Антанты. Основными бенефициарами становились Италия, освобождавшаяся от долга в 700 млн фунтов стерлингов, и Франция, долг которой составлял 510 млн фунтов стерлингов. На тот момент между великими державами еще не проводилось денежных операций подобного масштаба, однако в свете относительной прочности экономик стран-союзниц и ущерба, понесенного ими в ходе войны, такое предложение не представлялось неразумным. Все эти аргументы против репараций, которые Кейнс выдвинет позже и которые произведут сильное впечатление, впервые были озвучены в марте 1919 года при попытке убедить Вильсона в катастрофических последствиях поддержки сложной системы военных долгов союзников. Кейнс вполне открыто говорил об отчаянной ситуации, в которой оказывалась Франция. Если Британия и Америка будут настаивать на полной выплате задолженности, то «Франция, как страна победительница, будет должна заплатить своим друзьям и союзникам в 4 раза больше, чем она заплатила, проиграв войну Германии в 1870-х годах. Получалось, что рука Бисмарка была значительно легче, чем рука союзника и единомышленника»[859]. Как можно заставить население Европы принять столь скандально неадекватное решение вопроса о репарациях, если не за счет великодушных уступок тех, кто может себе это позволить?
Кейнс не рассказал читателям «Экономических последствий мира» о том, что на предложения, которые он изложил в конце книги, и на подобные предложения французов и итальянцев Вашингтон незамедлительно наложил вето. Американцы не хотели никаких взаимосвязей. Желая максимально использовать свое влияние, администрация Вильсона намеревалась решать вопросы с каждым должником-союзником в двустороннем порядке, чтобы как можно быстрее восстановить свободную мировую торговлю и частное финансирование. Именно выступая против этой американской концепции быстрого восстановления статус-кво свободных рынков Эдвардианской эпохи, Кейнс и написал первый вариант своего изящного исторического повествования, который позже лег в основу его бестселлера. Кейнс утверждал, что американская концепция быстрого возврата к либеральным капиталистическим финансовым отношениям была построена на плохом понимании истории. Никто не отрицал, что практика крупных частных займов, существовавшая до войны, способствовала оживлению мировых финансовых рынков. Лондон был центром этой системы, а Уолл-стрит – одним из клиентов. Но, указывает Кейнс, такая система существовала не более 50 лет, и она отличалась «хрупкостью». Ей «удалось выжить лишь потому, что ее нагрузка на страны, которым надлежало платить, не носила еще обременительного характера», и потому, что ее материальные преимущества были очевидны. Займы были связаны с «реальными активами», такими как железные дороги, а отношения между частными заемщиками и займодателями имели «более широкие связи с системой собственности». И самое главное, считалось, что международные займы сулят дальнейший прогресс. Своевременное обслуживание долгов обеспечивало получение более крупных займов на более благоприятных условиях в будущем. Те, кто после Первой мировой войны выступал за скорейшее возвращение к частному финансированию, «по аналогии считали, что… сравнимая система отношений между правительствами» может стать «обычным общественным явлением», несмотря на то что после войны оставались обязательства, имевшие «гораздо более значительные и определенно обременительные масштабы». В повседневной жизни эти долги не были связаны с «реальными активами», не имели непосредственного отношения к частной собственности. Попытка немедленного возврата к laissez-fair либерализму, определяемому невмешательством государства в экономику и социальную сферу, была одновременно нереалистичной и опасной. В условиях, когда массовые волнения рабочих сотрясали промышленные регионы в Британии, Франции, Германии и Италии, политикам не следовало забывать о том, что даже «капитализм в собственной стране, связанный со многими сложившимися в ней симпатиями, имеющий реальное значение в процессе производства, от сохранения которого во многом зависит существующая организация общества, не находится в полной безопасности»[860].
Несмотря на весомость этих аргументов и неблагоприятное развитие хода переговоров о репарациях, американцы не желали ничего слышать о планах значительного уменьшения сумм задолженности. Именно в ответ на их стремление отгородиться каменной стеной Кейнс подготовил свое второе важное предложение, касавшееся изменения всей международной структуры, – о создании международного кредитного консорциума. В «Экономических последствиях мира» он описал идею международного кредита в размере 1 млрд долларов, то есть около 200 млн фунтов стерлингов[861]. Полгода назад в Версале он был готов пойти на большее и предложил начать цикл выплат, предоставив Германии возможность выпустить международных облигаций почти в 6 раз больше – на сумму 1,2 млрд фунтов стерлингов[862]. Это позволило бы Германии урегулировать требующие скорейшего решения вопросы со своими торговыми партнерами военного времени и сохранить кредитоспособность. Около 724 млн фунтов стерлингов пошло бы на выполнение первоочередных репарационных обязательств. Остальные союзники предоставили бы Германии 200 млн фунтов стерлингов в качестве оборотного капитала для оплаты импорта продовольствия и сырья, в которых Германия испытывала неотложную потребность. Чтобы сделать эти облигации привлекательными, предлагалось установить доходность по ним в размере 4 % и не облагать эти доходы налогами. Такие международные облигации имели бы абсолютный приоритет по отношению ко всем претензиям, предъявляемым германскому правительству, и признавались бы всеми центральными банками в качестве первоклассного залога. Первый выпуск облигаций на сумму 1,2 млрд фунтов стерлингов обеспечивался бы коллективной гарантией побежденных стран. Но за этой гарантией стоял бы консорциум стран, которые во время войны были союзниками. Члены этого консорциума в свою очередь несли бы ответственность перед Лигой Наций. Кейнс, в отличие от Клементеля, не ставил задачу создания сложной, рассчитанной на длительный срок структуры правительственного управления, заменяющей свободную торговлю или частное кредитование. Но он жестко критиковал тех, кто считал, что, «удалив с самого начала препятствия на пути свободного международного обмена в виде блокад и подобных мер, можно спокойно доверить задачу поиска решения частным предприятиям». Проблема восстановления Европы была «слишком масштабна для частного предпринимателя, а любое промедление еще больше осложняло решение». Правительствам Европы и Америки следовало принимать меры для восстановления основных кредитных линий, чтобы затем их могли взять на себя частные предприниматели, в противном случае страны, испытывающие острую потребность в кредитовании, окажутся в замкнутом круге экономического кризиса, политической неопределенности и падения кредитоспособности[863]. Для спасения либеральной экономики и восстановления не обусловленных политическими решениями мировых рынков требовалось взвешенное политическое решение.
Таблица 8. Тяжелая рука «партнера»: задолженность союзников перед США, млн долл.
Американские финансовые эксперты, хорошо знакомые с ситуацией в Европе, прекрасно понимали эту логику (табл. 8). 29 марта 1919 года Ламонт из банковской группы Дж. П. Моргана составил резкое письмо на имя министра финансов Рассела К. Леффингвелла. Оно начиналось словами: «Ключ находится в руках у Америки. Сегодня министр финансов, я полагаю, обладает властью заключить подлинный и прочный мир; если он не сумеет воспользоваться этой властью, то никто не сможет предсказать последствий, которые окажутся ужасными и для Америки, и для остального мира». Письмо так и не было отправлено[864]. Однако 1 мая 1919 года Ламонт вместе с экспертом- экономистом Норманом Дэйвисом отправил в Вашингтон телеграмму, в которой призывали министерство финансов сделать все, что министерство может сделать «благоразумно и безопасно»[865]. В отличие от банкиров, с сочувствием следивших за этими действиями, среди приближенных к администрации Вильсона царили совсем другие настроения. Еще 11 апреля 1919 года Гувер высказал Вильсону мнение о том, что прочный послевоенный порядок не может строиться на военном союзе США, Британии и Франции. Если Америка не дистанцируется, ей придется отвечать на бесконечные запросы. Однако если Вашингтон использует свое влияние, чтобы заставить Британию и Францию умерить требования относительно репараций, то Америку будут считать другом Германии. В этой ситуации Америке оставалось только дистанцироваться. Оказавшись в положении, требующем ответственности за свои действия, союзники воздержатся от необоснованных требований, которые они могли бы выдвинуть, пользуясь защитой США. Для предотвращения трансформации Лиги Наций в «вооруженный союз», вокруг которого «вращается несколько нейтральных государств», требовалось, чтобы Америка более не ассоциировалась с ее бывшими союзниками. Это приведет к тому, что «центральные империи» и Россия перейдут «в независимую лигу». Гувер затем перешел к политической логике их совместного взгляда на влияние США за границей, определив ее с недоступной Вильсону ясностью. По мнению Гувера, «необходимая революция в Европе еще не завершилась». И Америка должна признать, что у нее «не хватило пороха, чтобы выступить в роли полицейского». Теперь Америке следует проявить осторожность и не допускать, чтобы ее ассоциировали с «бурей революционных репрессий». То, что с просьбами об уступках обратились Британия, Франция и Италия, а не Германия, Австрия или Венгрия, похоже, не имело для Гувера значения. Даже со своими прежними союзниками Америке не следует соглашаться «на условия координации… которые сделают невозможной независимость наших действий». США выступают в роли «единственного великого хранителя морали во всем мире» и должны обеспечить сохранность морального капитала. Если европейцы не готовы принять «14 пунктов» во всей их полноте, то Америке следует «покинуть Европу насовсем» и сконцентрировать свою «экономическую и моральную мощь» на остальном мире[866]. Это не будет изоляционизмом. Это будет пуризмом Вильсона, отказом от участия в европейских событиях в интересах обеспечения лидирующих позиций Америки во всем мире.
Официальная реакция Америки на план Кейнса была не столь оскорбительна, как реакция на предложения французов. Тем не менее это был решительный отказ[867]. Министерство финансов сочло этот план еще одной попыткой европейцев превратить Америку в основного претендента на получение репараций, а это ставило под угрозу кредитоспособность самой Америки[868]. План Кейнса обрекал мир на небывалое увеличение числа сомнительных долгов, ускоренную инфляцию и закрепление роли государства в мировой экономике, что уже стало причиной стольких разногласий[869]. Неослабевающее давление со стороны Конгресса, требовавшего сокращения налогов, исключало списание военных долгов Европы перед США[870]. Вашингтон не мог не понимать, что немедленное погашение союзнических долгов приведет к глубокому кризису. В сентябре 1919 года администрация Вильсона объявила двухгодичный мораторий на выплату процентов по долгам союзников[871]. Но Вашингтон дал ясно понять, что эту одностороннюю уступку не следует воспринимать как часть крупной сделки. В конце концов и проценты, и основная сумма долга должны быть выплачены. Министерство финансов предостерегало должников от любых попыток создания общего фронта. Переговоры будут вестись с каждой европейской страной по отдельности. Никакой связи между военными долгами и репарациями не будет.
Тем временем Франции отчаянно не хватало долларов. Осенью возникла опасность объявления дефолта по нескольким крупным муниципальным долгам в Нью-Йорке[872]. Министерство финансов США нехотя снизошло к новому обращению Франции на Уолл-стрит, подчеркнув при этом, что американские инвесторы ожидают получить не менее 6 % в качестве дохода, причем в долларах, а не в девальвированных франках. Как оказалось, министерство финансов было настроено слишком оптимистично. На Уолл-стрит Париж понял, что при невыплаченной союзниками задолженности в размере 3 млрд долларов ему будет трудно вести переговоры даже о краткосрочных кредитах. В ФРС считали, что французам повезет, если они найдут того, кто возьмется кредитовать их даже на жестких условиях – 12 % годовых. Кнут, которым грозило министерство финансов США, и условия на рынках частного капитала демонстрировали европейцам, что такое настоящий «мир без победы».
16 Европа и ее обязательства
В начале ноября 1924 года Адольф Гитлер, находясь в тюрьме в Ландсберге, размышлял о своей первой неудачной попытке ниспровергнуть послевоенный мировой порядок. В своей «Майн кампф» (Mein Kampf) он описывает, как ноябрьским утром 1918 года очнулся полуслепым в военном госпитале и узнал о том, что объявлено перемирие, а Германия охвачена революцией. Он решил стать политиком, чтобы сражаться против нового мира, который возник так неожиданно[873]. Бенито Муссолини стал политиком еще до войны. Но и его война изменила, как она изменила и Гитлера. И хотя Муссолини сумел добиться успеха и воспользоваться послевоенным кризисом, а Гитлеру этого сделать не удалось, их методы и основные взгляды на историю очень во многом совпадали. Современная Италия, как и современная Германия, существовала на протяжении жизни чуть больше чем трех поколений, возникнув в результате конвульсивного распада постнаполеоновского порядка в Европе середины XIX века. Гитлера и Муссолини объединяла их сходная реакция на мировой кризис, вызванный Первой мировой войной. Им предстояло действовать в условиях мирового порядка, установленного «Большой тройкой» в Версале. Как говорил в мае 1919 года Ллойд Джордж, находясь в кругу близких к Вильсону людей, «пока Америка, Британия и Франция вместе, мы в состоянии удержать мир от развала»[874].
Гитлера и Муссолини преследовал вопрос: что припасла история для Германии и Италии, если сказанное Ллойд Джорджем было правдой? Послевоенная карьера Муссолини и Гитлера начиналась не с презрения к западным демократиям, как могло показаться, если судить по их фанфаронству 1930-х годов. После окончания Первой мировой войны они смотрели на западные державы со смесью трепета, страха, зависти и негодования. Весной 1919 года Муссолини называл Италию «пролетарской нацией»[875]. Экономическая и военная мощь «Большой тройки» была очевидной. Но говорить в 1919 году о том, что век демократической политики подходил к концу, тоже было нельзя. До сих пор ни одному человеку не удавалось достичь такой мировой известности, как Вудро Вильсону. Но для Муссолини и Гитлера образцом действительно популярного современного политика был не Вильсон, а Ллойд Джордж[876]. Именно британский лидер военного времени в глазах Муссолини и Гитлера олицетворял общедоступную и популярную идеологию, питавшую энергией всю империю. Будущее оставалось за западными державами, всемогущими защитниками нового порядка, если только бунтарям не удастся выступить против их власти, основанной на подавлении.
В судьбоносные недели марта-июня 1919 года Муссолини и Гитлер еще не были заметны в толпе, хотя Муссолини уже начал выделяться. Но и в Италии, и в Германии националисты пользовались широкой поддержкой. Миллионам людей не нравилось место, которое их странам отвели в Париже при установлении нового порядка. Надо постараться добиться своей самостоятельности, пока не стало слишком поздно… тем не менее, когда настало время – 28 июня 1919 года, представители Италии и Германии подписали Версальский договор. Споры между Британией, Францией и США показали нам, почему достигнутый мир оказался столь аморфным. В борьбе Германии и Италии за свое признание мы видим силы, сохранявшие мир.
I
После того как летом 1918 года было отбито последнее наступление австрийских частей на реке Пьяве, итальянская армия готовилась к мощной наступательной операции, назначенной на 24 октября, в годовщину Капоретто. В течение нескольких дней австро-венгерская армия была разгромлена, и империя Габсбургов пала. Зимой 1918/19 года перед политическим классом Италии встал вопрос: что делать с этой с таким трудом доставшейся победой. В первой половине 1918 года, как казалось, все еще сохранялась возможность перехода премьер-министра Орландо на левоцентристские позиции, вследствие чего Италия станет инициатором процесса самоопределения по всей Адриатике. Но в декабре Сидней Соннино все еще занимал пост министра иностранных дел, а широкая коалиция, собранная Орландо после катастрофы под Капоретто, продолжала рассыпаться. В отставку подали Биссолати, видный социалист, выступавший за продолжение войны, и проамерикански настроенный министр финансов в правительстве Орландо Франческо Нитти. Это улучшило настроение тех, кто выступал за Лондонский договор, предусматривавший аннексии. Но движение наблюдалось и в рядах крайне левых. Возможностей компромисса становилось все меньше. Приезд в Италию президента Вильсона в январе 1919 года собрал толпы людей. Но, когда вскоре после отъезда Вильсона Биссолати попытался изложить свои взгляды на Лигу Наций на митинге в Милане, он был освистан толпой, в первых рядах которой находился Муссолини[877].
В 1918 году Лондонский договор оставался вопросом внутренней политики. В 1919 году он превратился в международный cause célèbre, ставший тестом для новой мировой политики. Вильсон достаточно хорошо относился к Италии. Ему нравилось встречаться с Орландо. Соннино имел прочную репутацию честного игрока. К разочарованию своих сторонников-пуристов, Вильсон намеревался сделать Италии очень великодушное предложение, правда за счет Австрии, передав Риму перевал Бреннер вместе с его населением, говорившем на немецком языке[878]. Однако Лондонский договор считали позором. По этому договору только для расширения границ Италии предстояло передать под ее суверенитет 1,3 млн славян, 230 тысяч австрийцев и десятки тысяч греков и турок. Но Соннино это не беспокоило. Он был практически единственным участником конференции, который даже на словах не выразил поддержки новых норм[879]. Вильсон мог осуждать Лондонский договор, но он уже был в торжественной обстановке подписан Италией, Британией и Францией. Разве можно относиться к договору, за который Италия отдала жизни более полумиллиона молодых людей, как к простому клочку бумаги? За что же тогда воевала Антанта, как не за нерушимость договоров? Лондон и Париж опасались того, что, если Рим будет придерживаться этой линии, им придется столкнуться с непростым выбором: во-первых, между двумя режимами международной легитимности и, во-вторых, между нерушимостью договоров, с одной стороны, и зарождающимися нормами нового либерального порядка – с другой. Перспектива прямого столкновения между европейцами и Вильсоном сильно тревожила участников конференции. Ллойд Джордж считал, что это будет «настоящая катастрофа, если европейские державы и Соединенные Штаты» окажутся разделенными из-за этого наследия прошлого[880].
Вот почему, понимая всю конфликтность ситуации, Британия и Франция столь активно поддерживали демократическое крыло сторонников интервенции в итальянской коалиции военного периода. Если Рим откажется от территорий, обещанных ему в 1915 году, они предложат ему свою поддержку претензий Италии на влияние на Адриатике, основанных на праве на самоопределение итальянских анклавов, разбросанных по восточному побережью Адриатики еще со Средних веков. Ирония состояла в том, что этот вопрос был частью альтернативной либеральной программы военных целей, выдвинутой итальянскими демократами-интервенционистами, претендовавшими на итальянский порт Фиуме, который согласно Лондонскому договору должен был отойти Хорватии. Это уже долгое время мучило итальянских националистов, и зимой 1918/19 года Орландо поднял вопрос о Фиуме. Хотя это и помогло успокоить националистов, но вызвало отрицательную реакцию в Париже. 7 февраля 1919 года в меморандуме, составленном в вызывающем тоне, Рим потребовал на Версальской конференции признания его прав, предусмотренных Лондонским договором, а также прав на Фиуме на основе принципа этнического самоопределения[881].
Сам Фиуме, возможно, и был итальянским городом, но лежащие в стороне от побережья районы были явно славянскими. Кроме того, это был единственный крупный портовый город нового государства Югославии. Президент Вильсон хотел поставить жесткие условия перед тем, что оставалось от Австрии. Но требовалось защитить интересы Югославии, союзника Антанты. Эксперты Вильсона непреклонно стояли на том, что любая уступка Италии будет означать поощрение самых худших привычек, оставшихся от «старого порядка»[882]. Британия изо всех сил старалась избежать противостояния с Вильсоном и поддержала молодую Югославию. Требование Орландо о передаче Италии того, что было предусмотрено Лондонским договором, а также порта Фиуме, дало министру иностранных дел Артуру Бальфуру шанс, которого он дожидался. Дух и букву договора 1915 года нарушал не Лондон, а Рим. В свете требований Италии относительно Фиуме Британия более не считала себя связанной обременительными условиями Лондонского договора[883]. Франция оказалась в большей степени, чем Британия, уязвима для нажима со стороны Италии. Но чтобы воспользоваться этой слабостью, Риму необходимо было действовать быстро. Теперь, в начале апреля, когда «Большая тройка» достигла договоренности по Германии, Клемансо был готов заняться Италией. 20 апреля итальянский премьер-министр Орландо, поняв, в каком положении он оказался, даже заплакал[884]. 23 апреля по настоянию Вильсона Франция и Британия выступили с совместным заявлением о том, что Фиуме остается частью Югославии.
За этим последовало еще одно из ряда вон выходящее событие. Через голову официальной делегации дружественной страны президент Вильсон выступил с обращением к итальянскому народу. Америка – «друг Италии», – заявил американский президент. Две страны связаны «не только кровью, но и взаимным расположением». Но Америке выпала честь «выполнить почетное поручение своих союзников… и выступить инициатором мира… на условиях, которые она сформулирует». Теперь США «обязаны обеспечить соответствие этим принципам любого принятого ими решения». Вильсон предпочел не вспоминать, как в октябре 1918 года Италия выступила против переговоров о перемирии и против включения в договор «14 пунктов». Теперь же он просил итальянцев понять, что Америка связана обязательствами. «Америка не может поступить иначе. Америка верит в Италию и в то, что Италия не станет просить ни о чем, что может хоть как-то противоречить этим священным обязательствам»[885].
Это прямое обращение к народу Италии со всей наглядностью показало, насколько далек был Вильсон от европейских политических институтов. Если британцы считались рецидивистами империализма, а французы – «эгоистами», то отношение Вильсона к политическому классу Италии оказалось очень близким к презрению. После военной катастрофы в Капоретто в октябре 1917 года администрация Орландо приветствовала распространение американской пропаганды, считая ее признаком либерализма нового правительства и серьезным вкладом в поддержание морального духа[886]. В августе 1918 года побывавшие на юге Италии американские представители рассказывали о том, что во время своих выступлений встречались с группами слушателей, «преклонявшихся» перед именем Вильсона и даже знавших наизусть отрывки из его речей. Чарльз Мерримэн, главный американский пропагандист, считал, что Вильсону надо действовать просто в обход этой «непопулярной вонючки, которую в Италии именуют правительством». Если бы Вильсон вышел напрямую к итальянскому народу как его настоящий лидер, он «легко бы мог изменить ситуацию в свою пользу совершенно законным и естественным образом». Для этого ему было достаточно «просто выйти и исполнить номер под названием «моральная политика» перед переполненными и жаждущими внимать залами»[887]. Сторонники Вильсона надеялись проверить это во время поездки президента по Италии в январе 1919 года, но Орландо не дал Вильсону шанса выступить перед толпами ожидавших его в Риме. Теперь же Вильсон наверстывал упущенное. Для Рэя Стэннарда Бейкера, пресс-секретаря Вильсона, эта поездка в Рим знаменовала «самый главный момент Конференции», когда «две силы, до сих пор сражавшиеся друг с другом втайне, оказались на поверхности»[888]. Вильсон решил не полагаться только на открытую дипломатию. 23 апреля, утвердив выделение срочного кредита на сумму в 100 млн долларов для Франции, он распорядился приостановить оказание дальнейшей финансовой помощи Италии[889]. Президент был рад, когда узнал, что Стэннард Бейкер предупредил помощников Орландо о том, что Америка в ближайшем будущем прекратит поддерживать лиру[890].
Для Орландо это не осталось незамеченным. Он был возмущен тем, как Вильсон, «обращаясь напрямую к итальянскому народу, повторяет слова, которые произносил, уничтожая Гогенцоллернов как правящий класс Германии»[891]. Всем присутствовавшим на конференции было ясно, что американский президент поставил под сомнение право итальянского премьер-министра обращаться к народу своей страны[892]. Вечером 24 апреля Орландо и Соннино покинули Париж, чтобы провести консультации в кабинете министров и в парламенте Италии[893]. В действительности, они оба оказывались во все большей изоляции не только в Париже, но и в среде политического класса Италии. Крайне правые считали Соннино недостаточно радикальным. Орландо утратил всякое доверие к себе со стороны левых. Однако неудовлетворенность правительством вовсе не означала готовности позволить американскому президенту диктовать Италии свои условия. Возмущения не скрывали даже такие проамерикански настроенные сторонники продолжения войны, как Биссолати или социалист Сальвемини. Они и представить себе не могли, что «мир равных» подразумевает приравнивание Италии к недавно созданной Югославии. По мнению Сальвемини, Вильсон просто вымещал на Италии свое раздражение в отношении Британии и Франции, нарушивших его планы. Почему же Вильсон не наберется мужества и не объяснит американскому народу, что если Америка требует признания доктрины Монро, то и другие народы вправе защищать свои региональные интересы?[894] Вильсон «возвращал себе девственность» за счет Италии[895].
Страсти накалялись. Орландо уверенно получил вотум доверия в палате депутатов. В Риме имели место выступления против флага США. Здания американского посольства, Красного Креста и Христианской ассоциации молодежи были поставлены под вооруженную охрану[896]. Однако это никак не содействовало выходу из тупиковой ситуации, сложившейся в Париже. Орландо ждал, что его пригласят, чтобы продолжить участие в работе конференции, но приглашения так и не последовало. Италия была важна, но, по правде говоря, не была незаменимой в новом мировом порядке. Статут Лиги Наций был слегка отредактирован таким образом, чтобы Италия могла вступить в организацию позже. 7 мая «Большая тройка» передала Германии договор о мире, а Орландо и Соннино пришлось возвращаться в Версаль безо всякой помпы. Им пришлось возвратиться, потому что в противном случае победа обернулась бы для Италии опасной изоляцией на международной арене. Страна испытывала крайнюю потребность по меньшей мере в поставках угля из Британии и в финансовой помощи из Америки[897]. В 1913 году Италия импортировала около 900 тысяч тонн угля в месяц. В последние два года войны импорт сократился до 500 тысяч тонн[898]. Подобным образом был урезан импорт пшеницы. Италия крайне нуждалась в помощи своих военных союзников. Но в ходе дальнейших унизительных дискуссий оказалось, что итальянцы не дождутся ни полного выполнения условий Лондонского договора, ни возврата стране Фиуме, ставшего национальным символом.
Поняв несостоятельность своих позиций, Орландо и Соннино 19 июня ушли в отставку. Кабинет министров теперь возглавил «американец» Франческо Нитти, который немедленно подписал Версальский договор с Германией. Демонстрируя новый взвешенный подход, новый премьер-министр отметил, что положения договора, делающие невозможным любой шаг к объединению Германии и Австрии, превратят границы Италии в самые надежные границы и в Европе, независимо от того, как будет решен югославский вопрос. Но Нитти был связан последствиями заигрываний своего предшественника с националистами. Он не мог просто взять и отказаться от претензий на Фиуме. Тогда правительство Италии предложило признать сам город и его отдаленные от побережья районы нейтральными и передать под управление Лиги Наций. Узнав об этом, ультранационалист и поэт-демагог Габриеле д’Аннунцио создал отряд из нескольких тысяч добровольцев и 12 сентября 1919 года оккупировал Фиуме. Армия была слишком ненадежной, чтобы Нитти отдал ей приказ освободить город от отряда д’Аннунцио. Поэтому он назначил всеобщие выборы, надеясь, что действительно представительный национальный парламент поддержит его в осуществлении давно назревших изменений во внешней политике страны.
Результаты выборов, состоявшихся 16 ноября 1919 года, подтвердили поддержку правительства Нитти по крайней мере в одном вопросе. Громкоголосые лидеры из числа правых, возглавивших захват Фиуме, потерпели поражение. Из 168 членов Союза национальной обороны, объединившихся вокруг Соннино в последний год войны, лишь 15 сохранили свои места. Первая попытка Муссолини создать парламентскую партию фашистов провалилась. В Турине его сторонники смогли набрать только 4796 голосов, против 170 315 голосов, отданных за социалистов, и 74000 голосов, собранных Католической народной партией. Сам Муссолини ненадолго оказался под арестом[899]. Однако серьезные потери понесла и Либеральная партия Нитти. До выборов ей принадлежало 75 % мест в парламенте, а теперь приходилось довольствоваться лишь 40 %. Подобно большинству думающих о будущем итальянцев, Нитти надеялся, что ему удастся сохранить власть в сотрудничестве с умеренным крылом социалистической партии. Триумфальную победу на выборах одержали левые, получив более 30 % мест в парламенте. Однако на своей конференции, состоявшейся в октябре 1919 года в Болонье, Итальянская социалистическая партия (ИСП) приняла судьбоносное решение, проголосовав в соотношении 3: 1 за вступление в радикальный ленинский Коминтерн[900]. Вдохновленное небывалым успехом на выборах, мощной волной забастовок и захватов земель, наиболее непримиримое крыло ИСП находилось в ожидании надвигавшейся революции. Это, в свою очередь, открыло дорогу для возвращения Муссолини, теперь уже не как журналиста или парламентского деятеля, а как лидера нового поколения боевиков правого толка, намеренных физически уничтожить социалистическое движение в Италии. К несчастью для Нитти, социалисты-реформаторы, которые могли бы содействовать предотвращению дальнейшей эскалации, оставались со своими более радикально настроенными товарищами вплоть до 1922 года. Теперь Нитти сохранял за собой пост, лишь благодаря толерантности новой Католической народной партии, сумевшей с первой попытки получить 20 % голосов. Столкнувшись с забастовками и захватами земель, Нитти цеплялся за свою главную идею, которой он руководствовался в своей деловой и политической карьере. В случае серьезного кризиса европейский либерализм сможет обратиться за поддержкой к Новому Свету. Политический и экономический кризис, охвативший Италию, мог быть разрешен лишь при помощи со стороны США. На протяжении всей войны Нитти работал над тем, чтобы обеспечить поставки и финансирование из США. Теперь он надеялся, что после того, как он решил вопрос с Фиуме и заставил своих соотечественников принять «ущербную победу», Италия займет место привилегированного партнера при новом мировом порядке, центр которого разместится на Уолл-стрит.
II
В мае 1919 года версальские переговоры о мире вошли в финальную решающую стадию. Утром 8 мая, когда члены кабинета министров Германии собрались для обсуждения условий заключения мира, переданных им накануне вечером, президент Фридрих Эберт призвал своих коллег «сдерживать страсти, охватившие» всех присутствующих. Они должны спокойно рассмотреть лежащий перед ними документ[901]. Социал-демократ, министр юстиции Отто Ландсберг, отвечавший за соблюдение общественного порядка, выступил с предложением объявить осадное положение. Это позволит смягчить реакцию населения и предоставит правительству свободу маневра, а также ограничит политический ущерб, в случае если ему придется принять навязанные унизительные условия. И социал-демократ Филипп Шейдеман, и центрист Матиас Эрцбергер понимали, что провоцировать Антанту нельзя. Но, ознакомившись с предлагаемыми условиями, оба пришли в ярость. Кроме того, они опасались, что если они не выступят решительно против договора, то это ослабит позиции их друзей в Прогрессивной либеральной партии в результате усиления правых позиций в буржуазной среде. Итак, первое демократическое правительство Германии стояло перед необходимостью взять на себя управление хором возмущенных патриотов[902]. Существовала явная опасность того, что контроль над волной возмущения могут перехватить крайне правые. Правда, после состоявшихся в январе выборов правящая коалиция, в которую входили СДП, партия Центра и Левая либеральная партия, могла рассчитывать на поддержку всех слоев германского общества. Чтобы обеспечить общее спокойствие, был введен запрет на проведение всех несоответствующих моменту театральных представлений и массовых гуляний[903].
12 мая во второй половине дня давний лидер большинства социал-демократов и первый канцлер Германской Республики Шейдеман, который в юности был типографским рабочим, не имевшим постоянного места жительства и работы, и нередко выстаивал в очереди за бесплатным супом на кухню князя Бисмарка, торжественно объявил Национальному собранию, что Версальский договор является «неприемлемым [unanehmbar]»[904]. Да отсохнет рука у того, кто этот договор подпишет. По всей Германии прошли хорошо срежиссированные митинги протеста. Руководство профсоюзов назвало договор смертным приговором. Еще раньше НСДП поднимала вопрос об ответственности Германии за развязывание войны. Была создана закрытая комиссия для расследования кризисных событий июля 1914 года. Она уже предоставляла неопровержимые доказательства причастности Германии к провокационному ультиматуму, перед которым Австрия поставила Сербию[905]. Но теперь все мысли о публикации обличающих материалов остались в стороне[906]. Профсоюзный лидер Карл Легин заявил, что условия Версальского мирного договора рассеяли все сомнения относительно подлинной природы войны. Какой бы ни была вина кайзера и его окружения в развязывании войны, народ Германии должен объединиться против грабительских империалистических устремлений стран Антанты. Министр иностранных дел Германии граф Брокдорф говорил, что Республике надо работать над тем, чтобы сплотить «рабочих, буржуазию и государственных служащих» в единую оппозицию, противостоящую навязываемому миру[907].
29 мая в разгар патриотического подъема германское правительство представило осторожно сформулированные контрпредложения, целью которых было уменьшить территориальные потери за счет уступок в разоружении и репарациях[908]. Ни одна из партий, входящих в первую Веймарскую коалицию, не имела принципиальных возражений против разоружения. По настоянию Эрцбергера, в этих контрпредложениях говорилось о согласии с отменой воинской повинности и сокращением численности армии до 100 тысяч профессиональных солдат в течение трех лет[909]. Взамен Германия хотела получить гарантии своей безопасности со стороны Лиги Наций, которая взяла бы вопросы разоружения под всесторонний контроль. Кабинет министров также выразил готовность направить значительные ассигнования на начальные репарационные выплаты[910]. Пока Франция и Британия продолжали все еще безрезультатный спор об окончательной общей сумме репараций, Германия предложила выплатить 100 млрд золотых марок (24 млрд долларов), притом что первый транш составит 20 млрд золотых марок[911]. При более внимательном изучении это предложение оказалось не столь щедрым, как могло показаться сначала. Франции для начала работ по восстановлению предстояли огромные расходы. Германия же предлагала ежегодные платежи в размере лишь 1 млрд золотых марок, притом что длительный период ожидания выплат не предполагал начисления процентов на основную сумму. Берлин также обратился с просьбой о предоставлении кредита в счет значительного объема реквизированных товаров. Иными словами, Берлин рассчитывал получить внешний кредит, чтобы можно было начать торговый цикл и приступить к выплатам. Финансирование репараций, надеялись в Германии, станет механизмом, обеспечивающим интеграцию страны в мировую экономику[912]. По крайней мере для последующих поколений это контрпредложение обернулось бы триумфом. В «Экономических последствиях Версальского мирного договора» Джон Мейнард Кейнс назвал это предложение Германии эталоном обоснованности[913]. В начале июня 1919 года Берлин был близок к тому, чтобы повторить подвиг октября 1918 года и внести раскол в созданную против него коалицию. Но на этот раз не Вильсон, а Ллойд Джордж в последний момент выступил с решающим предложением, которое отличалось от прежних более мягкими условиями. Признавая особый характер польского вопроса, Лондон настаивал на проведении плебисцита при решении вопроса о разделении Силезии. Но это было самое большее, на что были готовы пойти Вильсон и Клемансо. 16 июня текст договора был возвращен Германии, и при этом ей было заявлено, что положительный ответ должен быть получен в течение недели, иначе будут введены войска. Хотя союзники провели демобилизацию значительной части своих армий, в июне 1919 они все еще располагали силами, эквивалентными 44 готовым к боевым действиям дивизиям, а этого было более чем достаточно, чтобы подавить любое возможное сопротивление[914]. Германия оказалась в отчаянном положении. Но и в этот кризисный момент рейх сохранял суверенитет. Особенностью версальского процесса было то, что побежденные были вынуждены осознанно сделать выбор в пользу собственного поражения.
В среде офицеров и прусских баронов-юнкеров условия мирного договора грозили вызвать открытый бунт[915]. Территория, которую предстояло передать полякам, находилась в самом сердце Пруссии[916]. С какой стати Пруссия должна соглашаться на разрушительный и унизительный мир на Востоке, где она одержала триумфальную победу? Вспоминали легендарного графа Давида фон Йорка, который в декабре 1812 года при Таурогене отказался подчиняться своему королю и направил патриотические силы Пруссии на помощь России, сражавшейся против Наполеона[917]. Прусское правительство довольно вяло говорило о необходимости преодолевать отчаяние. Однако давало ясно понять, что если рейх не сможет встать на защиту «жизненных интересов [Lebensinteressen]» прусского государства, то у «здоровых элементов» не останется иного выбора, как выйти из состава государства. Новое восточное государство (Oststaat) станет площадкой для будущего «воскресения Германской империи»[918].
Позиция министерства иностранных дел и большинства «Веймарской коалиции» была отражена в меморандуме, составленном членами германской делегации на мирных переговорах[919]. В меморандуме также рекомендовалось отвергнуть предлагаемые условия. Этот мирный договор не может считаться приемлемым, потому что предлагаемые условия преднамеренно направлены на то, чтобы нанести ущерб самоуважению Германии. И эти условия были заведомо невыполнимы. Они противоречили условиям договора о перемирии. К тому же носили вероломный характер, так как вынуждали Германию, вопреки действительному положению вещей, взять всю ответственность за войну на себя и признать мирным договором то, что на самом деле являлось актом насилия. Делегация указывала на то, что единственной прочной основой мира может быть только честность. А подписать договор, который Германия не сможет выполнить, означало вступить в противоречие с этой основополагающей аксиомой. Отказываясь вступать в прямые переговоры, союзники показывали тем самым, что не уверены в справедливости того, чем они занимаются. Хуго Просс, автор Веймарской конституции, говорил либерал-демократам, что принять договор будет означать то же самое, что совершить самоубийство из страха перед смертью. Премьер-министр Шейдеман заявил, что если союзники желают навязать Германии этот договор, то им придется самим входить в Берлин и делать свою грязную работу. Оставаясь верной себе, говорил Шейдеман, «Германия, даже разорванная на части, найдет способ вновь воссоединиться»[920]. В 1919 году эта фраза звучала как лейтмотив. Если Германия согласиться стать собственным палачом, она лишит себя всех надежд на восстановление. Во имя будущего она должна высоко нести свою честь и принимать последствия этого, какими бы тяжелыми они ни были. В отличие от тех, кто фантазировал по поводу Oststaat, члены кабинета министров не рассматривали возможности вооруженного сопротивления. На удивление серьезно была встречена мысль Шейдемана о том, что надо предоставить союзникам заботиться о суверенитете Германии. Германия сдается, заявляя о своей вере в то, что «прогрессивное мирное развитие планеты вскоре приведет к созданию независимого суда, перед которым мы заявим о своих правах»[921].
Потребовалось хладнокровное мужество Маттиаса Эрцбергера, чтобы указать на опасность применения тактики Троцкого «ни мира, ни войны». Французы и британцы не настолько глупы, чтобы следовать фантазиям Шейдемана. Они не позволят Германии снять с себя ответственность за управление страной из-за ее поражения в войне. Они не станут оккупировать всю Германию, а просто приберут к рукам самые выгодные активы, оставив после себя хаос и нищету. Можно было использовать Лигу Наций в качестве апелляционного суда. Но к этому нейтральному арбитру можно будет обратиться лишь после того, как Германия ратифицирует договор. И если германские либералы все еще надеются на «прогрессивный и мирный ход развития» мировой политики, то им сначала придется выплатить весьма болезненный первый взнос, выбрав путь сотрудничества, а не конфронтации[922]. При всей своей несправедливости и нечестности Версальский договор оставлял шанс на сохранение германского национального государства. Демократ Эрцбергер чувствовал, что большинство населения жаждало мира, а не проявления национального героизма. Это было самым наглядным образом подтверждено на экстренной встрече премьер-министров 17 земель, входивших в состав рейха, на которой Бавария, Вюртемберг, Баден и Гессен решительно выступили в поддержку мирного договора[923]. Конечно, Пруссии было обидно уступать свои земли Польше, но, если рейх не пойдет на заключение мира, французы оккупируют запад и юг страны. В этом вопросе демагогия Эрцбергера, по выражению Брокдорфа, едва сдерживавшего свое возмущение, не знала границ. Он «дал понять, – возмущался Брокдорф, – что не хотел бы распространяться по поводу случаев изнасилования немецких женщин сенегальскими и другими чернокожими солдатами, но вторжение неизбежно приведет к падению и распаду рейха»[924].
Конечно, это было отвратительно. Но Эрцбергер и остальные сторонники заключения мирного договора, среди которых видное место занимал Эдвард Давид, давний коллега Эрцбергера по правому крылу СДП, неустанно выступали с позиций необходимости обеспечить будущее рейха. Если Берлин не пойдет навстречу желанию населения страны заключить мир, катастрофа будет неизбежной. В октябре 1918 года большинство в рейхстаге взяло на себя ответственность за проведение переговоров о перемирии и, несмотря на мятежный героизм флота и социалистическую революцию, сумело избежать безусловной капитуляции и полномасштабной оккупации. Если большинство в рейхстаге не проявит мужества на этот раз, то Германия вновь окажется на пороге катастрофы. Правительство, возглавляемое НСДП, единственной партией, проявившей верность принципу преемственности германского государства, подпишет унизительный мир, предлагаемый на условиях, устраивающих Антанту и Москву. В результате начнется гражданская война «всех против всех». Германия подобно России пойдет по пути распада и анархии. До тех пор, пока в послевоенной Германии будет сохраняться возможность развития сценария насильственных действия против левых сил, опасаться следует не свержения капитализма, а кошмарного повторения в Западной Европе катастрофической авантюры Троцкого. Если же главной задачей является сохранения целостности рейха, то единственно возможным шагом будет сделать то, на что летом 1917 года не решились Церетели и Керенский. Германии нужно правительство, созданное на базе широкой национальной коалиции, которое подпишет унизительный мирный договор[925]. Проблема состояла в том, как набрать необходимое большинство[926].
В начале июня генерал Вильгельм Гренер и министр обороны Густав Носке боролись с нарастающей волной военных мятежей[927]. Благодаря их усилиям решающее слово осталось за гражданскими политиками. Обращение президента Эберта к правительству Шейдемана привело к расколу 18 июня. Эрцбергер и еще два представителя партии Центра высказались за то, чтобы подписать договор. Мнения социал-демократов разделились: премьер-министр Шейдеман, министр иностранных дел Брокдорф и еще три либерал-демократа голосовали против. Заседание продолжалось до трех часов ночи, а решение так и не было принято[928]. Через несколько часов парламентское большинство СДП проголосовало за то, чтобы принять договор, но с соблюдением ряда условий. Притом что союзники не пошли бы на обсуждение каких-либо условий, это решение свидетельствовало лишь о том, что позиция премьер-министра Шейдемана была признана неубедительной. Шейдеман призывал отказаться от подписания договора и теперь был вынужден подать в отставку. За четыре дня до истечения установленного союзниками срока Германия оказалась без правительства. А в Национальном собрании представители различных партий продолжали бесполезные дискуссии[929].
Реакция флотских офицеров, чьи опрометчивые действия привели к крушению в ноябре 1918 года, была более определенной. Утром 21 июня 1919 года вице-адмирал Людвиг фон Ройтер по-своему ответил версальским миротворцам: он отдал приказ поднять на судах германского Флота открытого моря, интернированных на британской базе в Скапа-Флоу, флаг кайзера и затопить их. Британские моряки пытались помешать этому явному нарушению условий перемирия, в ходе столкновений было убито 9 немецких моряков, но значительная часть флота кайзера (15 броненосцев, 5 крейсеров и 32 эсминца) была затоплена. В истории морского флота не было случая, чтобы за один день было уничтожено столько боевых кораблей. В Германии фельдмаршал Гинденбург заявил, что честь его солдат вынуждает его к подобным действиям. Несмотря на превосходящие силы противника на Западе, германская армия должна отступить на оборонительные позиции на Востоке и возобновить боевые действия. Президент Эберт, подбирая замену Шейдеману, назначил премьер-министром известного патриота и профсоюзного деятеля Густава Бауэра, который прежде решительно выступал против заключения договора.
Лишь к полудню 23 июня, последнего дня отсрочки, президент Эберт окончательно решил, что оппозиционные силы не располагают большинством. В СДП и партии Центра, от которых зависела республика, царил глубокий раскол. Единство нации, без которого проведение демократической политики была невозможным, висело на волоске. Лидер противников договора из числа либерал-демократов записал в своем дневнике, что когда Эберт, Бауэр и члены кабинета министров, на которых по определению ложилась ответственность за судьбу договора, покинули заключительное заседание общепартийной конференции, он внезапно ощутил прилив «чувства ответственности»[930]. Демократы и по крайней мере некоторые националисты пошли на важную уступку, которая характеризовала тех, кто принимал основы демократической политики Веймарской республики, заверив своих коллег в том, что, невзирая на имеющиеся разногласия, они будут с уважением относиться к патриотическим мотивам, движущими теми, кто взял на себя ответственность за подписание мира. Такая позиция выглядела сомнительно, что вскоре нашло подтверждение в безответственном выступлении националистов. Но 23 июня 1919 года было достаточно и простого обещания. Днем в 3 часа 15 минут, когда до истечения срока оставались считанные часы, в Национальном собрании состоялось голосование по самому жизненно важному вопросу. Оно не было поименным. Перед Собранием не ставился прямой вопрос об одобрении Версальского договора. Было объявлено о том, что «значительное большинство Собрания» подтвердило полномочия правительства подписать договор. Через полтора часа об этом были официально уведомлены союзники.
В то время как в Париже торжествовали, Берлин был охвачен горьким чувством поражения[931]. Предостережений генерала Гренера и министра обороны Носке оказалось достаточно, чтобы остановить попытку прусской гвардии совершить переворот в июле[932]. Однако в среде поборников Oststaat формировалось ядро путчистов. Осенью 1919 года националисты инициировали волнения, открыто и с небывалой злобой выступив против СДП и Эрцбергера. В результате уже весной Эрцбергер был вынужден оставить политику по обвинениям в коррупции. Легенда об ударе в спину получала все большее распространение. Критический момент настал в марте 1920 года, когда в соответствии с положениями договора о разоружении настало время распустить военизированные формирования Freikorps[933]. 13 марта Вольфганг Капп, один из основателей Vaterlandspartei, выступавшей организатором митингов против мирного договора в 1917 году, и генерал Вальтер фон Лютвиц, командовавший Freikorps, подняли своих людей на марш на Берлин. Они требовали создания кабинета министров на внепартийной основе, в котором большинство принадлежало бы солдатам, а также отказа от дальнейшего выполнения условий договора. Они также хотели немедленно провести всеобщие выборы, которые, как они были уверены, приведут к роспуску состоящего из левых Национального собрания, не соответствующего текущему моменту послевоенного периода. Как выяснилось, расчеты путчистов на электорат были не совсем ошибочными, однако практическая подготовка была организована из рук вон плохо. У Каппа было несколько влиятельных друзей в Берлине. Кроме того, путчисты совершенно неверно оценили истинный расклад сил, выступавших в поддержку Веймарской республики. В период революционного подъема в ноябре 1918 года профсоюзы намеренно держались в тени, лишь сдерживая радикализм мелких лавочников. Однако, столкнувшись с прямой атакой на Республику, они действовали решительно. Страну парализовала общенациональная забастовка. К 17 марта путч захлебнулся.
Несколько дней участники рабочего движения праздновали свою победу. От всех правящих партий Республики, включая либерал-демократов, требовали подписать манифест, подтверждающий призыв к национализации ведущих отраслей промышленности[934]. Густава Носке и других лидеров СДП, запятнавших себя сотрудничеством с Freikorps, заставили уйти. Повсюду слышались оживленные разговоры о правительстве социалистического единства. Однако НСДП и СДП, даже если бы они смогли договориться о сотрудничестве, не набирали голосов, которые могли бы обеспечить им большинство в Национальном собрании. Фантазии о единстве левых развеялись так же быстро, как и появились, когда в Руре, сердце тяжелой промышленности Германии, всеобщая забастовка против Каппа выросла в нарастающее восстание социалистов. К 22 марта боевики-коммунисты сформировали отряды Красной гвардии и взяли под контроль промышленные центры Эссен и Дуйсбург. Многие пытались выступить в роли посредников, но левые радикалы, на чьей стороне теперь было 50 тысяч вооруженных человек, хотели попробовать свои силы[935]. В ходе ожесточенных боев и жестоких расправ десятки тысяч проправительственных солдат, во главе которых вновь выступил Freikorps, повторно заняли Рур. Со стороны правительственных сил погибло не менее 500 человек. Из числа повстанцев было убито более тысячи человек, причем многих из них казнили уже после того, как они были взяты в плен.
Путч Каппа и последовавшее за ним восстание в Руре показали, сколь близка к гражданской войне была Германия. Они также подтверждали, что опасения Эрцбергера относительно возможной иностранной интервенции, которая превратилась бы в кошмар, имели под собой основания. Рур был частью демилитаризованной территории на западе Германии. В ответ на выступление германских войск французы взяли под свой контроль город Франкфурт. Удивительно, что, несмотря на такой рост насилия в Германии, продолжал действовать хорошо отлаженный политический демократический механизм. Путчистам обещали проведение выборов. 6 июня 1920 года, через два месяца после того как в Руре закончились бои, почти 28,5 млн мужчин и женщин приняли участие в голосовании на выборах в первый рейхстаг Веймарской республики. 80-процентная явка оказалась суровым ударом для партий, стоявших у истоков Республики. «Большинство в рейхстаге», представленное коалицией СДП, партии Центра и демократическими либералами, набрало менее 45 % голосов вместо прежних 75 %. Избиратели, голосовавшие за левых, наказали СДП за ее пособничество контрреволюции и обеспечили НСДП второе место в рейхстаге. Тем временем ярые националисты из Германской национальной народной партии (ГННП) сумели набрать 15 %, то есть столько же голосов, сколько набирали правые консерваторы в ходе всех выборов, проходивших в Германии начиная с периода правления Бисмарка. В 1919–1920 годах демократы растратили значительную часть своего политического капитала, но это не затронуло компромисса, на основе которого была построена Республика. Голоса, отданные за НСДП, могли быть отданы любой более радикальной демократической республике, потому что это были голоса сторонников диктатуры пролетариата. Ленинская Коммунистическая партия набрала смехотворные 2 % голосов.
Главными победителями выборов стали национал-либералы, представленные Немецкой народной партией (ННП). Ее лидером был Густав Штреземан, печально прославившийся во время войны как один из самых ярых защитников империалистической политики Вильгельма. После революции у Штреземана был нервный срыв, а в марте 1920 года его чуть не обвинили в соучастии в организации путча, который возглавил Капп[936]. Когда кризис миновал, он пересмотрел свои цели. События 1919–1920 годов убедили его в правоте сторонников Версальского договора. В обозримом будущем судьба Германии зависела от судьбы Республики и ее умения найти общий язык со своими бывшими врагами на Западе. Как и Эрцбергер, Штреземан понимал, что главная сила принадлежит прежде всего Соединенным Штатам. Но Эрцбергер делал ставку на переменчивую политику либералов вильсоновского толка, а Штреземан, подобно Франческо Нитти в Риме, ставил на силу, которая, как он полагал, будет действовать долгое время, – на стратегическую заинтересованность американского бизнеса в будущем экономики Европы[937].
17 Версальский договор и Азия
На состоявшейся 28 июня 1919 года церемонии подписания отсутствовала только делегация Китая. События, происходившие начиная с первой недели мая на Версальской конференции, привели к тому, что самая крупная страна мира поднялась на дыбы. Решение конференции о передачи Японии германской концессии в Шаньдуне легло в основу китайского националистического эпоса. Китай оказался жертвой одновременно и японской агрессии, и лицемерия Запада[938]. Но эта поучительная история о жертвенности китайцев и агрессия японцев так и осталась неоконченной. Ставки с обеих сторон были высокими, о чем свидетельствовал кризис, обусловленный вступлением Китая в войну в 1917 году и тяжелыми последствиями вторжения Японии в Сибирь. Попытка прийти к миру в 1919 году привела к тому, что основные вопросы, связанные с будущим Азии, вновь оказались на глобальной повестке дня.
I
Сформированное после окончания войны новое японское правительство действовало вполне в «духе времени», направив на переговоры делегацию, состоявшую из прозападно настроенных либералов[939]. К концу 1918 года премьер-министр Хара Такаши потерял треть японского контингента в Сибири. Хотя Хара и назначил прокитайски настроенного Танаку Гиичи министром обороны, политика сотрудничества с Пекином осталась неизменной. Генерал Дуань, на которого Япония сделала ставку в 1917 году, был вынужден уйти. Теперь Токио стимулировало переговоры в Шанхае между Севером и Югом, что дало Китаю возможность направить в Версаль объединенную делегацию. Но какой путь изберет Китай после объединения?
После ухода Дуаня японский патронаж не вызывал резкого отторжения в Пекине. Для Сунь Ятсена было важно получить признание, неважно – с какой стороны. В январе 1919 года он попытался заинтересовать лидеров капиталистического мира своим планом серьезного экономического развития[940]. Но Белый дом даже не ответил на его призывы. Американский посол в Пекине Пол С. Рейнш продолжал свою антияпонскую агитацию. При этом сам он относился к Китаю свысока, что было характерно для Вашингтона в целом, где считали, что Китаю требуется полномасштабное внешнее управление. В начале 1919 года Япония согласилась войти в международный кредитный консорциум, что могло свидетельствовать об ее отходе от дипломатии финансового нажима, которую она проводила в годы войны. Единственным условием со стороны Японии было освобождение главной железнодорожной магистрали в Маньчжурии от надзора консорциума.
Британцы, сделавшие в Китае серьезные ставки, заинтересовано следили за схваткой между Японией и Америкой. В Лондоне не до конца понимали подлинные намерения Америки и не желали оставлять своего японского союзника. Проводить новую политику в Азии, основанную на построении новых отношений с Китаем, было поручено сэру Джону Джордану, британскому послу в Пекине. Он надеялся нейтрализовать все иностранные концессии в Китае, превратив их в международные, избавиться от сфер интересов и, таким образом, создать «условия для проведения политики отрытых дверей и интеграции Китая, не сводя все к бессмысленным словоизлияниям, которых стало чересчур много». «Если державы, получившие земли в аренду или в качестве наследства после событий 1898 года, не пойдут на определенные жертвы, то решение китайской проблемы окажется невозможным», – утверждал Джордан. Соединенные Штаты и Британия должны создать в мире систему, «обеспечивающую экономическую свободу и военную безопасность…»[941] Джордан опасался, что, пока в Лондоне и Вашингтоне будут рассматривать возможные варианты, японцы перехватят инициативу.
В январе 1919 года советник Госдепартамента Франк Полк в своем докладе на имя госсекретаря Роберта Лансинга указал на не совсем понятную поддержку, которую Япония оказывает в вопросе обеспечения единства Китая[942]. В Версале он предостерегал от возможных коллективных нападок на привилегированное положение западных стран в Азии. При поддержке Японии Пекин может потребовать полного пересмотра договора. Подобные требования вполне соответствовали новому языку либерального мирового порядка, но «белые державы были не в состоянии удовлетворить эти требования» без того, чтобы не ослабить свои позиции в Восточной Азии[943].
Учитывая эту неопределенность, американцы с радостью использовали парижские переговоры, чтобы создать еще один повод для обострения отношений между Японией и Китаем. 27 января, по настоянию президента Вильсона, японская делегация в присутствии делегации Китая заявила о правах Японии на германские владения в Шаньдуне. Американцы также использовали красноречивого Веллингтона Ку, получившего образование в Америке, представлявшего в Пекине правительство Севера и выступавшего в роли руководителя китайской делегации. Ку изложил заранее подготовленный в либеральном стиле ответ на претензии Токио. Он с возмущением отверг претензии японцев на привилегии, которыми пользовалась Германия, как необоснованное наступление на права 400-миллионного китайского народа. Вспомнив о юридических познаниях, приобретенных в Америке, Ку сослался на принцип rebus sic stantibus, указав при этом, что договор может быть изменен лишь в случае изменения обстоятельств, при которых этот договор был заключен. Делегации западных стран были впечатлены его беглой речью, новость о ходе переговоров в Париже через несколько дней распространилась по всему Востоку, в правительство Китая со всей страны поступали письма поддержки[944]. Главной целью вступления в войну политический класс Китая считал обеспечение себе места за столом переговоров. Теперь казалось, что, заручившись поддержкой Америки, Китай одержал важнейшую дипломатическую победу над Японией.
Но Ку упустил из вида то, что Япония не ссылалась на действия непреодолимых сил, требуя передачи себе прав Германии. В сентябре 1918 года правительство Тераучи, следуя своей новой политике добрых отношений с Китаем, заручилось подписью китайского премьер-министра Дуаня на меморандуме о том, что Япония получает право разместить в Шаньдуне гарнизон в обмен на обещание Японии перевести следующий транш финансовой помощи Нишихары и поддержать начатую Китаем кампанию пересмотра всей структуры неравноправных договоров[945]. Британия и Франция поддержали требования Японии еще в январе 1917 года, в ответ на что Япония обещала свое содействие в Средиземном море. В свете этих обязательств Пекина, Парижа и Лондона уже первое обсуждение шаньдунского вопроса завело участников дискуссии в неприятный тупик.
Первые дни Версальской мирной конференции оказались болезненным шоком для представителей Токио. Японцы ранее заявили о своем признании «14 пунктов», но никак не ожидали, что тональность всей конференции окажется столь либеральной. И тем более не могли предположить, что свои претензии им придется излагать в присутствии китайской делегации. Чего добивался Запад? Были ли западные страны всерьез готовы к созданию более равноправного мирового порядка, или, как подозревали правые в Японии, намеревались «заморозить статус-кво и сохранить свой контроль над развитием второстепенных и отсталых стран»?[946] Неясность в этом вопросе придавала особое значение требованию Японии о том, чтобы необходимость обеспечения расового равенства была записана в тексте Статута Лиги Наций. Как и подозревали западные стратеги, такое обращение от имени всех стран Азии давало Японии возможность уйти от своего образа империалистического агрессора. Но прежде всего это был вопрос внутренней политики[947]. Последствия рисовых бунтов 1918 года бесповоротно изменили картину политической жизни в Японии. Массы были возбуждены. В 1919 году видный либеральный политик Озаки Юкио возвратился из поездки в Европу и США в Японию, убежденный в том, что только введение всеобщего избирательного права способно привести к конструктивным изменениям[948]. Но на новом этапе политической мобилизации масс в Японии действовали не только левые[949]. Небывалое возрождение переживал и национализм, обретавший массовый характер. Именно требование правительства Хары о ликвидации расовой дискриминации, с которым оно выступило весной 1919 года, было единственным вопросом, по которому активисты слева и справа имели общее мнение. Как на это будет реагировать Запад?
Еще 9 февраля американский эксперт по юридическим вопросам Давид Х. Миллер произвел запись откровенного обмена мнениями, состоявшегося между полковником Хаусом и лордом Бальфуром по поводу последующих действий японцев. Чтобы упредить японцев, Хаус пытался убедить Бальфура признать поправку к преамбуле Статута Лиги Наций, включив в нее цитату из Декларации независимости о том, что все люди были созданы равными. «Полковник Х. полагал, что такая преамбула, сколь мало бы она ни соотносилась с американской практикой, найдет отклик среди американцев и сделает остальной текст более приемлемым для американского общественного мнения»[950]. Примечательной была реакция Бальфура. Он возразил в том духе, что идея о равенстве всех людей «относится к XVIII веку, и он сам никогда в нее не верил». Дарвиновская революция XIX века преподнесла совсем другие уроки. Можно предположить, что «в определенном смысле… люди в отдельно взятой стране созданы равными». Но предположить, что «человек из Центральной Африки создан равным европейцу», является для Бальфура явной чушью. Хаус не сразу нашелся, что ответить на столь неожиданное заявление. Он не то чтобы не был согласен по поводу Центральной Африки. Но он «не видел, каким образом можно проводить прежнюю политику в отношении Японии». Нельзя было отрицать, что Япония растет, осваивает свои территории, что ей необходимо пространство для развития. Японцев не пустили «ни в одну белую страну», ни в Сибирь, ни в Африку. Что им остается делать? «Им же надо куда-то двигаться». У Бальфура эта важнейшая предпосылка современности сомнений не вызывала. Динамично развивающемуся населению необходимо пространство для развития. Ярый сторонник укрепления англо-японского союза, Бальфур «с глубоким сочувствием» относился к затруднительному положению, в котором оказалась Япония. Но его отношение к Центральной Африке не позволяло ему принять общий принцип равенства. Законные интересы Японии надо обеспечивать иначе. В любом случае было очевидно, что его толкование предложения японцев было гораздо более широким, чем у авторов этого предложения. Конечно, идея о том, что Япония действует в интересах африканцев, вызвала бы возмущение в Токио. Речь шла об отношениях между Европой и Азией, и в частности о праве азиатов действовать наравне с европейцами в вопросах о дележе оставшихся свободных территорий по всему миру[951].
Японская делегация не могла смириться с тем, что ее первая же попытка была попросту отвергнута. В конце марта она выдвинула новый смягченный вариант своих предложений, в котором уже ничего не говорилось о расах, но указывалось лишь на недопустимость дискриминации по национальному признаку. Но теперь японцы очутились в лабиринтах внутренней политики Британской империи. Первая поправка, предложенная японцами, была заблокирована делегатами от Британии – Робертом Сесилом и лордом Бальфуром. Встретив отпор, британцы заговорили о том, что против выступают не они, а австралийцы. Теперь японцы оказались в еще более сложном положении. Как объяснить японской общественности, что столь важный принцип был отвергнут из-за позиции столь малозначимой страны, как Австралия? Лондон продолжал поддерживать «белые доминионы», равно как и Вильсон считал выгодным поддержать в данном случае Австралию. Ему было на руку, с учетом отношения к азиатскому вопросу в Калифорнии, что сначала против выступила Британская империя[952]. Нечего было и думать о том, что Конгресс согласится со Статутом, ограничивающим право Америки запрещать иммиграцию.
Накал страстей достиг высшей точки 11 апреля на заключительном заседании Комиссии Лиги Наций. Японцы уступили и согласились с тем, чтобы поправка в преамбулу ограничивалась призывом к «справедливому отношению ко всем народам». Теперь они могли рассчитывать на поддержку явного большинства в Комиссии. Как отмечали члены французской делегации, они не хотели, чтобы Лондон оказался в неудобном положении, «но просто не могли голосовать за отказ от поправки, воплощавшей не подлежащий обсуждению принцип справедливости». Когда японцы поставили вопрос на голосование, их оппоненты почувствовали себя столь неловко, что просили, чтобы их голоса, поданные против, не вносились в официальный протокол. Как видно из записок Сесила, только печально известный антисемит в составе польской делегации, Роман Дмовский, голосовал в поддержку позиции делегации Британии, чем вынудил Вильсона воспользоваться своим правом председательствовавшего и отклонить поправку на том основании, что она могла быть принята только единогласно[953]. Таким образом, поправка, предложенная японской делегацией и поддержанная большинством голосов, была отклонена[954]. И если Хаус с радостью отметил, что «англосаксонское упорство позволило британцам и американцам вместе выступить против большинства», то у Сесила этот эпизод явно оставил неприятный осадок[955].
II
Унижение, нанесенное Японии при обсуждении Статута Лиги Наций, не могло не сказаться на мирном процессе в Азии[956]. 21 апреля, через десять дней после того, как американцы и британцы наложили вето на предложение, обеспечивавшее расовое равенство, в Токио собрались дипломаты, чтобы выработать стратегию поведения на заключительном этапе переговоров. В свете унижения, которому подверглась Япония, совет дипломатов решил, что если ей не будет гарантирована передача германской концессии на Шаньдунском полуострове в Китае, то она должна пригрозить тем, что покинет конференцию. Ранее, в ходе переговоров в Париже, Япония обеспечила себе справедливую долю владений в германских колониях на тихоокеанских островах. Япония получила соответствующий мандат наравне с Британией и Францией. Но особое значение приобретал Китай. Министр иностранных дел виконт Учида направил в адрес делегации телеграмму, в которой указывал на то, что «обеспечение достоинства нашего правительства не допускает никаких примирительных жестов»[957].
Когда в конце апреля к этому вопросу вернулись, вполне предсказуемым стало заявление западных стран о необходимости «интернационализации» Шаньдуня[958]. Для этого необходимо было разработать систему выдачи мандатов. Примером мандатной системы могло стать предложение Яна Смутса в отношении Центральной Европы, но его отклонили. В январе эту систему использовали для того, чтобы распределить фрагменты Германской и Османской империй между Британской империей, Францией и Японией. Но ситуация вокруг Шаньдунского полуострова была совершенно иной. Япония с негодованием отвергла саму мысль о введении такой системы[959]. Мандаты предназначались для «колоний… где туземцам недоступны блага современной цивилизации… а Китай представляет собой страну с развитой культурой», поэтому на него следует распространять совершенно другие принципы[960]. Если говорить более конструктивно, то делегация Японии пыталась донести до Вильсона, что она представляет правительство, принадлежащее «умеренному» крылу японских политиков, готовых рассматривать фундаментальные изменения мирового порядка в Восточной Азии. Поэтому особое сожаление вызывает то, что из них пытаются сделать козла отпущения при решении вопроса о китайском национализме. Западные державы не могут выступать в защиту прав Пекина, следуя принципу равенства государств, и в то же время позволять китайской делегации игнорировать, ссылаясь на ее некомпетентность, договоры, подписанные ее же правительством всего несколько месяцев назад. Как заявил один из японских делегатов Роберту Лансингу, «смешно, когда страна с населением в 400 миллионов жалуется повсюду, что ее вынудили подписать договор»[961]. Япония требовала всего лишь выполнения Китаем своих договорных обязательств. Представители Японии покинут мирную конференцию в случае, если права Японии не будут признаны. В отличие от итальянцев, японцы решили не усложнять ситуацию дополнительными требованиями. И они могли рассчитывать на симпатию со стороны Британии и Франции. Сайондзи обращался непосредственно к своему старому другу Жоржу Клемансо, надеясь, что тот поймет, какое давление на него оказывают в самой Японии[962].
Вильсону очень не хотелось, чтобы сразу две делегации (японская и итальянская) покинули конференцию в течение одной недели[963]. Он не делал народу Японии сомнительных комплиментов, обращаясь к нему через голову японского правительства, как он поступил в случае с Италией. 22 апреля все доводы оказались в пользу Японии. Китайской делегации было указано на то, что, несмотря на симпатии западных стран к Китаю, ему следует соблюдать условия договора, заключенного ранее с Японией[964]. Стремясь смягчить удар, Япония пошла на компромисс, предложенный Британией, и публично заявила, что хочет получить лишь экономические привилегии, которыми раньше пользовалась на Шаньдунском полуострове Германия, не претендуя при этом на постоянный административный контроль над территорией полуострова[965]. Но при том накале страстей с обеих сторон этого было явно недостаточно. Даже приезд делегации с извинениями от лица Вильсона не остановил китайцев, и они, ссылаясь на положения «14 пунктов», заявили Совету четырех официальный протест[966].
Китайская элита была заинтересована в том, чтобы получить международное признание, и была готова заплатить за это практически любую цену. Поэтому вопрос можно было бы считать закрытым, если бы не развитие событий в самом Китае. После унизительного ультиматума «21 пункта», который Япония выдвинула в 1915 году, в китайских городах неоднократно проходили массовые протесты националистов. 4 мая 1919 года, когда в Китае стало известно о решении шаньдунского вопроса в пользу Японии, поднялась невиданная со времен революции волна массового возмущения[967]. Неудивительно, что обнародованные в Париже подробности договоренностей между Пекином и Японией вызвали возмущение происходившим не только за пределами страны, но и в самом Китае. Главный лозунг протестующих был обращен в обе стороны: «защитим суверенитет страны от посягательств извне, свергнем предателей, действующих внутри страны»[968]. В столице была дотла сожжена резиденция китайского министра финансов Цао Жулиня, распорядителя предоставленных Нишихарой японских кредитов. Считается, что в волнениях приняли участие не менее половины всех студентов, проживавших в Пекине, включая студенток женского педагогического колледжа[969]. Студентов поддержали не только радикалы из числа молодежи. Политики и военачальники, которые эпизодически встречались на проводимой при посредничестве Японии конференции по вопросам мира между Севером и Югом, на экстренном заседании дали поручение членам делегации на переговорах о мире в Париже заявить о том, что «если мирная конференция… откажется поддержать позицию Китая, то 400-миллионный китайский народ… никогда не признает решений этой конференции»[970].
Эта беспрецедентная волна протестов привела к тому, что находившиеся в Париже дипломаты оказались в совершенно невыносимом положении. Ку выбивался из сил, чтобы Китай был включен в число стран, создавших новый мировой порядок. Но он не мог подписать Версальский договор, если в него не будут включены оговорки, касавшиеся Шаньдуна. Вильсон и Ллойд Джордж не допускали такой возможности. Сделать исключение для Китая означало поставить всю конференцию под угрозу провала. В Пекине МИД был вынужден сообщить протестовавшим провинциям, что Китаю в любом случае придется подписать договор, чтобы сохранить баланс интересов. После того как Китай обеспечит себе место в Лиге Наций, другие члены этой организации, по мнению китайцев, изберут Китай в качестве члена Совета Лиги Наций, и тогда Китай сможет добиваться пересмотра этого вопроса. Но ответом на эти объяснения стало возобновление студенческих демонстраций и забастовок. В Пекине пришлось ввести военное положение, более тысячи участников акций протеста были задержаны. В начале июня президент Сюй Шичан, придерживавшийся консервативных позиций, пережил шок, увидев у своей резиденции толпу юных женщин, требовавших освобождения задержанных однокурсников. Торговцы в знак солидарности создали общекитайскую ассоциацию и объявили бойкот японским товарам[971]. В Шанхае протесты на принадлежавших иностранным владельцам текстильных фабриках привели к тому, что на улицы вышло предположительно не менее 70 тысяч рабочих, объявивших первую в истории Китая массовую политическую забастовку. Находившиеся в Америке китайские студенты тоже решили внести свою лепту в общее дело и начали осаду здания Конгресса, где нашли на удивление доброжелательную аудиторию в лице республиканцев, всегда готовых обвинить Вильсона в излишней мягкости по отношению к «японскому империализму».
10 июня было отправлено в отставку правительство Цзян Ненцзюна, а на следующий день в отставку подал президент Сюй Шичан[972]. Часть задержанных оказалась на свободе, но протесты националистов не ослабевали. 24 июня правительство Китая скромно заявило о своей «стратегии», предоставляющей китайской делегации в Париже право самостоятельного принятия решений. К этому времени большинство высокопоставленных членов китайской делегации переехали в расположенный в окрестностях французской столицы санаторий, предоставив остальным членам делегации, проживавшим в гостинице на бульваре Распай, наблюдать пикеты, организованные разъяренными студентами. 27 и 28 июня пекинское правительство, а затем и члены делегации в Париже приняли независимо друг от друга решение о том, что Китай не будет подписывать Версальский договор.
III
Японская делегация Версальский договор подписала, и Япония по праву вошла в состав Совета Лиги Наций. Теперь ее статус ведущей державы был неоспорим. Но этот статус дался Японии дорогой ценой. Правые националисты, дважды столкнувшиеся с отказом принять предложение о расовом равенстве и принявшие на себя все презрение, вызванное японской позицией по Шаньдуню, спровоцировали ожесточенное контрвыступление. В начале 1919 года генерал Угаки Казушиге, подчинявшийся Танаке, высказался следующим образом: «Британия и Америка, действуя через Лигу Наций, пытались связать военную мощь других стран и ущемить их интересы, прибегнув к своему испытанному средству – капитализму. Я не вижу большой разницы между военным завоеванием и капиталистическим ущемлением интересов других стран»[973]. Японии следует не откладывать свой меч, а быть готовой дать ответ. В октябре 1921 года трое молодых японских военных атташе встретились в германском Баден- Бадене, чтобы поговорить о том, какой пример подают Японии европейские страны. Эти будущие лидеры правого крыла японского милитаризма сочли концепцию Людендорфа о новой эре тотальной войны между мировыми силовыми блоками наиболее вдохновляющей концепцией из числа появившихся в результате Первой мировой войны. Молодые офицеры, находившиеся в Германии после окончания войны, а среди них был и Тодзе Хидеки, японский лидер периода Второй мировой войны, часто становившийся объектом осуждения, видели в этой концепции будущее борьбы Японии против западных держав[974]. Их борьба будет сопровождаться значительными экономическими потерями, как это происходило и с имперской Германией. Они получат компенсации, с одной стороны, установив в Китае зону автаркического правления, а с другой, мобилизовав армию вокруг жесткой самурайской этики, которая представляет «путь воина (бусидо) как поиск смерти»[975]. Но такая реакция не получила широкого распространения даже среди националистов, враждебно воспринявших новый западный порядок. Что бы ни думали о лицемерии Запада, мощь, которой он располагал, требовала уважения. Угаки, в неменьшей степени, чем премьер-министр Хара, был убежден в том, что «в обозримом будущем мир будет подчинен англо-американским реалиям»[976].
В самом Китае отказ Пекина от участия в Версальском договоре встретили действительно редким проявлением национального единства. Правда, возникал вопрос, каким образом, кроме демонстрации патриотических настроений, Китай обеспечит себе место в новом мировом порядке. К счастью для Китая, в 1917 году Пекин объявил войну не только Германии, но и империи Габсбургов. На не столь заметных мирных конференциях, проходивших в окрестностях Парижа, где ставки были не так высоки, как в Версале, Китай мог проводить более конструктивную дипломатию. Следуя принятой еще в мае позиции, Китай настаивал на том, что государствам, выступавшим в роли наследников империи Габсбургов, нужно отказаться от привилегий, на которые обычно претендуют западные державы[977]. 10 сентября 1919 года стало важным днем в истории китайской дипломатии военного и послевоенного периодов: в Сен-Жермене был подписан договор между Китаем и Австрией. В преамбуле этого договора, как и в преамбуле Версальского договора, содержались положения Статута Лиги Наций, что предоставляло Китаю все права члена организации. На первом заседании Генеральной ассамблеи Лиги Наций, состоявшейся в декабре 1920 года, Китай, как страна с самой большой численностью населения, подавляющим большинством голосов был избран в Совет.
Годом ранее, в декабре 1919 года Китай успешно заключил свой первый международный договор о дружбе с Республикой Боливия, в котором ясно говорилось о равном статусе и недопустимости экстерриториальности. К марту 1920 года Китай установил дипломатические отношения с Веймарской республикой. В июне 1920 года Пекин заключил аналогичный договору с Боливией договор с Персией. В мае следующего, 1921 года переговоры с Берлином закончились подписанием торгового соглашения, в котором признавалась независимость тарифной политики обеих сторон. Китай был лишен свободы при выборе тарифов по условиям неравных договоров XIX века. Германия лишалась этого права в соответствии с Версальским договором. Для таких радикально настроенных студентов, как Мао Цзэдун, параллели между положением Китая и Веймарской республики выглядели убедительно[978]. Обе страны стали жертвами западного империализма. Тогда Сунь Ятсен, лидер националистов и давний поклонник Бисмарка и германского организованного капитализма, пошел на следующий шаг. В 1923 году он пытался наладить сотрудничество между Веймарской республики и Пекином, говоря, что «лучшим способом сбросить иго Версаля будет содействие созданию великой, сильной и современной армии в Китае», чтобы он мог стать «своего рода невидимой силой на Дальнем Востоке, готовой» прийти на помощь Германии[979].
Правда, для того, чтобы представить китайско-германский союз действенным средством освобождения обеих стран, требовалось богатое воображение. Китай нуждался в рычагах воздействия в Азии. В системе внешнего надзора за Китаем, которую пытались построить западные державы, не хватало одного звена – России. Россия была разрушена в результате гражданской войны и не участвовала в версальском процессе. Мог ли в этих условиях Пекин использовать переговоры с Москвой для того, чтобы пробить брешь в системе неравноправных договоров?
Еще в июле 1918 года, когда борьба вокруг Брест-Литовского договора приближалась к высшей точке, комиссар Георгий Чичерин заявил о том, что советская власть отказывается от всех претензий на экстерриториальную неприкосновенность в Китае. Год спустя это обещание подтвердил заместитель наркома Лев Карахан. Пользуясь языком «петроградской формулы» мира 1917 года, он обещал, что советская власть отказывается от всякого рода «аннексий… и подчинения других народов, а также от любых контрибуций[980]. Через какое-то время военная фортуна вновь повернулась к Советам, и Кремль начал задумываться над сделанным ранее заявлением. Однако Китай решил воспользоваться этим случаем. Весной 1920 года перевод заявления Карахана появился в широкой печати и вызвал сенсацию. 27 мая 1920 года в так называемом Протоколе Йили, подписанным участниками китайско-советских переговоров, состоявшихся в северо-западной китайской провинции Синьцзян, Советы выразили свое согласие с двумя требованиями, выдвинутыми Китаем, которые были отвергнуты западными странами: полной свободой при определении тарифов и переходом под китайскую юрисдикцию русских, проживавших в Китае. Вскоре после этого Китай в одностороннем порядке прекратил выплаты России компенсаций за ущерб, нанесенный в ходе Боксерского восстания. Затем Китай отозвал свое признание неприкосновенности того, что оставалось от царского посольства в Китае, а 25 сентября 1920 года китайские войска взяли под свой контроль русский сектор европейской концессии в северном портовом городе Тяньцзинь, подняв над ним государственный флаг Китая.
Тогда же Пекин взял под свой контроль северо-восточную границу, направив в Харбин вооруженный отряд полиции, который заставил русских чиновников, обеспечивавших правосудие на всей территории принадлежавшей России Китайской Восточной железной дороги, покинуть здание суда. Кроме того, 1400 миль железнодорожных путей, представлявших собой последний отрезок Транссибирской железнодорожной магистрали, имели особое стратегическое значение для северо-восточного Китая. Захват Харбина был прелюдией для дальнейшего агрессивного расширения китайского влияния. В декабре Пекин взял «под общий контроль» управление железной дорогой и запретил русскому персоналу «любую политическую деятельность»[981]. Выдвижение подобных требований, не говоря уже об их рассмотрении, стало серьезной проверкой изменившегося в результате развала России баланса сил. Удастся ли Китаю закрепить эти изменения навсегда, будет зависеть от западных держав, Японии и России.
18 Фиаско Вильсона
10 июля 1919 года, представляя в Сенате Версальский договор, Вильсон не скупился на образные выражения. «Сцена готова, приоткрыта завеса судьбы. События развивались по плану, недоступному нашему пониманию: этим путем мы шли по воле Провидения. И мы не можем свернуть с этого пути. Мы можем двигаться только вперед, обратив наши взоры к небу и вдохновляясь явленным нам видением. Именно так мы и появились на свет. Воистину, Америка укажет путь. Свет освещает путь вперед и только вперед…Может ли наш народ или другие свободные народы отказаться от выполнения этого великого долга?.Осмелимся ли мы своим отказом разбить сердце мира»?[982] Тон был возвышенным, но Вильсон не преувеличивал. И победители, и побежденные видели в США основу нового порядка. Вильсон намеревался покинуть Париж 26 июня, и Ллойд Джордж направил ему последнее отчаянное письмо, в котором заклинал Вильсона предоставить доверие американского правительства «в распоряжение народов в целях восстановления всего мира»[983]. Но от Вашингтона зависело не только восстановление финансов. Мир между Францией и Германией зависел от совместных гарантий безопасности, подтвержденных Лондоном и Вашингтоном. В Азии премьер-министр Японии Хара связывал свою внешнюю политику с Вашингтоном, а Китай ожидал нужных ему перемен от Лиги Наций. То же самое происходило и в Германии, надежды которой Вильсон не оправдал, но где понимали, что лишь ценой своей подписи Германия сможет добиться создания международных структур, способных пересмотреть ненавистный Версальский договор.
Однако по возвращении Вильсона в США стало ясно, что серьезной схватки в Конгрессе не избежать. С первых своих шагов в политике Вильсон размышлял о заложенном в американской конституции разделении властей. В политику его привело понимание того, что американское государство достигло поворотного момента, требующего творческого президентского правления. Начиная с 1913 года Вильсон по-новому подходил к президентским полномочиям, стремясь направить действия Конгресса и мобилизовать общественное мнение. Он создал новый аппарат управления национальной экономикой, которой теперь в первую очередь и главным образом управляла ФРС. Война привела к вмешательству государства во все сферы жизни Америки. 1919 год стал не только годом проверки Конгресса на примере ратификации Версальского договора, но и годом испытания для всего политического проекта Вильсона в целом. Паралич, возникший в результате противостояния Белого дома и Сената, осложнялся самым суровым полномасштабным социально-экономическим кризисом, с которым Америка столкнулась со времен тяжелого периода рецессии и мобилизации всех сил страны в 1890-х годах. В этот катастрофический момент стала очевидной не только центральная роль США в мировой политике, но и немощь американского государства, не позволявшая ему превратиться в центр нового мирового порядка. История Америки перестала быть драмой внутреннего характера. Политический и экономический кризис послевоенной Америки имел глобальные последствия.
I
Вильсоновские пропагандисты изображали «сражение за договор» как второй раунд в развернувшейся борьбе между президентским идеализмом и цинизмом «старых политиков»[984]. Первый раунд состоялся в Париже, второй пройдет в самой Америке. Изначально преимущество было не на стороне Вильсона. Уступки, на которые он пошел в ответ на требования Японии и Антанты, подрывали легитимность Версальского договора. Разочаровавшись в Вильсоне, его покинули друзья из числа левых. Даже прогрессисты из «Новой Республики» отказывались признавать свою причастность к договору. В течение сентября 1919 года Генри Кэбот Лодж, лидер республиканцев в Сенате, не давал Вильсону покоя, действуя через Комитет по международным делам. Желая продолжить вендетту, Лодж собирал свидетельства о недовольстве всех меньшинств, проживавших в Америке. Он даже воспользовался разочарованием бывших сторонников Вильсона, таких как юный Уильям Буллит, который публично озвучил неприятные детали разногласий между Вильсоном и госсекретарем Робертом Лансингом[985]. Это была борьба на выбывание. Страдавший от гипертензии президент рисковал своей жизнью. Пытаясь обойти Сенат и восстановить прямую связь с американским народом, Вильсон отправился в изнурительную поездку по стране, в ходе которой разъяснял необходимость ратификации договора. В самую жару в разгар бабьего лета первые приступы недомогания заставили президента 26 сентября прервать поездку по западным штатам. В ноябре, когда состоялось решающее голосование в Сенате, частично парализованный Вильсон был прикован к постели.
Для критиков президента сама по себе сюжетная линия героического провала президента служила показателем его искаженного понимания действительности. Впоследствии главный свидетель Лоджа Буллит будет искать утешения после столь ощутимого провала на кушетке психоаналитика Зигмунда Фрейда. Вместе Буллит и Фрейд выступят соавторами психологической биографии, посвященной анализу причин неудач президента, как человека, живущего в воображаемом мире, в котором преобладает язык, сформированный его деспотичным отцом-пресвитерианцем[986]. Республиканцы и демократы, заинтересованные в компромиссе, считали президента упрямцем. Большинство в Сенате было готово поддержать договор. Но для этого было необходимо набрать две трети голосов. Конечно, существовало и непримиримое изоляционистски настроенное меньшинство. Но не оно лишило Вильсона мира, к которому тот стремился. Главную опасность для Вильсона представляли лидеры основной массы республиканцев, которых нельзя было обвинить в изоляционизме. Они выступали за более активную позицию в войне, чем та, которую занимал Вильсон. Даже выступая с критикой Статута Лиги Наций в Сенате 12 августа 1919 года, Лодж в своей возвышенной речи, выдержанной в резких тонах, которые редко использовал Вильсон, говорил о США как о «самой большой надежде всего мира»[987]. Как и Тедди Рузвельт, он иногда чувствовал готовность рассмотреть возможность создания трехстороннего союза с Британией и Францией. В 1919 году в пользу Лиги Наций активно выступали и другие видные республиканцы. Большинство в две трети членов Сената было готово поддержать договор, но с оговорками, прежде всего касавшимися статьи 10 Cтатута Лиги Наций, в которой говорилось о коллективной помощи в случае агрессии против членов Лиги Наций. Эти члены Конгресса требовали, чтобы именно за ними оставалось решающее слово при принятии решения о коллективных действиях. Недостаточно ясная формулировка в тексте Статута позволяла интерпретировать эту статью именно так. Вот почему главным препятствием на пути достижения компромисса оказался сам Вильсон, который настаивал на том, что договор должен быть либо принят полностью, либо не принят вообще.
19 ноября в ходе первого решающего голосования в Сенате республиканцы отклонили договор, а находившиеся в меньшинстве демократы, действуя согласно указаниям Вильсона, заблокировали предложение принять договор с оговорками. Это противостояние в Сенате продолжалась 5 месяцев. 8 марта 1920 года Вильсон подтвердил свой отказ пойти на уступки республиканскому большинству, а в ходе голосования, состоявшегося 19 марта, Сенату так и не удалось собрать две трети голосов, необходимых для принятия договора в его начальном варианте или с поправками.
То, что договор не удалось ратифицировать даже с поправками, безусловно, во многом стало результатом действий самого Вильсона. Правда, даже если бы президент пошел на компромисс, было не очевидным, что оговорки, которых требовал Лодж, окажутся приемлемыми для Антанты[988]. И дело было, конечно, не в статье 10. Британцам диктат Совета Лиги Наций был нужен не больше, чем Лоджу. Более серьезные проблемы сулила позиция Лоджа, настаивавшего на том, что Америка не может быть связана решением, при принятии которого у Британской империи коллективно окажется более одного голоса. Лодж также хотел отказать Японии в ее претензиях на Шаньдунский полуостров. Единственным способом избежать тупика, возникшего осенью 1919 года, было включить республиканцев в состав делегации на переговорах в Париже. Многие критиковали Вильсона за то, что он лично возглавил делегацию США в Париже и не допустил участия в переговорах самых неудобных для него представителей республиканской партии. И в этом случае сыграли свою роль личные амбиции. Правда, нарастающая жесткость полемики в ходе выборов 1916 и 1918 годов делала маловероятным формирование делегации с участием представителей обеих партий. На тех выборах внешняя политика была политизирована как никогда прежде.
Но в «сражении за договор» речь шла о нечто большем, чем о простом конфликте между партиями. Разногласия между Вильсоном и республиканцами не были разногласиями между либералами-интернационалистами и закосневшими изоляционистами, хотя и это имело место. Вильсон представлял себе США в роли смотрителя за мировым порядком, в то время как взгляды республиканцев на мирный процесс были ближе к взглядам европейцев. Невнятным обязательствам, заложенным в Статуте Лиги Наций, Лодж гораздо больше предпочитал развитие союза, сложившегося еще во время войны между Америкой, Британией и даже Францией. Если Америке предстоит взять на себя новые жесткие международные обязательства, то она должна ясно представлять, с какими ограничениями в ее собственной политике это будет связано. Союзы военного времени имели разумное обоснование, которое было вбито в переменчивое сознание демократического американского электората[989]. В противоположность этому, Лига Наций представлялась чем-то весьма неопределенным. Мыслившие юридическими категориями республиканцы-интернационалисты, такие как Элиу Рут, относились к формулировкам, содержавшимся в Статуте Лиги Наций, намного серьезнее, чем это мог себе представить Вильсон[990]. Они считали, что Америке грозят последствия взятых ею на себя юридических обязательств перед организацией с непонятными принципами. Допускающие изменения обязательства общего характера, содержавшиеся в статье 10, не требовали согласия Сената. Имеются свидетельства того, что Вильсон на самом деле видел в Лиге Наций способ освободить Америку от тесных объятий ее партнеров из Антанты. Об этом он говорил и в Белом доме во время ланча с лидерами Сената в середине августа, указывая на то, что статья 10 подразумевает лишь моральные обязательства[991]. Если же Соединенные Штаты с самого начала будут открыто отстаивать свой суверенитет, то они потеряют возможность руководить мнением мировой общественности[992].
В начале 1920 года, оправившись от гипертонического криза и шока, вызванного первым отказом Сената одобрить договор, Вильсон дал ясно понять, что намерен и впредь выступать в роли лидера. В период с 7 по 30 октября 1919 года все великие державы, признанные в Версале (Италия, Британская империя, Франция и Япония), ратифицировали договор с Германией. Но это было лишь началом длительного и сложного процесса выполнения договора. Кроме того, предстояло уладить вопрос вокруг Адриатики, а также определить отношения с Османской империей. Несмотря на то что Сенат не утвердил договор с Германией, а США не вступали в войну с Османской империей, Вильсон и на этот раз пожелал выступить в роли арбитра. Казалось, что теперь, когда последний раунд конфронтации с Сенатом близился к завершению, для Вильсона стало еще важнее решительно продемонстрировать свое влияние на внешний мир.
В феврале 1920 года президент неожиданно наложил вето на компромисс в решении вопроса о Фиуме, в котором в качестве посредников выступали Британия и Франция, посчитав, что Италия получает чрезмерные преимущества, и пригрозив полным уходом Америки с европейской арены. Затем Вильсон выразил свое несогласие с агрессивной политикой, которую Британия проводила в Турции. Но наибольшее давление было направлено на Францию. 9 марта в открытом письме лидеру сенатского меньшинства Гилберту М. Хичкоку, который готовил последнюю попытку ратифицировать договор, президент указал на то, что вызывавшая столько споров статья 10 в равной степени направлена как против возрождающегося милитаризма Франции, так и против Германии. Несмотря на протесты Парижа и оппозиции в Сенате, Вильсон не изменил своей позиции даже тогда, когда четыре дня спустя произошел военный переворот, и не во Франции, а в Германии. При всей очевидной опасности капповского путча, Вашингтон отклонил вето Парижа и одобрил запрос Берлина направить в Рур дополнительные контингенты рейхсвера и добровольческого корпуса для подавления Красной армии. Когда в ответ на это в апреле Франция оккупировала Франкфурт, Вильсон отозвал из сената договор, гарантировавший безопасность Франции, некоторые сенаторы хотели заменить им так и не ратифицированный мирный договор[993].
Для Лондона и Парижа внезапный возврат Вильсона к жесткой дипломатии оказался ощутимым шоком. В ретроспективе мы знаем, что политическое наследие Вильсона было обречено. Однако похоже, что сам он воспринимал повторный отказ Сената ратифицировать Версальский договор в марте 1920 года и конфронтацию с Францией как часть продолжавшейся борьбы, в которой, как всегда, переплетались внешняя и внутренняя политика. Несостоявшийся договор давал ему возможность воздействовать на ситуацию в Европе. Противостояние президента и Сената допускалось конституцией США[994]. Вильсон считал, что в моменты кризиса роль президента состояла в том, чтобы выступать в качестве переводчика истинной воли американского народа, противопоставляя этот личный взгляд партийным интересам, представленным в Конгрессе. После первой схватки в Сенате Вильсон всерьез рассматривал возможность пойти на беспрецедентный шаг и предложить оппозиционной группе уйти в отставку в полном составе, запустив тем самым механизм проведения референдума по вопросу о договоре. Уже отказавшись от этой необычной идеи, Вильсон смотрел на всеобщие выборы 1920 года как на «великий и торжественный референдум» по вопросу о будущей роли Америки в мире[995]. В данном случае он не только недооценивал неопределенность и нестабильность, которые сам привносил на международную арену. Он переоценивал значение своей харизмы во внутренней политике. Он трагическим образом переоценивал свои собственные физические силы. Но, что еще более важно, рассчитывая на понимание электората, он не осознавал взрывоопасности той социально-экономической ситуации, которая складывалась после войны. Осень 1919 года стала временем крушения не только внешней политики Вильсона, но и его видения будущего самой Америки.
II
В 1916 году, находясь на пике своего растущего энтузиазма, Вильсон обещал создать новый стиль управления, который, в отличие от прежнего, будет сосредоточен непосредственно на повседневных материальных заботах людей, выходить за обычные политические рамки[996]. Идея о том, что концентрация на экономических и социальных вопросах приведет к деполитизации общественной жизни, не имела будущего даже в самые лучшие времена. В 1919 году последствия мобилизации военного времени в сочетании с узкопартийной риторикой превратили вопросы, связанные с заработной платой, управлением в промышленности и состоянием сельского хозяйства, в предмет ожесточенных споров. В июле 1919 года, когда Вильсон только вернулся из Парижа, всего в нескольких кварталах от Белого дома были подожжены целые кварталы, в которых проживали афроамериканцы. Число забитых насмерть, застреленных или сгоревших заживо составило 15 человек. В Чикаго погибли 38 человек[997]. Тысяча семей афроамериканцев осталась без крова. В общей сложности летом 1919 года самые массовые со времен Гражданской войны расовые беспорядки охватили 25 американских городов. Банды белых совершали нападения на военнослужащих-афроамериканцев и недавно поселившихся в северных городах Америки мигрантов, ставших символами социальных перемен военного времени.
У Вильсона имелись свои взгляды на расовый вопрос, но он был категорически против действий толпы и понимал, насколько серьезно эти события ставят под сомнение притязания Америки на прогрессивное лидерство. Годом ранее, 26 июля 1918 года, после угрожающего роста числа случаев самосуда он выступил с президентским обращением к государственным прокурорам, в котором суд толпы осуждался как «удар, направленный прямо в сердце законного порядка и человеческой справедливости»[998]. В своих работах Вильсон как историк оправдывал изначальную идею Ку-клукс-клана. Но его создание, по мнению Вильсона, стало актом самообороны в период беззакония после Гражданской войны, начало которому было положено безрассудными и преступными подстрекательскими действиями радикально настроенных республиканцев в Конгрессе[999]. В обычных условиях, «когда суды открыты, когда правительства штатов и федеральное правительство готовы и в состоянии выполнять свой долг», подобное недопустимо. «Страсти, не ограниченные действием закона» – именно против этого сражалась Америка в Европе. «Германия поставила себя вне закона, потому что пренебрегла священными законными обязательствами и превратила свои армии в линчевателей…Как мы можем рассказывать о преимуществах демократии другим народам, – продолжал Вильсон, – когда мы позорим себя, показывая, что в конечном счете слабый не может рассчитывать на защиту?» Каждый случай самосуда – это подарок для германской пропаганды. «Они могут сказать, что по крайней мере подобные вещи в Германии случиться не могут, за исключением революционных времен, когда закон перестает действовать»[1000].
В 1919 году, столкнувшись с охватившими всю страну расовыми беспорядками, Национальная лига за равные права повернула эти слова против самого Вильсона. Черное расовое меньшинство Соединенных Штатов требовало такой же защиты, которую Вильсон «заставил обеспечить Польшу и Австрию по отношению к проживающим в них расовым меньшинствам»[1001]. Разумеется, это было невозможно. Вильсон призывал всего лишь должным образом обеспечивать выполнение требований закона. ФБР со своей стороны решило, что его роль состоит не столько в преследовании главарей расистских группировок, сколько в отслеживании чернокожих радикалов и их планов проведения подрывных акций международного масштаба[1002]. Летом 1919 года к опасениям расового характера добавилась и вездесущая «красная угроза».
В 1918 году проводимая республиканцами промежуточная выборная кампания привела к разжиганию антибольшевистской агитации. Организованная в феврале 1919 года общегородская забастовка в Сиэтле стала общенациональной сенсацией. Американским властям враги мерещились повсюду. 19 февраля стрелок-одиночка ранил в Париже Клемансо; это дало секретным службам США повод для того, чтобы со всей силы обрушиться на организацию «Индустриальных рабочих мира» (ИРМ) и воинствующих суфражисток[1003]. 2 июня 1919 года взрывом бомбы было разрушено парадное крыльцо дома, принадлежавшего Генеральному прокурору А. Митчелу Палмеру[1004]. Одновременно прозвучали взрывы еще в шести городах. В течение лета истерия охватила всю страну. На активистов ИРМ были совершены жестокие массовые нападения. 30 июня 1919 года Палмер рекомендовал Вильсону не выпускать на свободу Юджина Дебса, добропорядочного социалиста и антивоенного активиста, который в сентябре 1918 года был осужден на десять лет тюрьмы по обвинению в подрывной деятельности. Палмер считал, что освобождение Дебса «будет использовано многими оппонентами мирного договора как доказательство особой снисходительности к нарушителям закона из числа радикальных элементов…» Оно может «настроить многих людей против либеральных норм трудового законодательства, содержащихся в Договоре»[1005]. Вместо того чтобы помиловать Дебса, Палмер развернул кампанию расследований, арестов и депортаций, достигшей апогея 2 января 1920 года, когда в 33 городах по всей стране под арест попали, как предполагается, 3 тысячи человек из числа родившихся за границей и подозреваемых в радикальной деятельности[1006].
Можно предположить, конечно, что вместо столь консервативного поворота администрация Вильсона могла возобновить работу в более прогрессивном направлении. Сам Палмер был опытным специалистом по вопросам трудового законодательства. Союз с трудовыми организациями был ключевым элементом платформы «Новой свободы» на выборах 1912 года, а на выборах 1916 года, на которых Вильсон победил с незначительным преимуществом, этот союз обрел еще большее значение. Начиная с 1917 года роль, которую играла возглавляемая Сэмьюэлем Гомперсом Американская федерация труда (АФТ), выступавшая в качестве партнера при переводе экономики на военные рельсы, казалось, обещала трудовым организациям новое положение в их отношениях с государством и частным бизнесом[1007]. Летом 1919 года демократов призывали еще более укрепить эти отношения, приняв федеральный закон о признании профессиональных союзов. Повсюду слышались разговоры об «индустриальной демократии» и «изменении отношений». Да и Вильсон не возражал против того, чтобы использовать давление общественности для усиления контроля со стороны федеральных органов в ключевых секторах. В июле 1919 года он признавался своему шурину, Сэмьюэлю Е. Эксону, что «скорее всего, придется объявить государственной собственностью некоторые виды сырья: уголь, гидроэнергетические ресурсы, а также, возможно, железные дороги. Некоторые, услышав такие слова, сочтут меня социалистом», но это не заставило Вильсона изменить свои позиции[1008]. Однако американские промышленники и их друзья-республиканцы видели тут слабые места. Станут ли демократы поддерживать трудовые организации, если работодатели решатся на выступления против федерального правительства, создав тем самым угрозу возникновения серьезной напряженности в обществе?
Контратака деловых кругов началась после окончания войны. Еще в декабре 1918 года такие компании, как General Electric, начали сворачивать концессии, полученные в течение предыдущих полутора лет. Аппарат промышленного арбитража, действовавший во время войны, сначала затих, а затем начал действовать против профсоюзов. Профсоюзы сопротивлялись: по всей стране прокатилась невиданная ранее в Америке волна забастовок. В 1919 году в кратковременных забастовках участвовал каждый пятый промышленный рабочий. Однако их шансы были невелики, особенно в сталелитейной промышленности, где профсоюзы находились в чрезвычайно сложном положении. Со времени самой крупной забастовки, состоявшейся в 1892 году в Хомстеде, в сталелитейной отрасли упорно отказывались признавать профсоюзы партнерами по переговорам. Такое положение сохранялось на протяжении всей войны. В конце августа 1919 года, несмотря на обращение самого президента Вильсона, один из основателей компании US Steell, Элберт Генри Гари, известный как «судья Гари», отказался от публичного рассмотрения дела в арбитражном суде. Администрация президента, пытаясь предотвратить открытое столкновение, призывала обе стороны к согласию. Надеясь разрядить обстановку, Вильсон пообещал провести промышленную конференцию для обсуждения «основных средств улучшения общих отношений между трудом и капиталом»[1009]. Однако работодатели продолжали упорствовать, и 22 сентября началась вторая крупная забастовка в сталелитейной промышленности. К концу недели в ней участвовали 365 тысяч человек. В ответ работодатели применили силу. В промышленные районы Пенсильвании в подкрепление полицейским силам была направлена 25-тысячная армия частных охранных агентств. В городе Гари (штат Индиана), где располагалась компания US Steell, было объявлено военное положение[1010]. Промышленная конференция Вильсона состоялась 11 октября в самый разгар кампании запугивания. Не выдержав атмосферы насилия и угроз, обычно сговорчивый босс АФТ Гомперс покинул конференцию.
В тот же день под нажимом министра труда в Вашингтон для проведения переговоров прибыли шахтеры и угольные магнаты – в надежде предотвратить вторую крупную забастовку. Но и эти переговоры были сорваны, и объединение горнорабочих назначило забастовку на 1 ноября. Вильсон, в это время прикованный болезнью к кровати, поддавшись растущему влиянию Палмера, осудил забастовку шахтеров, назвав ее «совершенно неверной с точки зрения морали и закона» и попыткой вымогательства в преддверии холодных зимних месяцев[1011]. Воспользовавшись полномочиями военного времени, срок действия которых считался завершенным с заключением перемирия, Палмер запретил объединению горнорабочих участвовать в забастовке. Это привело к тому, что Американская федерация труда и Конгресс производственных профсоюзов (АФТ – КПП) заняли еще более жесткую позицию и, игнорируя Палмера, выступили в поддержку 394 тысяч шахтеров, откликнувшихся на призыв к забастовке. Но Палмер не ослаблял нажим, а члены американского рабочего движения, как и их коллеги в Британии, не были готовы к полномасштабной конфронтации. 11 ноября руководство объединения горнорабочих было вынуждено признать, что «как американцы… рабочие не могут воевать с собственным правительством». После того как в дело вмешался министр труда, принявший решение об общем увеличении заработной платы на 14 %, шахтеры вернулись на работу.
Они добились большего результата, чем рабочие-металлурги, которые 8 января 1920 года, потеряв 20 человек и более 112 млн долларов зарплаты, прекратили забастовку, закончившуюся полной победой US Steel. От этого потрясения рабочее движение в США так и не смогло оправиться[1012]. Разговоры об индустриальной демократии были забыты, а на смену им пришли новая дисциплина управления «индустриальными отношениями» и профсоюзы, создаваемые по инициативе компаний[1013]. Коалиция Демократической партии и трудовых организаций, обеспечившая победу Вильсона на выборах в 1912 и 1916 годах, распалась.
III
В конце 1919 года генеральный прокурор Палмер выступил с новогодним посланием, в котором обещал продолжить неустанную борьбу против «красного движения», угрожающего всему социальному строю Америки. И под угрозой были не только магнаты из US Steel. «Двадцать миллионов человек в нашей стране владеют облигациями „Займа свободы”», – напоминал Пальмер своим слушателям[1014]. «Красные хотят забрать их. Одиннадцать миллионов человек хранят сбережения в банках, а у 18,6 млн человек имеются депозиты в национальных банках— и красные нацелились на них». Эта оголтелая демагогия скоро превратила Палмера в посмешище. В 1920 году «красная угроза» пошла на спад так же быстро, как и волна забастовок.
Однако сохранялась совершенно реальная угроза сбережениям миллионов американских семей, и исходила она не от анархистов или иноземных радикалов, а от безымянных и вездесущих сил инфляции. К октябрю 1919 года даже в Америке, где общество было лучше, чем где-либо, защищено от последствий войны, индекс стоимости жизни вырос на 83,1 % в сравнении с 1913 годом[1015]. Вплоть до конца 1917 года рост зарплат серьезно отставал. Только в 1918 году это отставание удалось наверстать в результате военной мобилизации экономик[1016]. Однако с ускорением инфляции в 1919 году реальные зарплаты вновь уменьшились. Можно было бороться с забастовками, используя сформированные из бандитов охранные агентства. Судебные предписания могли запугать профсоюзных лидеров. Можно было пойти на уступки, даже согласиться на восьмичасовой рабочий день. Генеральный прокурор Палмер обещал покончить с незаконной торговлей и спекуляцией[1017]. Но все имело мало отношения к трудностям, с которыми столкнулись десятки миллионов людей, чей жизненный уровень упал в результате резкого скачка цен. В мае 1919 года демократы штата Массачусетс направили находившемуся в Париже Вильсону телеграмму, в которой напоминали ему о том, что «граждане Соединенных Штатов ожидают Вашего возвращения и помощи в снижении стоимости жизни, считая это гораздо более важным, чем Лига Наций»[1018]. Обращение осталось без ответа. В конце 1919 года для обеспечения достойного «американского» уровня жизни хватало 2000 долларов в год. К тому времени, когда началась забастовка, неквалифицированные рабочие на US Steel требовали повышения зарплаты хотя бы до 1575 долларов в год, что обеспечило бы им скромное существование[1019]. Именно эта действительность, а не подрывная деятельность большевиков вызвала волну забастовок 1919 года, когда в 3600 отдельных выступлениях приняли участие 5 млн американских рабочих, что было своеобразным рекордом.
Причиной этих социально-экономических неурядиц в США и в остальном мире была не подрывная деятельность, не падение морали, а финансовый дисбаланс, вызванный войной. Последний выпуск облигаций «Займа свободы», названный «Займом победы», состоялся весной 1919 года и был направлен на то, чтобы использовать избыточную покупательную способность и консолидировать правительственные финансы. Этот заем принес 4,5 млрд долларов. Но так как во время войны средства на приобретение облигаций брались большей частью не из сбережений, а за счет банковских кредитов, это вело лишь к усилению инфляционного давления. В течение 1919 года объем бумажных денег в обороте вырос на 20 %. При таком уровне инфляции нельзя было не ожидать, что рабочие начнут организовываться, чтобы выступить в защиту уровня своей жизни.
На финансовых рынках также наблюдались признаки беспокойства. Осенью министерство финансов пыталось рефинансировать 3 млрд долларов в краткосрочные сертификаты[1020]. Рынки неохотно шли на долгосрочные займы, ожидая существенных изменений условий кредитования, и достаточно скоро. Однако в последние недели 1919 года в противостоянии участвовали не только президент и Конгресс или профсоюзы и генеральный прокурор. Необычного уровня достигли трения между министерством финансов и Федеральным резервом. Желая привлечь долгосрочные инвестиции и остудить рынок, нью-йоркское отделение ФРС во всеуслышание требовало повышения процентных ставок[1021]. Однако на всем протяжении 1919 года, поскольку инфляция росла, а золотой федеральный резерв сокращался, министерство финансов противилось этому. Дилемма заключалась в том, что любое значительное повышение процентных ставок влекло за собой обесценивание огромного числа облигаций «Займа свободы», по которым доход составлял лишь 4,25 %. Повышение ставок по новым займам означало резкое снижение ликвидности облигаций «Займа свободы» и ущемление интересов тех, кто отдал свои накопления на нужды военной мобилизации экономики. Как заявил 4 сентября 1919 года на заседании Совета управляющих ФРС заместитель министра финансов Рассел Леффингвелл, если цена облигаций «Займа свободы» упадет ниже 90 центов за доллар, это вызовет непредсказуемую реакцию в Конгрессе и панику на рынке ценных бумаг. Ситуация осложнялась необычайно широким распространением облигаций и их чрезвычайно низкой доходностью, которая была определена на момент выпуска. Никогда прежде федеральное правительство не сталкивалось с государственной задолженностью такого масштаба. До войны держателями государственных облигаций выступали в лучшем случае несколько сотен тысяч состоятельных инвесторов. Теперь речь шла об активах миллионов обычных домашних хозяйств. Во второй половине 1919 года, несмотря на потребность в новых деньгах, министерство финансов было вынуждено израсходовать 900 млн долларов для выкупа находящихся в обращении облигаций «Займа свободы» и поддержания цены на них[1022].
С позиций Европы Америка представляла собой единственный нетронутый невзгодами мировой финансовый центр. Доллар был единственной главной международной валютой, которая могла похвастаться твердым золотым обеспечением. Правда, инфляция делала выгодным приобретение золота за доллары, и к концу 1919 года соотношение золотых запасов к количеству банкнот, находящихся в обращении, в нью-йоркском отделении ФРС упало до 40,2 %, что было на грани допустимого законом. Надвигавшийся кризис заставил управляющих нью-йоркским отделением ФРС принять решение о приостановке действия десятидневного периода льготного кредитования. Однако общий Совет управляющих ФРС отказался пойти на столь решительный шаг. Управляющий Стронг, главный человек в нью-йоркском отделении ФРС, был вне себя. Именно отказ министерства финансов своевременно повысить процентные ставки поставил под удар нью-йоркские банки. Стронг «покорно» выполнит распоряжения министерства финансов и Совета управляющих ФРС, «но после этого он скорее подаст в отставку, чем будет продолжать подобную политику»[1023].
26 ноября 1919 года на заседании Совета управляющих ФРС в Вашингтоне Леффингвелл выступил с резким личным выпадом против Стронга, обвинив его в попытке «наказать министерство финансов США за неподчинение диктату со стороны управляющего Федерального резервного банка Нью-Йорка». Леффингвелл обвинил Стронга в том, что тот «в сговоре с британцами манипулирует движением потока золота через Атлантику в ущерб Америке». До 15 января 1920 года министерству финансов предстоит занимать 500 млн долларов каждые две недели. До тех пор не стоит и думать об увеличении процентной ставки[1024]. Министерство финансов было настолько неуверенно в лояльности Стронга, что обратилось к генеральному прокурору Пальмеру с просьбой подтвердить полномочия министерства освободить Стронга от занимаемой должности в случае совершения Банком Нью-Йорка несанкционированных односторонних действий.
До этого дело не дошло. В конечном итоге министерство финансов не могло себе позволить продолжать субсидирование своих кредиторов за счет новых заимствований. 2 января 1920 года министерство финансов выпустило первую партию 12-месячных казначейских сертификатов с повышенной ставкой в 4,75 %. Три недели спустя Леффингвелл изменил свою позицию на совершенно противоположную. Теперь министерство было уверено в том, что «сложную ситуацию может исправить только повышение доходности коммерческих бумаг до 6 %». Америка была «опасно близка к отказу от золотого стандарта…» Теперь с возражениями выступило нью-йоркское отделение ФРС. Внезапное увеличение процентных ставок почти на 50 % было «несправедливым». Оно может создать впечатление, что либо «Совет управляющих ФРС потерял голову, либо условия стали действительно критическими». Это скорее вызовет панику на рынке, чем успокоит его. Однако Леффингвелл жаждал мести. «Паника в Нью-Йорке лишь порадует его». Процентная ставка была единовременно увеличена до 6 %, при этом решающим оказался голос министра финансов Картера Гласса[1025].
Рис. 2. Забытая рецессия: послевоенный шок в Америке, 1919–1921 гг.
К июню учетная ставка в Нью-Йорке достигла 7 %. ФРС только-только исполнилось семь лет. Впредь на всем протяжении XX века попыток введения столь жестких ограничений не наблюдалось (рис. 2).
Дефляционный эффект был значительным. Резкое ужесточение условий кредитования позволило американской экономике преодолеть пропасть. После того как в первой половине 1920 года темп годового роста инфляции достиг 25 %, во втором полугодии уровень цен в годовом исчислении снизился на 15 %. Столь резкое изменение является уникальным во всей истории регистрации макроэкономических показателей в США. В период Великой депрессии дефляция была еще более острой, но она не следовала за периодом стремительной инфляции. В 1920 году снижение цен привело к резкому падению промышленного производства и скачку безработицы. К январю 1921 года, согласно оценке Совета Национальной промышленной конференции, безработица в промышленности превышала 20 %.
Но больше всего пострадало сельское хозяйство. Для американских фермеров условия торговли резко ухудшились, и их так и не удалось восстановить до конца XX века. В 1890-х годах политическая общественность США была поражена широкими выступлениями аграриев, вызванных все той же разрушительной дефляцией. Уильям Дженнингс Брайан сумел захватить руководство Демократической партией. Если бы ему удалось одержать победу на президентских выборах 1896 года, он бы выступил за уход США от золотого стандарта. Институциональные нововведения Вильсона в 1913 году были направлены на то, чтобы похоронить эту тему. Политика «Новой свободы», предусматривавшая снижение тарифов в интересах фермеров, занятых производством экспортной продукции, и потребителей из числа рабочих, а также передачу ФРС новых функций управления, должна была изменить баланс американского капитализма в прогрессивном направлении. Резкие изменения в период с 1919 по 1920 год показали, что эти новые институты не обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать небывалый груз тягот войны. Волнения поднялись не только в рабочей среде. Резкое падение цен на хлопок привело к тому, что среди фермеров появились «ночные всадники», угрожавшие поджогами хлопкоочистительных фабрик и складов, предлагавших неадекватные цены. Новое поколение популистов организовало межпартийный «блок фермеров», который выступил с резкими обвинениями в «преступлениях 1920-х годов» против вильсоновской ФРС. Одной из первых акций предстоящего съезда республиканской партии должно было стать заседание объединенной комиссии Конгресса для проведения слушаний о положении в сельском хозяйстве. Это ставило уходивших из власти демократов в неловкое положение[1026]. А Джон Скелтон Вильямс, бывший валютный инспектор в администрации Вильсона, подлил масла в огонь нараставшего протеста аграриев, возложив вину за неверные действия во время кризиса и обрушение цен на сельскохозяйственную продукцию на группу заговорщиков с Уоллл-стрит[1027].
На юге страны и в значительной части западных штатов аграрный кризис привел к возрождению Ку-клукс-клана. Массовое недовольство жителей самого центра страны и хорошо отработанная система набора привели к тому, что численность членов этой организации увеличилась с нескольких тысяч в 1919 году до 4 млн человек к 1924 году, что, как заявляли члены Ку-клукс-клана, составляло одну шестую от числа всего дееспособного белого мужского населения странь[1028]. Тысячи новобранцев массово вступали в ряды организации во время факельных шествий. На севере Флориды целые кварталы были очищены от проживавших там чернокожих. В 1923 году Техас, Алабама и Индиана повторно направили в Сенат своих кандидатов из числа членов Ку-клукс-клана. Южный Иллинойс был охвачен «клановыми войнами» между белыми. В Орегоне политика штата полностью определялась местным Великим гоблином. В Оклахоме влияние Ку-клукс-клана на законодательную и судебную систему штата и на полицию было столь велико, что губернатор штата был вынужден ввести военное положение.
В 1920 году ошеломляющий переход от инфляции к дефляции подготовил почву для унизительного поражения демократов на выборах. Уоррен Хардинг, выдвинутый от республиканцев, одолел своего незадачливого оппонента от демократов, набрав 60 % голосов, в то время как его противнику удалось заполучить лишь 34 % голосов. Это поражение привело к тому, что остатки демократической партии превратились в инструмент распространения влияния Ку-клукс-клана по всей стране. В 1924 году на съезде демократической партии, ставшем печально знаменитым как «Кланбейк», сторонники Ку-клукс-клана чуть не развалили партию, стремясь не допустить выдвижения кандидатуры Эла Смита, католика, выступавшего против суда Линча. Потребовалось добиться рекордного перевеса в 103 голоса, чтобы воспрепятствовать выдвижению кандидата, пользовавшегося симпатиями Ку-клукс-клана, которым оказался никто иной, как Уильям Гиббс Макаду, зять Вудро Вильсона, занимавший во время войны пост министра финансов[1029].
IV
Вильсон останется в Вашингтоне вплоть до своей кончины в феврале 1924 года. Принято считать, что после его ухода из Белого дома первая волна американского интернационализма пошла на спад. На смену ей пришел период изоляционизма. Но сегодня идет полемика о том, что такая терминология свидетельствует о неправильном понимании истории. Если же признать, что Вильсон был тем, кем он был на самом деле, – представителем ярого национализма, характерного для периода, когда новое столетие шло на смену предыдущему, и построенному на притязаниях Америки на исключительное превосходство в глобальном масштабе, – то еще более удивительной станет преемственность между администрацией Вильсона и пришедшей ей на смену республиканской администрацией. В самом начале рецессии, в мае 1920 года, сенатор Уоррен Дж. Хардинг, выступая в Бостоне, произнес фразу, определившую не только его президентскую кампанию, но и весь период его нахождения на посту президента: «Сегодня Америка нуждается не в героизме, а в выздоровлении; не в универсальных патентованных средствах, а в нормальной жизни». Далее он сказал еще одну примечательную вещь: это призыв «не к погружению в интернационализм, а к сохранению победоносного национализма»[1030]. Победоносный национализм в полной мере характеризует не только политику республиканской администрации в 1920-х годах, но и политику администрации самого Вильсона. Победоносный национализм не означал ухода в себя или изоляции страны. Он по определению был обращен к внешнему миру, но при этом в одностороннем порядке заявлял о своей исключительности.
В свете ожесточенных дискуссий, которые современники вели по вопросу об этническом составе Америки, обеспокоенности подрывной деятельностью извне и растущей безработицей, было неудивительно, что еще осенью 1920 года Конгресс активно обсуждал «настоящий 100-процентный американский закон об иммиграции»[1031]. Через несколько недель после инаугурации Гардинг утвердил закон, в соответствии с которым число иммигрантов должно было уменьшиться с 805 228 человек в 1920 году до 309 556 человек в 1921–1922 годах. Иммиграция из Южной и Восточной Европы, а также Азии была сведена к минимуму. В 1924 году число иммигрантов было сокращено еще раз – до 150 000 человек в год. В течение столетий Новый Свет был открыт для искателей приключений. Преграда на пути потока трансатлантической иммиграции знаменовала собой самый решительный уход от либерального модернизма XIX века и переход к нарастающей централизации национально-государственного управления в XX веке.
Не столь новаторский, но тем не менее решительный отход от либерализма произошел в торговой политике. В то время как Вильсон стремился обеспечить лидерство США на основе политики низких тарифов, Гардинг уже 27 мая 1921 года подписал экстренный закон, через год после которого был принят тариф Фордни-Маккамбера, что привело к росту тарифных ставок в среднем на 60 %[1032]. Под видом предотвращения дискриминации федеральное правительство получало полномочия вводить запретительные тарифы, направленные на возврат концессий, переданных ранее торговым партнерам[1033]. Последователи Гардинга изберут Францию в качестве страны, на которую будет оказываться особое давление. Конечно, американский протекционизм не был чем-то новым. Но оценить в полной мере последствия введения тарифов Фордни – Маккамбера можно, вспомнив не только о том, что у Франции был дефицит в торговле с Америкой, но и о том, что французское правительство было должно американским налогоплательщикам 3 млрд долларов.
Каким же образом наступательный национализм Америки сочетался с ее центральной ролью в мировой экономике? Если бы союзники расплатились по своим долгам, а Германия выплатила хотя бы небольшую часть репараций, то миру требовался бы не протекционизм, а Америка, выступающая в роли двигателя мировой торговли. Если же Америка хотела избежать этого углубляющегося участия, то, как указывал Кейнс, очевидной альтернативой для чистых кредиторов (Британии и Америки) было простить долги или пойти на уменьшение общей суммы задолженности. Однако это противоречило еще одной совершенно новой особенности сложившегося положения. В 1912 году долг федерального правительства составлял немногим более 1 млрд долларов. Семь лет спустя, в 1919 году, общая задолженность федерального правительства выросла до 30 млрд долларов. Это было весьма скромно, если учитывать масштабы американской экономики. Однако на деле треть этой суммы составляли иностранные долги военных лет. Проблема межправительственных долгов обсуждалась внутри страны и была одной из характерных черт нового мирового порядка, сложившегося после войны. В августе 1919 года администрация Вильсона в одностороннем порядке объявила двухгодичный мораторий на возврат платежей Антантой. Правительство Ллойда Джорджа неоднократно призывало Вильсона поддержать Британию в проведении более активной политики по списанию задолженности, но безрезультатно.
В то же время зимой 1919/20 года фиаско экономической политики Вильсона самым прямым образом отразилось на европейских должниках Америки. Резкое 50-процентное увеличение ключевых ставок Федерального резерва вызвало дефляционный шок всей мировой экономики. В 1919 году было экспортировано золота на 292 млн долларов и выдано кредитов на многие миллиарды долларов, но уже в 1920 году выдача иностранных кредитов прекратилась. В США было возвращено золота почти на 800 млн долларов. Это давление дефляции усугублялось еще и тем, что в период с 1918 по 1924 год торговый профицит США составил более 12,6 млрд долларов[1034]. В момент жесткого политического кризиса ФРС и министерство финансов США вместо того, чтобы выступать в роли генератора мировой торговли, оказывали на нее значительное давление. Вудро Вильсон уходил сломленным человеком, но подъем Америки стал неопровержимой реальностью начала XX века.
Часть IV В поисках нового порядка
19 Великая дефляция
На протяжении нескольких лет после окончания Первой мировой войны красные мятежи вспыхивали повсюду: от Бостона до Берлина и от Новой Зеландии до Нью-Йорка. Они затронули даже Латинскую Америку, которой долгое время удавалось противостоять волне насилия, поднявшейся в начале XX века. В самом начале 1919 года забастовка на металлообрабатывающей фабрике в Буэнос-Айресе привела к кровавым событиям Semana Tragica (7-15 января 1919 года), в ходе которых погибло, по некоторым данным, до 700 человек. Антисоциалистическая и антисемитская агитация, развернувшаяся вслед за этими событиями, привела к возникновению Liga Patriotica, заложившей основы права в Аргентине XX века[1035]. В 1919–1920 годах связанные с Лигой вооруженные формирования помогали армии и полиции подавлять забастовки, запугивать профсоюзных активистов, защищать Аргентину от призрачной угрозы мировой революции. Десятки тысяч левых активистов были арестованы. Из пронизанной космополитизмом аргентинской столицы политика подавления революции распространилась на юг страны до самых отдаленных обитаемых мест.
Осенью 1921 года произошло восстание сельскохозяйственных рабочих на обширных овцеводческих гасиендах, расположенных в отдаленных районах на юге континента, и для их усмирения в Патагонию прибыл печально известный 10-й разведывательный полк под командованием подполковника Гектора Варела. В декабре 1921 года солдаты полка при поддержке местных землевладельцев-валлийцев и членов Лиги убили не менее 1500 человек, заподозренных в активном участии в профсоюзном движении. Вернувшегося к Новому году в Буэнос-Айрес подполковника Варела встречали как спасителя отечества. В тот же год он был застрелен этническим немцем анархистом Куртом Густавом Уилкенсом. Уилкенс был выходцем из Шлезвига и до приезда в Аргентину работал на шахтах сначала в Силезии, а потом в Аризоне, где попал в число организаторов «Индустриальных рабочих мира», что само по себе было достаточно опасно. Уилкенс не дожил до приговора: его застрелил ярый член Лиги Перес Милан, проникший в тюрьму с помощью сочувствовавших Лиге полицейских. Конец этой вендетте бы положен только в 1925 году, когда Переса Милана застрелил югослав, вдохновленный на этот шаг Борисом Владимировичем Германом, русским, считавшимся крестным отцом аргентинского анархизма.
Это совершенно необыкновенная история. После Первой мировой войны ее повторение в различных вариациях можно встретить во многих странах мира, и это подтверждало получившее широкое распространение ощущения того, что мир распадается на части, а конспирологические фантазии о коммунистах, экономический кризис, волна забастовок и конфликтов на производстве лишь подливали масло в огонь острой риторики классового противостояния и насилия с обеих сторон. XIX век прошел в ожидании революции. Теперь, казалось, ее век настал. Но крайне левые терпели поражение повсюду, кроме России[1036]. Во всем мире, так же как в Аргентине и США, ресурсы государства и имущих классов были брошены на защиту существующего порядка. В 1922 году в Италии, в 1923 году в Болгарии и Испании были установлены новые авторитарные военизированные, антикоммунистические диктаторские режимы. Но в большинстве стран волна насилия сходила на нет. Новый авторитаризм, которому левые вскоре присвоили родовой ярлык «фашизма», сохранялся лишь на периферии. В большинстве стран (как и в Соединенных Штатах) направленные против иностранцев кампании под знаком «красной угрозы», «охоты на ведьм» и ночные сборища у горящего креста в ретроспективе воспринимались как карнавальные акции, отвлекавшие от шагов, направленных на возврат к нормальной жизни. А они гораздо меньше зависели от уличных столкновений и убийств активистов, чем от выявления более глубоких причин беспорядков внутри страны и за ее пределами, а главное – от влияния последствий войны на финансовую систему. Как показал опыт США, многое зависло от того, насколько удастся противостоять волне инфляции. Однако США в этом смысле были не просто примером. Америка стала центром притяжения всей мировой экономики. Волна дефляции, поднятая Америкой весной 1920 года, определила «всемирный термидор» 1920-х годов, ставший основным двигателем восстановления порядка как в самой Америке, так и во всем мире[1037]. И это событие, пожалуй, осталось самым недооцененным в мировой истории XX века.
I
Рост инфляции в послевоенной Германии считается легендарным. Та же судьба ожидала Польшу и Австрию. До 1920 года инфляция была общим явлением во всех странах мира, независимо от того, участвовали они в войне или нет. В Европе и Азии наблюдался всплеск спроса. Цены росли во всем мире, при этом все страны, кроме США, отказались от золотого стандарта. Относительная стоимость валют дает некоторое представление о возникавших диспропорциях. В феврале 1920 года курс фунта стерлингов составлял 3,40 доллара, что было не очень значительным изменением по сравнению с довоенным курсом в 4,92 доллара за стерлинг. Французский франк, курс которого во время войны поддерживался и составлял 5,45 франка за доллар, к концу апреля 1920 года упал до 17,08 франка за доллар[1038]. Обрушение итальянской лиры привело к резкому росту цен на импортные товары и разжиганию инфляции. В Азии значительное увеличение спроса на серебро в Китае и Индии в 1919 году стало причиной рекордного роста мировых цен на серебро, обесценивания иены по отношению к валютам двух основных региональных партнеров Японии и резкого увеличения японского экспорта[1039]. Такие колебания свидетельствовали о слабости финансовой политики и нежелании правительств пойти на болезненные фискальные методы лечения.
Пожалуй, больше всего сказанное относилось к Японии, которая действительно победила в этой войне, сумев не только выйти из нее без потерь, но и в значительной мере поднять свой статус и увеличить экономический потенциал. Правительство премьер-министра Хары намеревалось капитализировать результаты этого экономического скачка. Так называемая демократия Тайсё возникла на волне инфляции и значительных государственных расходов. В бюджете послевоенных лет предусматривалось увеличить государственные расходы почти в 2 раза. Основные затраты приходились на выполнение программы создания инфраструктуры для японских железных дорог, оцениваемой в 800 млн йен. Дороги и школы относились к числу наиболее популярных объектов строительства консервативного блока Сэйюкай. Но больше всего выросли военные расходы, что было обусловлено интервенцией в Сибири и гигантскими планами построения нового флота[1040].
Совсем другим было положение во Франции, хотя и в ней инфляция подогревалась расходами на проведение восстановительных работ. С текущим бюджетом все было в порядке. Но ситуация осложнялась огромным дефицитом расходов на чрезвычайные нужды. На ликвидацию разрушений выделялись миллиардные ассигнования, что позволило избежать резкого роста безработицы в условиях массовой демобилизации. Поначалу держатели облигаций с готовностью расходовали значительные суммы на их приобретение, способствуя тем самым восстановлению страны[1041]. Этому способствовала и деятельность Банка Франции[1042]. Но как долго это могло продолжаться?
С ростом инфляции все более ощутимым становился рост стоимости жизни. Повышение цен отрицательно сказывалось на размере реальной оплаты труда и сопровождалось притоком рабочих в профсоюзы. В 1919 и 1920 годах французское правительство столкнулось с массовыми первомайскими забастовками и угрозой всеобщей забастовки. В Италии лето 1919 года прошло под лозунгом Biennio Rosso («красной двухлетки»). 30 августа 1919 года был создан Японский конгресс профсоюзов, заявивший о своей приверженности международному прогрессивизму. «Мир меняется и движется вперед к прогрессу, а Япония остается позади», – такой лозунг выдвинули профсоюзы в Японии[1043]. Наряду с восьмичасовым рабочим днем они требовали всеобщего избирательного права для мужчин, отмены репрессивных законов о полиции и демократизации системы образования. Несколько месяцев спустя правительство Хары было вынуждено направить отряды военной полиции для разгона демонстраций в Токио и даже на принадлежащих государству предприятиях «Явата» – колыбели металлургической промышленности Японии, работа на которых считалась престижной[1044]. Кризис еще более обострился в феврале 1920 года, когда в стране прошли массовые выступления с требованием всеобщего избирательного права, заставившие парламент принять срочные меры. Старейший консервативный государственный деятель Йамагата Аритомо говорил по этому поводу следующее: «Я серьезно обеспокоен тем, что существующие в обществе трудности, связанные с ростом цен, могут вызвать хаос»[1045].
В Британии обстановка тоже была напряженной. Правительство Ллойда Джорджа пользовалось поддержкой парламентского большинства, однако это не вполне соответствовало балансу мнений в стране, а главное – способствовало нагнетанию классового конфликта, грозившего раз и навсегда разрушить образ Британии как мирного королевства. За тревожными беспорядками зимой 1918/19 года в Лондоне и Глазго последовали новые забастовки. Общая длительность забастовок в Британии в 1919–1921 годах была больше, чем в революционной Германия или Италии. Такая активность забастовщиков вызывала возмущение буржуазии «привилегиями», которые получал рабочий класс. В феврале 1920 года Джон Мейнард Кейнс указывал в своих рекомендациях министерству финансов на то, что «дальнейшая инфляция и рост цен приведут не только к снижению биржевой активности, но и к тому, что через рост цен будет нанесен удар по основам договора, по безопасности и по капиталистической системе в целом»[1046]. Тем временем министр финансов Остин Чемберлен переживал из-за шантажа со стороны финансовых рынков, вынуждавших чуть ли не еженедельно изыскивать возможности для рефинансирования текущей задолженности[1047]. Ответ был очевиден. Восстановить порядок можно было, лишь вернувшись к ортодоксальным методам финансирования (рис. 3).
Рис. 3. Великая дефляция (логарифмическая вертикальная ось; 1913 г. = 100)
В дефляцию мир ввергла весной 1920 года Япония, опередив в этом Америку. В феврале период длительного роста цен на серебро закончился, и цены устремились в обратном направлении. В течение нескольких месяцев на азиатских рынках цена золота по отношению к серебру удвоилась. Изменение вектора движения цен по сравнению с 1919 годом привело к резкому росту курса иены к китайской валюте, которая была привязана к цене на серебро. Экспортные заказы стремительно сокращались, и 15 марта 1920 года на токийском рынке ценных бумаг произошел обвал[1048]. Упали цены на рис и шелк. Клиенты почти 170 японских банков в панике снимали деньги со своих счетов. К июню 1920 года токийский рынок ценных бумаг сократился на 60 % по сравнению с пиком послевоенного периода. В отличие от Японии, в Соединенном Королевстве дефляционные корректировки носили явно выраженный политический характер. Еще 15 декабря 1919 года Чемберлен торжественно заявил в палате общин, что долгосрочной целью британской политики является восстановление довоенного золотого паритета фунта стерлингов. Это не было стремлением восстановить престиж своей валюты или проявлением рефлекторного монетарного консерватизма. Это была политика, направленная на сохранение кредитоспособности Британской империи. Если восстановить паритет фунта стерлингов, то расчеты с кредиторами, которым Британия задолжала миллиарды фунтов стерлингов, будут проводиться в валюте, стоимость которой в долларах вернется к той же, что была перед войной. Те же, кто были готовы кредитовать в фунтах стерлингов – в самой Британии или на территории империи, – потеряют не больше в результате войны, чем те, кто решил инвестировать в ценные бумаги Казначейства США. Нерешенным оставался вопрос, во сколько Британии обойдется стремление поддержать свои претензии на совместное лидерство в мировых финансах? Для того чтобы вернуться к довоенному обменному курсу по отношению к доллару, требовалось привести уровень цен в Британии к уровню цен в США. В декабре 1919 года индекс цен по отношению к 1914 году в Соединенном Королевстве составлял 240, а в США – 190. Это означало, что требовалось резко снизить цены в Соединенном Королевстве при сохранении их роста в США. Чиновникам министерства финансов такое изменение цен представлялось «вполне доступным»[1049].
Проблема заключалась в том, что США не оставались «вполне доступными». В Лондоне опасались, что реакцией ФРС на вывод значительного количества золота из США в начале 1920 года станет дефляционный шок. Эти опасения оправдались в полной мере. Резкое снижение цен в Америке вело к тому, что надежды на восстановление довоенного паритета фунта стерлингов становились все более иллюзорными. Британии предстояло не только преодолеть возникший во время войны разрыв в уровне инфляции между Британией и США, но и обеспечить такой же уровень дефляции. В апреле 1920 года Банк Англии вслед за ФРС повысил процентные ставки, а также поднял налоги на высокие доходы и урезал расходы бюджета на 30 %, что привело к профициту в 12 %, который был направлен на выплаты по долгу[1050]. Цены падали, процентные ставки росли, но номинальная заработная плата оставалась все еще высокой. Реальные издержки производителей достигли катастрофического уровня, а у должников возник значительный отрицательный капитал. Начались массовые банкротства. К осени 1920 года экономика Британии находилась в свободном падении. Банк Англии повторно обратился в ФРС с просьбой ослабить нажим на американскую экономику. Но в ответ получил отказ. Золото устремилось обратно в Америку, а Федеральный резерв, вместо того чтобы ослабить давление, «стерилизовал» приток золота, сдерживая рост американского кредита и используя различные бухгалтерские уловки для того, чтобы скрыть значительное золотое покрытие. К этому времени ситуация в Британии осложнилась настолько, что в министерстве финансов Соединенного Королевства всерьез задумывались над тем, чтобы освободиться от остатков своего золотого запаса в Нью-Йорке в надежде на то, что это пробудит у ФРС совесть и она пойдет на увеличение объема денежной массы в Америке[1051].
Для британской политики послевоенного восстановления последствия дефляции были тяжелыми. Невыполнимыми оказались смелые планы увеличения расходов на социальные нужды, социальное жилье и реформу образования, обещанные в 1919 году. Прогрессисты окончательно разочаровались в Ллойде Джордже. С июля 1920 года до июля 1921 года уровень безработицы среди членов профсоюзов вырос с 1 до 23,1 % (рис. 4). Изменилась расстановка сил в промышленности. 15 апреля 1921 года Даунинг-стрит обратилась с призывом к армии и флоту приготовиться к отражению последней и самой опасной забастовки «тройственного союза»[1052]. В Лондоне были приведены в готовность 11 пехотных батальонов и 3 разведывательных полка при поддержке танков[1053]. Но от былой солидарности трех наиболее влиятельных профсоюзов не оставалось и следа, и забастовочная волна пошла на спад. В 1922 году уровень безработицы продолжал оставаться на отметке около 20 %, но в забастовочном движении участвовало лишь немногим более полумиллиона человек, что было на 80 % меньше, чем в 1919 году. Были и те, кто хотел довести дефляционную «контрреволюцию» до логического конца. В среде чиновников министерства финансов говорили о том, что пора урезать пенсии и пособия по безработице до «самого минимума, который не позволит умереть с голода». Однако министр Остин Чемберлен был против. После Великой войны государство не могло отказать своим гражданам в праве на необходимую поддержку[1054]. При таком уровне безработицы эти обязательства ложились на бюджет тяжелым грузом. Если до войны расходы на все виды социального обеспечения не превышали 4,7 % ВВП, то рост расходов на социальные нужды в 1920-х годах привел к тому, что к 1930 году эта цифра почти удвоилась.
Рис. 4. Британия в период между войнами: первый скачок безработицы, 1920–1921 гг.
В наибольшей степени кризис сказался на Соединенных Штатах, Британии и Японии, но сама дефляция приобрела мировой размах. Даже в Германии после капповского путча летом 1920 года цены действительно начали снижаться, порождая как надежды на нормализацию ситуации в экономике, так и опасения, что может начаться кредитный кризис, а безработица поднимется до того же уровня, как и в Британии. Вопрос был в том, насколько далеко следует отступить. С учетом масштаба финансовых проблем и болезненности дефляции Франция, Италия и Япония предпочли стабилизацию сомнительным попыткам восстановления довоенных паритетов. Во Франции правительство Национального блока было непопулярно среди левых из-за того, что сорвало две попытки провести всеобщую забастовку в мае 1919 года и мае 1920 года. В 1919 году в палату депутатов Франции входили в основном ветераны, чей суровый внешний вид вполне соответствовал вильсоновским стереотипам. Американский посол Хью Кемпбелл Уоллес сообщал в Госдепартамент что «разочарование действиями Америки и слухи о том, что она закрывает глаза на возрождение германского милитаризма, вызывают открытые проявления национализма и милитаризма»[1055]. Александр Мильеран, ставший премьер-министром в результате неудачного маневра, который по замыслу должен был привести Клемансо на пост президента, но закончился отставкой последнего, не был реакционером. До 1899 года он возглавлял парламентскую фракцию социалистов, но после дела Дрейфуса вошел в состав правительства левой коалиции, которое называло себя правительством республиканской обороны[1056]. Его готовность к прагматическим преобразованиям вызывала ненависть у доктринеров, захвативших руководство во Французской социалистической партии после 1904 года.
Став премьер-министром в январе 1920 года, Мильеран провел не полномасштабную дефляцию, а ограниченную денежную стабилизацию. Увеличились налоги. Было проведено сокращение обычных бюджетных расходов, что, вопреки высказываниям Вильсона, обвинявшего Францию в милитаризме, затронуло и военные расходы. По сравнению с довоенным периодом численность французской армии уменьшилась с 944 тысяч до 872 тысяч в 1920 году и до 732 тысяч в 1922 году[1057]. Банк Франции прекратил неконтролируемый выпуск денег, что позволило приостановить инфляцию. Курс франка по отношению к доллару укрепился с 17,08 в апреле 1920 года до 12,48 в 1921 году[1058]. Помня о необходимости первоочередного восстановления пострадавших в ходе войны территорий, Мильеран не пошел на резкое и масштабное сокращение правительственных расходов. В Италии, где наблюдались самые массовые во всей Западной Европе волнения рабочих, попытка Франческо Нитти сократить субсидии на хлеб в июле 1920 года стоила ему поста премьер-министра[1059]. Лишь в 1921 году, когда мировые цены на продукты упали, новое правительство, возглавляемое Джованни Джолитти, решилось отменить эту требовавшую немалых средств субсидию.
В охваченной кризисом Японии консерваторы хотели бы добиться полной «ликвидации». Но Банк Японии посчитал невозможным повернуть экономический бум вспять. Дефляция, аналогичная той, которая произошла в Америке и Британии, грозила уничтожением значительной доли промышленного прироста, достигнутого в годы войны за счет широкого распространения банковского кредитования[1060]. Поэтому 27 апреля 1920 года был сформирован банковский синдикат, призванный поддержать рынок ценных бумаг. В декабре 1920 года для скупки и замораживания избыточных акций шелкопрядильных предприятий была создана Имперская шелкопрядильная компания. В апреле 1921 года правительство Хары ввело в действие комплексную систему государственных закупок и регулирования импорта риса, которая была нацелена на долгосрочное упрочение положения крестьян, занятых в выращивании риса.
В данном случае отказ этих экономически развитых стран следовать примеру Соединенного Королевства и Соединенных Штатов и проводить масштабную дефляцию имел стабилизирующее значение для мировой экономики[1061]. Мировой кризис 1920–1921 годов оказался не столь длительным и суровым, как рецессия 1929–1933 годов, в том числе и потому, что он по-разному проявлялся в различных странах. При этом значителен был сам факт существования таких различий. Это важно учитывать для понимания того, каким образом в ходе восстановления мировой экономики после Первой мировой войны возникала новая иерархия. На самом нижнем уровне находились страны, где особенно тяжелая ситуация вызвала гиперинфляцию: Польша, Австрия и Германия. Они попали под надзор «денежных врачей» и органов обеспечения международной стабилизации и могут считаться примером новой формы ограниченного суверенитета[1062]. На самом верхнем уровне находились Соединенные Штаты и Соединенное Королевство, готовые и способные пойти на резкое сокращение денежной массы, необходимое для компенсации последствий войны в сфере денежного обращения. Между этими двумя группами стран оказалось большинство остальных стран мира (в их числе Франция, Италия и Япония), которым удалась лишь частичная стабилизация. Они сумели избежать худших вариантов развития событий – крайностей гиперинфляции и сокрушительной дефляции. Правда, для этого им пришлось смириться с переходом в число стран второй категории в новой мировой иерархии.
II
Чистый результат дефляции после 1920 года состоял в снижении напряженности политической жизни в послевоенные годы. В первую очередь дефляция способствовала уменьшению накала трудовых конфликтов. Рост безработицы и снижение цен привели к тому, что роль профсоюзов пошла на убыль. Но следствиями этого как в отдельно взятых странах, так и в международном масштабе стало нечто большее, чем поражение левых сил. Дефляция ограничила и свободу маневра для правых сил. Уличные столкновения между революционерами и вооруженными формированиями, пикеты и митинги продолжались, но дефляция была силой, которая обеспечивала стратегический спад противостояния не только в мировом масштабе, но и по обе стороны линии политического раздела. Осенью 1920 года в американском Конгрессе во всеуслышание призывали отправить на свалку истории амбициозные планы президента Вильсона по построению флота и созданию Лиги Наций. Благодаря дефляции эхо этих призывов звучало в Британии и Японии.
С XIX века сторонники империалистического авантюризма в Японии всегда могли рассчитывать на массовый патриотический энтузиазм. Резкое увеличение экспорта и доходов из-за рубежа в период войны укрепили финансовую базу японских милитаристов. К концу 1919 года профицит по текущим счетам, накопленный с 1915 года, составлял 3 млрд иен. Япония превратилась в чистого международного кредитора. В правительстве Сэйюкай, возглавляемом Харой, звучали решительные призывы к продолжению этой «позитивной политики» в послевоенный период. Япония должна использовать свой шанс для выхода из-под британской опеки и превращения в единственную господствующую в регионе державу. Однако становилось очевидно, что ситуация 1914–1918 годов была уникальной. Мощный инфляционный бум сильно отразился на внутренней политике Японии. Рост цен на продовольствие не способствовал популярности интервенции в Сибири. Осенью 1919 года газета Osaka Asahi Shimbun опубликовала редакционную статью, посвященную годовщине рисовых бунтов, в которой говорилось: «Фактически сегодня настроение большинства нашего народа в корне отлично от настроения прошлого периода, когда ему приходилось преодолевать так называемые трудные времена. Вплоть до сегодняшнего дня, когда государство начало использовать военную силу за рубежом… японский народ, забыв о своих нуждах, с энтузиазмом выступал в поддержку государства… но теперь, когда власти обеспокоены сильнейшим кризисом, разразившимся за границей, народ задается вопросом: что будет с нашей страной? Они в открытую спрашивают: что будет с нами? Несмотря на возросшую мощь нашей страны, большинство населения находится в слишком стесненных обстоятельствах, чтобы надеяться на честь и славу»[1063].
Продолжая политику дефляции, Британия и Америка вновь изменили правила игры. В мае 1921 года Такахаси Корэкиё, член партии Сэйюкай, один из наиболее активных сторонников обеспечения экономического роста, изложил свою позицию в особо секретном меморандуме. В Версале было признано, что Япония является одной из ведущих держав. Но до сих пор в основе ее притязаний лежит только военная сила. Это – преходящее преимущество. Основу мощи страны составляет экономика. Заявляя о своей решимости возродить золотой стандарт, Америка и Британия подтвердили свои лидирующие позиции в мировой экономике. Политика дефляции в Японии положит конец буму. Но если не обеспечить снижения заработных плат и цен, то вскоре японские экспортеры столкнутся с жесткой конкуренцией. Ухудшение платежного баланса вновь поставит Японию в зависимость от иностранных кредитов. Для того чтобы навсегда сохранить за Японией место в клубе великих держав, необходимо создать платформу для долгосрочного экономического развития, опирающуюся на подлинно гармоничные отношения с Китаем. А это требует решительного отказа от военного авантюризма[1064]. Если Такахаси и Сэйюкай продолжали мириться с интервенционистскими настроениями в армии, то в оппозиционных партиях преобладал антимилитаристский консенсус. В июле 1921 года остатки довоенных либеральных сил, объединившиеся под крылом партии Кокуминто, выдвинули лозунг перехода от милитаризма к индустриализации[1065]. В ноябре того же года Одзаки Юкио, выступая от имени либерального крыла главной оппозиционной партии Кенсейкай, выступил с призывом начать широкую кампанию за сокращение военных расходов, грозивших разрушительными последствиями. Его призыв, выражавший мнение десятков тысяч людей, был услышан[1066]. Расходы на оборону, составлявшие в 1922 году 65,4 % всех правительственных расходов, в период с 1923 по 1927 год сократились до менее 40 %.[1067]
В Британии также росли расходы на обслуживание долга и социальное обеспечение, а сокращение бюджета происходило за счет расходов на оборону[1068]. В апреле 1919 года в результате первого сокращения бюджета расходы на армию были уменьшены с 405 млн до менее 90 млн фунтов стерлингов. Расходы империи на военные экспедиции и поддержание мира в Европе были ограничены 48 млн фунтов стерлингов[1069]. Численность армии сократилась с 3,5 млн человек до 800 тысяч. К 1922 году военный бюджет был сокращен до 62 млн фунтов стерлингов. Сэр Генри Вильсон, начальник имперского генерального штаба, который когда-то распоряжался многочисленными армиями, теперь имел под своим командованием несколько батальонов, которые приходилось направлять в экстренных ситуациях то в Ирландию, то на Рейн, то в Персию[1070]. Конечно, Британия следила, чтобы входившие в состав империи страны не уклонялись от участия в военных действиях, однако попытки переложить расходы имперской армии на Индию встретили ожесточенное сопротивление[1071]. На Ближнем Востоке в печально известных «полицейских акциях» против повстанцев бомбардировки с воздуха использовались прежде всего потому, что не требовали значительных расходов. По предварительным оценкам, расходы на содержание военного гарнизона, состоявшего из 30 батальонов и дислоцированного в соответствии с мандатом в Ираке, составляли 30 млн фунтов стерлингов. После Каирской конференции, состоявшейся в марте 1921 года, Уинстон Черчилль решил, что ему будет достаточно и 10 млн фунтов стерлингов при условии, что четырем пехотным батальонам, расположенным в Багдаде, будут приданы 8 эскадрилий бомбардировщиков. Использовавшийся при проведении этих операций бомбардировщик модели de Havilland DH9A обходился всего в 3 тысячи фунтов стерлингов[1072].
Но это все были меры тактического характера. Решения стратегической важности предстояло принять в отношении военно-морских сил. Весной 1919 года, когда в Версале между Британией и США возник ожесточенный спор, потребности Королевского флота на предстоящий год оценивались в 171 млн фунтов стерлингов. Тогда эти ассигнования не были утверждены из-за необходимости экономии и нежелания вступать в противостояние с Америкой. 15 августа кабинет министров направил в соответствующие министерства распоряжение, в котором при подготовке планов работы министерства предписывалось руководствоваться тем, что «Британская империя в ближайшие десять лет не будет принимать участия в крупных военных операциях». Для военного флота это означало сокращение расходов до 60 млн фунтов стерлингов к 1920–1921 годам. Последствия оказались серьезными. Как указывало Адмиралтейство, «необходимо ясно понимать, что Великобритания больше не будет иметь превосходства на море…Мы будем первыми в европейских водах, но общее превосходство на море мы будем делить с Соединенными Штатами»[1073]. Необходимость отказа от единоличного превосходства и обеспечения устойчивого мира именно на этой основе была в числе основных устремлений правительства Ллойда Джорджа с 1916 года. Администрация Вильсона отказывалась от подобных соглашений, однако финансовое наследие войны заставило Британию избрать именно такую стратегию[1074].
III
Восстановление финансовой стабильности, символом которой стал возврат к золотому стандарту, было напрямую связано с политикой поддержания мира и подавления экспансионистских порывов как справа, так и слева. Обеспечение консервативной стабильности накладывало обязательства на каждую страну, в том числе и на Соединенные Штаты и Британию, причем не в меньшей степени, чем на Францию и Японию. Гнетущая дефляция 1920–1921 годов делала эти обязательства ощутимыми и в Америке, и в Британии. Но наряду с основными общими чертами, положение каждого участника дуэта лидеров имело свои особенности. Их отличала готовность делать инвестиции в создание нового статус-кво. Сложные переговоры в Версале показали, что исходные позиции даже стран-победительниц, участвовавших в создании нового порядка, были далеко не одинаковыми.
Франция, которой война принесла тяжелейшие разрушения, оказалась как никогда в зависимом положении. В 1920 году французский министр общественных работ подсчитал, что в результате выхода из строя расположенных на севере страны угольных шахт Франция будет вынуждена импортировать 50 млн тонн угля ежегодно, притом что годовая потребность страны в угле составляла 70 млн тонн. В то же время Британия сократила поставки угля на мировой рынок с 80 до 33 млн тонн, из которых Франция могла рассчитывать не более чем на 18, да еще и в условиях постоянного роста цен, обусловленного обесцениванием франка[1075]. Передача Саара под контроль Франции позволяла ей ежегодно получать 8 млн тонн угля. Для восполнения дефицита Париж требовал, чтобы в рамках репарации Германия ежегодно поставляла во Францию 27 млн тонн угля со своих шахт в Руре. Но начавшиеся весной 1920 года поставки угля из Германии смогли удовлетворить лишь менее половины ожидаемого объема.
Не столь видимой, но не менее острой была проблема военных долгов. Отношения между Францией и Германией слишком часто воспринимаются упрощенно, как столкновение националистических сил по двум берегам Рейна. Но на самом деле репарационная политика определялась сложными отношениями между Парижем, Лондоном и Нью-Йорком. Эти сложные отношения оставались в тени, что подтверждало влияние, которым пользовался Вашингтон. После Парижской конференции Вашингтон делал все, чтобы вопрос о выплате репараций не увязывался с вопросом о выплате военных долгов. Европейские страны полагали, что от этого вопроса все равно не уйти. На протяжении всего лета 1920 года Париж находился в очень непростом положении, не позволявшем ему вернуть небольшие кредиты, полученные в Испании и Аргентине. Гораздо большее беспокойство в Париже вызывала сумма в 250 млн долларов, составлявших долю Франции в первом кредите, полученном в 1915 году через банковскую группу Дж. П. Моргана. Для выплаты этой суммы Франции пришлось взять на Уолл-стрит заем под унизительные 8 %[1076]. Вашингтон держал паузу, а Париж в течение нескольких недель только что наступившего 1921 года находился на грани дефолта.
Британское правительство с 1919 года предлагало коллективное списания долгов внутри Антанты. Но администрация Вильсона наложила вето на это предложение. В феврале 1920 года, доведенное до отчаяния отказом США идти на какие-либо уступки, руководство министерства финансов Соединенного Королевства обдумывало более радикальные меры. Британия в одностороннем порядке приступит к осуществлению предложенного Кейнсом плана и откажется от выплат. Признавая свои обязательства по долгам перед Америкой, Лондон откажется от претензий к своим бывшим союзникам. И Вашингтону ничего не останется, как сделать аналогичный beau geste. Министерство иностранных дел было в восторге от этого предложения, полагая, что такой шаг станет свидетельством доброй воли Британии «на многие поколения вперед», обеспечив ее «неоспоримое моральное лидерство в мире». Однако британские дипломаты были далеко не уверены в том, что этот шаг заставит Вашингтон «устыдиться и последовать британскому примеру»[1077]. Разумеется, инициатива Британии не встретила поддержки. Администрация Вильсона согласилась на отсрочку по выплате процентов по британским долгам, обусловив это, однако, предварительным урегулированием вопросов, касавшихся репараций, и формальным обещанием воздерживаться в будущем от любой дискриминации в отношении США в торговой политике Британской империи.
Министр финансов Остин Чемберлен был возмущен. Британская империя не допустит, чтобы в отношении ее кредитов выдвигались какие-либо условия. Между британским и американским правительствами не может существовать письменных договоренностей такого рода. Британия должна сохранять полную свободу действий. Суверенитет представляет собой высшую ценность[1078]. «Американцы живут на другом континенте и, я бы сказал, в другом мире». В завершение Чемберлен отметил: «Совершенно бесполезно критиковать США за их обособленность, слепоту и себялюбие, притом что наше чувство собственного достоинство не позволяет нам выступать в роли ходатаев, выпрашивающих то, чего давать не очень хотят»[1079]. В результате в конце года в американскую столицу отправилась делегация для проведения двусторонних переговорах о задолженности.
Франция не располагала той финансовой подушкой, которая позволяла Британии выбирать линию поведения. Средства на восстановление севера страны можно было при необходимости собрать за счет налогов, внутренних заимствований либо, если придется, за счет инфляции как налога на сбережения. Значительные внешние долги Франции – 3 млрд долларов Америке и 2 млрд долларов Британии – предстояло выплатить золотом или в долларах. Если исключить такое чудо, как увеличение экспорта, совершенно невозможное в условиях агрессивной дефляции, проводимой США и Британией, и разрушительного сокращения импорта важнейших товаров, единственным источником валюты оставались репарации. Именно с намерениями консолидировать претензии Франции в январе 1921 года Аристид Бриан принимал пост премьер-министра, после того как Мильеран был избран президентом[1080]. Подобно Мильерану, Бриан начинал свою политическую карьеру как социалист, ориентировавшийся на проведение реформ, но был подвергнут остракизму со стороны левых за свое стремление к власти. Его имя как премьера-интернационалиста военного периода ассоциировалось с наиболее агрессивными военными целями Франции. В 1921 году он вернулся во власть, полный решимости добиться установления мира. Это было тем более необходимо, поскольку после подавления капповского путча в Германии к власти пришло правительство партии Центра, а выборы, состоявшиеся в июне 1920 года, строились на провокации, ставшей возможной, похоже, вследствие того, что Америка не собиралась поддерживать своих бывших союзников. На начавшихся в марте 1921 года переговорах о репарациях Германия предложила абсурдно низкую сумму в 30 млрд золотых марок, что делало компромисс невозможным.
Это был последний случай согласованных действий Антанты. 13 марта 1921 года британские и французские войска заняли плацдармы в промышленных городах Дуйсбурге, Рухорте и Дюссельдорфе. Была обустроена таможенная граница, отделявшая Рейнскую область от остальной Германии. Французский генеральный штаб подготовил план оккупации всего Рура, но Бриан хотел заручиться поддержкой британцев, прежде чем пойти на подобный шаг. Понимая всю степень риска, Германия увеличила предлагаемую сумму до 50 млрд золотых марок, на что Британия и Франция ответили 5 мая Лондонским ультиматумом, который устанавливал репарации в размере 132 млрд золотых марок. При всей кажущейся внушительности этой суммы она не сильно отличалась от суммы, предложенной Германией, так как выплаты, выходившие за пределы 50 млрд золотых марок, предполагалось производить так называемыми облигациями класса С, выпуск которых должен был начаться не ранее 1957 года, если, конечно, не произошло бы чудесного резкого увеличения объема германского экспорта. По разумным оценкам, общая сумма, необходимая для решения вопроса, составляла 64 млрд золотых марок, то есть немногим более 15 млрд долларов[1081]. На тот момент сумма общей задолженности Антанты перед США составляла 10 млрд долларов. Это означало, что запас средств на послевоенное восстановление будет крайне незначительным, если, конечно, США не пойдут на то, чтобы отложить свои претензии по возврату долгов примерно на тот же срок. Безусловно, положение Германии было крайне тяжелым. Ей предстояло единовременно выплатить колоссальные суммы, и, даже если бы ей удалось придерживаться графика выплат на протяжении последующих 35 лет, ее кредитоспособность на мировом рынке оставалась бы под вопросом на протяжении жизни многих поколений. У Германии была всего одна неделя на то, чтобы дать ответ.
Пользуясь тем, что Вильсон демонстративно отказался поддержать французское вторжение во Франкфурт во время капповского путча в марте 1920 года, а Сенат не ратифицировал Версальский договор, Берлин направил свои внешнеполитические усилия на то, чтобы склонить Америку вновь выступить в качестве арбитра в вопросе установления в Европе «мира между равными». Но, столкнувшись с кризисом в решении вопроса о репарациях и с проблемой Силезии, границы которой предстояло определить в 1921 году, вступивший в должность государственного секретаря Чарльз Эванс Хьюз не решился выступить в опасной роли, которую ранее пытался играть Вильсон. 10 мая 1921 года, за два дня до истечения срока ультиматума, правительство Германии прекратило свое существование[1082]. Как и в 1918 и 1919 годах, правые в Германии выступили с громкими призывами к конфронтации. Их циничный расчет состоял в том, что вторжение союзников на западе Германии вызовет подъем патриотического сопротивления и позволит сделать то, что не удалось Каппу во время прошлогоднего путча. Но в 1921 году, как и в двух предыдущих случаях, верх одержал raison d’état. 11 мая, за 24 часа до истечения установленного союзниками срока, в Берлине было создано новое коалиционное правительство. Его вновь возглавил политик от партии Центра, Йозеф Вирт, преемник Маттиаса Эрцбергера в качестве представителя левого крыла партии. Первым делом ему предстояло достигнуть договоренности с Антантой. Но тут возникал вопрос: даже если у Германии была политическая воля «выполнить свои обязательства», могла ли она заплатить? (табл. 9).
Прямой связи между репарациями, Рурским кризисом и гиперинфляцией 1923 года не существовало. Весной 1920 года вслед за поражением путча Каппа золотая марка окрепла по отношению к доллару. В период с марта по июль цены упали на 20 % и стабилизировались. На какой-то момент казалось, что Веймарская республика пойдет по тому же пути дефляционной консолидации финансов, что и остальные страны мира. Это не могло не радовать с учетом того, что должно было случиться позже[1083]. На фоне резкого роста безработицы в Британии окончание послевоенного бума в начале 1920-х годов воспринималось в Германии со смешанным чувством облегчения. Существовали серьезные опасения по поводу того, что недостаточно сбалансированная германская политическая система может не выдержать массовой безработицы, на которую правительства Британии и США обрекли жителей своих стран. Так или иначе, репарационный кризис весны 1921 года нарушил эту временную стабильность. В июне того же года после нескольких месяцев стабильных цен инфляция возобновилась, достигнув двузначных показателей уже в августе. Экономисты в Германии заговорили о том, что чрезмерные репарации делают абсурдной любую мысль о стабилизации. Франция на самом деле намеревалась «османизировать» Германию, превратив ее в такого же попавшего в рабскую зависимость заемщика, как обанкротившиеся Китайская и Османская империи.
Таблица 9. Выплаты Германии, 1918–1931 гг., млрд марок 1913 г.
Нельзя отрицать и того, что следовавшие одно за другим требования выплаты репараций сыграли значительную роль в создании в Германии обстановки хаоса. Настойчивость Франции, остро нуждавшейся в наличных и требовавшей выплаты значительной части репараций в 1921 и 1922 годах, ставила Веймарскую республику в крайне тяжелое положение[1084]. Однако утверждения о том, что Германия не в состоянии сделать ничего, чтобы исправить ситуацию, не соответствовали действительности, а лишь отражали нежелание националистов смириться с поражением[1085]. Те, кто действительно выступали в поддержку республики, настаивали на том, чтобы Германия проводила ответственную финансовую политику, выставляя при этом Францию и Британию в невыгодном свете и демонстрируя практическую невозможность выполнения их требований. Как неоднократно отмечали эксперты союзников, включая самого Кейнса, даже если Германия не могла вернуть условия, существовавшие до войны, она, без сомнения, была в состоянии предотвратить свое дальнейшее падение, как это сумели сделать Япония, Франция или Италия. Цены оставались бы на высоком уровне, но при соответствующем снижении обменного курса Германии удавалось сохранить свою конкурентоспособность на мировом рынке. Это создавало прочную основу для возобновления переговоров. В то же время если бы Германия не пошла на это, то ей было не на что рассчитывать, кроме как на хаос, оккупацию и гражданскую войну.
Проблема заключалась в том, что даже при гораздо более низком обменном курсе достижение устойчивого положения требовало болезненных фискальных решений. Обеспечить же поддержку со стороны демократического большинства не только стабилизации, но и выполнения всех обязательств по выплатам репараций представлялось вдвойне сложным. В Германии, как и в Британии, Франции и Японии, существовали влиятельные фракции, выступавшие за стабилизацию на основе развития деловой активности. Германия могла вернуть себе позиции ведущего мирового экспортера, отказавшись от достижений революции 1918 года в социальной сфере, отменив восьмичасовой рабочий день, сократив заработные платы и налоги. Однако это означало политическую контрреволюцию, а СДП, несмотря на потерю большой части электората в 1920 году, продолжала оставаться самой крупной политической силой. Как показала общая забастовка, ставшая ответом на путч Каппа, организованные рабочие были в состоянии наложить вето на политические решения, принимаемые в республике. А это делало невозможным любой решительный поворот в направлении фискального консерватизма. Но социал-демократы не располагали необходимым большинством и для того, чтобы в соответствии с собственными предпочтениями резко увеличить прогрессивное налогообложение и ввести налог на богатство.
Такая политическая ситуация привела к катастрофе. Инфляция означала путь наименьшего сопротивления. Правительство Вирта на словах соглашалось с необходимостью выполнения репарационных обязательств. Но для их выполнения оно начало печатать деньги, обменивая их затем на валюту. Результатом стали лихорадочный бум внутри страны и резкое падение курса марки. Зимой 1922 года, в отличие от Британии и США, безработица в Веймарской Германии была незначительной. Платить за это приходилось высоким инфляционным налогом на сбережения населения. Когда этот налог стал неподъемным, новое противостояние оказалось неизбежным.
IV
Выплата репараций на столь очевидно непрочной основе не обеспечивала финансовой безопасности, к которой так стремилась Франция. Хотя доля Франции в общей сумме репараций, подлежащей выплате согласно лондонскому репарационному ультиматуму, по чистой стоимости превышала 8 млрд долларов, банковская группа Дж. П. Моргана, представлявшая интересы Франции, весной 1921 года сумела собрать лишь 90 млн долларов под неприлично высокие проценты – 7,5 % годовых[1086]. Приближалась 3-я годовщина заключения перемирия, а положение Франции становилось все более отчаянным. На конец 1921 года приходились выплаты значительных сумм в виде отложенных платежей по взаимным долгам союзников. Без урегулирования связанных с этими долгами вопросов, позволявшего восстановить кредитоспособность Франции, не могло быть и речи об уступках в вопросах репараций, независимо от того, в насколько отчаянном положении находилась сама Германия.
Нарастающая напряженность в Европе не прошла незамеченной для новой администрации Хардинга. Чарльз Эванс Хьюз, новый госсекретарь, был республиканским вариантом воплощения судьбоносного духа, вдохновлявшего Вильсона. Это был, как однажды колко заметил Тедди Рузвельт, «тот же Вильсон, только с усами»[1087]. Хьюз полагал, подобно Герберту Гуверу, который теперь занимал пост министра торговли, а в свое время был советником Вильсона, что лучше всего Америка сохранит свое влияние, дистанцируясь от происходящего в Европе. Америка не собирается брать на себя ответственность и активно участвовать в урегулировании противостояния в Европе, поэтому Вашингтону следует держаться от схватки подальше. Нейтралитет не просто позволит избежать расходов, связанных с участием в конфликте. Если Америка настоит на своих требованиях, европейцам придется найти пути решения проблемы. Когда финансовое давление приведет к тому, что политические страсти в Старом Свете улягутся, свое слово скажет рынок, и частный капитал станет смазкой, столь необходимой для долгосрочного урегулирования всех вопросов.
Стратегия сохранения дистанции, выбранная Америкой, конечно, учитывала крайне сложную ситуацию в Европе. Но она также была и реакцией на тупик, сложившийся в самой Америке. Последние полтора года правления Вильсона преподали горький урок того, насколько ограниченными были возможности исполнительной власти. Президент Гардинг многими воспринимался как креатура республиканского большинства в Конгрессе. Удивительная активность новой президентской администрации весной 1921 года вскоре вызвала реакцию в Конгрессе[1088]. Осенью сенатор Бойс Пенроуз по запросу президента представил на рассмотрение Конгресса законопроект о предоставлении министерству финансов полномочий на более активное участие в решении вопросов внешней задолженности, включая изменение сроков выплат, обмен долговыми обязательствами и частичное возмещение по прочим обязательствам. Администрация не собиралась предлагать европейцам немедленного решения проблем, а лишь хотела заручиться законными полномочиями, необходимыми для совершения сделок в благоприятных случаях. Американские банкиры, во главе которых стоял руководитель нью-йоркского отделения ФРС Бенджамин Стронг, полностью понимали необходимость взаимовыгодного урегулирования вопросов. Однако конгрессмены, входившие в фермерский блок, смотрели на вещи иначе[1089]. Сенатор от Аризоны Эшхерст говорил по этому поводу: «Мы спасли Европу и нашу христианскую цивилизацию. Однако это не означает, что опасность миновала и теперь мы будем кормить европейцев, спокойно, а иногда и роскошно живущих в своих больших городах»[1090]. Противник уступок по военным долгам от демократической партии выразился еще более конкретно и сказал, что, несмотря на то давление, которое с весны 1920 года дефляция оказывает на экономику страны, «мы обложили американский народ такими налогами, каких не было за всю историю республики… Если мы получим хотя бы проценты по этим займам, то сможем на одну седьмую уменьшить налог на наших людей»[1091].
24 октября 1921 года проект закона Пенроуза был одобрен палатой представителей, но лишь после того, как его изначальное содержание было изменено на противоположное. Вместо предоставления министерству финансов полномочий выступать в роли посредника при заключении имеющих стратегическое значение долговых сделок, закон предусматривал создание сенатской комиссии в составе пяти человек, уполномоченной определять долговую политику, и напрямую запрещал использовать любые иностранные облигации в качестве средства платежа. Позже управляющий Банком Англии Монтегю Норман с грустью говорил своему другу Бенджамину Стронгу из нью-йоркского отделения ФРС, что Конгресс создал «смехотворный» барьер: «Предположим, что нам удалось стабилизировать курс обмена валют, договорившись о некоторых платежах по репарациям. Но этот курс изменится сразу, как только будут проведены платежи по долговым обязательствам между союзниками»[1092]. Этот обмен мнениями между двумя ведущими банкирами просочился в прессу, и поднялась волна возмущения. Правительства Британии и США были вынуждены опровергнуть сообщения о существовании планов проведения трансатлантической конференции по финансовым вопросам. Сенат немедленно заявил в очередной раз, что Америка не откажется ни от единого цента в своих требованиях к Европе.
20 Кризис империи
Самой сильной в финансовом отношении и политически стабильной страной в Европе была Британия. Казалось, что война для Британской империи закончилась триумфом. Ее соперники, старые и новые, смирились, королевский флот правил на морях, армии империи победоносно действовали в Европе и на Ближнем Востоке (табл. 10). Однако через год после заключения соглашения о перемирии карта Британской империи стала напоминать не карту владений, а картину охваченных бунтом просторов, над которыми никогда не заходит солнце[1093]. Кризис империи охватил территории от Западной Индии до Ирландии, Египта, Палестины, Южной Африки, Индии и Гонконга.
Пропаганда периода войны, провозглашавшая соблюдение прав малых народов, право на самоопределение и следование «14 пунктам» Вильсона, привела к тому, что появился общий политический язык, которым полагалось пользоваться, заявляя о своих претензиях к Лондону. На этом фоне каждый протест был связан с другими протестами общей направленностью, указывающей на важность данного исторического момента. В то же время вся колониальная экономика находилась под влиянием перехода от инфляции к дефляции. Резкий рост стоимости жизни вызвал волнения рабочих от Виннипега до Бомбея. В ноябре 1919 года, когда цены выросли вдвое, портовые грузчики в Тринидаде выступили с требованиями повышения оплаты труда на 25 % и введения 8-часового рабочего дня[1094]. В июле 1919 года в Сьерра-Леоне пятикратное повышение цен на рис стало причиной беспрецедентных забастовок[1095]. В Южной Родезии инфляция военного времени довела рабочих до того, что они ходили босиком и донашивали остатки старой одежды: в результате забастовали железнодорожные рабочие, шахтеры и государственные служащие[1096].
Таблица 10. На пределе: развертывание сил Британской империи, февраль 1920 г.
Инфляция дестабилизировала обстановку, однако пришедшая ей на смену в 1920 году дефляция обходилась недешево. В Западной Африке лопнул ценовой пузырь на биржевые товары, что привело местных предпринимателей в ряды Панафриканского конгресса[1097]. Курс фунта стерлингов отошел от минимальных значений по отношению к доллару, и это вызвало падение цен на золото. Основные золотые прииски империи в южноафриканском Ранде понесли значительные корпоративные убытки. Сокращение заработной платы и увеличение числа чернокожих рабочих привело к тому, что 10 марта 1922 года восстали белые шахтеры Ранда. Премьер-министр Смэтс, считавшийся образцом просвещенного государственного деятеля, отдал приказ направить против повстанцев, численность которых в разгар событий составляла десятки тысяч хорошо вооруженных бойцов, 20-тысячный контингент, усиленный артиллерией, танками и самолетами, рассчитывая бомбардировками заставить забастовщиков вернуться к работе[1098].
Во время войны, пока Германия и Япония пытались выработать ясное стратегическое и политическое обоснование своей имперской экспансии в Евразии, Британия, казалось, добилась успеха в восстановлении формулы либеральной империи. Британская империя, похоже, намеревалась обеспечить себе в XX веке особое положение в качестве самодостаточной стратегической единицы, живущей по собственным законам. После 1919 года этому благодушному сценарию пришел конец. Лондону пришлось преодолевать сопротивление своему имперскому правлению и мобилизовать внутренние ресурсы для удержания власти. Вопрос о международной легитимности и стратегической обоснованности существования империи встал как никогда остро. Империи предстояло выжить в кризисе, который оказался беспрецедентным вызовом, приближавшим Британию к настоящей политической катастрофе.
I
Ирландия стала примером имперской катастрофы в миниатюре[1099]. Результаты «выборов в хаки» в декабре 1918 года подтвердили поляризацию общества, ставшую результатом самоубийственного Пасхального восстания «Шинн фейн». Юнионисты одержали безоговорочную победу в Ольстере. На остальной территории Ирландии доминировала «Шинн фейн». В Лондоне умеренные коллаборационисты-националисты оказались вытесненными из политики. 21 января 1919 года на собрании националистически настроенных членов парламента был создан Дойл Эрэн – национальный парламент Ирландии, провозгласивший временное правительство Ирландской Республики. Таким образом, на юге было положено начало созданию параллельного государства. В то же время Ирландская республиканская армия (ИРА), вооруженное крыло республиканцев, поставила перед собой задачу изоляции и искоренения всей инфраструктуры британского правления. В начале 1920 года в Ирландии разгоралась партизанская война, унесшая в течение двух последующих лет жизни 1400 человек, убитых в засадах и в ходе карательных расстрелов. В стране, численность населения которой едва достигала 3 млн человек, это были страшные по масштабам потери. (Пропорционально численности населения это означало бы, что в Индии погибло 110 тысяч человек, а в Египте – 14 тысяч.) Шокировало не только распространение случаев насилия, но и его изощренность. В августе 1920 года на смену гражданскому праву пришли открытые репрессии. Без решения суда были задержаны более 4400 подозреваемых в связях с ИРА, что составляло ощутимую долю ирландского населения. Британский кабинет министров в открытую санкционировал убийство лидеров ИРА и проведение карательных акций, включая поджоги ферм и другого имущества. На большей части Ирландии было объявлено военное положение. Однако недостаточное количество регулярных армейских и полицейских подразделений заставило Лондон создать нерегулярные вооруженные формирования, которые стали печально известны своей жестокостью. К лету 1921 года фельдмаршал Генри Вильсон, – один из заговорщиков, участвовавших в осуществлении плана Ольстерского мятежа 1914 года, – призывал направить в Ирландию не менее 100 тысяч солдат регулярной армии[1100].
В июле 1921 года Ллойд Джордж добился перемирия, пригрозив массовыми репрессиями. Но Лондон блефовал. Полномасштабная оккупация Ирландии не только ложилась невыносимым грузом на Британию. Она грозила неисчислимыми политическими потерями внутри страны и за рубежом[1101]. Избежать эскалации конфликта удалось лишь благодаря уступкам, на которые пошли умеренные силы с обеих сторон. Британские тори дали понять ольстерским юнионистам, что им придется в конце концов смириться с гомрулем, притом что Север останется отдельной юрисдикцией. Ирландским националистам пришлось смириться с разделением: Совет Ирландии, в котором юнионисты имели вес, подтвердил свою верность Британской империи и сохранению британских морских баз на территории Ирландии.
В декабре 1921 года Ирландское свободное государство получило официальный статус доминиона в «содружестве наций, именуемом Британской империей»[1102]. Но этого было недостаточно, для того чтобы обеспечить мир. Последний всплеск апокалиптического радикализма «Шинн фейн» был направлен не на британцев, а на их бывших товарищей, решившихся на компромисс. Разгоревшаяся гражданская война в республике унесла больше жизней, чем сражения с британцами. Если сложить обе войны, то число погибших в них ирландцев окажется пропорционально сравнимым с другой крупной катастрофой, связанной с уходом Британии из империи, – отделением Индии в 1947 году. Это было бесславным окончанием попыток найти либеральное решение в вопросе о самоопределении Ирландии, которые политический класс Британии предпринимал в течение пяти лет. Запаса жестокости с лихвой хватило до самого конца XX века. Но Ирландия так и не приобрела стратегической важности для Британии, чего так добивалась «Шинн фейн». Стратегия националистов была направлена на то, чтобы добиться признания и поддержки со стороны Вашингтона. Но Вильсон отказался от обсуждения ирландского вопроса на Парижской мирной конференции[1103]. Последовавшая гражданская война сильно дискредитировала крайних националистов в глазах мирового сообщества. Лондон сумел сохранить ирландский вопрос под контролем. Но ему не удалось избежать потерь, связанных с агрессивной ближневосточной политикой, проводимой коалицией Ллойда Джорджа. Масштабные имперские стратегические цели, которые преследовала Британия, вызвали сопротивление на местах, негодование по всей империи и осуждение британской политики в Европе.
II
Начиная с открытия в 1869 году и до франко-британской интервенции в 1956 году Суэцкий канал постоянно находился в фокусе стратегического внимания Британии. Но власть можно использовать по-разному. Неоднозначный ход развития событий Великой войны вынудил Британию прибегнуть к наиболее агрессивным и разрушительным действиям за все время ее присутствия на Ближнем Востоке[1104]. Еще весной 1918 года, когда германская армия стремительно наступала, главный советник Ллойда Джорджа Альфред Мильнер выступил за отступление на периферию империи. Если Британии придется уйти из Франции, то она сможет вести боевые действия с позиций, расположенных на побережье Северного моря, Атлантического океана, а также с баз, разбросанных по всему побережью Средиземного моря. К октябрю 1918 года Британия одержала победу на всех фронтах: в Палестине, Сирии, Иране, даже на Кавказе. Казалось, британскому влиянию не было пределов. Большевики были заблокированы, поэтому главной проблемой Лондона стали его союзники – Франция и Соединенные Штаты. В Версале Франция требовала для себя преимущественных прав в Сирии. В то же время Ллойд Джордж хотел склонить Америку принять мандат в автономной Армении. Вашингтон направил в Палестину и Армению группы исследователей для ознакомления с обстановкой. Армения стала любимой темой Вильсона. Однако было понятно, что вопрос потребует значительных расходов при минимальной экономической отдаче, к тому же британские интриги стали уже привычным делом. Весной 1920 года Конгресс окончательно проголосовал против мандата в Армении, равно как и против остальных положений мирного договора[1105].
Но британцы не только переоценили заинтересованность Америки в активной поддержке самоопределения. Они серьезно недооценили силы, которые, услышав о самоопределении, были готовы бросить вызов британскому влиянию в регионе. В первую очередь это относилось к Египту. В 1880-х годах Египет стал объектом новой имперской конкуренции в Африке. Британия вытеснила из страны Османскую империю и Францию, обеспечив себе господство над Суэцким каналом, строительство которого финансировала Франция. В 1914 году с приближением войны начались разговоры о немедленной аннексии. В декабре 1914 года Лондон, не задумываясь о возможных вариантах, объявил о создании протектората, обещая в перспективе передачу канала под управление Египта[1106], что породило противоречивые ожидания. Ориентировавшаяся на Францию египетская элита приняла либеральную риторику Антанты и Соединенных Штатов за чистую монету, в то время как наиболее экспансионистски настроенные британские империалисты ожидали «распада Османской империи, рассчитывая превратить Египет в путеводную звезду нового афро-азиатского созвездия»[1107].
В 1918 году Саад-паша Заглул, который ранее занимал посты министра образования и министра юстиции, а теперь стремительно превращался в лидера нового национализма, потребовал, чтобы ему как представителю партии национальной аристократии, носившей название Вафд, предоставили возможность участвовать в переговорах в Версале. Сначала Британия отнеслась к этому требованию с презрением. Советник британской делегации по финансовым и юридическим вопросам Уильям Брюниат в ответ на предостережение о возможном крупном пожаре сказал, что «сумеет погасить этот пожар одним плевком»[1108]. Если бы египетский национализм сводился лишь к Заглулю и его знатным друзьями, плевка, может быть, и хватило. Но в течение зимы 1918/19 года этот вопрос привел к созданию беспрецедентно многочисленной коалиции. В марте 1919 года Британия столкнулась с массовыми волнениями, в основном ненасильственного характера, вызванными сочетанием политических и экономических причин[1109].
Одной из главных причин стало ослабление египетской экономики в результате выполнения оборонных заказов. Галопирующая инфляция, трехкратное повышение цен и недостаток продуктов питания достигли опасного уровня[1110]. Рост цен на продукты сильнее всего ударил по городской бедноте, но и крестьяне, выращивающие хлопок на экспорт, оказались на грани голодания. Однако, по замечанию одного скандинавского дипломата, это был не просто голодный бунт. «Впервые в истории современного Египта в политическом движении участвовало все население страны»[1111]. В марте 1919 года Каир был охвачен беспорядками, Заглула сослали на Мальту, а Британии все не удавалось найти среди египтян человека, который смог бы возглавить способное к совместной работе правительство. В стране объявили военное положение, и в Каир был срочно вызван герой победоносной палестинской кампании генерал Алленби, которому предстояло занять должность верховного комиссара. Правительство было парализовано всеобщей забастовкой государственных служащих, поэтому для восстановления порядка не хватило даже значительных британских сил, выведенных из казарм в зоне Суэцкого канала. Желая продемонстрировать единство нации, копты и мусульмане вместе праздновали Пасху 1919 года.
Теперь для тушения пожара плевка было явно недостаточно. Но Лондон не собирался ослаблять хватку. В Версале Бальфур и Ллойд Джордж добивались от Франции и Соединенных Штатов согласия на превращение Египта в британский протекторат[1112]. Обеспечив свои стратегические позиции, Британия разрешила Заглулу покинуть ссылку, а в декабре 1919 года комиссия во главе с лордом Милнером прибыла в Каир, чтобы «понять, какая форма конституции в условиях протектората сможет в наибольшей степени обеспечить мир, процветание, прогрессивное развитие институтов самоуправления и защиту иностранных интересов»[1113]. В 1914 году такой покровительственный тон был бы воспринят как провокация, а к концу первого года национального восстания оказался совершенно неуместен. Даже Милнер был вынужден признать, что «в Египте национализм полностью доминирует во всех социально значимых элементах. Страной стало невозможно управлять»[1114]. К лету 1920 года всем, кто находился в стране, стало совершенно ясно, что Британии придется пойти на переговоры о дальнейшем присутствии своих вооруженных сил на территории независимого Египта. Как заверил Милнер членов кабинета министров, «Египет действительно представляет собой важнейший узел всей имперской системы, но у Британии нет необходимости обладать им». Британии там требуется «надежный плацдарм», а для этого нужно, чтобы было признано право Британии на размещение своих войск в зоне Суэцкого канала на период укрепления позиций в верховьях Нила в Судане[1115]. Милнер действительно выражал готовность рассматривать независимость Египта как «наиболее очевидное свидетельство реформаторской деятельности Великобритании… Становление Египта как независимого государства, действующего в тесном союзе с Великобританией, означает не отступление от нашей политики, а ее последовательное доведение до конца. Такая попытка свидетельствует о наших добрых намерениях и нашей уверенности в том, что мы делаем в Египте…»[1116] Но на Даунинг- стрит предпочитали не торопиться.
В феврале 1922 года Лондон согласился признать независимость Египта и отменил военное положение лишь после того, как Алленби пригрозил своей отставкой. Проблема состояла в том, что в Египте (как и в Ирландии) национализм окреп настолько, что подобный компромисс не позволял британцам чувствовать себя спокойно. На всех выборах в период с 1923 по 1929 год в поддержку умеренной программы национальных реформ партии Вафд голосовало подавляющее число избирателей. Британия вмешалась еще раз, заблокировав партии Вафд путь во власть. Действие первой либеральной конституции Египта было приостановлено, а в 1930 году было сформировано правительство, достаточно авторитарное, чтобы совместить свои взгляды на ограниченную национальную независимость страны с интересами Британии. За свой ограниченный суверенитет Каир дорого заплатил Лондону. Обещанная демократическая политика Египта оказалась скомпрометированной с момента своего рождения.
Агрессивное отношение Британии к египетскому национализму было тем более удивительным, что в регионе не наблюдалось серьезных стратегических угроз. Турция и Германия оказались в числе побежденных, Россия была безоружной, а Америка – незаинтересованной. Италия и Франция искали союза с Британией в Антанте, стремясь обеспечить свою безопасность, и ни одна из них не представляла серьезной угрозы британскому превосходству. Порой создавалось впечатление, что значительное военное превосходство Британии толкает ее на новые агрессивные действия. Когда в октябре 1918 года Т. Э. Лоуренс въезжал в Дамаск рядом с эмиром Фейсалом в сопровождении полутора тысяч всадников, казалось, что Британия берет под свое покровительство территорию, еще в 1916 году предназначавшуюся Франции. Лондон утверждал, что просто выполняет обещание создать независимое арабское государство. Но теперь на плечи Фейсала ложилась и ответственность за согласие с обещаниями Бальфура о создании в Палестине сионистского государства, которое еще осенью 1919 года вызывало возмущенные протесты арабов[1117]. После конференции, состоявшейся в апреле 1920 года в Сан-Ремо, на которой были достигнуты новые договоренности с Францией, Британия прекратила поддержку Фейсала[1118].
Вместо Сирии, предназначавшейся теперь Франции, Британия расположится в Египте и объединенном Ираке, что вызовет ожесточенное сопротивление племен в Месопотамии. После того как французы расстреляли сирийских националистов из танков и разбомбили их с самолетов, Фейсал уже не обращал внимания на это сопротивление и был переведен из Дамаска в Багдад, а его брат возведен на трон короля Трансиордании[1119]. Вершиной унижения арабского политического класса стали события марта 1924 года, когда вооруженная британская охрана силой привела избранных членов иракского законодательного собрания в здание парламента, чтобы те ратифицировали англо-иракский договор, согласно которому Ирак получал независимость, а Британия оставляла за собой контроль над его армией и финансами[1120]. На Ближнем Востоке установился новый порядок, державшийся на номинально независимых Египте и Ираке, а на деле опиравшийся на своевольное пренебрежение политической легитимностью, истоки которого, в свою очередь, крылись в моральных основах Британской империи в целом[1121].
Агрессия Лондона в отношении Турции была еще более неприкрытой, а последствия – еще более катастрофическими. К 1918 году разрушение Османской империи стало официальной политикой Антанты. Турции были оставлены лишь Анатолия и восточная Фракия. К началу мая 1919 года султан находился под франко-британским надзором в Стамбуле. Вдоль железнодорожных путей в Анатолии было размещено около 40 тысяч британских солдат. Греческие воинские части установили жесткий оккупационный режим в Смирне, а итальянские солдаты в качестве компенсации за потери в Адриатике заняли плацдармы на побережье Эгейского моря[1122]. На востоке набирали размах движения армян и курдов за автономию[1123]. Если у политики Антанты в отношении Турции и имелось какое-то политическое обоснование, то оно состояло в том, что дряхлость Османской империи и совершенные ей злодеяния лишают ее права на историческое существование.
Но эта политика не учитывала новой силы турецкого национализма. Убийства армян в 1915 году дискредитировали националистов, но уже на всеобщих парламентских выборах, состоявшихся в марте 1920 года, националисты получили абсолютное большинство голосов. Британцы ответили оккупацией Стамбула, введением военного положения и поддержкой наступления греков во внутренних районах Анатолии. Националисты отступили на Анатолийское нагорье, в Анкару, и Великое национальное собрание объявило о национальном восстании. Не обращая на это внимания, западные державы продолжили наступление. 10 августа 1920 года султан был вынужден подписать унизительный Севрский договор[1124]. Ллойд Джордж заявил, что Антанта «освободила все нетурецкие народы от засилья турок». Но, подписав договор, султан освободил турок от присяги на верность своей династии. Для лидера националистов Ататюрка это означало «переход правления… в руки народа».
В течение лета 1920 года греческая армия сильно продвинулась вглубь Анатолии. Однако 1 ноября события обрели неожиданный поворот, и промонархически настроенные греческие избиратели вынесли вотум недоверия проводившему экспансионистскую политику либеральному правительству Элефтериоса Венизелоса. В ходе ожесточенных зимних боев наступление греческих войск было остановлено, а через какое-то время новая армия, сформированная Великим национальным собранием Турции, вынудила греков отступить. В январе 1921 года Собрание провозгласило новую конституцию и заключило договор с Советским Союзом. Летом греческие войска возобновили наступление. Они подошли к Анкаре на расстояние 40 километров, но национальные силы Турции, объединившиеся вокруг Ататюрка, разгромили силы завоевателей в ходе трехнедельных сражений на линии реки Сакарья[1125]. В середине сентября 1921 года греки долго отступали к побережью, ведя кровопролитные бои, а Ллойду Джорджу оставалось безучастно наблюдать крах своей ближневосточной политики. Поддержка Британией Греции привела к возникновению союза между Турцией и Россией, которого никто не ожидал. Между тем разногласия между Британией и Францией на Ближнем Востоке вызвали раскол в Антанте и ослабление политики Ллойда Джорджа в Европе. Хуже всего было то, что британская агрессия против Турции грозила развитием неуправляемой ситуации в Индии.
III
Масштаб вероятной угрозы британскому правлению в Индии стал ясен в 1916 году, когда Бал Гангадхар Тилак и Анни Безант развернули агитационную кампанию за самоуправление. В 1918 году сдержать волнения удалось лишь благодаря декларации Монтегю и угрозе денежного кризиса. Но уже через год неожиданно для Лондона массовые протестные движения стали нарастать. В 1916 году толпы вышедших на улицу насчитывали десятки тысяч человек. В 1919 году участники антибританского движения исчислялись миллионами. Конечно, активности Индийского национального конгресса и Лиги самоуправления во многом способствовал экономический спад. Британская администрация «раджа» утешала себя тем, что активность повстанцев в 1919 году вызвана экономическими причинами. А на бунт индийцев, вызванный голодом и чувством безысходности, можно ответить мерами экономического характера. Лучшим средством от беспорядков, вызванных ростом стоимости жизни, будет дефляция[1126].
Еще до войны индийские националисты требовали установить золотой стандарт. В феврале 1920 года Лондон объявил о своей готовности согласиться с этим требованием. В разгар послевоенного бума курс рупии определялся ценой на золото. Однако установленный британцами завышенный курс привел не к стабилизации ситуации, а к сжатию денежной системы, и к лету 1920 года валютные запасы Индии были истощены, что вызвало волнения в деловых кругах. Впервые бомбейская буржуазия открыто поддержала националистов[1127]. Если британцы ставили задачу деполитизировать экономические проблемы, то они добились противоположного результата. В любом случае попытки администрации «раджа» объяснить рост волнений одними лишь экономическими причинами привели к тому, что подлинные масштабы восстания оказались недооцененными. Ситуация осложнялась религиозным фактором и местными проблемами, на которые наложилась энергия миллионов недовольных студентов, рабочих и крестьян. Все вместе это привело к тому, что в восстание против «раджа», как в водоворот, были втянуты самые разнообразные элементы. Экономические причины сохранялись, но теперь политический протест охватил широкие массы населения Индии, возмущенные несправедливостью британского правления.
В 1918 году под руководством сэра Сиднея Ровалта был создан комитет, перед которым стояла задача не только рассмотреть широкий спектр мер по обеспечению безопасности, но и склонить консервативных губернаторов британских провинций в пользу либеральных реформ Монтегю – Челмсфорда. В январе 1919 года правительство Индии, вопреки протестам государственного секретаря Монтегю, выступило с предложением о продлении на неограниченный срок своих чрезвычайных полномочий, утвержденных на время войны. Это означало превращение Индии в страну, находящуюся в осадном положении, что вызвало беспрецедентные массовые протесты[1128]. К началу апреля поднялись волнения в Бомбее и Лахоре, а в Ахмедабаде было введено военное положение. 10 апреля по Пенджабу прокатилась волна превентивных арестов. В Амритсаре это вызвало сопровождавшиеся насилием демонстрации протеста, в ходе которых были убиты пятеро европейцев и совершено нападение на учительницу. Белая община забеспокоилась, и в Амритсар был направлен военный контингент численностью 300 человек под командованием бригадира Реджинальда Дайера. 13 апреля, когда 20-тысячная толпа отказалась разойтись, он отдал приказ открыть огонь. Десять минут спустя на месте лежали тела 379 мужчин, женщин и детей, еще сотни человек были ранены. Смерть в результате стычек с британскими солдатами и имперской полицией стала обычным явлением послевоенного кризиса в империи. Однако массовое убийство в Амритсаре открыло новую страницу в истории подавления волнений: Дайер явно хотел сделать свое послание предельно доходчивым. Последовали недели террора и унижений.
Казалось, что в Индии (как и в Ирландии) события быстро приближались к точке, за которой сопротивление имперскому либерализму сдержать будет невозможно. Индийские националисты, включая такие видные фигуры, как Ганди, который пытался договориться с британцами, осуждали недисциплинированность протестующих, которая дала Дайеру повод действовать. Но вряд ли от них можно было ожидать сотрудничества с режимом, построенном на столь неприкрытом и неоправданном применении силы. Со своей стороны, вице-король Челмсфорд и британский кабинет министров не могли не провести расследования действий своих агрессивно настроенных подчиненных, оказавшихся в осаде. Они были по-настоящему встревожены. Как говорил Монтегю вице-королю, «наше испытанное жесткое правление, предмет почитания в клубных курительных комнатах, вновь принесло все те же неотвратимые плоды»: насилие, смерть и дальнейшую радикализацию[1129]. Монтегю оставался верен своим личным убеждениям. В июле 1920 года, представляя в палате общин результаты расследования событий в Амритсаре, он осудил кровавое побоище как постыдный акт «расового унижения», рассчитанный на то, чтобы нанести ущерб репутации Британской империи. Он обвинил Дайера в «терроризме и пруссианстве». Члены правительства были сконфужены, когда на задних скамейках, где располагались рядовые тори, послышались грубые расистские и антисемитские возгласы, клеймившие не Дайера, а либерального министра иностранных дел.
Помимо волны возмущения, охватившей индийцев в начале 1919 года, британцы столкнулись еще с одной опасностью. Британия давно объясняла свое присутствие в Индии необходимостью защиты мусульманского религиозного меньшинства. После того как в 1916 году в Лахнау был заключен Договор между Индийским национальным конгрессом и Мусульманской лигой, это объяснение стало выглядеть сомнительным. К весне 1919 года, когда стало ясно, что заключить мир с Османской империей будет непросто, Британия превратилась, по выражению вицекороля Челмсфорда, в «самого главного врага ислама»[1130]. Движение за халифат стало выражением протеста обычно молчаливых мусульман против унизительного обращения с турецким султаном, который, как халиф, считался хранителем суннитской веры. В феврале 1920 года на конференции в Бенгалии, давнего рассадника антибританских настроений, большинство сторонников халифата выступали не за проведение реформ в «радже», а за всеобщее восстание против британского правления. Абдул Бари, один из наиболее радикально настроенных лидеров панисламизма, готовился объявить джихад. Вновь и вновь Монтегю и британская администрация в Индии указывали Лондону на необходимость изменить политику в отношении турок или, по крайней мере, позволить индийскому правительству занять независимую позицию и показать, что «радж» не имеет отношения к нападкам на Турцию. Лондон отказывался от подобных шагов. В результате против британцев объединилась вся Индия.
Уникальная способность Ганди координировать действия своей необычайной коалиции позволяла ему играть центральную роль. В ноябре 1919 года он участвовал в работе всеиндийской конференции движения за халифат, проходившей в Дели, в качестве единственного представителя индуистов. Именно на этой конференции он впервые заговорил о стратегии неучастия Индии, стратегии, которую он использовал, выступая против антиазиатского расизма в Южной Африке[1131]. Массовая поддержка, которой пользовался Ганди, повлияла на неспешную деятельность Индийского национального конгресса. На созванный в декабре 1920 года в Нагпуре съезд ИНК прибыло 15 тысяч делегатов – больше, чем когда бы то ни было. Ганди настоял на реорганизации ИНК и признании деревни «основным институтом» общественной жизни в Индии. Это должно было усилить всеиндийские органы руководства ИНК во главе с Ганди за счет ослабления региональных элит. Вопрос о постепенных преобразованиях уже не стоял на повестке дня. Под бурные аплодисменты собравшихся Ганди обещал, что самоуправление – сварадж – будет установлено в течение года. Для достижения этой цели ИНК принял решение использовать не только конституционные, но и все «законные и мирные средства»[1132].
Бросая вызов британскому правлению, Ганди говорил о неприменении насилия, играя тем самым на либеральных устремлениях министра иностранных дел Монтегю и нового вице-короля, лорда Ридинга. В декабре 1919 года обе палаты британского парламента приняли законопроект о правительстве Индии без изменений. Без особого желания парламент согласился с тем, что разделение избирателей будет проводится по согласованию между ИНК и Мусульманской лигой[1133]. Даже после кровопролитных событий в Амритсаре ИНК на своем декабрьском 1919 года съезде пусть и неохотно, но подтвердил свое согласие с реформами, предложенными Монтегю. Сам Ганди еще не отказался от сотрудничества. Лишь жесткие условия Севрского договора с Турцией и совершенно неадекватная официальная реакция на массовый расстрел, устроенный Дайером, убедили наконец Ганди в вероломстве Лондона. В августе 1920 года ИНК заявил о своем отказе от сотрудничества в ходе выборов, назначенных на ноябрь. Британцам не оставалось ничего иного, как проводить выборы. Они не могли себе позволить разочаровать тех индийцев, которые все еще были готовы сотрудничать с ними. Элита ИНК была озадачена возникновением нового массового движения, во главе которого оказался Ганди. Зимой 1918/19 года от ИНК откололась фракция так называемых умеренных, создавших Национальную либеральную лигу, которую вполне устраивало ограниченное избирательное право, предусмотренное реформами Монтегю – Челмсфорда.
К 1925 году, когда новая конституция начала приобретать окончательную форму, право участвовать в выборах в провинциальные законодательные советы получили 8 млн 258 тысяч индийцев. Около 1 млн 125 тысяч человек получали право голоса на выборах в Индийскую законодательную ассамблею, а членов Государственного совета избирала группа выборщиков, в которую входили 32 126 человек. В общей сложности на различных уровнях право голоса получало менее 10 % взрослого мужского населения страны[1134]. Несмотря на бойкот выборов, объявленный ИНК, на подавляющее большинство мест претендовали представители местных соперничающих фракций, при этом число проживающих в избирательных округах было значительно больше числа тех, кто имел право голоса. На первых выборах, состоявшихся в 1920 году, благодаря отказу ИНК от участия в выборах хорошие результаты показала Либеральная лига. Умеренные, склонные к компромиссу с британцами, получили численное преимущество в Ассамблее. Наиболее удивительный результат был показан в Мадрасе, где высшая каста бойкотировала выборы, что позволило кастам, не относящимся к браминам и представленным недавно сформированной Партией справедливости, получить беспрецедентное количество голосов, обеспечивших ей 63 из 98 выборных мест.
Местное управление полностью перешло в руки индусов, и теперь британские либералы могли наконец заявить о том, что они выполняют свои обещания. Индийская демократия делала свои первые шаги в XX веке. Однако сюжет о «британском происхождении демократии» терял свою достоверность, едва успев появиться. Политическим событием 1920 года стал не выход Индии на собственный путь построения массовой демократии, а необычайный рост движения гражданского неповиновения, направленный против Британии. В первых всеобщих выборах в Индии участвовала лишь четверть от общего числа имевших право голоса на провинциальном уровне, и этот показатель колебался между 53 % у индусов-горожан, проживавших в Мадрасе, и менее чем 5 % у политически активного мусульманского городского населения Бомбея. Даже британские наблюдатели были вынуждены признать, что появлявшиеся в результате таких выборов советы были пассивны и действовали «в атмосфере нереальности»[1135].
«Реальность» политической ситуации в Индии в 1920 году определялась движением массового неповиновения под руководством Ганди. Для британской и индийской элиты это был неведомый новый мир[1136]. Сварадж, о котором говорил Ганди, представлял собой во многом намеренно утопическую идею будущего избавления не только от ига британского правления, но и от любого современного государственного или экономического уклада. В этой идее не было места колониальному развитию, она не отвечала устремлениям сложившейся националистической элиты и была до абсурда анахроничной с точки зрения зарождавшегося в Индии коммунистического движения. После 1945 года идеи коммунализма, предложенные Ганди, окажутся искаженными до неузнаваемости, хотя сам Ганди будет считаться духовным вождем индийского народа. Однако неоспоримая сила Ганди заключалась не только в его харизме, но и в его действительно скрупулезном понимании политической тактики. День за днем он привлекал на свою сторону восставших, проверяя, до какого предела он может усиливать давление на британцев, но не доводя их до того, чтобы они почувствовали себя вынужденными прибегнуть к массированному применению средств летального воздействия[1137]. Гражданское неповиновение было целенаправленной попыткой совершить революцию, не допустив при этом большого пожара, к которому привели опрометчивые действия Ленина в России или «Шинн фейн» в Ирландии. Это была превосходная стратегия проверки на прочность либеральной империи и ее принципов, которые сам Ганди совсем недавно принял.
Шокированные событиями в Амритсаре и призывами к дальнейшему кровопролитию, звучавшими с обеих сторон, Монтегю и вице-король пытались не допустить дальнейшей эскалации. Но в Лондоне к осени 1921 года члены кабинета министров начали терять терпение. Ллойд Джордж телеграфировал в Индию: «Я убежден, что время терпения и толерантности прошло…Большинство индийцев лояльны в своем содействии реформам, и нельзя допустить, чтобы у них возникали сомнения относительно того, кто сильнее – Ганди или „британский радж”…»[1138]Имея опыт событий в Ирландии и Египте, «Британская империя… переживает критически важный период, и ей не удастся выжить, если она не сумеет сейчас самым убедительным образом показать, что обладает достаточной волей и силой… необходимыми для решительных действий в отношении тех, кто ставит под сомнение ее власть». Ллойд Джордж напоминал Монтегю и Ридингу, что «взгляды членов кабинета министров строятся на данных очень широкого изучения наших позиций по всему миру…» И это, без сомнения, было именно так. Политика империи была мировой политикой. Но членам кабинета министров явно не хватало понимания того, какие силы действуют в самой Индии. Даже внутри индийской элиты росло понимание неизбежности скорых перемен. Большинство населения поддерживало Ганди, что вызывало вопрос, удастся ли Британии заручиться поддержкой хотя бы умеренного меньшинства. Если не заставить замолчать радикально настроенных националистов, то умеренные останутся незащищенными. При этом повторение событий, имевших место в Амритсаре, приведет к созданию ситуации, не менее острой, чем в Ирландии.
Когда зимой 1921/22 года ИНК объявил о своем бойкоте государственного визита в Индию Эдварда, принца Уэльского, казалось, что момент конфронтации близок[1139]. К январю 1922 года массового кровопролития удалось избежать, но власти арестовали в различных провинциях более 30 тысяч последователей тактики гражданского неповиновения. Либеральная политика сдерживания и «неконфронтации», предложенная Монтегю, терпела провал. На третьей неделе декабря 1921 года, пытаясь в последний момент достичь компромисса, Ридинг подхватил идею проведения круглого стола по вопросу о конституции. Риск был очень высоким. Вице-король начал действовать, не дожидаясь поддержки Лондона или губернаторов провинций, а значит, ему следовало быть готовым к яростным протестам с обеих сторон. Новому механизму выборов, принятому индийскими умеренными, не исполнилось и года. Попытка пересмотреть его так скоро грозила вызвать панику.
В данном случае Ридинга в наступающем новом, 1922 году спасла поспешность Ганди, столь нехарактерная для последнего. Хотя значительная часть руководства ИНК поддерживала идею переговоров, Ганди единолично отказался от участия в круглом столе[1140]. Это стало спасением для Ридинга. Всего через несколько дней после того, как он разослал приглашения участникам, идея была с негодованием отвергнута Ллойдом Джорджем и губернаторами провинций. Если бы Ганди принял приглашение вице-короля именно в тот момент, когда Лондон отказался его поддержать, это стало бы беспрецедентным примером публичных разногласий между правительствами Индии и Британии. Теперь же, в январе 1922 года, в изоляции оказался сам Ганди. Его отказ от переговоров подтвердил подозрения значительной части индийского политического класса, считавшей Ганди опасным популистом-радикалом. События вновь оборачивались в пользу британцев.
Однако сам тон разговоров свидетельствовал о том, что ситуация дошла до предела. В начале 1922 года прозорливым имперским чиновникам стало ясно, что в обозримом будущем влияние Британии в Индии будет зависеть не от широких политических жестов а-ля Монтегю – Челмсфорд и не от демонстрации силы, которой требовал Лондон. Теперь требовалась ежедневная импровизация. В середине января 1922 года департамент внутренних дел правительства Индии выступил с весьма тонкой оценкой ситуации. «Борьба против Ганди, – писали чиновники, – всегда была борьбой за положение». Политика неконфронтации, предложенная Ридингом и Монтегю после событий в Амритсаре, грозила тем, что инициатива могла перейти к националистам, а в ноябре и декабре «тактическое превосходство… временно оказалось на стороне Ганди». Но в начале 1922 года чиновники почувствовали, что «мнение умеренных… стало все более отчетливо склоняться в пользу правительства». После того как Ганди единолично принял решение об отказе участвовать в круглом столе, влиятельные индусы были готовы согласиться на его арест при условии, что британцы выберут для этого подходящий момент. И этот момент наступил, когда Ганди открыто заявил о своем намерении положить конец британскому правлению. В конце 1920 года он обещал установить сварадж в течение года. Год спустя стало ясно, что своего обещания он не выполнил. «Рано или поздно, – отмечали британские имперские тактики, – ему придется в открытую призвать к массовому гражданскому неповиновению… и тогда, и только тогда у правительства появится возможность вступить с ним в решающую схватку… не рискуя лишиться поддержки, которой мы пользуемся в стране, и вызвать кризис, который мог привести к нарушению конституции»[1141].
Действительно, такой момент настал очень скоро. В феврале 1922 года, когда в Лондоне уже теряли терпение, популярность Ганди сыграла с ним злую шутку. После того как он выступил с открытым вызовом в адрес правительства Индии, тысячи молодых индийцев начали создавать добровольческие отряды гражданского неповиновения. 4 февраля полиция разогнала демонстрацию против высоких цен на продукты в Чаури-Чаура в штате Уттар-Прадеш, в ответ члены добровольческих отрядов сожгли здание полицейского участка, при этом 23 полицейских, находившихся внутри, погибли. Лондон потребовал немедленного ареста Ганди. Ллойд Джордж выступил с заявлением, в котором говорилось: «Если будут предприняты попытки бросить вызов нашим позициям в Индии, вся мощь Британии будет брошена на сохранение британского влияния в Индии… с силой и решительностью, которые удивят весь мир». Это была та же тактика «все или ничего», которую Ллойд Джордж применял для запугивания ирландцев. Все тот же явный блеф, причем в Индии это был еще более очевидный блеф, чем в Ирландии[1142]. Конечно, британская общественность была в определенной степени нетерпелива по отношению к «неблагодарным» индусам. Но никто не жаждал массовых репрессий. Реакция департамента по делам Индии британского правительства была ближе к реальности. Монтегю настаивал на том, чтобы правительство Индии со всей ясностью заявило не только о британском доминировании в Индии, но и об обязательствах Британии в отношении Индии. Было необходимо еще раз указать на ошибочность мнения о том, что Британия «считает свою миссию в Индии близкой к завершению» или что Лондон «готовится к отступлению».
Сам Ганди был потрясен насилием в Чаури-Чаура и 12 февраля выступил с неожиданным призывом прекратить кампанию гражданского неповиновения. Лондон теперь преследовал Ганди, однако даже в этих условиях Ридинг проявлял сдержанность, следуя настойчивым просьбам индусов, тесно сотрудничавших с вице-королем. Ганди должен быть арестован, но прежде правительству Индии требовалось укрепить свои моральные позиции, устранив основные причины недовольства мусульман, приведшего их к Ганди. Для восстановления влияния в Индии на либеральных условиях империи необходимо заключить справедливый мир с Турцией. Не заручившись поддержкой всех членов кабинета министров, Монтегю передал в прессу заявление, в котором говорилось о необходимости проведения в Индии слушаний по турецкому вопросу. Заслуги Индии в Великой войне неоспоримы. В Месопотамии и Палестине индийские мусульмане отдавали свои жизни за империю. От их имени правительство Индии настаивает на выводе всех британских и французских сил из Константинополя, традиционной резиденции халифа. Необходимо восстановить «сюзеренитет султана над святыми местами». Греки должны оставить Анатолию. А при проведении окончательных границ с Грецией османская Фракия должна оставаться в составе Турции[1143].
Неудивительно, что министр иностранных дел Джордж Керзон был вне себя. То, что «подчиненное подразделение британского правительства, находящееся в 6 тысячах милях отсюда», пытается указывать Лондону, «какой линии, по его мнению, ему следует придерживаться, совершенно нетерпимо». Если правительство Индии «позволяет себе высказывания по поводу того, что мы делаем в Смирне или Фракии, то почему бы им не сделать то же самое в отношении Египта, Судана, Палестины, Аравии, Малайского полуострова или любой другой части мусульманского мира»? Вопрос, касавшийся самой сути проблемы: как управлять мировой империей в демократических условиях? – оставался без ответа. 9 марта 1922 года Монтегю был вынужден подать в отставку. На следующий день без лишнего шума арестовали Ганди. Еще через неделю человек, с которым Монтегю и Ридинг намеревались вести переговоры о новых устоях либеральной империи, был приговорен к 6 годам тюрьмы.
IV
Британская империя пережила этот кризис. Консерваторы еще многие годы рассуждали о его последствиях. Однако победа не выглядела убедительной. Да, консерваторы победили. Но не было никакой необходимости в том, чтобы прибегать к насилию для утверждения их абсолютного доминирования, которое с таким энтузиазмом обсуждали в барах по всей империи. На практике лишь тонкие тактические маневры в обход презренных либералов, засевших в колониальной администрации, и более утонченных националистов избавили Британию от необходимости повторять на просторах империи кошмарный и позорный опыт эскалации насилия, который в Ирландии грозил открыть прямой путь к катастрофе[1144]. Либерализм избавил реакционеров от необходимости в полной мере проявлять всю несостоятельность своих позиций. Правда, самому либеральному проекту в ходе этих событий был нанесен непоправимый ущерб.
Монтегю до последних дней говорил о том, что его политика в Индии была сведена на нет иррациональной агрессией туркофобов. Даже в своем последнем выступлении в палате общин в качестве министра по делам Индии он упрямо держался знаменитого определения империи как двигателя прогресса, которое в свое время предложил лорд Маколей. «Индия должна понимать, – напоминал Монтегю, – что, руководствуясь соображениями доброй воли и партнерства, британский парламент не откажет ей ни в каких правах…Если Индия будет верить в нашу добросовестность… если она примет предложение, сделанное ей британским парламентом, то она поймет, что Британская империя, за которую совсем недавно отдавали свои жизни многие индийцы и англичане и которая и сегодня спасает мир, даст ей свободу, а не лицензию на нее, освобождение, а не анархию, прогресс, а не беспорядочное движение, обеспечит мир и откроет самые благоприятные перспективы будущего»[1145]. Но Монтегю игнорировал противоречия, неоднократно проявлявшиеся в либеральной имперской модели. Либеральные взгляды были необходимы для того, чтобы сохранять империю, в том смысле, что они предлагали фундаментальные оправдания. Но реальная практика применения имперской силы и сопротивление тех, на кого эта сила была направлена, почти всегда приводили к тому, что эти взгляды оборачивались постыдным лицемерием[1146]. В 1850-х годах либеральные взгляды на империю, сформулированные еще в 1830-х годах, не устояли перед мятежом в Индии. В 1917–1922 годах Индию миновал полный цикл перехода от либерализма к репрессиям. Но теперь метания от либерализма к реакции и обратно происходили все чаще, превращаясь в ошеломляющий и неумолимый цикл, подавляющий волю империи[1147].
Кризис начала 1920-х годов, конечно, не привел к реалистичной переоценке сложной ситуации, в которой оказалась империя. Чувство самоуспокоенности пришло слишком легко. Империи удалось пережить бурю. И это укрепило Лондон в мысли о том, что «своевременно направляя действия подданных империи» всегда можно «обойти, окружить и разоружить» националистические и антиимпериалистические силы. Британия предвидела крах индо-мусульманского договора, заключенного в Лакхнау, и новые столкновения между индуистами и мусульманами в 1920-х годах подтвердили эти ожидания. «Искусная политическая и конституционная подготовительная работа» и тактическое умение стали определяющими характеристиками мастеров имперских дел[1148].
А были ли у империи позитивные перспективы, если не считать того, что она сумела выжить в качестве единственной действительно глобальной силы? В 1920-х годах существовали перспективы экономического развития в рамках глобального Содружества. Но при всей его привлекательности для консерваторов и либералов экономическое развитие требовало инвестиций, которых лондонский Сити себе позволить не мог[1149]. В 1920-х годах Сити продолжал выдавать займы по всему миру, но это лишь усиливало зависимость Британии от американских фондов. Кроме того, даже при наличии ресурсов не вело ли экономическое и социальное развитие и возникновение образованного среднего класса на местах к скорому формированию антиимпериалистической оппозиции? А ведь именно этим объясняли либералы из разряда Монтегю националистический подъем в Индии. Как показал ярый экономический национализм индийцев, поощрение национального развития и более широкие взгляды на глобальное Содружество с легкостью могли вступить в конфликт. Следуя примеру Канады, Австралии и Южной Африки, ИНК в числе первых поднял вопрос о введении протекционистских тарифов на импорт из Британии. Политические уступки национализму нарушали взаимные экономические связи, которые были одним из немногих остававшихся оправданий существования империи.
Еще более острые трения вызывал вопрос иммиграции. Австралия, Канада, белое меньшинство, представленное поселенцами в Кении и Южной Африке, с готовностью поддерживали солидарность белых. Но это означало лишение 320 млн человек, составлявших население Индии, права на иммиграцию или приобретение земли, а также дискриминацию на территории всей империи индийской диаспоры, численность которой составляла не менее 2,5 млн человек[1150]. Ганди завоевал свою репутацию еще до войны, выступая за права индийцев в Южной Африке. В 1919 году положение, запрещающее расовую дискриминацию, было изъято из текста Статута Лиги Наций. Но в самой империи уйти от этого острого вопроса было невозможно.
Как заявил Ллойд Джордж, выступая на Имперской конференции в июле 1921 года: «Мы пытаемся построить демократическую империю на основе согласия всех рас, проживающих в ней…Это действительно меняет… историю человечества. Если нам удастся это сделать, то Британская империя станет горой Преображения»[1151]. Содружеству не суждено было выполнить столь высокую миссию, но оно, невзирая на ожесточенные протесты Южной Африки, подтвердило наличие «несоответствия между положением Индии как равноправного члена Британской империи и существованием ограничений, затрагивающих британских индийцев, проживающих в других частях империи»[1152]. В данном случае речь шла о том, что в 1923 году в Кении были введены новые правила, предусматривавшие ряд ограничений для индийцев, приезжавших в страну на поселение. Но эти правила, а также то, что происходило в Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке, Канаде, да и в самой Британии, противоречили самому принципу равного подхода, который теперь считался неотъемлемой частью любого последовательно либерального взгляда на мировую империю.
И хотя противоречия между автономией и взаимными связями, расовой иерархией и либерализмом становились еще более очевидными, после 1918 года в Британской империи царило общее чувство триумфа. Солидарность военных лет не была забыта. В 1919 году после событий в Амритсаре джихад, так не вовремя объявленный афганцами на северо-западных границах, способствовал тому, что британцам удалось восстановить свой статус защитников Индии, где в северных провинциях проживали сикхи и индуисты. Не было сомнений в том, что в случае возникновения новой угрозы извне Содружество выступит единым фронтом. Правда, с учетом жесткой финансовой и стратегической реальности 1920-х годов даже это оказалось под вопросом. Конечно, Первая мировая война продемонстрировала всю мощь империи. Но она показала и то, что отдаленные уголки империи могут становиться объектами региональных угроз со стороны хорошо организованных национальных государств. Даже если вопрос состоял не просто в сохранении британского правления вопреки массовому сопротивлению внутри самой империи, а в обеспечении будущего империи как глобальной стратегической единицы, то даже на пике имперской мощи, в ноябре 1918 года, идея, что империя существует сама по себе, была иллюзорной. В условиях, когда Лига Наций не имела действенных полномочий, жизнеспособность империи зависела от того, сумеет ли она найти общий язык со своими будущими потенциальными соперниками: Японией и Германией, Соединенными Штатами и укрепившимся режимом Советов. Не приведут ли особые отношения с одной из этих держав к опасному противостоянию с другими? И были ли эти державы действительно заинтересованы в союзе с Британской империей.
21 Конференция в Вашингтоне
Летом 1921 года прекращение огня в Ирландии подготовило почву для проведения большой Имперской конференции[1153]. Лондонская Имперская конференция, первая общая конференция по проблемам империи за предыдущие два года, стала матрицей на основе которой была окончательно сформирована идея Британской империи как Содружества, что позволяло недавно созданному Ирландскому свободному государству существовать в условиях, когда власти империи продолжали настаивать на своей главенствующей роли. Но помимо вопросов внутреннего устройства империи был еще один, самый важный, вопрос текущего момента – вопрос стратегии. Каким образом Содружество, раскинувшееся по всему земному шару, будет защищать себя? В 1918 году Британское адмиралтейство ответило на этот вопрос, предложив создать имперский флот, в финансировании которого участвовал бы каждый доминион, на котором действовали бы единые стандарты подготовки и единый дисциплинарный устав и в штабе которого на равных участвовали бы представители всех доминионов империи[1154].
Для претворения этой идеи в жизнь в полуторагодовую поездку по доминионам был отправлен адмирал Джон Джеллико. В западной части Тихого океана он планировал создать флот в составе восьми линкоров и восьми крейсеров, один из которых должна была поставить Новая Зеландия, четыре – Австралия, а остальные – Британия. Командование флотом предполагалось осуществлять из Сингапура, а снабжение топливом – со складов в Индийском океане и западной части Тихого океана. Если бы решение зависело от Джеллико, то в состав имперского флота вошел бы и Королевский флот Индии, «комплектация личного состава и содержание которого в максимально возможной степени возлагалась бы на саму Индию». Но эта идея военного интернационализма была вскоре отвергнута, подобно тому как было отвергнуто и предложение французов о создания армии Лиги Наций. Доминионы и правительство Индии ревностно относились к своей независимости и с особой тщательностью подсчитывали возможные расходы. Однако в июне 1921 года они приветствовали Артура Бальфура, который, выступая в Лондоне, объявил о начале строительства крупной базы в Сингапуре – в случае экстренной необходимости она позволяла британскому флоту развернуться на противоположном конце земного шара[1155].
Но это было возможно лишь при условии, если британский флот был не нужен в собственных территориальных водах. Доминионы, помня о том, что германский флот лежит на дне гавани Скапа-Флоу, были готовы согласиться лишь с тем, что на будущее им следует брать на себя как можно меньше обязательств в Европе[1156]. К французам относились с подозрением, а к «неугомонным туземцам» Восточной Европы – с плохо скрываемым презрением. «Проблемами континента» должна заниматься Лига Наций, которая именно для этого и создавалась. Остину Чемберлену и Уинстону Черчиллю пришлось напоминать Австралии и Канаде, что для «метрополии» обеспечение безопасности ее европейских соседей представляется жизненно важной. Отказ Америки ратифицировать Версальский договор привел к тому, что вопрос о гарантиях безопасности Франции повис в воздухе. С позиций Лондона необходимость принятия стратегического решения по Тихому океану была обусловлена именно существованием в Европе неразрешимых конфликтов. Неудивительно, что Канада активно выступала за установление особых отношений с Соединенными Штатами. Но как совместить такие отношения с англо-японским союзом, который с 1902 года служил опорой империи на Востоке? И чего на деле следует ожидать от Америки? К 1921 году Ллойд Джордж был настолько расстроен пассивной позицией Америки в Европе, что не только был готов не отказываться от англо-японского союза, но, напротив, испытывал большой соблазн еще более укрепить его.
Насколько это могло оказаться опасным, стало ясно уже весной 1921 года в ходе одной из первых встреч посла Британии в Вашингтоне Окланда Геддеса с Чарльзом Эвансом Хьюзом, вступавшим в должность госсекретаря США. Хьюз считался утонченным прогрессивным республиканцем. Но он также был известен своим крутым нравом. Когда Геддес изложил соображения Британии относительно союза с Японией, Хьюз вышел из себя. «Вы бы сейчас не говорили здесь от имени Британии, – возмутился Хьюз. – Вы бы сейчас вообще нигде не говорили! Англия просто не могла бы говорить! Слушали бы кайзера, – он говорил все громче, переходя на крик, – если бы не Америка, думая не о своей выгоде, а о спасении Англии, не вступила бы в войну и, – крича, – не победила бы в ней! А Вы говорите об обязательствах перед Японией»[1157]. Но что может предложить Америка, если Британия откажется от союза с Японией? Начиная с 1919 года Вашингтон противился любой попытке навязать ему двусторонние партнерские отношения. Имперская конференция признала, что было бы идеально, если бы Лондону удалось каким-либо образом завлечь США и Японию в трехсторонний союз. Правда, при общих антияпонских настроениях в Вашингтоне перспективы создания такого союза казались весьма отдаленными. Поэтому летом 1921 года казалось, что именно Лондон вынужден действовать вопреки своему желанию.
8 июля Вашингтон неожиданно направил приглашения принять участие в конференции по вопросам разоружения и будущего тихоокеанского региона не только Британии, но и всем странам Антанты, что вызвало беспокойство в Уайтхолле[1158]. Мысль о том, что американцы пригласили Британию участвовать в конференции на тех же условиях, что Италию и Францию, вызвала в Лондоне неприятное удивление[1159]. Ллойд Джордж и Черчилль считали, что Британии следует отклонить приглашение. Но у Лондона не оставалось выбора, если учитывать стратегическую дилемму, стоявшую перед империей, и глубокую заинтересованность Британии в сотрудничестве с Вашингтоном, а также предстоящее обсуждение в Конгрессе важного вопроса о союзнических долгах с участием тех же самых сенаторов, которые требовали положить конец гонке вооружений на море.
I
Конференция, проходившая в Вашингтоне с 12 ноября 1921 года по 6 февраля 1922 года, отразила черты нового порядка в еще большей степени, чем Парижская мирная конференция, состоявшаяся тремя годами раньше. Это была первая конференция с участием великих держав, проходившая в американской столице. Первое заседание состоялось в помпезном здании организации «Дочери американской революции», построенном недавно в непосредственной близости от Молл-парка. Деловые встречи проходили в величественном неоклассическом здании Панамериканского союза. Уверенные в своем превосходстве, выступавшие в роли хозяев республиканцы превзошли и самого Вильсона, представив настоящее шоу, посвященное двухпартийной системе. Помня об опыте подобных мероприятий еще с 1919 года, европейцы отнеслись к происходящему с настороженностью. Однако в отличие от Вильсона республиканцы решили продемонстрировать уже позабытую искренность и начали конференцию с воспоминаний о боевой солидарности. Первый день работы конференции стал днем поминовения, и все делегации приняли участие в церемонии открытия памятника Неизвестному солдату, в ходе которой останки неизвестного солдата, привезенные с поля битвы на Марне, были торжественно захоронены на Арлингтонском национальном кладбище.
Но главное заключалось в том, что в отличии от Вильсона, который любил особо подчеркнуть морскую мощь Америки, администрация Гардинга пригласила представителей ведущих держав в Вашингтон для того, чтобы обсудить вопросы ограничения морских вооружений. В то время еще не существовало бомбардировщиков и межконтинентальных баллистических ракет и главным стратегическим оружием в современной войне считался боевой корабль. Германия уже не представляла угрозы на Атлантике, и теперь вопрос разоружения на море зависел от договора о безопасности на Тихом океане, в основу которого должно было лечь соглашение между США, Британией и Японией о нейтрализации Китая, представлявшего собой особо важное поле конкуренции между империалистическими державами еще с довоенных времен. В самих США эти три политических вектора пользовались серьезной поддержкой. Компромисс Вильсона в вопросе о провинции Шаньдун теперь считался неприемлемым. Популярной стала тема разоружения. Ситуация осложнялась жестоким дефляционным кризисом, разразившимся в США, Британии и Японии осенью 1920 года. Вашингтонская конференция, целью которой было обеспечить разоружение и урегулировать проблему Китая, должна была привести к реанимации политики «открытых дверей» и созданию демилитаризованного мирового пространства, в котором свободный поток американского капитала играл бы объединяющую и умиротворяющую роль.
Администрация Гардинга, действуя в родных стенах, превзошла администрацию Вильсона в своем умении направить ход конференции в нужное ей русло и заручиться поддержкой общественного мнения. В отличие от торжественной обстановке в Версале, конференция в Вашингтоне стала красочным спектаклем публичной дипломатии. После приветственного слова Гардинга деловую часть открыл госсекретарь Хьюз. В коротком выступлении он изложил в общих чертах план, запрещавший ведение военных действий на море на многие годы вперед. Он предложил незамедлительно прекратить выполнение программы строительства боевых кораблей, начатой Вильсоном, отправив на переплавку линейные корабли водоизмещением сотни тысяч тонн и установить соотношение морских сил Америки, Британии и Японии в пропорции 5:5:3. Он говорил вполне конкретно. К удивлению иностранных гостей, Хьюз начал с поименного перечисления кораблей, находившихся в распоряжении трех основных флотов, которые вполне годились на металлолом, начиная с американского флота. Америка была готова списать корабли общим водоизмещением 846 тысяч тонн, сохранив за собой суда общим водоизмещением в 501 тысячу тонн. Британии предстояло отправить на переплавку корабли общим водоизмещением 583 тысяч тонн, оставив себе сравнительно старые суда, общим водоизмещением 604 тысячи тонн. Для Японии эти показатели составляли 449 и 300 тысяч тонн соответственно[1160].
Выступление Хьюза вызвало всеобщее удивление. Как восторженно писал один журналист, первое заседание конференции, «от которого ожидали лишь формального обмена мнениями, прошло на редкость динамично, чего ранее никогда не наблюдалось на международных встречах дипломатов». Это выгодно отличало конференцию от подобных встреч с участием Вильсона, на которых преобладал обмен ничего не значащими общими словами[1161]. «Беспрецедентная ясность, определенность и всеобъемлющий характер конкретного плана разоружения на море… знаменовали собой новую главу в истории дипломатии…»[1162] Когда Хьюз объявлял о немедленном прекращении строительства боевых кораблей, на балконе можно было заметить Уильяма Дженнингса Брайана, того самого радикально настроенного госсекретаря в администрации Вильсона, который теперь управлял хором восторженных голосов представителей прессы. Возгласы одобрения раздавались и с мест, зарезервированных для сенаторов. Европейцы и японцы были обескуражены. Пока Хьюз зачитывал список боевых кораблей, военно-морские эксперты всех делегаций невольно кивали головами в знак согласия. Когда Хьюз закончил свое выступление, с балкона раздались призывы к руководителям Франции, Японии и Италии дать незамедлительный ответ. Это больше походило на собрание революционеров, а не на международную конференцию.
Эффектное открытие конференции произвело впечатление. Но не менее примечательной была и ответная реакция. 15 ноября первым выступил импозантный седовласый лорд Бальфур. После него слово взял державшийся прямо, словно аршин проглотил, главный полномочный представитель Японии адмирал барон Като Томосабурё. Оба выразили свое принципиальное согласие с предложенными Хьюзом условиями. Точное соотношение тоннажа и кораблей, а также вопросы фортификационных сооружений на Тихом океане было решено обсудить на последующих заседаниях. В глаза бросалась явная готовность двух главных противников достичь согласия относительно одного из важнейших факторов мирового влияния и сделать это под руководством Америки. Для Британии это означало отказ от абсолютного, длившегося более полувека господства на море. 18 ноября, стараясь не отстать от Хьюза в эффектных заявлениях, британская делегация сообщила, что отправила по телеграфу распоряжение приостановить все работы по строительству на верфях Клайда четырех современных линкоров класса «Суперхуд». Одно это позволяло Британии сэкономить 160 млн долларов, которых хватило бы для того, чтобы выплатить Америке свою задолженность за год[1163].
Еще более удивительной была реакция японцев. В 1921 году Японию на Западе воспринимали довольно упрощенно. Незадолго до конференции Джон В. А. Макмюррей, директор отдела Дальнего Востока Государственного департамента, высказал мнение, что настоящая власть в Японии находится в руках «олигархов, принадлежащих различным военным кланам… отличающимся друг от друга лишь степенью, в которой благоразумие сдерживает их националистические устремления в отношениях с остальным миром»[1164]. 4 ноября 1921 года, за неделю до начала Вашингтонской конференции, премьер-министр Хара, всю свою жизнь выступавший за сотрудничество с Соединенными Штатами, был заколот ударом кинжала отчаявшегося и разочаровавшегося в жизни одиночки. Сама конференция стала очередным подтверждением значительных изменений, происходивших в политике Японии. Сторонники паназиатского наступления сдавали свои позиции. Место Хары как премьер-министра и лидера партии Сэйюкай занял Такахаси Корекиё, еще более твердый сторонник сотрудничества с Западом. Прежде Такахаси занимал должности управляющего в Банке Японии и министра финансов страны и имел тесные связи в банковских кругах в Лондоне и на Уолл-стрит. К концу периода дефляции 1920–1921 годов он пришел к твердому убеждению в том, что Японии следует определяться со своим местом в мире, опираясь на экономическую и финансовую мощь, а не на военную силу. Ко времени начала конференции все основные партии Японии периода Тайсё выступали за сокращение военных расходов[1165]. При этом расходы на военно-морские силы, составлявшие треть бюджета, выходили на первое место[1166].
После тщательной проработки в штабах, японский флот, в отличие от японской армии, согласился с принципами сокращения вооружений при условии, что мощь японского флота составит не менее 70 % от мощи американского флота. В ходе предварительного обсуждения, состоявшегося летом 1921 года, адмирал Катё Канзи, главный технический советник делегации Японии, свободно владевший английским языком и имевший богатый опыт работы с силами союзников во время войны, высказал мнение, что будущая война между великими державами «немыслима», а разоружение является ценной «находкой», учитывая сложное финансовое положение Японии и Британии. В разговоре с британским атташе он в открытую выразил надежду на то, что финансовые затруднения вскоре приведут к падению «военной партии» в Японии, продолжавшей поддерживать неуемные запросы армии[1167]. Проблема на Вашингтонской конференции возникла в связи со списком кораблей, предназначенных на переплавку, соотношение по которым составляло 10:10:6, в то время как японцы настаивали на сохранение 70-процентной квоты. Адмирал Канзи упрямо стоял на своем, но Токио согласился с соотношением 10:10:6 при том условии, что крейсер «Муцу», построенный на деньги, собранные по подписке, и потому являющийся символом единения нации, будет сохранен, а американцы откажутся от строительства представлявших для Японии угрозу баз на Филиппинах и Гуаме. В соответствии со стратегическим планом Такахаси, Япония оказывалась в выигрыше, соглашаясь с мировым порядком, в котором Америка и Британия признавали ее в качестве третьей мировой державы. Это позволяло Японии отказаться от полномасштабной гонки вооружений, в которой она неизбежно проигрывала.
Такая позиция Токио, казалось, решала стратегическую дилемму, перед которой стояла Британия. Американская инициатива в области разоружений открывала путь к трехстороннему соглашению, достижение которого казалось немыслимым еще несколько месяцев назад, на Имперской конференции. Британской империи не пришлось делать выбор между Японией и США, который летом 1921 года представлялся катастрофическим[1168]. После международного признания позиций Японии в Тихом океане проблему англо-японского договора можно было постепенно забыть. Теперь Британия и Япония совместно работали над проектом соглашения о мирном разрешении всех споров, которые могут возникнуть в акватории Тихого океана.
Правда, эту внешнюю гармонию вновь нарушал европейский вопрос. Соглашение об арбитраже в акватории Тихого океана было подписано и четвертой стороной – Францией, которая считала свое стратегическое положение далеко не столь удовлетворительным, как положение трех других сторон. Франция полагала, и не без оснований, что после неудавшейся попытки создать стабильную североатлантическую систему в Версале Британия воспользовалась Вашингтонской конференцией для того, чтобы уйти от своих обязательств перед Францией в вопросе раздела глобальной гегемонии с Соединенными Штатами. Вильсон отказался от обещанных в Версале гарантий безопасности. Как можно было ожидать от Франции сокращения сухопутных сил, аналогичного сокращению военно-морских вооружений, в условиях, когда нерешенными оставались вопросы безопасности на Рейне и выплат репараций? Францию не устраивала позиция США, согласно которой она была вынуждена довольствоваться третьеразрядным флотом лишь потому, что это все, что она могла себе позволить в обозримом будущем[1169]. В конце концов, именно Вашингтон в первую очередь претендовал на финансовый резерв Франции.
Под сильным напором патриотических настроений внутри страны премьер-министр Бриан настаивал на том, что если Франции не позволят строить крупные боевые корабли, которые ей подобает иметь как великой державе, то она откажется от любых ограничений по дешевым заменам тактического характера, в частности в строительстве подводных лодок[1170] Это в свою очередь спровоцировало британцев и японцев, которые потребовали сделать исключение для крейсеров и миноносцев. Как с досадой отмечал Бальфур, результат оказался совершенно контрпродуктивным. Несмотря на потребности империи, Лондон с готовностью признавал свою особую заинтересованность в обеспечении безопасности Франции. Но, как показала Великая война, возможности Британии оказывать поддержку Франции зависели прежде всего от американцев, чье терпение по отношению к Старому Свету истощалось. Конференция, проходившая на территории США, превращалась в площадку, на которой Франция и Британия обменивались обвинениями в связи с действиями французского флота при защите Британии от нападения через Ла-Манш, и была близка к провалу. Было похоже, что, как и в Версале, Франция со своим возмущением вновь ведет к подрыву перспективных инициатив, предложенных Америкой. Правда, недосказанным оставалось то, что Вашингтон с самого начала исключал рассмотрение любых вопросов, касавшихся основных интересов Франции, – будь то вопросы союзнических долгов или гарантий европейской безопасности.
Так или иначе, несмотря на то, что заключить действительно всеобъемлющее соглашение о разоружении не удалось, значение Вашингтонской конференции сомнений не вызывало. Америка вернула себе роль лидера на мировой арене. Политический класс Японии конструктивно реагировал на проводимую Америкой линию. Британия согласилась с серьезным изменением своих стратегических позиций. Бальфур характеризовал это событие как не имеющее аналога в мировой истории. И это не было преувеличением. Никогда прежде Британская империя столь явным и сознательным образом не сдавала своих позиций мировой державы. В этом ее можно считать предтечей Михаила Горбачева, отказавшегося от эскалации холодной войны в 1980-х годах.
Однако не привела ли Вашингтонская конференция и к пагубным просчетам?[1171] Союз между Британией и США при всех многочисленных разногласиях строился на общей заинтересованности в сохранении статус-кво в Атлантике. В противоположность этому значительные риски возникали на Тихом океане. Соглашение между четырьмя державами не способствовало развитию тесных двусторонних отношений, которое было бы возможным в случае заключения англо-японского договора. После 1921 года в Японию потоком хлынули американские инвестиции, но Вашингтону и Уолл-стрит так и не удалось занять в Токио место, которое до 1914 года занимал Лондон. Кроме того, Тихоокеанский пакт не имел отношения к Лиге Наций. В нем не было механизма, обеспечивавшего выполнение, и поэтому этот пакт находился в подвешенном состоянии. Вашингтон преуспел в снижении ударной силы японского флота. Но после сокращений, предложенных Хьюзом, ни британские, ни американские военно-морские силы уже не могли действовать одновременно на двух океанах. Три из четырех имевшихся оперативных групп флота США были дислоцированы в Тихом океане. Возможности королевского флота были ограничены в еще большей степени. Как компромиссный вариант наиболее мощная группировка линейных кораблей постоянно дислоцировалась в Средиземном море[1172]. В случае кризиса она могла быть в срочном порядке переброшена в западную часть Тихого океана. Но такой переход требовал двух месяцев, в течение которых Британия оставалась без прикрытия. Может, Вашингтон намеренно препятствовал созданию англо-японского союза, готовясь к катастрофическим событиям 1930-х годов, когда западные державы оказались не в состоянии противостоять агрессии Муссолини в Средиземном море и экспансии Японии в Тихом океане?
Это – несправедливый вопрос, но не задаться им сложно. И это – полезный вопрос, который указывает на критическую значимость «параллельной игры» на Вашингтонской конференции, которая шла не только в отношении соглашения по военно-морским силам, но и по вопросу об урегулировании ситуации вокруг Китая. То, что в 1921–1922 годах в Японии наибольшим влиянием пользовались прозападные силы, было отчасти следствием экономического давления и смены караула в японской элите. Но это изменение стратегического направления можно было заметить лишь на фоне сравнительно безопасной обстановки вокруг Японии. Советский Союз не представлял собой непосредственной угрозы. Интервенция Японии в Сибири приближалась к бесславному концу. Таким образом, решающее значение для Японии приобретал Китай. Удастся ли сторонникам силового решения одержать верх в Японии, во многом зависело от стабилизации китайско-японских отношений.
II
Для Китая Вашингтонская конференция знаменовала собой следующий после Версаля шаг по выходу на мировую арену. Для того чтобы обсуждать Китай, требовалось присутствие его представителей, имеющих возможность заявить о своей позиции. Конференция стала сценой, на которой Веллигтон Ку и его коллеги выступили с очередным актом драмы патриотического самоутверждения. 16 ноября 1921 года делегация Китая вынесла на рассмотрение конференции десять предложений по вопросам суверенитета и урегулирования территориальных конфликтов в качестве основы для продолжения дискуссии. Теперь Пекин настаивал на более широком и существенном восстановлении своего суверенитета, а также на пересмотре неравноправных договоров, заключенных в XIX веке. В частности, Пекин требовал возврата контроля над таможенными сборами и лишения иностранцев права экстерриториальности[1173]. Эти требования полностью отвечали американской повестке дня в одном отношении. Китайцы продолжали заявлять о своих правах в тех сферах интересов, на которых строилась модель, обеспечивающая влияние европейцев и японцев. Это устраивало Вашингтон, а Британия поспешно присоединилась к курсу, который определила для себя Америка.
21 ноября Вашингтонская конференция приняла так называемые резолюции Рута. В них говорилось о необходимости «уважать суверенитет, независимость, территориальную и административную целостность Китая». Китайская делегация настаивала на конкретных обязательствах, обеспечивавших целостность Китайской республики, однако Япония предпочитала не поднимать вопрос о китайской конституции раньше времени[1174]. Тем не менее эти обязательства значили больше, чем все предыдущие гарантии обеспечения политической и территориальной целостности Китая. Британия, убедив Японию вывести все свои войска с Шаньдунского полуострова, вокруг которого шло столько споров, считала, что пошла на значительную уступку. Япония обещала, что Китай сможет выкупить германский контракт на аренду железной дороги в течение 15 лет. И в этом случае отступление Токио соответствовало стратегическим переменам, которые инициировал Хара и продвижением которых занимался Такахаши.
Годом раньше, летом 1920 года, в политике Токио в отношении Китая возник еще один кризис. Генералы Ву Пей Фу и Сао Кун из группировки Жили во второй раз изгнали с поста премьер-министра военачальника Дуань Цижуя, пользовавшегося покровительством Японии[1175]. В японской армии, дислоцированной в Маньчжурии, слышались голоса авторитетных лиц, требовавших, чтобы Чжан Цзолинь, которому также благоволила Япония, использовал эту возможность для распространения своей власти на северо-восток страны вплоть до Монголии. Однако лояльность Чжана вызывала сомнения, а в Токио все еще не оправились от взрыва антияпонских настроений, последовавшего за акциями протеста по поводу Шаньдуна и Версаля 4 мая 1919 года. После конференции по вопросам стратегии на Востоке, состоявшейся в мае 1921 года, Токио решил пересмотреть свою оборонительную позицию. Япония будет последовательно защищать свои особые интересы на территориях, расположенных к северу от Великой Китайской стены, а значит, не имеющих отношения к Китаю. При этом необходимо умерить притязания военачальника Чжана на руководство всей страной. Япония будет стремиться к поддержанию нейтралитета в своих отношениях с Чжаном и Жили. Взаимовыгодное экономическое сотрудничество будет в гораздо большей степени способствовать тому, чтобы Китай и Япония определили свое место в новом мировом порядке[1176]. Неуемная японская армия в Маньчжурии была взята под усиленный контроль. На переговорах между Японией и Китаем, состоявшихся в ходе Вашингтонской конференции, делегацию Японии возглавлял либерально настроенный посол Киджуро Шидехара, который сумел направить их в мирное русло. Эту линию Шидехара олицетворял на протяжении последующих десяти лет.
Китайцев не устраивали предложения относительно Шань- дуня, прозвучавшие в Вашингтоне[1177]. Перед зданием, в котором проходила конференция, собирались возмущенные демонстранты из числа проживавших в Америке этнических китайцев, которые пытались воспрепятствовать дальнейшему участию в переговорах делегации Китая. Однако со времен Версаля настроения в мире изменились. В 1919 году в Париже позиция Китая вызывала симпатии во всем мире. Тогда в затруднительном положении оказались японцы. Теперь же напористая дипломатия китайских националистов вызывала обеспокоенность мировой общественности. Западные державы не относились к числу друзей Советского Союза, но попытки Китая воспользоваться слабостью России в Восточной Азии они воспринимали с явной тревогой. В октябре 1920 года, за год до Вашингтонской конференции, Веллингтон Ку сообщал из США, что американская пресса трактует аннулирование Китаем прав России как «подготовительный шаг» к отмене всех льгот для иностранцев в Китае. В США бытовало мнение о том, что это был ни более ни менее как разработанный большевиками план «атаки на экономическую и политическую систему капиталистических государств»[1178]. Бейнбридж Колби, последний госсекретарь при президенте Вильсоне, высказал не предвещавшее ничего хорошего мнение, что «Китай, делая вид, что подчинен русским коммунистам, рискует утратить дружеское расположение» мирового сообщества, что «создаст повод для агрессии». Необходимость обеспечения безопасности стратегических активов России, таких как Китайско-Восточная железная дорога, и стала поводом для интервенции западных держав. 11 октября 1920 года дипломатический корпус в Китае направил Пекину ноту коллективного протеста, в которой указывалось на то, что аннуляция прав России не должна считаться прецедентом. Ответ Китая был уклончивым. Окончательный договор с Россией еще не заключен. Китай готов обсудить с дипломатическим корпусом modus vivendi, но конкретные вопросы будут решаться в двустороннем порядке.
Во время Вашингтонской конференции Китай вновь стал препятствием на пути международного урегулирования, но теперь уже не было той готовности закрывать глаза на проблемы во внутренней политике Китая, которая существовала в 1919 году. В начале января 1921 года китайско-японские переговоры в Вашингтоне зашли в тупик, а тем временем патриотически настроенные националисты с Юга и группировка Жили свергли пекинское правительство, созданное Чжан Цзолинем[1179]. В конце апреля возобновились открытые военные действия между основными группировками, которые уже через неделю ожесточенных боев привели к разгрому сил Чжана, что вынудило его отступить от Великой стены в направлении Маньчжурии. Как ехидно заметил один британский дипломат, к моменту начала Вашингтонской конференции пекинское правительство представляло собой немногим более, чем «группу людей, именовавших себя правительством, но которые, в западном понимании, уже давно таковыми не являлись»[1180]. Веллингтон Ку продолжал строить хорошую мину при плохой игре, но «делегация, представлявшая Китай как некую политическую целостность, не хотела и не могла… сказать правду о Китае». Из «ложного чувства лояльности Пекину и стремления сохранить лицо» китайские дипломаты «скрывали истинное положение дел в стране и ее потребности». Китаю не нужна была демонстрация патриотических чувств мандаринов, получивших образование на Западе. Ему требовалось честно признать всю сложность своего положения и обратиться «за поддержкой и защитой», необходимыми для построения способного выполнять свои функции государства[1181]. Все это было прекрасно, но какие цели могла преследовать подобная международная поддержка государственного строительства в Китае? Очевидная цель Вашингтона состояла в том, чтобы положить конец соперничеству великих держав в Восточной Азии. Но это не означало немедленного признания Китая в качестве равного.
В январе 1922 года, когда Вашингтонская конференция продолжалась уже третий месяц, было достигнуто соглашение о заключении Договора девяти стран, носившего утешительный характер. В соответствии с этим договором, все основные мировые державы должны были проводить в Китае политику открытых дверей. В договоре было отражено воссоздание в мае 1920 года консорциума кредиторов, в котором в качестве членов участвовали Япония и Америка[1182]. По условиям консорциума, США, Британия, Франция и Япония договорились не конкурировать друг с другом в финансовых проектах в Китае. Китай, в свою очередь, должен был брать займы только у консорциума. Томас У. Ламонт из J. P. Morgan называл это партнерство «маленькой Лигой Наций»[1183]. На практике это означало эмбарго на выдачу кредитов Китаю, поскольку требования к договорам о сотрудничестве были довольно запутанными, и ни одна из влиятельных политических группировок Китая не пошла бы на патерналистские условия, на которых такие договоры могли быть заключены. В начале 1922 года представитель США Джейкоб Гулд Шурман разъяснил Пекину, чего от него ожидает Вашингтон в ответ на сколь-либо значимую финансовую поддержку. Контроль над Китайско-Восточной железной дорогой должен быть передан международному картелю. Шурман мрачно намекнул на то, что «он надеется, что Китай добровольно запросит помощи», постольку другим странам было бы жаль «оказывать на него давление». Министерство иностранных дел в Пекине оставило разъяснения Шурмана без ответа[1184]. В 1922 году ни один военачальник-милитарист, каким бы беспринципным он ни был, не был готов согласиться со столь жесткими требованиями иностранцев. Такое согласие было равносильно политическому самоубийству.
Не наблюдалось прогресса и в вопросе о тарифах. Китай хотел сам распоряжаться своими поступлениями от налогов и иметь право защищать свою промышленность от иностранного демпинга. Но участники Вашингтонской конференции тянули время. С окончанием войны Франция, Италия, Бельгия и Испания ожидали возобновления платежей по возмещению убытков от Боксерского восстания. Учитывая собственные унизительные финансовые проблемы, Франция настаивала на том, чтобы выплаты производились в довоенной золотой валюте, а не в обесцененных современных франках. Веллигтон Ку отказался, и тогда Париж приостановил ратификацию Вашингтонского договора. Возможности начать государственное строительство, возникшие на конференции, остались неиспользованными. А продолжавшиеся беспорядки во внутренних провинциях Китая давали прекрасный повод для сохранения права экстерриториальности иностранцев. В мае 1923 года в Линченге было похищено 19 иностранных пассажиров поезда.
По вычурному выражению госсекретаря Хьюза, эти события стали болезненным подтверждением того, что «курс политического развития в Китае» не оправдал ожиданий «тех, кто надеялся на то, что более широкие возможности независимого развития ускорят… создание правительственных структур, способных выполнить международные обязательства, подтверждающие право на суверенитет…»[1185] Другие делали более резкие выводы. Американский представитель Шурман предлагал «полностью разогнать… китайское правительство» и поставить на его место «международное агентство». Когда Вашингтон отказался рассматривать столь масштабное применение военной силы, Шурман предложил установить международный надзор над железнодорожной системой Китая. А протесты радикально настроенных студентов и других «защитников полноценного суверенитета Китая… выступающих против» следовало просто игнорировать[1186].
Представитель Британии на Вашингтонской конференции Виктор Веллесли из департамента Дальнего Востока британского министерства иностранных дел был согласен с необходимостью решительных действий. «Ничто не может быть более фатальным, чем проявление слабости, – говорил он. – Престиж европейских рас на Дальнем Востоке после русско-японской войны неуклонно падал, а в результате Великой войны ему был нанесен сокрушительный удар». Он также поддерживал идею введения международных военно-полицейских сил на всех основных транспортных артериях Китая. На это более холодные головы в Форин-офисе немедленно возразили, что в 1923 году о проведении совместной военной операции на линии вторжения боксеров не могло быть и речи. Как скептически заметил один лондонский чиновник, «раньше мы могли доставить Китаю или китайцам немало неприятностей, и мы можем сделать это и сейчас; но теперь они уже знают, что на самом деле мы не готовы к действиям; им понятен наш блеф»[1187]. И конечно же, он был прав. Вашингтонская конференция стала наглядной демонстрацией иерархии глобальных сил, и она приняла осознанное решение о проведении дефляции валюты военной силы. Задача заключалась в расчистке пути для экономических сил, имевших первоочередное значение для восстановления. Но достаточно ли этого было для наиболее проблемных регионов в Азии и Европе?[1188]
22 Коммунизм, изобретенный заново
Америка заявила о своем вступлении в большую политику на самом высшем уровне в 1905 году, когда президент Тедди Рузвельт выступил в роли арбитра при заключении Портсмутского договора, положившего конец русско-японской войне. Спустя 16 лет преемник Рузвельта из числа республиканцев, рассылая по всему миру приглашения на Вашингтонскую конференцию, пригласил Японию и Китай, но не Россию. И хотя «красная угроза» миновала, вопрос о том, чтобы республиканцы направили приглашение коммунистам, даже не поднимался. Но дело было даже не в приглашении. В 1919 году в Версале революция воспринималась по меньшей мере как опасность. Два года спустя на конференции в Вашингтоне роль Советов в расстановке сил в мире оценивали лишь по унизительным уступкам, на которые Советы пошли перед Пекином. Советский Союз выжил. Но его экономика лежала в руинах, а попытки развить наступление революции все чаще наталкивались на противодействие контрреволюционных сил на местах[1189].
Несостоявшаяся революция стала неотъемлемой частью истории послевоенной стабилизации, имевшей не только отрицательную роль. Неудачи коммунистического движения заставляли разрабатывать новую долгосрочную стратегию мятежа, целью которой была не метрополия, а периферия, а опорой – не пролетариат, а крестьянство, составлявшее большинство населения планеты. Этот идеологический поворот знаменовал собой решительный уход от XIX века, резкое изменение направления марксистской политической мысли, которое имело не меньшее значение, чем фундаментальные изменения, происходившие, например, в основополагающих принципах буржуазного либерализма[1190]. И пока в Лондоне и Вашингтоне озадаченно размышляли о том, как право на самоопределение может отразиться на конституции Индии или Филиппин, в Москве в Коминтерне начинали понимать, что крестьянство в колониальных и полуколониальных странах представляет собой одну из ведущих исторических сил будущего.
I
Международное коммунистическое движение встретило окончание войны с тревогой, которая затем сменилась эйфорией. Первый съезд III Интернационала (Коминтерна), состоявшийся в марте 1919 года в Москве, изначально был всего лишь поспешной импровизацией в ответ на прошедший в феврале съезд Социал-демократического Интернационала в Берне, который приветствовал действия Вильсона, а затем погряз в выяснении того, кого следует считать виновником войны. В начале своего пути Коминтерн еще не был той дисциплинированной, управляемой из Москвы организацией, в которую он превратится позже[1191]. Продолжая традиции довоенного социалистического Интернационала, он служил местом встречи русских коммунистов со своими товарищами из западных стран. Языками общения были в равной степени немецкий и русский. Лишь изредка можно было услышать французскую или английскую речь. В Коминтерне преобладал взгляд на мировую революцию как на всепоглощающее пламя, не направляемое из Москвы, а вспыхивающее одновременно в разных местах, пламя, которое быстро перекидывается от города к городу и которое невозможно сдержать или остановить. Согласно классикам марксизма, ожидалось, что в 1919 году в центре этого огненного смерча окажутся страны развитого мира. Британию и США захлестнули небывалые волны забастовочного движения. Еще более многообещающим было положение в Германии, где СДП выдвинула лозунг «Вся власть Советам!». Наиболее острая ситуация складывалась в Италии, где активисты социалистической партии стали во главе забастовочного движения и движения по захвату земель крестьянами[1192]. Главный вопрос состоял в том, чтобы связать эти акции с революционными центрами в России.
Именно перспективы революционного подъема в Центральной Европе делали столь важным восстание в маленькой недавно созданной Венгрии[1193]. Венгрия оказалась в незавидном положении и как новое образование, возникшее в результате восстания 1918 года, и как страна, занимавшая привилегированное положение в монархии Габсбургов, потерпевшей поражение в войне с Антантой. Ее положение было идеальным для жертвоприношения. Стране предстояло лишиться двух третей своей территории. Неудивительно, что первое послереволюционное правительство в Будапеште, во главе которого стоял президент Михай Каройи, стало наглядным результатом политики Вильсона – разновидностью «мира без победы». Но это правительство не сумело противостоять требованиям Антанты, носившим карательный характер, и 21 марта 1919 года Каройи передал власть коалиции, номинально возглавляемой социал- демократами, а на самом деле находившейся под влиянием малочисленной коммунистической партии и ее главного идеолога Белы Куна. Тем временем новое советское правительство объявило о начале широкой программы реформ внутри страны, хотя на самом деле его главной задачей было противостояние намерениям чехов и румын и возвращение хотя бы части территории, принадлежавшей Венгрии до войны. Это совпало с созданием советской республики в Мюнхене 6 апреля 1919 года и кризисом на мирных переговорах в Версале. Вот почему перспективы революционного переворота в Центральной Европе вызывали панические настроения в Париже и ликование левого крыла европейских социалистов, особенно в Италии.
Массовая мобилизация в Венгерскую Красную армию привела к росту ее численности до 200 тысяч человек, включая интернациональную бригаду, в которую входили добровольцы из Сербии, Австрии и России. 20 июля революционные силы начали наступление на восток в направлении границы с Румынией, проходившей по реке Тисе. Расчет делался на соединение с советскими войсками, захватившими Одессу и взявшими под контроль Украину. Воздушное сообщение между Венгрией и Советской Россией было установлено еще весной. К несчастью для венгров, в самый ответственный момент Красная армия на Украине потерпела поражение от окрепших сил белых.
24 июля румыны при полномасштабной поддержке Антанты начали контратаку. 4 августа после тяжелых боев румынская армия с гордостью маршировала по великолепным бульварам Будапешта. Коммунизм был раздавлен.
Были и те, кто хотел пойти еще дальше (Уинстон Черчилль в их числе) и сокрушить саму большевистскую революцию. К весне 1919 года, хотя Лондон и Париж приняли решение не начинать полномасштабной интервенции, белые армии генерала Александра Колчака в Сибири и Антона Деникина на Юге России накопили достаточно сил и представляли серьезную угрозу существованию режима большевиков. Своей высшей точки Белое движение достигло 20 октября 1919 года. Контрреволюционные силы армии генерала Николая Юденича приближались к пригородам Петрограда, Деникин с Юга наступал на Москву, Колчак действовал в Сибири – вероятность уничтожения большевистского режима была высока как никогда[1194]. Ленина и Троцкого спасло то, что им не пришлось противостоять единому фронту. Организация действительно эффективной операции против большевиков требовала не только значительного участия Запада, но и, что еще более важно, принятия политического решения по проблеме самоопределения, равно как и стратегического решения относительно будущего России. Эти же проблемы были причиной крайне несогласованных действий стратегов Германской империи летом 1918 года.
Летом 1919 года союзники заставили Колчака взять на себя обязательство провести в России выборы в новое Учредительное собрание. Однако полякам этого было недостаточно. 11 октября, опасаясь подъема русского национализма, Варшава начала с Советами тайные переговоры[1195]. В обмен на нейтралитет Польши большевики уступили ей значительную часть Белоруссии и Литвы. Это соглашение дало большевикам возможность развернуть против Юденича, двигавшегося из Балтики на Петроград, 40-тысячную армию[1196], к которой добавились 2,3 млн человек, принудительно мобилизованных Троцким в Красную армию, что позволило изменить соотношение сил. К середине ноября военная ситуация была совершенно другой. Красные праздновали победу. Деникин и Колчак были вынуждены бежать. 17 ноября 1919 года Ллойд Джордж заявил в палате общин, что Лондон, израсходовав почти полмиллиарда долларов, отказывается от дальнейших попыток свергнуть большевистский режим военным путем. Цена была слишком высока, а Британия на самом деле не была заинтересована в восстановлении легитимного и мощного русского национального государства. Повторяя сказанное министром иностранных дел Германии Рихардом фон Кюльманом летом 1918 года, Ллойд Джордж напомнил членам палаты общин, что «великая, гигантская, колоссальная и продолжающая разрастаться Россия, подобно леднику продвигающаяся в направлении Персии и границ Афганистана и Индии», представляла самую «большую опасность для Британской империи». Угроза революции в Западной Европе спадала, поэтому лучшей политикой будет поместить советский режим на карантин, отгородив его «забором из колючей проволоки»[1197].
Это решение Ллойда Джорджа самым отрицательным образом сказалось на моральном духе Белой армии, но оно не означало, что советской власти больше ничего не грозит[1198]. Зимой 1919/20 года военное министерство Польши начало готовиться к окончательному решению русского вопроса. Самая крупная националистическая партия Польши – партия национал-демократов была против наступательных действий, предпочитая защищать более компактную, этнически однородную территорию. Однако маршал Юзеф Пилсудский, главная фигура с трудом стоящего на ногах Польского государства, не разделял этой осторожной позиции. Пилсудский мечтал о возрождении Польско-Литовского Содружества, которое до разорительной Тридцатилетней войны сдерживало экспансию Москвы в западном направлении. В союзе с независимой Украиной новое польское супергосударство создавало коридор, соединявший Балтику с Черным морем[1199]. Пилсудский полагал, что это может заинтересовать Лондон. Однако правительство Ллойда Джорджа отказалось от поддержки польской агрессии. Полякам пришлось довольствоваться незначительной поддержкой Франции и союзом с украинскими националистами, которые после ухода немцев с линии, определенной Брест-Литовским договором, осели в Галиции[1200]. Заручившись обещанием о передаче Восточной Галиции Польше, Пилсудский бросил свои силы на поддержку Семена Петлюры, пытавшегося создать независимую Украину, которая стала бы неотъемлемой частью нового мирового порядка. Такая стратегия была связана со значительным риском, но Варшава была уверена, что Красная армия готовится к новому броску на запад. Пилсудский намеревался опередить ее[1201].
25 апреля 1920 года польско-украинская армия перешла в наступление. 7 мая она захватила Киев, позволив остаткам Белой армии под командованием генерала Петра Врангеля обосноваться в Крыму. Казалось, на юге вновь возникла опасность, грозившая самому существованию большевиков. Однако события последних трех лет не могли не сказаться на Украине. Приезд Петлюры и Пилсудского в Киев знаменовал собой 15-ю по счету смену режима начиная с января 1917 года. Сотни тысяч людей погибли от рук германских, австрийских, белых и красных оккупантов, в том числе 90 тысяч евреев, уничтоженных в ходе самых жестоких погромов со времен восстания казаков в XVII веке. Выжившие вовсе не собирались поднимать народное восстание. В России, напротив, сама идея того, что польские уланы легкой рысью вступили в Киев, вызывала волну патриотического возмущения. Офицеры царской армии во главе с героем войны генералом Брусиловым в массовом порядке вступали в Красную армию Троцкого[1202].
Приближался один из самых ярких моментов в истории современной Европы. 5 июня 1920 года 18-тысячная конная армия под командованием генерала Семена Буденного прорвала позиции польской армии, вынудив ее оставить Киев. Уже через месяц, 2 июля блестящий командир и военный теоретик большевик Михаил Тухачевский отдал приказ о всеобщем наступлении. «Через труп белой Польши лежит путь к мировому пожару…На Вильно, на Минск, на Варшаву! Вперед!» Подстрекаемые командующими фронтов, Ленин и большевистское руководство теперь были уверены в том, что «стоят на пороге изменения всей политики Советского правительства»[1203]. Настало время «штыком проверить, не созрела ли социалистическая революция пролетариата в Польше.» Французы собирались поддержать польскую оборону, а Британия пыталась выступить в роли посредника, и это указывало на то, что «где-то недалеко от Варшавы» находится «центр всей современной системы международного империализма…»[1204] Завоевав Польшу, они «встряхнут» всю систему до самого основания. Красная армия приведет к появлению «совершенно новой зоны пролетарской революции, направленной против мирового империализма».
После Брест-Литовска большевики перенесли столицу в относительно безопасную Москву. Даже летом 1920 года Ленин был вынужден передвигаться инкогнито и по ночам, опасаясь покушения. Но 19 июля 1920 года Второй съезд Коминтерна, демонстративно бросая вызов, провел свое первое заседание в Петрограде, переместившись затем в Москву. Там 217 делегатов из 36 стран собрались под большой картой Польши, на которой каждый час на основе сводок с фронта отмечалось продвижение советских частей[1205]. В состоянии, близком к «революционной лихорадке», Ленин телеграфировал Сталину, что «обстановка в Коминтерне была превосходной». Вместе с Григорием Зиновьевым и Николаем Бухариным он с нетерпением ожидал революционного восстания в Италии, Венгрии, Чехословакии и Румынии[1206]. Тем временем германские товарищи выражали надежду, что в следующем году им удастся провести съезд Коминтерна в Берлине[1207].
II
На фоне этой эйфории развития революции в Коминтерне начались первые перемены. Неорганизованный, лишенный центрального управления всплеск революционного движения 1919 года в Венгрии и Германии окончился поражением. Красная армия продвигалась на запад, приближалось время, когда русская революция возьмет руководство на себя. В отличие от безуспешных попыток западноевропейских социалистов, ленинизм доказал жизнеспособность своей революционной доктрины. Коминтерн устанавливал более строгие условия приема в свои ряды новых членов, которые должны были провозгласить своей первоочередной задачей установление диктатуры пролетариата. Не оставалось места для компромисса ни с демократическими политиками, которые теперь именовались «социал- пацифистами», ни с «буржуазной законностью». Коммунисты должны понимать, что и в Западной Европе, и в Америке они «вступают в гражданскую войну»[1208]. Проверить свой революционный пыл они должны, создав «параллельную нелегальную организацию», готовую бросить прямой вызов государству, проводя подрывную мятежную деятельность в вооруженных силах. И не надо опасаться преследований со стороны политической полиции. Вильсоновская панацея, столь любимая либералами и социал-демократами в 1918–1919 годах, была с презрением отвергнута. «Без революционного свержения капитализма ни международный арбитражный суд, ни соглашение об ограничении вооружений, ни „демократическая“ реорганизация Лиги Наций не в состоянии предотвратить новые империалистические войны». В международных делах действителен лишь один руководящий принцип: «безусловная поддержка любой советской республики в ее борьбе с контрреволюционными силами». Момент революционной истины приближался с каждым прорывом революционной красной кавалерии, поэтому терять времени было нельзя. В течение 4 месяцев все члены и кандидаты в члены Коммунистического Интернационала должны были принять для себя решение – за или против[1209].
Из десяти заседаний конференции Коминтерна 1920 года восемь были посвящены сложному вопросу очищения революционных сил Европы. Но для поддержания общего решительного настроя на втором заседании был впервые поднят такой важный вопрос, как мировая стратегия[1210]. Революционные перспективы в Западной Европе не оправдали надежд, поэтому лозунг «Сначала – Азия» стал главным для красноречивого и импозантного странствующего марксиста индуса М. Н. Роя. Рой недавно приехал в Россию через Соединенные Штаты и на конференции Коминтерна присутствовал в качестве представителя Мексики, а не Индии[1211]. Коминтерн должен сосредоточиться на Азии, говорил Рой. Надо вести работу там, чтобы создать базу для революционной деятельности зарождающегося рабочего класса в таких городах, как Бомбей, и отчаянно бедной прослойки крестьян, составлявших подавляющее большинство населения в Азии. Рой настаивал на том, что коммунизм должен стать альтернативой Ганди, Национальному конгрессу и им подобным, которых он считал буржуазными реакционерами. Позиция Роя в отношении третьего мира, несмотря на ее решительную боевитость, казалась последователям старой школы чрезмерной. Итальянец Джачинто Менотти Серрати, один из наиболее последовательных марксистов-догматиков, отвечал с позиций классической евроцентричной ортодоксии: революция в Азии невозможна, потому что там нет промышленного рабочего класса. Азия должна следовать за европейским авангардом.
Но Серрати отставал от времени. Видные деятели в России считали, что теперь требуется нечто большее, чем простое цитирование старых постулатов из «Манифеста Коммунистической партии», написанного, как отмечал Ленин, «совсем при других обстоятельствах». Марксизм вступал в свое четвертое поколение[1212]. Как триумфально продемонстрировали большевики, революционеры XX века должны думать сами за себя, и, если необходимо, вопреки Марксу и Энгельсу. Правда, Ленин не мог полностью согласиться с Роем. Лозунг «Сначала – Азия» страдал однобокостью. Коминтерну нельзя выводить свои ресурсы из Европы, средоточия имперской власти, именно в тот момент, когда борьба, казалось, приближалась к своей высшей точке. Но, как говорил Ленин еще в 1916 году, национально-освободительные движения в колониальном мире могут приобщать активных новобранцев к делу революции, создавая «объединенные антиимпериалистические фронты». Роя это не смущало, он клеймил позором любую мысль о союзе с «буржуазной демократией». Ленин пошел на тактическое отступление, с одобрением встреченное подавляющим большинством в Коминтерне. Создание объединенных фронтов допустимо лишь в случаях, когда коммунистические партии создают союз с «подлинно революционными» группами националистов. Как показали последующие события, определить на практике «подлинно революционных» националистов оказалось смертельно трудным занятием.
Если споры о тактике мировой революции могли продолжаться бесконечно, то по поводу основной цели в Коминтерне царило согласие. Великобритания была движущей силой антибольшевистской интервенции начиная с 1918 года. Она была главной мировой империей. В 1920 году казалось, что на смену «большой игре» имперского соперничества между Российской империей и викторианской Британией придет новая эпоха борьбы в Центральной Азии. В апреле 1920 года комиссар Сталин направил Красную армию в Азербайджан. Захватив Баку с его нефтяными скважинами, коммунисты провели короткую агитационную кампанию среди исповедующего ислам населения Азии. В мае советский флот прошел вдоль побережья Каспийского моря и вынудил британцев покинуть иранский порт Энзели. Перед тем как оставить город, Советы способствовали созданию Гилянской Советской республики в Северном Иране, ставшей вызовом трещавшему по швам тегеранскому режиму[1213]. Идеологическим вдохновителем Гилянской республики, созданной местными боевиками, вождями курдских племен, анархистами и кучкой интеллектуалов-радикалов, был Султан- заде, который превзошел Роя, провозгласив полномасштабную революцию в Азии.
8 сентября 1920 года в Баку состоялся Съезд народов Востока, в работе которого участвовали 1900 делегатов, представлявших 29 национальностей и этнических групп из Ирана, Армении и Турции[1214]. На церемонии открытия перед участниками съезда с продолжительной речью выступил верный последователь Ленина, энтузиаст идеи третьего мира, Зиновьев, который назвал это событие первым, «невиданным ранее в истории человечества» собранием представителей сотен миллионов угнетенных крестьян Востока, мужчин и женщин, в лице которых он с радостью приветствовал «мощный массовый резерв пехоты» мировой революции[1215]. Чтобы создать стратегическую базу для ведения «священной войны… против империалистической Британии», Москва заключила с Афганистаном договор о взаимном признании, согласно которому Кабул получал значительную помощь, а в обмен обязался не заключать никаких соглашений с Британией[1216]. Стратеги Коминтерна предвкушали создание антибританской коалиции, в которую войдут Афганистан, силы сторонников пантюркизма во главе с Энвер-пашой и революционная «Армия Бога», командовать которой будет Рой. Обосновавшись в Ташкенте, Рой приступил к созданию мусульманской армии, призванной стать еще одним направлением в движении за создание халифата и против британского правления в Индии[1217].
Несмотря на энтузиазм, проявленный в 1920 году, истории Коминтерна не суждено было стать историей революционного успеха. В течение последующих десятилетий взаимные упреки в неудачах Коминтерна стали предметом жарких споров между различными направлениями мирового социалистического движения. Но эти споры вызывали один вопрос. Действительно, период с 1917 по 1923 год был периодом постоянных беспорядков. Но реальные перспективы общего революционного переворота представлялись более чем сомнительными. Вопрос о неудачах Коминтерна отвлекает нас от рассмотрения более важных вещей: подхода Коминтерна к вопросам мировой политики. Тут амбиции были безмерными. Еще довоенное поколение Социалистического Интернационала разработало общую форму проведения совместных заседаний для коллективного принятия решений, в которых принимали участие партии из всех европейских стран, а в дальнейшем – и из других стран мира. Вудро Вильсон стал первым политиком, который выступил с публичным обращением ко всему миру. В Версале и Лиге Наций собирались правительства всех стран мира. Британия пыталась преобразовать империю в Содружество, охватывающее весь мир. На Вашингтонской конференции межправительственный договор была положен в основу глобальной структуры военно-морских сил.
Коминтерн был намерен пойти гораздо дальше: создать мировое политическое движение, построенное на единой организационной модели, с четкими обязательствами по позициям, определяемым доктриной, центральным управлением и глобальным планом действий, базирующимся на стратегическом всестороннем анализе хода развития классовой борьбы в важнейших точках планеты. В секулярной политике такого еще никто не пытался сделать. Единственным предшественником можно считать католическую церковь. Неудивительно, что концепции Коминтерна были сыры и евроцентричны, а тактические оценки зачастую оказывались катастрофически ошибочными. Этот проект был обречен на провал и сулил полное разочарование. Но в 1920 году решающую роль сыграли не концептуальные нюансы или тактические тонкости, а военные неудачи.
По мере продвижения Красной армии на запад Тухачевский прошел по территориям вдоль побережья Балтийского моря. Ко второй неделе августа его передовые части находились в 150 милях от Берлина[1218]. Веймарская республика ждала восстановления дипломатических отношений с приближавшимися Советами, а многие общины Восточной Пруссии встречали русские войска как освободителей от ненавистного правления поляков[1219]. В начале августа Пилсудский оказался отрезанным от источников снабжения, расположенных вдоль Вислы. Он решил перейти в наступление и 16 августа 1920 года, воспользовавшись брешью между линией окружения на севере и советскими войсками, приближавшимися к пригородам Варшавы, начал контратаку. Сначала он продвигался на север, а затем повернул на восток – глубоко в тыл Красной армии. Ситуация в корне изменилась. К 21 августа фронт, который удерживала армия Тухачевского, начал рассыпаться. 31 августа на юге, у Замосцья, после неудавшейся осады Львова потерпели поражение части Красной армии, в которых Сталин был политическим комиссаром. Этому сражению было суждено стать последней крупной кавалерийской баталией в истории Европы. Первая Красная Конармия генерала Буденного была обращена в бегство бригадой польских уланов, потомков тех, кто в 1812 году служил в армии Наполеона Бонапарта.
12 октября 1920 года Москва согласилась на перемирие, а 18 марта был заключен Рижский договор. Сохранялись границы России на Балтике, установленные Германией в 1918 году. Советы и Польша делили между собой Белоруссию и Украину, созданные в соответствии с Брест-Литовским договором, при этом значительно увеличивалась территория Польши. По признанию Ленина, это был сокрушительный удар по революционным надеждам на продвижение вперед. Но этот шаг дал советскому режиму возможность определить свою позицию и свои отношения в первую очередь с Британской империей. В марте Лондон и Москва заключили торговое соглашение[1220]. Тем временем в Крыму было обращено в бегство последнее крупное военное формирование белых, а на Украине погашен пожар анархических бунтов. Покорение Советами Закавказья было завершено к концу февраля 1921 года, когда Красная армия оккупировала Грузинскую республику[1221]. 28 декабря социалистические республики России, Украины, Белоруссии и Закавказья подписали договор о создании Союза Советских Социалистических Республик. Революционное движение на континенте было заморожено, приняв форму государства нового типа.
По мере укрепления советского режима на большей части территории бывшей царской России Коминтерн заставлял членов международного социалистического движения принимать «21 пункт». Это привело к расколу НС ДП Германии, большинство членов которой перешли в Коммунистическую партию, а остальные возвратились в СДП. Подобным образом во Франции Коммунистическая партия откололась от Социалистической партии. Итальянская коммунистическая партия сформировалась в январе 1921 года. Недавно возникшее в Западной Европе коммунистическое движение приняло ленинскую бескомпромиссную доктрину классовой войны как раз тогда, когда традиция вооруженных восстаний в Европе определенно заканчивалась. 21 марта 1921 года коммунисты попытались совершить переворот в промышленных районах центральной Германии. Эта попытка закончилась бесславным поражением в течение нескольких дней. В 1923 году имели место неудачные попытки подъема революционного движения в Гамбурге, Саксонии и Тюрингии. В Британии, Франции и Италии в 1920 и 1921 годах все попытки начать всеобщую забастовку потерпели неудачу. С 1918 года и до наших дней ни в одной западной стране ни один прямой вызов государственной власти не привел к успеху. Революционный порыв 1920 года в Центральной Азии оказался мимолетным. Отец пантюркизма Энвер-паша оказался ненадежным союзником. Отказавшись от идеи покорения Британской Индии, он стал видной фигурой антисоветского восстания в Центральной Азии[1222]. Афганистан тоже оказался не готовым к сотрудничеству, и Рой был вынужден распустить свою исламистскую армию.
С ноября 1918 года концепция революции прошла четыре фазы развития. По окончании войны Ленин занял оборонительную позицию, пытаясь сохранить баланс, достигнутый в Брест-Литовске. С весны 1919 года революции подобно лесным пожарам заполыхали по всей Евразии. Когда это ни к чему не привело, в 1920 году Коминтерн взял на себя руководство мировым революционным движением. Наконец, в 1921 году, после очередного краха революционных надежд в Германии и Италии, Москва избрала стратегию революционной обороны. Социализм, вместо того чтобы стать движущей силой мирового восстания или стратегическим центром мирового движения, превратился в идеологию одной отдельно взятой страны, существующей в условиях неоднородной мировой системы[1223].
Для активистов коммунистического движения во всем мире это имело решающие последствия. В 1919 году они были полноправными агентами революции. В 1920 году они обязались подчиняться правилам дисциплины Коминтерна, но продолжали верить в неизбежный успех революции. Теперь от них требовали подчинения интересам Советского Союза, вступившего в стратегическую схватку, продолжительность которой оставалась неизвестной. На Третьем съезде Коминтерна, проходившим в июне-июле 1921 года, вопрос подчинения всех коммунистических партий стратегии Советского Союза был единственным значительным вопросом, вокруг которого развернулась дискуссия. С основными капиталистическими державами, в первую очередь с Британией и со своими непосредственными соседями, Советское государство устанавливает отношения сосуществования. За пределами Европы коммунисты в борьбе против империализма ведут поиск форм сотрудничества с националистическими силами. Однако такой подход, как показал вскоре кровопролитный пример Турции и Ирана, был чреват серьезной опасностью для рядовых коммунистов. Москва стремилась к поддержанию добрых отношений с Ататюрком, не обращая внимания на то, что, избавившись от греков и британцев, он немедленно обрушился на турецких коммунистов[1224]. Аналогичным образом ради сохранения отношений с единовластным генералом Реза-ханом была принесена в жертву коммунистическая партия Ирана. Революционная диалектика вступала в самую зловещую фазу своего развития. Железная дисциплина и самопожертвование стали основными нормами коммунистической революционной этики.
III
Такое сужение революционных горизонтов привело к тому, что роль Китая как арены революционного соперничества еще более возросла. На Вашингтонской конференции китайские националисты считали себя жертвой не какой-то одной страны, а целой коалиции, возглавляемой США. Абстрактное понятие империализма «в целом» обрело конкретную форму международного банковского консорциума. Единственным государством, не включенным в эту всеподавляющую комбинацию, был Советский Союз. В 1919 и 1920 годах китайская дипломатия воспользовалась слабостью России, чтобы лишить ее привилегий, которые она имела во времена царизма. Теперь правила игры изменились. Западные державы подтвердили свое нежелание идти на уступки, Красная армия восстановила позиции Москвы в Сибири и Монголии. Советы направили в Пекин делегацию, которой предстояли тяжелые переговоры.
В результате в 1924 году в значительной мере были восстановлены права России на железной дороге в Маньчжурии[1225]. Однако гораздо важнее были перспективы социалистической революции в Китае. Политика Советов в Китае, подобно политике, которую прежде проводила Япония, колебалась меж двух полюсов. Советы могли ограничиться тем, чтобы установить и сохранять свою сферу интересов, возможно, в союзе с другими странами. Но Советы могли пойти и дальше, попытавшись распространить свою гегемонию на весь Китай. Правда, для этого требовалось идеологическое обоснование. Лучшее, что могли предложить японцы, представляло собой слабую и явно своекорыстную смесь паназиатства. Советы были в состоянии предложить более привлекательную формулу.
В сентябре 1920 года на I съезде народов Востока в Баку Зиновьев оказался разочарован тем, как мало был представлен Китай. В январе 1922 года в ответ на Вашингтонскую конференцию Советы провели еще один съезд – съезд трудящихся Дальнего Востока, на который приехали активисты из Японии, Индии, Индонезии, Монголии и Кореи, а также (впервые) многочисленная делегация коммунистов из Китая[1226]. При всех разногласиях по тактическим вопросам имелось согласие, по крайней мере, относительно необходимости дистанцировать революцию в Китае от любых связей с западными державами. От Соединенных Штатов ждать было нечего. В первый год своего существования Коммунистическая партии Китая представляла собой небольшую группу интеллектуалов. Но вслед за массовыми забастовками в Гонконге и Кантоне было дано указание начать работу с организациями рабочих.
В ноябре 1922 года на своем IV съезде Коммунистический Интернационал вернулся к вопросу об организации крестьянства «в восточных странах» и сформулировал «основные тезисы по восточному вопросу». Главной задачей новой линии Коминтерна стало привлечение широких масс сельского населения к участию в национально-освободительной борьбе. Роль коммунистической партии состояла в том, чтобы заставить буржуазно-националистические партии принять революционную аграрную программу, отвечающую чаяниям безземельных сельских жителей[1227]. Важно отметить, что 12 января 1923 года Коминтерн указал Коммунистической партии Китая на то, что «в настоящее время единственной серьезной национальной революционной группой в Китае является Гоминьдан»[1228]. Тем самым Коминтерн к лучшему или к худшему сделал выбор, которого избегали все остальные силы, действовавшие за пределами Китая. Это означало признание не только значения партии Гоминьдан, но и необходимости оказывать ей содействие в осуществлении полномасштабной национальной революции. Это подтвердила и официальная советская дипломатия, когда всего через несколько недель советский посол в Китае Адольф Иоффе отправился из Пекина в Шанхай, чтобы встретиться там с Сунь Ятсеном, где они и выступили с заявлением о сотрудничестве в будущем. В мае за этим заявлением последовали конкретные инструкции, в которых крестьянский вопрос назывался центральным вопросом китайской революции. Наряду с работой в городах китайским товарищам предписывалось готовиться к крестьянскому восстанию. Эта стратегия была не по вкусу основателям Коммунистической партии Китая – городским жителям, интеллектуалам, зацикленным на современном промышленном рабочем классе. Но эта стратегия выдвинула на первый план новую когорту организаторов, в числе которых был и юный Мао Цзэдун, выходец из крестьянской семьи.
Новая линия на работу с крестьянством не ограничивалась одним Китаем. В октябре 1923 года в Тронном зале Кремля проходила Первая международная крестьянская конференция, в работе которой приняли участие 158 делегатов из 40 стран. Были представлены Польша, Болгария, Венгрия, а также Мексика и Соединенные Штаты. Из Азии приехали Сен Катайама (Япония) и Хо Шимин (Индокитай). Зимой 1923/24 года Ленин был близок к смерти, а в тени уже просматривались зловещая фигура Сталина и фигуры стремящихся быть в центре внимания кумира Красной армии Троцкого, руководителя Коминтерна Зиновьева, теоретика и бывшего левого коммуниста Бухарина. Последний после Брест-Литовска рассчитывал на то, что крестьянская война позволит вытеснить немцев обратно, а теперь напоминал всем и каждому, кто был готов его слушать, что «до тех пор, пока основную часть населения Земли составляют крестьяне, вопрос борьбы крестьянства остается одним из центральных вопросов политики»[1229]. Зиновьев, в свою очередь, прекратил все разговоры об исключительно пролетарской диктатуре. Он говорил о необходимости сочетать рабочую революцию с крестьянской войной как «одной из основных черт ленинизма и наиболее важным открытием, сделанным Лениным». Последняя революционная находка Зиновьева заключалась в том, чтобы нарушить порядок в Европе, подняв на Балканах восстание, которое через Болгарию и Югославию распространится на страны Запада.
Но в разговорах о крестьянах и крестьянстве непрерывно слышалась и другая нота. Еще в апреле 1923 года на XII съезде Коммунистической партии России Зиновьев выступил в защиту новой линии. Отвечая на обвинения в склонности к популизму и защите интересов аграриев, он сказал: «Да, мы не только должны стать ближе к крестьянству, мы должны поклониться ему, а если потребуется, то и преклонить колени перед экономическими нуждами крестьян, которые пойдут за нами и обеспечат нашу полную победу»[1230]. Вместе с третьим мировым революционным порывом исчезло и чувство реальности, граничившее с отрывом от нее, исчезло понимание того, что «подлинная революция», пролетарская революция, обещанная великими пророками XIX столетия, оказалась недосягаемой. И это не было болезненным выводом, сделанным по результатам широкомасштабных операций, проведенных Коминтерном в Китае или Польше. Это был горький урок, преподанный реальными событиями в России.
IV
К началу 1921 года Троцкий и Красная армия одержали победу в Гражданской войне. Но победа досталась дорогой ценой. Опасаясь оттолкнуть от себя сельское население, красные прекратили все разговоры о колхозах или обобществлении земли.
Сельским жителям разрешалось оставить у себя все земли, захваченные ими в 1917 году. Это удержало крестьян от того, чтобы примкнуть к силам контрреволюции, но породило серьезную дилемму. В условиях так называемого военного коммунизма зарплата рабочим почти полностью выплачивалась карточками. Еще в 1918 году российская валюта практически обесценилась. Теперь, когда землей владели крестьяне, а продовольствия в городах становилось все меньше, для нового режима оставался единственный выход – реквизиция, и, если понадобится, с применением силы. Это привело к кошмарному спаду: крестьяне перестали обрабатывать землю, а городское население, спасаясь от голода, уходило в деревни. Советский режим одержал победу в Гражданской войне, но утратил свой raison d’être как пролетарское революционное движение. Планы мировой революции провалились. А то, во что превратилась Россия, разительно отличалось от обещанного марксизмом. К концу 1920 года численность населения Петрограда сократилась на 75 %, Москвы – почти наполовину.
Для самого Ленина существовал только один эталон успешности его режима – Парижская Коммуна 1871 года, положившая начало современному коммунизму. В начале марта 1921 года, когда большевики готовились отметить 50-ю годовщину Парижской Коммуны на X съезде партии, они были потрясены небывалым в их собственной истории событием. 1 марта солдаты и матросы Кронштадта – военно-морской базы неподалеку от Петрограда и одного из легендарных очагов революции 1917 года – подняли восстание против советского режима. В своем манифесте они призывали к проведению свободных и честных выборов в Советы, требованию свободы слова, свободы собраний для беспартийных, созданию свободных профсоюзов, освобождению всех политических заключенных-социалистов и проведению независимого расследования в отношении всех, кто был заключен режимом в тюрьму. Они требовали отделения партии от государства, введения равного обеспечения карточек и полной свободы деятельности мелких производителей. Большевики ответили на эти либертарианские требования тем же, чем они всегда отвечали с ноября 1917 года, – сокрушительным ударом. В Кронштадт был направлен 50-тысячный отряд красногвардейцев под командованием Тухачевского. Число расстрелянных составило, наверное, не менее 2 тысяч человек. Тысячи человек попали в тюрьму. К концу работы Х партийного съезда началась зачистка.
В политических вопросах о компромиссе не могло быть и речи. Но Ленин был готов проявить гибкость в экономической политике. Стратегия насильственных изъятий привела к катастрофе. Инфляция вышла из-под контроля. На предприятиях невыходы на работу превратились в настоящую эпидемию. 21 марта на съезде Коммунистической партии Ленин неожиданно для всех провозгласил так называемую новую экономическую политику. Стратегия тотальной коллективизации в больших и малых городах меняла свое направление. Разрешалось создание предприятий частной собственности с числом наемных рабочих не более 20 человек. На смену принудительному изъятию продовольствия пришел обычный налог, который с 1924 года должен был взиматься в денежной форме. Для восстановления доверия предусматривалось введение новых денег, обеспеченных золотом.
В 1921 году советская власть, отказавшаяся от революционного вторжения в Польшу и глобальной кампании против Британской империи, публично пошла на компромисс с капитализмом во внутренней и внешней политике. Теперь советский режим воспринимался западными державами не столько как революционная угроза, сколько как несостоявшееся государство. Приближался сбор урожая. В Поволжье разразилась засуха, и становилось ясно, что о новой экономической политике заговорили слишком поздно. В Гражданской войне погибло намного больше одного миллиона человек. Теперь в стране, которая считалась хлебной корзиной Европы, голодная смерть грозила десяткам миллионов. 13 июля Ленин поручил писателю Максиму Горькому, известному своим нонконформизмом, обратиться к международной общественности, ко «всем честным людям мира» с призывом оказать благотворительную помощь его стране, но не именем мировой революции, а во имя гуманизма, от имени «страны Толстого, Достоевского, Менделеева… Мусоргского» и «Глинки». Речь уже не шла о революционном интернационализме. Без «хлеба и лекарств» Россию ожидала смерть[1231].
23 Генуя: конец британской гегемонии
16 августа 1921 года Ллойд Джордж выступил в палате общин в связи с тревожными сообщениями из России. «Голод в Поволжье – это столь ужасающее бедствие, – сказал Ллойд Джордж, – что мы должны оставить в стороне все наши предубеждения и помнить лишь о таких чувствах, как жалость и человеческая симпатия». Непосредственная угроза нависла над жизнью 18 млн человек. Однако в отношениях с Советами было намного проще сказать, чем сделать, и обойтись при этом без политики. Объявленная Лениным в марте 1921 года новая экономическая политика и отход от конфронтации во внешней политике в сочетании с разразившимся голодом воспринимались на Западе как подтверждение близкого конца большевистского режима. Разве не имело значения то, что с призывом о помощи выступил комитет, в который вошли известные деятели России, и некоторые из них, подобно Максиму Горькому, были хорошо известны как критики ленинского режима? А что, если на основе русского комитета по оказанию помощи голодающим будет создано новое временное правительство?[1232] Осенью 1921 года казалось возможным, что со смягчением советского режима и воссоединением России в Европе наступит настоящий мир. Именно такие взгляды заставили Ллойда Джорджа решиться на самую смелую в послевоенной истории попытку обеспечить мир. Эта попытка станет наглядной демонстрацией уверенности Британии в собственных силах и в то же время реальной ограниченности этих сил.
I
Еще с осени 1920 года, когда окончилась польско-советская война, Лондон пытался найти modus vivendi, который позволил бы восстановить торговые связи с Россией и обеспечить безопасность границ Британской империи. Но у этой политики разрядки были свои пределы. В обмен на помощь и по меньшей мере молчаливое признание Советское государство должно было подтвердить свои основные международные обязательства[1233]. Прежде всего требовалось урегулировать вопрос о судьбе долга в несколько миллиардов долларов перед Францией и Британией, по которому еще в Брест-Литовске был объявлен дефолт. Речь шла о четвертой части всех иностранных инвестиций Франции. Более 1,6 млн инвесторов, среди которых было много частных держателей акций российских промышленных предприятий и железных дорог, ожидали возврата суммы, превышавшей 4 млрд долларов. Доля Британии была несколько меньше и составляла 3,5 млрд долларов, значительная ее часть приходилась на долг правительства России[1234]. В октябре 1921 года на международной конференции в Брюсселе обсуждался вопрос, как Запад будет реагировать на голод в Советах. По инициативе Британии конференция приняла резолюцию, согласно которой оказание помощи Советскому Союзу было обусловлено его признанием своей значительной задолженности и созданием на территории СССР «условий», позволяющих возродить торговлю. Международный кредит, указала Брюссельская конференция, «требует доверия»[1235].
28 октября советский нарком иностранных дел Георгий Чичерин в ответ на брюссельскую резолюцию заявил, что если западные державы наконец почувствовали готовность включить Советский Союз в число легитимных участников процесса общего мирного урегулирования, то Советский Союз готов начать обсуждение по меньшей мере довоенных обязательств России. Однако к тому времени Советы уже нашли другой источник помощи. В Вашингтон сообщение о голоде поступило как раз тогда, когда государственный секретарь Чарльз Эванс Хьюз занимался рассылкой приглашений на конференцию по сокращению морских вооружений. Эта новость, без сомнения, укрепила Госдепартамент в его решимости не признавать советский режим. Однако после проведения спасательной операции в Бельгии оказание помощи голодающим европейцам стало своего рода специализацией американцев. Мировой рынок продовольствия находился в состоянии свободного падения, и в стране скопились огромные запасы пшеницы, от которой необходимо было избавиться. Еще в июле 1921 года Герберт Гувер, мастер по выходу из чрезвычайных ситуаций, начал работать с Американской администрацией по оказанию помощи, успевшей хорошо себя зарекомендовать. По мнению Москвы, то, что Вашингтон столь неохотно шел на официальные контакты, имело определенные положительные стороны[1236]. Пока Гувер может действовать так, как сам считает нужным, условия, на которых предоставляется помощь, будут минимальными. Масштабы деятельности Американской администрации по оказанию помощи означали, что Гувер сможет действовать в России, не обращаясь к советским органам власти[1237]. 18 августа 1921 года, всего лишь через два дня после того, как Ллойд Джордж выступил с призывом к созданию общего фронта, Советы приняли предложение Гувера о помощи[1238]. Весь последующий год Америка кормила 10 млн русских.
Голод в России был не единственным кризисом, наблюдавшимся осенью 1921 года. Спустя два года после подписания Версальского договора мирная обстановка вновь была омрачена ухудшением франко-германских отношений. В марте 1921 года плебисцит в Силезии закончился с предсказуемым результатом, вызвавшим волнения в Польше. В сочетании с продолжавшимися спорами вокруг репараций получался легко воспламеняющийся коктейль. Восстановление послевоенной разрухи истощало финансы Франции, в то же время в Германии временная денежная стабилизация, наблюдавшаяся с 1920 года, опасно пробуксовывала[1239]. Правительство Йозефа Вирта заявляло о готовности выплачивать репарации, но для покупки валюты оно использовало свеженапечатанные купюры. И хотя после последней стычки с поляками добровольческий корпус Freikorps был расформирован, угроза справа сохранялась. 4 июня 1921 года вышедший на прогулку с одной из своих дочерей Филипп Шейдеман, первый канцлер Веймарской республики, подвергся нападению с применением цианистого газа. Шейдеман выжил, но 24 августа принадлежавшие правым эскадроны смерти нанесли новый удар. На этот раз был убит Маттиас Эрцбергер. Правые националисты сводили счеты, накопившиеся еще с лета 1917 года, когда Эрцбергер и Шейдеман впервые выступили в рейхстаге с призывом к миру. Партии, поддерживавшие республику, осознавали опасность, но, когда в октябре 1921 года Лига Наций передала большую часть Верхней Силезии с ее тяжелой промышленностью Польше, они не смогли отделить себя от патриотически настроенных масс. Правительство канцлера Вирта, которое в марте 1921 года взяло на себя ответственность за выполнение поставленного Лондоном ультиматума, в знак протеста ушло в отставку. Вирту не оставалось ничего иного, как сформировать новый кабинет министров.
Но в этот раз безвыходная ситуация вокруг репараций была серьезнее, чем когда бы то ни было. Германские промышленники использовали возмущение в связи с силезским вопросом как повод для того, чтобы отказаться от выполнения договоренности министра иностранных дел Вальтера Ратенау о выплате репараций Франции натурой в виде поставок угля. Они также наложили вето на любое повышение налогов на прибыль. Теперь рейх был вынужден пойти на унизительные переговоры об условиях обеспечения частных международных закладных за счет общих владений германских бизнесменов и крупных землевладельцев. 12 ноября 1921 года на общем собрании ведущих германских бизнесменов, которое вел Гуго Стиннес, как наиболее авторитетный предприниматель Рура, правые националисты потребовали в обмен на свое согласие отменить то, что было обещано в годы Революции, включая 8-часовой рабочий день, и приступить к приватизации всех производственных активов германского государства, в том числе Германской железной дороги (Reichsbahn) – самой крупной компании в мире. На таких условиях не могло работать ни одно демократическое правительство. А разобщенным левым из СДП, НСДП и КПГ не хватало голосов, чтобы провести решение о выплате репараций за счет введения высокого прогрессивного налога на частные состояния.
Осенью 1921 года рынок отреагировал на сомнительность финансовых устоев Германии и продемонстрировал неверие в ее способность выполнить свои долговые обязательства. К концу ноября курс марки упал с 99,11 до 262,96 за доллар. В Берлине пришлось задействовать силы полиции для сдерживания толп покупателей, запасавшихся импортными продуктами. Министр экономики Джулиус Хирш говорил тогда: «Вопрос не в том, каким будет курс доллара – 300 марок или 500 марок… Вопрос в том, сумеем ли мы сохранить свою независимость в существующей финансовой ситуации, захотим ли мы вообще оставаться независимыми»[1240].
Будущее Веймарской республики висело на волоске, и все участники событий в Германии надеялись на помощь извне. Америка, похоже, решила не вмешиваться, поэтому к концу 1921 года в роли спасительницы Германии видели Британию. В декабре Вальтер Ратенау и Стиннес отправились в Лондон, чтобы обсудить сложившееся положение. Стиннес использовал собственную концепцию приватизации и разработал необычную схему, предусматривавшую получение кредитов от международного синдиката, созданного с привлечением англо-американского капитала, на проведение полной реорганизации всей железнодорожной сети Центральной Европы[1241]. Стиннес имел в виду создание системы, напоминавшей находившуюся под иностранным управлением железнодорожную дорогу в Китае. Основу этой системы, охватывающей основные магистрали в Австрии, Польше и на Дунае, будет составлять приватизированная германская Reichsbahn, находящаяся в «самом сердце сети железных дорог Восточной Европы»[1242]. В ходе обсуждения вопроса с Ллойдом Джорджем Стиннес и Ратенау расширили свою схему, включив в нее и железные дороги России[1243]. Начиная с 1920 года советские торговые представители активно интересовались размещением крупных заказов на железнодорожное оборудование по всей Европе. Крупп уже обеспечил себе выгодный контракт[1244]. Ленин распорядился направить на импорт железнодорожного оборудования 40 % всех советских золотых запасов, и теперь речь шла о приобретении 5 тысяч новых локомотивов и 100 тысяч вагонов. Эта программа импорта превосходила даже крупные контракты, заключенные во время войны царским правительством[1245]. Наряду с гуверовскими продовольственными посылками, восстановление транспортной системы было жизненно необходимым для возвращения России в европейскую экономику. Германия могла построить локомотивы, но в 1921 году она была не в состоянии предоставить кредит. Для этого и нужен был Лондон.
Просьба Германии была тщательно рассмотрена. К декабрю 1921 года кабинет министров Британии пришел к выводу, что если выплаты по репарациям приведут Германию к кризису, то последствия этого кризиса для всей Европы «будут настолько катастрофическими, что просчитать их просто невозможно». Британия, при поддержке Америки, должна была взять инициативу на себя[1246]. Перспективы такой конвергенции Британии и Германии встревожили и заставили действовать Францию. 18 декабря 1921 года вслед за немцами на Даунинг-стрит приехал французский премьер-министр Аристид Бриан[1247].
Может быть, из тупика по вопросу о репарациях удастся выйти, если вернуться к предложению, которое Ллойд Джордж впервые сделал еще в марте 1919 года. Британия восстановит гарантии безопасности Франции, действие которых было приостановлено в связи с отказом Конгресса США ратифицировать Версальский договор. Франция пойдет на значительные уступки Германии, как этого хотят американцы, и тогда можно будет возобновить кредитные потоки. Катастрофы удастся избежать. Теперь проблема была в том, чтобы определить цену, которую придется заплатить Британии. Сколько она готова отдать, чтобы обеспечить безопасность Франции? Если Франция вмешается в польско-германскую войну, то Лондон не сможет взять на себя обязательства по оказанию ей помощи. У Британии не было и особого желания заключать двусторонний военный союз с Францией. С Вашингтонской конференции Бриан возвращался, вдохновленный идеей создания регионального европейского пакта, аналогичного четырехстороннему пакту с Японией относительно территориальной целостности Китая. Он надеялся, что такое решение окажется приемлемым для Вашингтона[1248].
Ллойд Джордж предложил еще более грандиозный план. Если проблема в отношениях между Британией и Францией заключается в том, что французские союзники на Востоке не чувствуют себя в безопасности, а проблема с Германией состоит лишь в выплате репараций, то Ллойд Джордж готов предложить схему стабилизации и экономического восстановления стран Восточной Европы, включая Россию. В этом случае настойчивые с оттенком клаустрофобии требования Франции, пытающейся заручиться надежными двусторонними гарантиями собственной безопасности, приведут к примирению целого континента[1249]. Одна большая дипломатическая сделка позволит убедить Советы принять условия экономического сотрудничества, разработанные в Брюсселе. Это станет основанием для того, чтобы направить в лежащую в руинах Советскую Россию сотни миллионов фунтов стерлингов, что сделает возможным одновременно возврат России в лоно капитализма и использование этих средств для возрождения германского экспорта. Германия заработает твердую валюту, необходимую для выплаты репараций, а это, в свою очередь, даст Франции возможность восстановить свою кредитоспособность в Америке. Регулярные выплаты в размере 50 млн фунтов стерлингов (200–250 млн долларов), которые Германия будет получать от торговли с Россией и передавать Франции, позволят Парижу взять кредит в размере 700800 млн фунтов стерлингов (около 3,5 млрд долларов) и многое сделать для решения финансовых проблем[1250]. Непродуктивное противостояние Германии и Франции превратится в средство обеспечения экономического роста континента. С характерной для него смесью оппортунизма и растущих амбиций, Ллойд Джордж просчитал, что этот дипломатический триумф позволит ему назначить внеочередные выборы, на которых его крыло Либеральной партии одержит победу. И тогда сможет обрести независимость от консерваторов, преследовавших его еще со времен «выборов хаки». Обеспечив мир в Европе, Ллойд Джордж обойдет набиравших силу лейбористов и вновь станет хозяином владений прогрессивных центристов.
Британская империя займет командные высоты, европейская экономика будет восстановлена, призрак коммунизма прекратит свои хождения, конфликт между Германией и Францией разрешится, а политический баланс вновь изменится в пользу левых центристов. В глобальном контексте масштаб стратегического видения Ллойда Джорджа производит еще большее впечатление. Зимой 1921/92 года его европейские инициативы совпали по времени с Вашингтонским соглашением о морских вооружениях и одновременным урегулированием многочисленных кризисов в самой империи. Ллойд Джордж хорошо понимал, что если не заниматься более широкими стратегическими вызовами в Атлантическом и Тихом океанах и в Евразии, то укрощение Ганди, сдерживание ирландцев и нейтрализация египетского национализма так и останутся тактическим краткосрочным успехом. Он же стремился ни больше ни меньше как к преодолению послевоенного мирового кризиса либерализма. На это можно взглянуть и с другой стороны. Масштаб планов Ллойда Джорджа указывает на огромный объем работы, без которой было практически невозможно полностью восстановить либеральный порядок. До него подобных попыток никто никогда не предпринимал. Учитывая ограниченные ресурсы Британии, он ставил колоссальную задачу.
II
4 января 1922 года в Каннах состоялась конференция Верховного совета Антанты, на которой Ллойд Джордж выступил с предложением о созыве в ближайшие месяцы экономической и финансовой конференции с участием Германии и России. В отношении Советской России Каннская конференция приняла ряд решений, отражавших новый взгляд на мировой порядок. На конференции было четко заявлено, что государства не могут диктовать друг другу принципы построения систем собственности, внутренней экономической жизни или управления. Однако иностранные капиталовложения зависят от признания прав собственности, а правительства должны признавать государственные долги, должна быть обеспечена независимость судебной системы и безопасность валютных операций, кроме того, недопустима подрывная пропаганда. При соблюдении условий этого манифеста об искоренении любых угроз капиталистическому строю Советы могут быть вновь приняты в международное сообщество[1251]. 8 января Москва согласилась принять приглашение на международную конференцию. Действуя в обход дискредитировавшей себя вильсоновской Лиги Наций, членами которой ни Германия, ни Советская Россия не являлись, британцы и французы пригласили другие заинтересованные стороны на встречу в верхах в итальянском городе Генуе.
Германии очень понравился такой подход британцев. Канцлер Вирт заявил послу Британии лорду д’Абернону, что «Германия является аванпостом Англии на континенте, или, даже лучше сказать, аванпостом англосаксонской цивилизации. Нам, как вам и Америке, необходим экспорт, мы можем жить лишь за счет торговли. Именно такой должна быть политика наших трех стран»[1252]. Однако германская идея благотворной англо-американской финансовой гегемонии в Европе была всего лишь фантазией. Вашингтон не намеревался поддерживать взгляды Ллойда Джорджа. Помочь продовольствием – это одно, но сама мысль о ведении прямых переговоров с Советами была для Вашингтона совершенно неприемлемой, и он отказался от приглашения в Геную. В свою очередь, для Франции было очень чувствительным то, как Британия использует свою силу. Критики премьер-министра Бриана считали, что выдвинутая британцами идея общей европейской безопасности в меньшей степени обеспечивает защиту Франции, чем идея предоставления Германии иммунитета от активного принуждения к выполнению условий Версальского договора. Предложение пригласить на конференцию Советскую Россию, в то время как французские кредиты оставались неоплаченными, воспринималось как спорное[1253]. А уж приглашение на конференцию, проходящую в дружественной обстановке, двух стран-изгоев представлялось чуть ли не самоубийственным.
12 января 1922 года неугомонные представители правоцентристского большинства во французской палате депутатов добились отставки Бриана. На смену Бриану пришел Раймон Пуанкаре. Нового премьер-министра Франции часто изображали как карикатуру на узколобого шовиниста. Вскоре он стал мишенью в ожесточенной пропагандистской кампании, поддерживаемой Германией и Французской коммунистической партией, которая представляла его поджигателем войны, чья секретная дипломатия в отношениях с Российской империей и стала истиной причиной начавшейся в августе 1914 года войны[1254]. Эта интерпретация исторических событий нашла рьяных приверженцев среди позднего поколения сторонников линии Вильсона в англоязычном мире[1255]. Однако для Пуанкаре (в не меньшей степени, чем для Клемансо, Мильерана и Бриана) приоритетная задача состояла в сохранении союза с Британией. При этом его взгляды на европейскую безопасность отличались от тех, которые на Вашингтонской конференции предлагались в качестве образца.
23 января 1922 года Пуанкаре направил в Лондон предложение заключить военную конвенцию сроком на 30 лет, предусматривающую взаимные гарантии, направленные против Германии. Ллойд Джордж воспринял это как катастрофу. Он напомнил Пуанкаре, что всегда был верен союзу между Францией и Британией. Даже на пике империалистических разногласий в период Фашодского кризиса 1898 года Ллойд Джордж считал безумием конфликт между «двумя демократиями». Теперь Ллойд Джордж указывал Пуанкаре на враждебное отношение со стороны либеральной и лейбористской оппозиции в Британии, решительно выступавшей против любого участия в проблемах континента[1256]. Противостояние между британской и французской демократиями создаст почву для «величайшей катастрофы в истории Европы»[1257]. Однако доводы Ллойда Джорджа не были услышаны. Пуанкаре понимал, что на запланированной на апрель конференции в Генуе на карту будет поставлена репутация британского премьер-министра. И это давало Пуанкаре преимущество.
Генуэзская конференция приближалась, а Франции по-прежнему приходилось отчаянно отбиваться от требований иностранных кредиторов. Германия была на грани банкротства, а в Европе, где финансовая ситуация и без того была тупиковой, назревал новый кризис. После того как премьер- министром стал Пуанкаре, Комиссия по репарациям предоставила Германии временную отсрочку по платежам, но лишь при условии, что Берлин представит на утверждение Комиссии подробный план налогово-бюджетной консолидации[1258]. Вопреки ожесточенному сопротивлению германских предпринимателей, правительство Вирта выполнило требование союзников. Оно согласилось на то, чтобы поднять налоги, взыскать обязательные внутренние долги, взимать таможенные пошлины золотом, поднять внутренние цены на уголь и повысить железнодорожные тарифы, обеспечить автономность Рейхсбанка и ввести валютный контроль, препятствующий оттоку капитала[1259]. Важным элементом такой налогово-бюджетной консолидации был давно обещанный отказ от субсидирования продуктов питания, который позволял сэкономить миллиарды марок, но требовал повышения цен на хлеб на 75 %. Политические издержки были очевидны.
В начале февраля 1922 года при канцлере Вирте произошла единственная крупная забастовка рабочих государственного сектора за всю историю Германии. Сначала Вирт намеревался принять жесткие меры, использовав чрезвычайные полномочия, предусмотренные конституцией Веймарской республики. Но даже Карл Зеверинг, который в 1920 году стоял во главе восстания коммунистов в Руре, а теперь занимал пост министра внутренних дел Пруссии, действуя достаточно жестко, делал тем не менее все, чтобы избежать всеобщей конфронтации. «Следствием станут грабежи и нехватка продуктов. Потом в качестве последнего средства будет задействован рейхсвер, а затем мы получим гражданскую войну»[1260]. Такого развития событий удалось избежать, но выплаты по репарациям, срок которых подходил 18 марта 1922 года, опустошили валютные запасы Рейхсбанка. 21 марта 1922 года Репарационная комиссия заявила, что Германия может приостановить выплаты до 15 апреля, но при условии, что она сейчас же даст согласие на проведение в ближайшие недели налогово-бюджетной консолидации. Рейхстагу до конца мая предстояло провести голосование по вопросу о сборе дополнительной суммы в 60 млрд марок в виде налогов. По сути дела, государственная финансовая система Германии была под международным надзором. Находившиеся в Париже переговорщики по вопросам репараций предупреждали Берлин, чтобы тот не проявлял чрезмерного усердия. Угрозы, прозвучавшие 21 марта, были на самом деле смягченным вариантом еще более далеко идущих требований, выдвигаемых Францией. В Париже вновь зазвучали разговоры об «османизации» Германии[1261]. Правительство Германии восприняло эти новые требования как серьезное нарушение суверенитета государства и новую попытку низвести Германию до уровня стран второго или третьего разряда, включив ее в число тех, которые однажды были вежливо названы семьей народов. И если правила устанавливал не Ллойд Джордж, а Пуанкаре, то обоснованность визита Ратенау и Стиннса в Лондон в декабре 1921 года оказывалась под вопросом[1262].
Штреземан и Ратенау все с большим отчаянием обращали свои взоры в направлении Соединенных Штатов. Выступая в рейхстаге, Ратенау заявил, что «никогда прежде ни одна страна не держала судьбы континента в своих руках так крепко, как это делает сейчас Америка»[1263]. Призывы Ратенау не находили отклика в Вашингтоне. Администрация Гардинга ни на шаг не отступала от позиции, впервые сформулированной Гувером для администрации Вильсона в мае 1919 года. Лучшим способом заставить европейцев прийти к удовлетворительному решению может быть только отказ Америки от вмешательства в европейские дела. Европейский кризис с репарациями, как и вызванный дефляцией экономический кризис 1920 года, будет продолжаться до тех пор, пока не возобладает построенная на деловых интересах логика восстановления[1264].
III
Начало работы Генуэзской конференции, созванной по инициативе Ллойда Джорджа, в отличие от Вашингтонской конференции, не было сенсационным. Сложная сделка, которую предстояло заключить, не предполагала неожиданных предложений, подобных тому, которыми государственный секретарь Хьюз удивил весь мир. Америка в конференции не участвовала, Пуанкаре предпочитал держаться в стороне, поэтому ведущую роль взяла на себя Британия. И это с самого начала поставило переговоры под угрозу. Ллойд Джордж свел процедуру открытия 14 апреля 1922 года к довольно неудачной шутке по поводу того, что Христофор Колумб, в свое время открывший Америку для Европы, был гражданином Генуи, и «он надеется, что теперь этот город сможет открыть Европу для американцев»[1265]. Отношения между Британией и Францией оставались напряженными, так как Пуанкаре продолжал настаивать на том, что вопрос о репарациях не должен обсуждаться на конференции. Италия не могла заменить Францию в качестве равноправного партнера. Фашистские отряды свободно разгуливали по сельским районам страны, в Риме наблюдался опасный вакуум власти, который через год сделает возможным восхождение к власти Бенито Муссолини. Участие Японии в работе конференции подразумевалось само собой, хотя на ней, в отличие от Вашингтонской конференции, жизненные интересы Японии не затрагивались.
Делегация Германии демонстрировала свое возмущение и вела себя бестактно. Настоящей сенсацией на конференции стала советская делегация.
В Генуе много говорилось о том, что эта конференция знаменует новый этап в европейской политике, представляя собой первую мирную конференцию после окончания войны, в которой принимают участие все. Но ничего, кроме полного разочарования, эта конференция не принесла. В Лондоне многие не скрывали недовольства компромиссами, которые сам Лондон и предлагал[1266]. В частных письмах и заметках в дневниках члены британской делегации не стеснялись в выражениях. Главу делегации Германии, одного из самых ярких представителей Веймарской республики, Ратенау называли «облысевшим еврейским дегенератом». Большевиков британцы восприняли как «персонажей пантомимы, вышедших с подмостков театра на Друри-лейн. …Чичерин выглядит именно так, как должен выглядеть дегенерат, которым он, собственно, и является. …К тому же, кроме него и Красина… там сплошные евреи». «Очень неприятно думать, – писал другой член британской делегации, – что в центре внимания здесь находятся наши будущие отношения с ними»[1267].
В самом начале обмена мнениями на конференции Чичерин привел хозяев в замешательство, заявив, что Советская Россия выступает за мир и разоружение[1268]. Это была более мягкая линия интернационализма, чем та, которой придерживался Коминтерн, когда требовал от своих филиалов в Европе готовиться к гражданской войне[1269]. Переговоры осложнились еще больше, когда речь зашла об условиях возвращения Советов в международное сообщество. Западные державы настаивали на правах своих кредиторов. Советы выдвинули встречные требования, предъявив счет на репарационные выплаты в размере 50 млрд золотых рублей (3,6 млрд долларов) в качестве компенсации ущерба, нанесенного в ходе интервенции союзных войск во время Гражданской войны. Для того чтобы сорвать Генуэзскую конференцию, было достаточно и утвержденной в Каннах повестки дня, в которой содержались противоречивые требования невмешательства и защиты прав собственности. Без серьезного обсуждения остался вопрос о том, возможны ли новые капиталистические инвестиции в социализм. Дискуссия так и не вышла за рамки вопроса об огромных внешних долгах. Готова ли Россия платить? Возможным представлялся компромисс, предусматривавший списание долгов союзникам в обмен на признание обязательств, взятых царским правительством перед войной. Но Советы в любом случае не собирались договариваться. Радикально настроенные члены делегации, возглавляемой Адольфом Иоффе, в полной мере использовали ленинскую формулу «разделяй и властвуй».
В качестве главной Москва ставила перед собой задачу не допустить, чтобы фантазии Ллойда Джорджа о гегемонии британо-французско-германского консорциума в России осуществились. В партнеры себе она выбрала Германию, доверие которой к грандиозным планам Ллойда Джорджа сильно пошатнулось после того, как в марте возник кризис в вопросе о репарациях. Германия опасалась, что истинная цель конференции заключалась не в том, чтобы обеспечить общий мир, а в том, чтобы возродить направленный против Германии союз. Эти опасения всячески подпитывались консерваторами в министерстве иностранных дел Германии, выступавшими за соглашение между Россией и Германией[1270]. Подтверждали эти опасения и поступавшие в Геную тревожные сообщения о том, что Франция и Британия могут поддержать требования Москвы к Германии о выплате репараций, оказав тем самым России помощь в выплате долгов царского правительства. Ратенау узнал о том, что между Россией и западными державами ведутся отдельные переговоры, и это повергло в панику всю германскую делегацию. Необходимо было любой ценой предотвратить создание новой антигерманской коалиции.
Ранним утром Пасхального воскресенья, 16 апреля, Ратенау, отказавшись от своей прежней позиции в поддержку соглашения с Западом, принял приглашение провести отдельные переговоры с советской делегацией на ее вилле в пригороде Генуи[1271]. К половине седьмого вечера того же дня германская и советская делегации подписали так называемый Рапалльский договор. Конференция была сорвана. Смелая инициатива Ллойда Джорджа, направленная на обеспечение общеевропейской безопасности, закончилась подписанием соглашения о взаимном признании и сотрудничестве двух стран-изгоев – Германии и Советской России. По признанию самого Ллойда Джорджа, «при общей численности населения более 200 млн человек сочетание технического превосходства Германии с природными запасами и трудовыми ресурсами России» представляло собой «ужасную опасность для мира в Европе»[1272]. Перед Францией это соглашение открывало действительно ужасающие перспективы. Показательно, что атмосфера недоверия, царившая в Генуе, заставила Париж немедленно прийти к выводу о том, что Лондон с самого начала замышлял заключение русско-германского соглашения[1273]. На самом деле это соглашение обернулось катастрофой и для самого Ллойда Джорджа. Вся грандиозная конструкция, предусматривавшая использование России для примирения Германии и Франции, рухнула.
Хотя Вашингтонская конференция считалась неоспоримым успехом, а Генуэзская – полным провалом, у этих масштабных построений имелась одна общая черта: в них просматривалась тенденция недооценивать силы, полагавшие необходимым коренным образом изменить сложившееся после окончания войны положение. Лондон, Париж и Вашингтон воображали, что, пользуясь своим финансовым превосходством, они сумеют утихомирить националистов. В целях наблюдения за финансовыми и транспортными структурами Китая и России и надзора над ними планировалось создать целые консорциумы[1274]. Конечно, возможности развернуть деловую активность выглядели заманчиво. Но оказалось, что без старомодных государственных гарантий, обеспеченных сферами интересов и правом экстерриториальности, частные банкиры не желают предоставлять сколько-нибудь значительные займы. При всех политических играх вокруг китайского консорциума, деньги так и не потекли. Без участия Соединенных Штатов идея создания капиталистического консорциума, в подчинении которого находился бы Советский Союз, оказалась мертворожденной. Западные страны недооценили силу националистических настроений в Китае. Ирония состояла в том, что делегации западных стран на Генуэзской конференции были озабочены тем, что слишком сильное давление на Советский Союз может привести к тому, что на смену советской власти придет более агрессивное националистическое правительство[1275]. При всей сложности ситуации, в которой находилась советская власть, такие опасения были следствием ее неправильной оценки. Ленинская новая экономическая политика была тактическим ходом, а не стратегическим отступлением. Цинизм, с каким Москва использовала помощь Герберта Гувера, говорил не о готовности сдаться, а о стремлении выжить любой ценой. И разумеется, Москва никогда не позволила бы Лондону выстраивать единый капиталистический консорциум, который подчинил бы себе Россию[1276].
Правительство Германии номинально признавало свои обязательства, но испытывало серьезный соблазн присоединиться к клубу стран-инсургентов. Заключив Рапалльский договор с Советами, Германия установила дипломатические отношения с Китайской республикой, что вызвало нескрываемую радость Ататюрка в Турци[1277]. Конечно, финансовое положение Германии было очень тяжелым, но сближение с Советской Россией, Китайской республикой или с мятежной Турцией, входившими в лигу стран-изгоев, было самонадеянной фантазией националистов. Версальский договор строился на признании суверенитета Германии. В августе 1921 года Вашингтон формально вышел из состояния войны, заключив с Веймарской республикой сепаратный мир на очень благоприятных для нее условиях. Британия очевидно желала реинтеграции Германии в мировую экономическую и политическую систему. Озабоченность Франции можно было легко обернуть на пользу Германии. Ллойду Джорджу нужна была лишь приверженность Германии версальскому процессу. Сторонняя сделка в Рапалло привела к результату, противоположному ожидаемому. Если сравнивать ее с Realpolitik эпохи Бисмарка, то это была Realpolitik, лишенная оснований. Если предположить, что Рапалльский договор был не тщательно просчитанной силовой игрой, а чем-то вроде боевого клича или жеста национального сопротивления, то тогда возникает вопрос: насколько далеко была готова пойти Германия?[1278]
К чему может привести сделка в Рапалло, показала кровь, пролившаяся 20 июня 1922 года, когда группа правых боевиков застрелила промышленника Вальтера Ратенау около его виллы в Грюнвальде. Рынок дал свой ответ на уличные демонстрации сторонников республики. В течение недели после убийства Ратенау курс марки упал с 345 до 540 за доллар[1279]. Готовы ли правые в своем выяснении отношений с западными державами пойти на риск гражданской войны и экономического хаоса?
Этот вопрос витал в воздухе с самого начала перемирия. После Генуэзской конференции именно такой акт сопротивления приведет к отставке Ллойда Джорджа с поста премьер-министра и покажет тщетность всех попыток Британии восстановить порядок в Европе.
IV
За несколько недель до Генуэзской конференции Ллойду Джорджу пришлось заниматься спором, разгоревшимся между государственным секретарем по делам Индии Эдвином Монтегю и министром иностранных дел Джорджем Керзоном по поводу ареста Ганди и того, что Лондон предложит Турции в обмен на мир в восточной части Средиземного моря. Ослабленный провалом в Генуе Лондон теперь переживал глубокий политический кризис не только в Европе, но и на Среднем Востоке. Еще в конце 1921 года стало понятно, что грекам не удастся одержать победу над националистическими силами Ататюрка. Желая дистанцироваться от неуклюжей политики Антанты в отношении Османской империи, Франция еще в марте 1921 года попыталась договориться с Анкарой. Лондон старался выйти из турецкого конфликта, не теряя лица. Но теперь, когда Франция держалась в стороне, а Советы создали новый союз с Германией, который в перспективе был направлен на возврат Анатолии, Ататюрк отказывался от любого компромисса[1280]. В конце лета 1922 года греки совершили неудачную попытку вернуть свои позиции, оккупировав Константинополь и удерживая его, в расчете получить выкуп. Ататюрк не испугался, помня, что османы уже не могут рассчитывать на лояльность турков. 26 августа 1922 года он двинулся в направлении побережья Эгейского моря и 9 сентября захватил Смирну, вынудив охваченных ужасом греков, живущих в городе, оставить его. Затем турки отошли на север, остановившись в нескольких милях от зоны оккупации Антанты на турецком береге проливов. В середине сентября 1922 года греческие войска были обращены в бегство, и 5-тысячный контингент Антанты, дислоцированный в Чанаке в западной части проливов, очутился лицом к лицу с жаждущей крови турецкой армией.
Отступать Лондон не мог. После уступок в Ирландии, восстания в Индии, вызовов, брошенных авторитету Британии на Ближнем Востоке, и фиаско в Генуе Лондон просто не мог себе позволить в очередной раз потерять лицо. Британские войска окопались, и Керзон в отчаянии обратился к Франции и силам империи. Но разговор с Пуанкаре в Париже свелся к взаимным обвинениям в предательстве[1281]. Ответы из доминионов обескураживали еще больше. Южная Африка просто не реагировала на обращение Лондона. Канада считала, что все стратегические проблемы империи уже решены на Вашингтонской конференции. Австралия выразила возмущение тем, что Лондон обратился за помощью лишь в разгар кризиса, и не горела желанием повторить трагедию Галлиполи[1282]. Большая стратегия Ллойда Джорджа рассыпалась на глазах, и Британия оказалась в изоляции не только в Европе, но и в собственной империи.
Когда 23 сентября 1922 года турецкий батальон на глазах у британских войск вторгся в нейтральную буферную зону, из Лондона поступил приказ немедленно направить туркам ультиматум с требованием отвести войска. Британия и националистическая Турция были на грани полномасштабной войны[1283]. Перспективы были пугающими не только из-за численного преимущества турок непосредственно на месте, но и потому, что за Ататюрком, как и за Германией в Рапалло, стоял Советский Союз. Тогда считалось, что Советы передали Ататюрку подводные лодки, способные прорвать позиции Королевского флота в Восточном Средиземноморье. 18 сентября британский флот получил приказ на потопление любого приближавшееся советского судна. Ситуация осложнялась тем, что неделей раньше греческая армия взбунтовалась против «прогерманского» короля, обвиняя его в анатолийской катастрофе. Это не было фашистским переворотом avant la lettre. Целью переворота было возвращение давнего союзника Ллойда Джорджа, прозападного премьер-министра Элефтериоса Венизелоса. Но это в корне противоречило воле греческих избирателей.
Никогда еще, вплоть до столкновения с Гитлером в вопросе о Судетах, Британия не была столь близка к вступлению в настоящую войну. Ллойд Джордж блефовал. Если бы началось сражение, Британия почти наверняка потерпела бы поражение[1284]. Неудивительно, наверное, что британский командир так и не передал по назначению резкий ультиматум. 11 октября 1922 года стороны заключили перемирие. Войну удалось предотвратить. Но спасти правительство было уже невозможно. Чуть больше чем через неделю неугомонные заднескамеечники-тори лишили Ллойда Джорджа поста премьер-министра, положив конец его 16-летнему пребыванию в кабинете министров. Ллойд Джордж оказался последним премьер-министром от либеральной партии в современной Британии. Основным приоритетом новое правительство тори считало скорейший выход из сложных внешнеполитических лабиринтов. После полугода мучительных переговоров удалось решить Восточный вопрос, и в июле 1923 года был подписан Лозаннский мирный договор[1285]. Планы разделения Анатолии по Лондонскому договору 1915 года и соглашение Сайкса – Пико 1916 года оказались окончательно забытыми. Франция и Британия урегулировали свои разногласия. Было создано национальное турецкое государство, ставшее единственной прочной основой с такими муками продолжавшегося процесса послевоенного урегулирования в Восточном Средиземноморье. Начиная с 1919 года греко-турецкий конфликт унес жизни 50 тысяч военных, десятки тысяч людей получили ранения. Потери среди гражданского населения в результате этнических чисток с обеих сторон исчислялись сотнями тысяч. Подписанный мирный договор создавал новый, не суливший ничего хорошего прецедент «обмена» полутора миллионов этнических греков на полмиллиона этнических турок.
Еще до кризиса в Чанаке британская дипломатия в Европе была на грани провала. Германия стояла на пороге дефолта, Франция испытывала серьезное давление со стороны США, и Лондон решился на последнюю попытку взять инициативу на себя. С нехарактерной для него поспешностью министр иностранных дел Артур Бальфур поставил свое имя под составленным в одностороннем порядке, но сопровождавшимся рядом условий предложением отказаться от всех финансовых претензий к бывшим союзникам, за исключением тех сумм, которые США требовали от Британии[1286]. Односторонний отказ Британии от претензий, о котором неоднократно говорили в 1920 и 1921 годах, мог быть воспринят как важный сигнал. Но в 1922 году ноту Бальфура сочли скорее попыткой манипулирования, чем великодушным предложением. Нота содержала требования в отношении Франции и обвинения против Америки. Она была отвергнута обеими странами[1287]. В январе 1923 года новое правительство консерваторов отказалось от дальнейшего поиска путей решения финансовых проблем, которые устроили бы всех. Оставив французам решать вопрос о репарациях, Лондон приступил к двусторонним переговорам о долгах с Вашингтоном. Британия в течение 62 лет выплатит Соединенным Штатам сумму в 4,6 млрд долларов при средней годовой процентной ставке, равной 3,3 %[1288]. Ежегодный платеж в сумме 160 млн долларов превышал расходы на обслуживание всего национального долга Британии в довоенные годы. Он был равен национальному бюджету на образование, двум третям расходов на флот, его хватило бы на то, чтобы в течение 62 лет построить жилье для всех обитателей трущоб в Соединенном Королевстве[1289]. Премьер-министр Эндрю Бонар Ло, у которого на войне погибли два сына, был настолько возмущен такими условиями, что отказался от участия в переговорах и пригрозил отставкой.
Эти условия, вызвавшие возмущение Лондона, были значительно мягче тех, которые содержались в общих направлениях, подготовленных комитетом Конгресса в начале 1922 года[1290]. Администрации Гардинга потребовалось приложить весьма значительные усилия, чтобы убедить Сенат согласиться с этим предложением. Что касается американской политики, то она соответствовала новому порядку, который формировался после того, как в Вашингтоне было подписано англо-американское соглашение о военно-морских силах. По выражению Гувера, решение вопроса о задолженности Лондона позволяло американской политике отделить Британию, «страну с высокой платежеспособностью и мирными намерениями», от политики, которой США намеревались следовать в отношении стран континентальной Европы (включая Францию), «обладавших низкой платежной способностью и продолжавших придерживаться военных методов»[1291].
24 Европа на грани
Менее чем через неделю после потрясшего всех сообщения о сделке в Рапалло между Советами и Германией недавно созданная комиссия Конгресса по вопросам военных долгов направила в Париж официальный запрос о представлении плана платежей в погашение долга Франции перед США, составлявшего 3,5 млрд долларов[1292]. Три дня спустя, 24 апреля 1922 года, премьер-министр Пуанкаре выступал на митинге в своем родном городе Бар-ле-Дюк[1293]. При всем стремлении к союзу с Британией и Америкой, заявил он, Франция оставляет за собой право действовать против Германии и, если потребуется, применить силу. Летом Госдепартамент командировал в Европу Джека Моргана, надеясь, что частный заем поможет разрешить сложную ситуацию с выплатой репараций[1294]. Однако Пуанкаре отверг предложения банкиров[1295]. Без продвижения в вопросе выплаты долгов внутри Антанты не может быть никаких уступок в вопросе о выплате репараций. Морган не решился выступать в роли судьи. Возможно, Франция была права, предпочитая военные действия финансовой стабилизации Германии. Но в этом случае не может быть и речи о дальнейших кредитах. Американские инвесторы не будут «покупать себе сложности»[1296].
Еще зимой 1921/22 года Ллойд Джордж надеялся, что экономика поможет преодолеть жесткие разногласия, разделявшие Европу, но теперь Франция была готова применить силу, чтобы определить условия финансового урегулирования. О применении государством силы говорилось совершенно в открытую. В Париже подсчитали, что расходы на отправку французских войск в Рур, в самое сердце промышленного запада Германии, составят всего 125 млн франков. Добыча каменного угля на шахтах Рурского угольного бассейна может ежегодно приносить до 850 млн золотых франков. Получалось, что военная оккупация запада Германии может принести Франции значительный доход[1297]. Правда, она вела к кризису, в результате которого Германия оказывалась на грани развала, а Британия и Соединенные Штаты были вынуждены вернуться к вопросам европейской политики. Франция тоже рисковала. Конфронтация с Германией вызовет протесты ее союзников и спровоцирует спекулятивные атаки на французскую валюту. Но и существовавшее положение не обеспечивало безопасности Франции.
I
Франция не желала действовать в одиночку. Участие в Антанте, пусть внешне, но оставалось основой французской политики. В день заключения перемирия в 1922 году Жорж Клемансо вернулся из отставки, чтобы отправиться в последний трансатлантический вояж, надеясь заручиться поддержкой общественного мнения и убедить Америку выступить на стороне Франции. 21 ноября, выступая в Нью-Йорке, он начал с вопроса: «Почему Америка вступила в войну? Чтобы помочь сохранить демократию? И что вы получили? Теперь вы обвиняете Францию в милитаризме, но вы не говорили этого, когда французские солдаты спасали мир. Нет никаких сомнений в том, что Германия готовится к новой войне. И ее ничто не может остановить, кроме прочного союза Америки, Великобритании и Франции»[1298]. Клемансо собирал толпы слушателей в Нью-Йорке, а тем временем американские дипломаты, действуя за кулисами, пытались вернуть Францию за стол переговоров. Но в вопросе о военных долгах Конгресс продолжал упрямо стоять на своем, и администрация Гардинга ничего не могла с этим поделать. 29 декабря госсекретарь Хьюз, следуя, как он позже скажет, «гласу Господню», выступил на собрании Американской исторической ассоциации в Нью-Хейвене, штат Коннектикут[1299]. Он высказал почти все, о чем осмеливались говорить в Вашингтоне. Впредь Америка не намерена брать на себя новых политических и финансовых обязательств в отношении союзников времен войны. Но Америка направит своих представителей на встречи с европейскими финансистами для определения платежеспособности Германии[1300]. Французам этого было уже недостаточно. К концу ноября кабинет министров Пуанкаре принял решение, что если Германия объявит еще один дефолт, то выполнение Версальского договора возьмет на себя французская армия.
Какова будет реакция остальных членов Антанты? Можно было рассчитывать, что Бельгия, помня об ущербе, нанесенном ей Германией, поддержит такой способ взимания репараций. Британцы оставались в стороне. В октябре 1922 года новым премьер-министром Италии стал Бенито Муссолини. Дуче был деятельным человеком – бывший социалист и глава парламентской группировки. Деятельность его «чернорубашечников» начиная с 1919 года не могла не вызывать неприятия у любого, кто выступал за верховенство права. Однако к 1922 году Муссолини дистанцировался от наиболее компрометирующих членов собственного движения и пользовался явной поддержкой ряда наиболее влиятельных групп итальянского общества. Что бы о них ни говорили, фашисты определенно были антикоммунистами. Для французов главным было то, что вся карьера Муссолини строилась на его участии в войне. Он громче всех выступал на митингах против «мира без победы». Обеспокоенность агрессивными выходками фашистов возникнет позже. В 1923 году Муссолини не стал бы препятствовать действиям Франции против Германии[1301]. Именно это хотел знать Париж.
11 января 1923 года толпы возмущенных гражданских немцев в недобром молчании наблюдали за тем, как части французской армии, дислоцированные на Рейне, в сопровождении батальона бельгийской пехоты и чисто символической группы итальянских инженеров вступают в Рур. Это вторжение было наглядной демонстрацией французского военного превосходства в Европе. В состав французской передовой группы входил крупный мобильный отряд, включающий танки и грузовые машины для перевозки пехотинцев. Французский генеральный штаб намеревался продвинуться вглубь Северо-Германской низменности. Эта военная операция не встретила бы никаких помех на своем пути, но 60-тысячный французский контингент закрепился в Рурской области, жестоко подавляя протесты местного гражданского населения. В марте Рур и Рейнская провинция были административно отделены от остальной Германии. Андре Мажино, ветеран войны, имевший ранения, выступая во французском парламенте, призывал стереть Рур с лица земли, поступив с Германией так же, как она вела себя на севере Франции[1302]. Но Пуанкаре думал не разрушать Рур, а добывать там уголь.
Немцы отвечали пассивным сопротивлением. Шахтеры отказывались от подземных работ, железные дороги бездействовали. Из 170 тысяч служащих Рейхсбана сотрудничать с французами согласились 357 человек. В наказание железнодорожные рабочие и государственные служащие с семьями были насильно выселены из зоны оккупации, при этом часто на сборы им отводилось лишь несколько часов. Всего выселению подверглись 147 тысяч мужчин, женщин и детей[1303]. Кроме того, 400 железнодорожников были приговорены к длительным срокам тюремного заключения за саботаж. Восемь человек погибли в стычках с оккупационными войсками. Для предотвращения нападений на каждом поезде, вывозившем уголь во Францию, размещали заложников[1304]. Всего погибло не менее 120 жителей Германии[1305]. Это составляло лишь малую долю от тысяч гражданских лиц, казненных солдатами кайзера в Бельгии и северной Франции во время войны. Но насилие, которым сопровождалась оккупация, подтвердило высказывания немецких наблюдателей о том, что при новом порядке линия, отделявшая войну от мира, безнадежно стерлась. О каком мире может идти речь, когда значительная часть Германии оккупирована вооруженными силами, а население подвергается жестоким преследованиям? И если это мир, то что тогда война?
Таблица 11. Германия: погружение в гиперинфляцию, 1919–1923 гг.
16 января 1923 года правительство в Берлине заявило об официальной поддержке сопротивления в Руре. Последствия этого оказались разрушительными для финансов рейха и для всей экономики Германии. Обменный курс рухнул с 7260 до 49 000 марок за доллар. Подскочили цены на предметы первой необходимости, в том числе на продукты питания и сырье. Пытаясь удержать падение марки, рейх выбросил оставшуюся валюту на рынок и скупал марки, стремясь искусственно поддержать курс обмена валют. Правительство убедило крупные промышленные группы и профсоюзы забыть о недоверии и заморозить зарплаты и цены[1306]. Но было очевидно, что ситуация непоправима. Лишенной Рура Германии валюта требовалась хотя бы для того, чтобы закупать уголь. 18 апреля наступил крах. В июне за один доллар давали 150 тысяч марок. В Руре в обороте находились значительные суммы валюты, и к 1 августа за один доллар давали уже 1 млн марок. И если выражавшаяся двузначными числами инфляция с 1921 года как-то ограждала Германию от мировой рецессии, то гиперинфляция 1923 года привела к полному параличу (табл. 11). Люди на крупных сталелитейных заводах и шахтах Рура голодали, а крестьяне отказывались отдавать урожай за деньги, которые уже ничего не значили. Из Рура в Германию пришлось эвакуировать 300 тысяч голодающих детей, десятки человек погибли и сотни были ранены в ходе панических голодных бунтов[1307]. Но и сама Германия была в состоянии обеспечить лишь относительную безопасность. Марка продолжала падать, и в конце августа за доллар давали уже 6 млн марок. Предположительно около 5 млн человек, то есть четверть всего трудоспособного населения, были отправлены в отпуска или работали неполный рабочий день.
В марте, а затем уже более настойчиво в июне Германия обратилась с просьбой о посредничестве к Британии и Америке. Ни одна из них не пожелала сделать хоть что-нибудь. По словам государственного секретаря Хьюза, «Америка была единственной точкой стабильности в мире… поэтому мы никак не можем предпринимать какие-либо действия, не будучи уверенными в их успехе». После провала Вильсона администрация Гардинга опасалась оказаться в ловушке между Европой и Конгрессом[1308]. Хьюз не желал связываться с Сенатом, в котором интернационалисты к тому времени раскололись на англофилов и франкофилов, а сторонники жестких мер из числа националистов, подобные Тедди Рузвельту и симпатизировавшие Пуанкаре, противостояли растущей фракции сторонников Германии[1309]. Как в духе времен «мира без победы», заметил Хьюз во время разговора с послом Британии лордом д’Аберноном, Франции и Германии придется «пережить свой период хаоса», прежде чем они будут готовы принять «справедливое решение»[1310]. И правда, взгляды Хьюза настолько напоминали взгляды тех членов американской делегации, с которыми ветеранам британского правительства приходилось встречаться в Париже в 1919 году, что они неосознанно называли его Вильсоном[1311].
Тем временем Британия удалилась от европейских дел и умышленно уклонялась от участия в них. По мнению нового правительства, полностью состоящего из тори, чем дальше страна будет держаться от своих беспокойных соседей на континенте, тем лучше для нее. В июне 1923 года правительству удалось убедить парламент проголосовать за увеличение более чем вдвое ассигнований на создание новых Королевских военно-воздушных сил, главная задача которых состояла в предотвращении нападения Франции на Британию[1312]. Вашингтон и Лондон, хотя и не собирались поддерживать Пуанкаре, воздержались от поддержки Германии. 20 июля в ответ на очередное обращение Германии за помощью Лондон предложил рассмотреть вопрос о репарациях комплексно. Однако Пуанкаре настаивал на том, чтобы Германия сначала прекратила пассивное сопротивление, но Берлин отказывался это делать. Лондон и Вашингтон предпочитали не вмешиваться[1313].
Как долго могли они оставаться в стороне? Летом 1923 года к сложной ситуации в Рейнской области добавился первый случай фашистской агрессии. 27 августа международная комиссия, занимавшаяся демаркацией границы между Грецией и Албанией, попала в засаду, устроенную греческими бандитами. Были убиты итальянский генерал и его свита. Когда греки отказались выплатить огромную сумму, которую Муссолини затребовал в качестве компенсации, и не разрешили итальянцам провести собственное расследование, новый итальянский премьер-министр направил к греческим берегам флот, который сначала подверг обстрелу, а затем оккупировал расположенный в Ионическом море остров Корфу. В ходе операции было убито 15 гражданских лиц. Греки обратились в Лигу Наций. На этот раз чувство самоуспокоенности оставило Лондон. Министр иностранных дел Джордж Керзон, недавно завершивший переговоры в Лозанне о мирном урегулировании инцидента с Ататюрком, был полон решимости не допустить нового осложнения в Средиземном море и назвал «поведение» Италии «жестоким и непростительным»[1314]. Посольство Британии в Риме направило в Лондон полную паники телеграмму, в которой Муссолини именовался «бешеным псом, способным нанести огромный вред, если его не остановить… готовым к любым необдуманным и сумасбродным действиям, которые могут ввергнуть Европу в войну».
В отличие от рурского кризиса, имевшего прямое отношение к Версальскому договору, силовая операция на Ионических островах относилась к числу случаев, для урегулирования которых и создавалась Лига Наций. Корфу стал проверкой для всех сторон. Муссолини не скрывал своего презрения к «Лиге, которая ставит на одну доску Гаити, Ирландию и великие державы и которая показала свою несостоятельность при разрешении греко-турецкого конфликта, а также в Руре и Сааре, и занимается лишь поощрением нападок социалистов на фашистскую Италию»[1315]. Британское министерство иностранных дел всерьез рассматривало возможность введения в ответ полномасштабных санкций против Италии. Правда, настоящая морская блокада была бы слишком обременительной. Она требовала не только мобилизации всего британского флота, но и сотрудничества всех соседних с Италией стран. И она не могла быть эффективной без Америки. Кроме того, Франция, при сохранении ситуации, сложившейся в Руре, не была заинтересована в действиях против Муссолини. Париж наложил вето на все попытки вынести вопрос на рассмотрение Лиги Наций и настаивал на решении вопроса на конференции послов в Париже. Решение, поспешно вынесенное на этой конференции 8 сентября, ставило Грецию в столь жесткие условия, что многие восприняли его как пародию на справедливость. Во всяком случае, попытка Муссолини аннексировать Корфу была сорвана. Тем не менее та неуклюжесть, с какой послы вели эти переговоры, укрепила позиции критиков дипломатии старой школы, настаивавших на том, что в будущем Лига Наций должна играть более значительную роль. Несмотря на неприкрытое презрение к Лиге Наций, Муссолини был достаточно восприимчивым политиком, чтобы осознать серьезное возмущение, которое вызвали его действия во всем мире. Корфу обозначил пределы его агрессии, сохранявшиеся до тех пор, пока в начале 1930-х годов не рухнул весь мировой порядок.
Кризис на Корфу удалось сдержать, но кризис в Германии стремительно развивался. Жители Рура были близки к голодной смерти, когда 13 августа 1923 года правительство правых центристов во главе с канцлером Вильгельмом Куно подало в отставку. Пост канцлера занял Густав Штреземан, выдвинутый от межпартийной коалиции национальной солидарности. Приход Штреземана к власти в 1923 году стал решающим моментом в его удивительной карьере, которую он начинал как идеолог империализма военного периода, а теперь продолжил в качестве архитектора новой внешней политики Германии. Ключом к миропониманию Штреземана была его вера в основополагающую роль экономической мощи Америки[1316]. Во время войны это привело его к мысли о том, что Германия должна создать в Центральной Европе сферу своего экономического влияния, сравнимую по масштабам с американской. После поражения Штреземан, как и его японские партнеры, сделал вывод о том, что приход к власти Америки открывает совершенно новую эпоху, в которой единственно возможной политикой для Германии будут адаптация к американской гегемонии и превращение страны в ценный рынок и инструмент продвижения американского капитала. В августе 1923 года Штреземан поначалу надеялся на то, что, вернув американцев и британцев в европейскую политику, он сможет избежать капитуляции перед французами. Однако Пуанкаре ясно определил свои условия, а Вашингтон и Лондон не спешили прийти Германии на помощь.
Теперь Берлин стоял перед пугающей дилеммой. Должна ли республика защищать свое национальное достоинство, поддерживая сопротивление в Руре, даже если это может грозить полным исчезновением Германского государства? Или следует попытаться договориться с Францией? 26 сентября, после пяти недель мучительных дискуссий правительство в Берлине сдалось. Кабинет министров принял решение прекратить официальную поддержку Рура и попытаться сделать все от него зависящее, чтобы удовлетворить требования Франции. Капитуляция осенью 1923 года стала для Германии третьей по счету, если принимать во внимание соглашение о перемирии, подписанное в ноябре 1918 года, и Версальский договор, заключенный в июне 1919 года, и она вылилась в кризис, поставивший под угрозу само существование страны. В 1918 и 1919 годах Эрцбергер и социал- демократы, по крайней мере, могли сослаться на то, что согласились заключить мир, чтобы расстаться с прошлым, доставшимся в наследство от Вильгельма. В то время их объединял патриотизм военных лет. Когда французская армия входила в Рур, жители страны объединились вокруг республики, как они объединились вокруг империи Вильгельма в августе 1914 года. И вновь их надежды не оправдались. Теперь, осенью 1923 года, сдержать гнев жителей центров сталелитейной промышленности в Руре могли лишь французские танки и немецкие полицейские[1317].
Французы победили. Как и обещал Пуанкаре, оккупация Рура принесла дивиденды. К концу сентября расходы на проведение операции составили 700 млн франков, а доходы, полученные в Руре, достигали 1 млрд франков[1318]. Однако Франция не просто доказала свою военную мощь и добилась экономического превосходства. Речь шла о мировом порядке после войны в целом. Перед Францией вновь распахнулись двери, которые были закрыты перед Клемансо в Версале. В конце концов, может, Франции и не придется соглашаться на сохранение единой суверенной Германии[1319]. Отступив от решения этой задачи в 1919 году, теперь, в начале октября 1923 года, Франция получила еще одну возможность коренным образом перекроить карту Европы и, повторив Вестфальский договор, вернуть ситуацию 1648 года и выстроить европейскую безопасность на основе расчленения Германии.
Жак Бенвиль, наиболее последовательный консерватор, выступавший с критикой мирного договора 1919 года, был известен тем, что имел особое влияние на Пуанкаре. 21 октября при более или менее явной поддержке Франции на западе Германии по линии, на которой расположены Аахен, Трир, Кобленц, Бонн и Палатинат, произошли сепаратистские путчи[1320]. Правда, ни один из них не получил массовой поддержки. Не будь французских войск, эти германские сепаратисты вполне могли бы попасть под самосуд. Но осенью 1923 года самую большую угрозу целостности рейха представляли не французские интриги, а события в самой стране. Давно закипавшая гражданская война приблизилась к точке кипения[1321]. Еще в 1920 году в ответ на призыв Коминтерна готовиться к гражданской войне Коммунистическая партия Германии приступила к созданию военизированных организаций. В октябре 1923 года председатель партии Генрих Брандлер был вызван для получения инструкций в Москву, где сообщил, что имеет в своем распоряжении более 113 тысяч человек[1322].
Восстание коммунистов было назначено на 9 ноября 1923 года и приурочено к годовщине захвата власти большевиками в 1917 году, а не к годовщине революции в Германии 1918 года[1323]. Ошибка на линии связи с революционным штабом привела к тому, что начавшееся 23 октября плохо подготовленное местной партийной организацией восстание в портовом Гамбурге было быстро подавлено. Но Москву это не напугало. Мобильные отряды Красной армии под командованием говоривших по-немецки офицеров двинулись к польской границе. В Германии основная часть активистов компартии была сосредоточена в промышленных областях центральной части страны[1324]. В начале октября Берлин был встревожен тем, что правительство Саксонии перешло в руки коалиции Объединенного фронта, возглавляемой левыми социалистами. В составе коалиции были и министры-коммунисты, получавшие инструкции непосредственно из Москвы[1325]. 17 октября, в соответствии с законом о чрезвычайном положении, введенном 26 сентября, когда Берлин сдался, в Саксонию был направлен 60-тысячный отряд рейхсвера. Рейх приостановил полномочия правительства социалистов, и сопротивление хваленых отрядов коммунистической милиции было быстро подавлено.
События в Саксонии, случившиеся всего через несколько недель после того, как Германия сдалась на милость Франции, вызвали еще один политический кризис в стране. Коалиция Штреземана, из которой в сентябре вышли правые, теперь теряла и членов Социалистической партии, покидавших ее в знак протеста против действий рейха в отношении левых. Теперь правоцентристам приходилось управлять в одиночку, однако другого выхода у Штреземана не было. Ему пришлось выступить против левых в Саксонии, чтобы сохранить контроль над ситуацией в Баварии, где возникла еще более серьезная опасность со стороны правых. После войны с поляками за Силезию в 1921 году Бавария стала местом сбора поклонников Муссолини в Германии[1326]. Весной 1923 года моложавый демагог Адольф Гитлер стал известен благодаря своим призывам к борьбе против французов не на жизнь, а на смерть. Вспоминая о том, как русские подожгли Москву перед вступлением Наполеона в 1812 году, Гитлер предлагал устроить Пуанкаре в Руре Москву-на-Рейне[1327]. Поддерживаемый коричневорубашечными штурмовиками из Национал-социалистической рабочей партии Германии (НСДАП), Гитлер явно выжидал момент, чтобы возглавить переворот. Реакция глубоко консервативного правительства Баварии на такой переворот была более чем очевидна. Раздавались призывы к антикоммунистическому походу из Баварии в Саксонию. В отчаянии канцлер Штреземан обратился к рейхсверу, но командующий рейхсвером генерал Ганс фон Сект отвечал, что он готов выступить против красной гвардии в Саксонии, но не может приказать войскам стрелять по своим баварским товарищам. По Берлину ходили вполне обоснованные слухи о том, что фон Сект сам обдумывал бонапартистский вариант покончить с Веймарской республикой «залпом шрапнели».
При всем своем личном сочувствии планам правых националистов Штреземан был убежден в том, что никакое авторитарное правительство не сможет решить международные проблемы, от которых зависело будущее Германии. Заговорщики, разжигая беспорядки внутри страны, ставили под угрозу то, что он ценил превыше всего, – целостность самого рейха. 5 ноября 1923 года, призывая правое крыло партии, к которой он принадлежал, – Германской народной партии (ГНП), – оказать ему полную поддержку, Штреземан заявил: «Эта неделя покажет, решится ли Vaterlaendische Verbaende (националистическая военизированная ассоциация) выступить». Если они пойдут против властей рейха, то это приведет к «гражданской войне» и «переходу Рейна и Рура» в руки поддерживаемых французами сепаратистов. Сохранение рейха требует порядка в стране. Он был «сыт по горло» безответственными интригами и шантажом со стороны представителей деловых кругов и аграриев, которые и создали катастрофическую гиперинфляцию. Если штурмовики-националисты пойдут на Берлин, то он, Штреземан, не изменит своей позиции. Им придется «расстрелять» его в канцелярии рейха, где он «имеет право находиться» как глава правительства[1328].
Берлин эта участь миновала благодаря нетерпению Гитлера и междоусобице в рядах баварских правых. 9 ноября 1923 года по улицам Мюнхена шагали не коммунисты, а Гитлер со своими людьми из С А, среди которых был и генерал Эрих Людендорф. Их полиция и встретила «залпом шрапнели». Гитлер позорно бежал. Веймарская республика сумела отразить удары, сыпавшиеся на нее и слева и справа. Следующие 15 месяцев Гитлер провел в заключении, где пришел к выводу, который становился очевидным и в Москве, в Коминтерне: в современной Германии не может быть и речи о насильственном захвате власти. Чтобы разрушить «систему», Гитлеру придется действовать изнутри.
Но уроки из этого кризиса извлекли не только экстремисты. В самом центре событий 1923 года оказался мэр Кёльна, столицы Рейнской области, член партии Центра Конрад Аденауэр. После 1949 года Аденауэр станет первым канцлером Федеративной Республики и сделает для успешного развития Западной Германии больше, чем кто-либо другой. Но уже тогда, 30 лет назад, когда его город был оккупирован британской армией, он говорил о смелых планах западноевропейского примирения. Вместо того чтобы отделять от рейха Рейнскую область, к чему призывали предатели-коллаборационисты, Аденауэр предлагал изолировать свой обращенный на запад регион от авторитарной Пруссии. Прусское присутствие на западе Германии было тяжелым наследием Венского конгресса, который пытался создать буферную зону между Германией и Францией. Это нарушало равновесие во внутреннем устройстве Германии: из 65 млн жителей страны 42 млн относились к Пруссии. Согласно плану федерализации Аденауэра, автономная Рейнская область с ее 15-миллионным населением, состоявшим из энергичных, свободных от национальных предрассудков людей, создала бы в рейхе равновесие, которое позволило бы достичь согласия с западным соседом. Свободное от прусских тисков единое национальное германское государство вполне вписывалось в мирный европейский порядок[1329].
В 1919 году Аденауэр надеялся, что такой план встретит понимание в Британии, которая определенно не была заинтересована в превращении Рейнской области во «французскую колонию»[1330]. В 1923 году Аденауэр разочаровался в британцах, но надеялся, что его план заинтересует Францию. Вместо того чтобы субсидировать всеобщую забастовку, правительство Германии будет платить шахтерам Рура и поставлять уголь Франции в счет репараций[1331]. В конце 1923 года рурский угольный и стальной магнат Гуго Стиннес лоббировал в Берлине предложение об объединении интересов всех основных сталепромышленников Рура и создании «новой государственной структуры», которая «играла бы роль посредника между Францией и Германией»[1332]. В отличие от Густава Штреземана, все еще посматривавшего на Вашингтон и Уолл-стрит, Аденауэр и Стиннес считали, что «ни от Америки, ни от Англии не следует ожидать сколь- либо существенной помощи». Стиннес обрисовал послу Германии в Вашингтоне общую картину «континентального блока», который будет создан на базе Рура и Рейнской области в противовес «гегемонии англосаксов»[1333]. Стиннес был убежден в том, что весь послевоенный порядок является результатом англоамериканского диктата и таит в себе опасность: если «международный капитализм будет пытаться высосать из Германии все соки… то германская молодежь возьмется за оружие»[1334]. Подобные речи помогали выплеснуть эмоции, но были совершенно несвоевременны. На тот момент кульминации послевоенного кризиса все вновь вращалось вокруг Соединенных Штатов.
II
Осенью 1923 года, пока Муссолини свободно чувствовал себя в Средиземном море, продолжались разговоры о разделении Германии, новом Вестфальском мирном договоре и сближении позиций Франции и Германии в вопросе о Рейнской области. Нацисты и коммунисты боролись за власть, а Штреземан, Людендорф, Гитлер и Аденауэр выступали на сцене одновременно. Казалось, что вся драма западноевропейской истории следующих двух поколений будет сыграна в течение ближайших месяцев. Были готовы различные варианты этой драмы – от коммунистических и нацистских заговоров до полного расчленения Германии. Неужели уже в 1923 году откроется путь к ужасной катастрофе 1945 года? Пока французы и бельгийцы мстили за варварскую германскую оккупацию 1914 года, Гитлер вынашивал фантазии на тему Москвы-на-Рейне, предвещавшие адское пламя, которое поглотит Рур в период с 1943 по 1945 год. Все эти недобрые предчувствия придавали кризису 1923 года еще большее значение. Созданный в 1919 году порядок оказался более жизнеспособным, чем можно было предположить.
Весной 1923 года европейцы в полной мере наслаждались собственным «периодом хаоса», который был предписан им госсекретарем Хьюзом. Но Хьюз, похоже, ожидал, что создавшееся безвыходное положение подготовит почву, которая позволит Америке выступить в роли арбитра, предлагающего разумное решение. На самом деле рурский кризис завершился победой Франции. Германия была обессилена как никогда раньше. Обеспокоенность тем, как Франция воспользуется своей победой, вынудила США и Британию вновь вступить в эту европейскую игру. Америка не могла оставаться в стороне, наблюдая за тем, как Франция делит Германию, или, действуя заодно с такими, как Стиннес, создает новый мощный промышленный комплекс, способный однажды затмить даже американскую экономическую мощь[1335]. 11 октября Хьюз вновь подтвердил условия, изложенные в его выступлении в Нью-Хейвене в декабре прошлого года. США поддержат проведение экспертного расследования. Эту новость с радостью подхватили в Лондоне[1336]. Оставалось узнать, как к этому отнесутся французы.
Реакция Франции говорила о многом. Пуанкаре, конечно же, наслаждался второй победой, которую Франция одержала над Германией, но, как и его предшественник Клемансо, он прежде всего думал о том, как обеспечить безопасность Франция за счет англо-американского союза. Несмотря на то что Германия была повержена, в Париже продолжали обдумывать стратегию ее расчленения. Пуанкаре так и не нанес coup de grâce. Было очевидно, что идея сепаратизма не находит должной поддержки в Германии. Пуанкаре с осторожностью относился к корыстным схемам Стиннеса и его французских партнеров, которые они готовили в сфере тяжелой промышленности. Он не хотел, чтобы Франция превратилась в игрушку в руках заинтересованных групп, как это произошло с Веймарской республикой. После попытки Гитлера совершить переворот становилось ясно, что Франция рискует оказаться один на один с бешеным диктатором-националистом[1337]. Наконец, самым важным было то, что любая открытая атака на суверенитет Германии положит конец всем надеждам Франции на создание нового альянса с Британией и Соединенными Штатами.
Отказавшись от крайне агрессивно настроенных сторонников отделения Рейнской области и от предложенной Аденауэром и Стиннесом двусторонней франко-германской сделки, Пуанкаре позволил экспертным комитетам, в работе которых принимали участие в том числе и видные американцы, пересмотреть план выплат репараций Германией. Горькую пилюлю подсластили обманчивые намеки Лондона на то, что Вашингтон может пойти на обсуждение вопроса военных долгов[1338]. На самом деле, об этом даже речи не было. Франция, со своей стороны, накладывала вето на любую дискуссию на тему общей суммы репараций, не обращая внимания на угрозы США. Перед экспертными комитетами были поставлены косвенные вопросы: каким образом совместить выплату репараций со стабилизацией бюджета Германии и курса германской валюты? В отличие от 1919 года, американское правительство не было официально представлено в Париже, но Государственный департамент направил туда двух делегатов, которые затем возглавят основные экспертные комитеты. Чарльз Дауэс, руководитель делегации, был банкиром-республиканцем из Чикаго и, если судить по его биографии в годы войны, симпатизировал французам. Его заместителем назначили Оуэна Д. Юнга, интернационалиста и сторонника Вильсона, президента «Дженерал Электрик», тесно связанного с Германией через дочернюю компанию AEG. Выбор Дауэса и Юнга, как сообщил американскому посольству в Париже Хьюз, отчасти объяснялся тем, что, несмотря на имевшиеся у них интересы в Европе, ни один из них никогда не выступал за отмену союзнических долгов[1339].
План, получивший название плана Дауэса, был разработан в начале 1924 года. В его основе лежала идея, что если освободившаяся от внутренних долгов Германия введет налоги, аналогичные тем, которые действуют в соседних странах, то получит избыток наличности, за счет которого она сможет финансировать свои обязательства по выплате репараций[1340]. То, что на долю каждого должника, который в результате инфляции освободился от задолженности, выпадут значительные финансовые потери, в расчет не принималось. В сугубо финансовых дискуссиях не упоминался и очевидный ущерб, нанесенный производственным мощностям Германии в результате оккупации Рура и вследствие гиперинфляции. В плане Дауэса все же признавалось наличие ключевой проблемы, состоявшей в дестабилизирующем влиянии на валютный рынок обмена огромных сумм в рейхсмарках на доллары. В будущем действовавшему в стране агентству по репарациям надлежало следить за тем, чтобы трансферы из Берлина не оказывали слишком большого влияния на дестабилизацию рынка. Средства, которые не удается безопасно обменять на доллары, подлежат хранению на счетах в Германии, открытых на имена кредиторов. Комитеты под руководством Дауэса не имели полномочий изменять окончательные суммы репараций, установленные Лондонским ультиматумом в мае 1921 года. Но комитеты определили новые платежные схемы, согласно которым сроки выплат продлевались до 1980 года, что значительно облегчало положение Германии. После нескольких недель торговли Юнгу удалось убедить французов согласиться с увеличением ежегодных выплат до 2,5 млрд рейхсмарок после пятилетнего льготного периода[1341].
С учетом того что Германия находилась на грани полного коллапса, столь щадящий вариант вызывает немалое удивление. Еще больше удивляет готовность Франции согласиться с планом Дауэса. Правда, дискуссией руководили англо-американские эксперты, так что результат был в какой-то степени предопределен. Он был тем более предопределен, если учесть резкие изменения в британской политической жизни. Еще перед Генуэзской конференцией 1922 года Ллойд Джордж предупреждал Пуанкаре о нарастающих антиевропейских настроениях в оппозиционных либеральной и лейбористской партиях Британии. Кризис в Руре и события на Корфу привели к тому, что его худшие ожидания оправдались уже в 1923 году. Все политические партии Британии обратились к самому позднему варианту концепции Вильсона о мировой роли Британии и Америки. В ретроспективе многие левые либералы считали вовлеченность Британии в европейские дела, связанную с ее союзом с Россией и Францией, катастрофической ошибкой. Июльский кризис 1914 года, Версаль, а теперь и кризис в Руре были вполне предсказуемыми последствиями такой вовлеченности. Чтобы обеспечить свою стабильность, Британии и Содружеству следовало сохранять дистанцию, держась плечом к плечу с Соединенными Штатами, и оказывать помощь через соответствующие органы Лиги Наций и на основе обоснованных экспертных оценок. Таким образом можно прекратить насилие на континенте.
Это была среда естественного обитания для либералов и лейбористов. Концепцию активно поддерживали и доминионы, и уже в силу этого она отвечала требованиям многих тори, которые еще в ходе Чанакского кризиса давали ясно понять, что империя не собирается вмешиваться[1342]. Результаты внеочередных всеобщих выборов, состоявшихся 6 декабря 1923 года, лишь подтвердили эти новые настроения в Британии: тори потерпели сокрушительное поражение. Наибольшего успеха добились либералы из числа сторонников Асквита, люди, близкие к Кейнсу, которые с 1916 года выступали за мирный компромисс именно потому, что они (как и Вильсон) желали избежать любых ненужных связей Британии с Европой или Америкой.
Однако на самом деле в декабре 1923 года власть перешла к партии лейбористов, состоявшей из принадлежащих среднему классу социалистов, радикальных либералов и группы объединенных общими интересами профсоюзов, возглавляемой Рамсеем Макдональдом, который в годы войны, как убежденный сторонник Вильсона, подвергся оскорблениям и остракизму за свою поддержку идеи «мира без победы»[1343]. Вместе с премьер- министром первое лейбористское правительство насчитывало 15 министров, входивших в состав Союза демократического контроля (СДК) – группы влияния, имевшей тесные связи с Вильсоном в период, когда он зимой 1916/17 года работал над своей первой программой обеспечения мира. Затем стало казаться, что для достижения поставленных ими целей потребуется перевернуть существующий в Европе политический порядок. Приход лейбористов на Даунинг-стрит не был революцией. Но это, безусловно, оказалось чувствительным политическим потрясением.
Как и предупреждал Ллойд Джордж, новые настроения в Лондоне серьезным образом сказались на Франции. На протяжении 1923 года Рамсей Макдональд называл желание Франции получить репарации несбыточной мечтой. То, что Германия сдала Рур, он считал результатом удушения «разбитой и разоруженной» страны «хорошо вооруженной и сильной страной» и называл это не «успехом», а «триумфом зла»[1344]. Единственный способ добиться мира, писал он в своем дневнике, – это убедить Францию вести себя «разумно» и отказаться от «политики эгоистической самовлюбленности»[1345]. Филипп Сноуден, первый лейборист на посту лорда-канцлера Казначейства, расценивал оккупацию Рура как попытку Франции «поработить 60 или 70 млн наиболее образованных, активных и научно мыслящих людей». Эдмунд Дене Морель, активист СДК, который рассказал о «черном ужасе на Рейне» – жестком насилии над местным населением, предположительно со стороны сенегальских солдат, – теперь поносил Францию за ее попытки «вырвать легкие и сердце из живого тела Германии»[1346].
Во Франции зимой 1923/24 года Пуанкаре все еще держался на гребне волны патриотического энтузиазма, но ситуация на валютном рынке указывала на то, что Франции вряд ли удастся продолжить оккупацию Рура, против которой выступали Британия и США[1347]. К декабрю 1923 года довоенный обменный курс, составлявший 5,18 франка за доллар, был не более чем приятным воспоминанием[1348]. За время оккупации Рура франк обесценился более чем на 30 % и его курс упал до 20 франков за доллар. В начале января 1924 года Пуанкаре с большим перевесом получил вотум доверия в палате депутатов Франции. Однако, когда дело дошло до налогово-бюджетной консолидации, депутаты были не столь единодушны. Большинство из них не поддержало мер строгой экономии.
Наконец, 14 февраля, когда делегаты прибывали в Париж на переговоры по плану Дауэса, французскую фондовую биржу охватил grande peur[1349]. Опасаясь коллапса на бирже, Пуанкаре потребовал для себя чрезвычайных полномочий, позволявших ему сократить бюджетные расходы и повысить налоги. Парламентское большинство, поддерживавшее оккупацию Рура, раскололось. Левые осудили требование Пуанкаре о предоставлении ему чрезвычайных полномочий, расценив его как наступление на республиканскую конституцию, и потребовали переложить основную тяжесть налогов на капитал, а не на заработную плату[1350]. Рынок реагировал по-своему, и курс франка по отношению к фунту стерлингов упал с 90 в начале года до 123. Пуанкаре признавался послу США Майрону Херрику, что опасается того, что франк достигнет отметки «канул в небытие»[1351]. В Вашингтоне это не вызвало сочувствия. Как отметил один чиновник в Госдепартаменте, «франк упал очень вовремя, что значительно прибавило здравого смысла в этой стране»[1352].
29 февраля Пуанкаре согласился прекратить оккупацию Рура в обмен на гарантии достойного поведения Германии. В качестве встречного шага он ожидал поддержки американцев, и он ее получил. Дж. П. Морган получил разрешение Госдепартамента на выдачу кредита на сумму 100 млн долларов. Этот шаг американцев вынудил Банк Англии также предоставить Франции краткосрочный заем. Подобные шаги, предпринятые с двух сторон, позволили в какой-то степени оздоровить Банк Франции. Поддерживаемый на плаву притоком долларов и фунтов стерлингов, франк пошел вверх, что привело к серьезным убыткам спекулянтов, игравших на понижение. Для правительства Пуанкаре это стало своего рода Verdun financier, оборонительным рубежом, позволявшим добиться победы. Однако кредит, предоставленный Морганом, надлежало вернуть уже через полгода. Его возобновление на долгосрочной основе было обусловлено действиями палаты депутатов Франции, от которой зависели меры по стабилизации финансов страны. Через полтора месяца, 11 мая, восстановилось соотношение голосов среди французских избирателей. Волна националистических эмоций ноября 1919 года схлынула, и оно вернулось к нормальной довоенной ситуации, когда большинство избирателей голосовали за левых республиканцев. Правительство Cartel de Gauche (картеля левых) заявило о своей победе. Пуанкаре, которого теперь резко критиковали как архитектора бессмысленно жестоких действий в Руре, подал в отставку.
Новое правительство, возглавляемое Эдуардом Эррио из группы левых радикалов, которую Клемансо однажды назвал своим домом, начало свою деятельность с программы прогрессивных социальных реформ, включая более широкое распространение 8-часового рабочего дня, создание профсоюзов в государственном секторе и увеличение подоходных налогов[1353]. Социалисты в палате депутатов поддерживали правительство, хотя и отказывались входить в его состав. В сфере внешней политики Эррио был верен принципам интернационализма, которые деятели, подобные Леону Буржуа, давно считали основой Французского республики. Париж надеялся, что это понравится Лондону и Вашингтону. Агрессивность исчезла с уходом Пуанкаре. Но вместе с ним ушла и стабильность на финансовых рынках. Всего через несколько дней после прихода к власти левых франк возобновил свое движение вниз, что не могло не беспокоить. Все указывало на то, что происходила «естественная» корректировка завышенного курса франка, достигнутого при Пуанкаре. Однако французские левые воспринимали это не иначе, как если бы Эррио с разбегу наткнулся на некую mur d’argent (стену из денег).
Но и это было еще не все. Летом 1924 года правительство Эррио в полной мере осознало истинные цели плана Дауэса. Согласно этому плану, урегулирование вопроса о репарациях было связано с крупным международным займом, решение по которому принималось на Уолл-стрит. Однако этот заем адресовался не Лондону или Парижу, а правительству Германии. Британские и американские банки показали свою готовность предоставить займы Франции даже в сложных обстоятельствах. Кредитование Германии было совершенно новым предложением и, по мнению Джека Моргана, определенно неприятным[1354]. Но Государственный департамент был непреклонен. Результатом стал раскол коалиции Антанты и Уолл-стрит, сложившейся в 1915 году. Чтобы обеспечить статус Германии как платежеспособного заемщика, Морган настоял на приоритете требований своих держателей облигаций над претензиями французского правительства. Инвесторы должны быть уверены в том, что в случае объявления дефолта по репарационным выплатам, Франция не направит вновь свои войска в Рур. Теперь объектом пристального внимания финансовых рынков становилась не только фискальная политика Франции, но и ее внешняя политика.
Разумеется, Государственный департамент ставил своей целью смягчение внешней политики Франции. А структура плана Дауэса позволяла американскому правительству держаться глубоко в тени. 2 июля 1924 года государственный секретарь Хьюз говорил послу Германии Отто Видфельту, что Вашингтон никогда не выступит в роли гаранта по плану Дауэса и не возьмет на себя ответственность ни за один заем, направляемый в Германию. Подобные обязательства «могут привести к партийным разногласиям в Соединенных Штатах и к деструктивной борьбе между законодательной и исполнительной властью за контроль над внешней политикой. Правительство США… могло бы играть значительно более конструктивную роль, предоставляя консультации в качестве незаинтересованного лица, содействовать согласованию позиций европейских стран и поощрять мобилизацию частного капитала…»[1355] Летом 1924 года Хьюз находился в Европе, но не в качестве государственного секретаря. Он приезжал в составе делегации Американской ассоциации адвокатов. Это не помешало ему дать вполне недвусмысленный совет послу США в Британии Франку Б. Келлоггу: в случае если французское правительство потребует для себя права наложения военных санкций на Германию, «Вы можете сказать, что не имеете полномочий говорить от имени правительства США, но если исходить из того, что Вы знаете о взглядах американских инвесторов… в этом случае получение кредита в США будет невозможным»[1356].
В правительстве Эррио считали, что могут рассчитывать на солидарность своих товарищей в Лейбористской партии Британии. Но из-за провильсоновской ориентации Макдональда все оказалось наоборот. На Даунинг-стрит едва сдерживали радость по поводу того, что «французские милитаристы получили свое, когда курс франка рухнул»[1357]. 23 июля премьер-министр Эррио и министр финансов Этьен Клементель, некогда выступавший за экономическую интеграцию союзников, были вынуждены буквально умолять группу Дж. П. Морган сохранить хотя бы основные элементы Версальского договора. Комиссия по репарациям должна сохранить за собой право объявлять дефолт. Французские войска должны оставаться в Руре еще как минимум два года, чтобы обеспечить выполнение Германией своих обязательств.
Через несколько недель Эррио пришлось уступить по обеим позициям. По предложению Юнга, за комиссией сохранялась номинальная самостоятельность при принятии решения о дефолте Германии. Но при рассмотрении подобных случаев американцы будут иметь право направить своего представителя для участия в работе комиссии. Решение об объявление дефолта будет приниматься единогласно и передаваться в арбитражную комиссию под председательством представителя США. В том маловероятном случае, когда решение о санкциях все-таки будет принято, абсолютный приоритет будет отдан финансовым претензиям кредиторов, действующих в рамках плана Дауэса. В кулуарах использовались более жесткие способы оказания давления. В августе 1924 года Париж, вновь обеспокоенный курсом франка, обратился в Дж. П. Морган с просьбой возобновить заем на сумму 100 млн долларов, согласованный в марте. Морган дал ясно понять, что готов это сделать, но лишь при условии, что Франция проведет определенную фискальную консолидацию и будет следовать «миролюбивой внешней политике». Банкиры вновь добились своего. При американском посредничестве компромисс был достигнут, и Франция согласилась вывести свои войска из Рура в течение года.
Конечно, спасение демократии в Германии во время кризиса 1923 года было весьма значительным достижением трансатлантической дипломатии, потребовавшим жертв со всех сторон. Густава Штреземана часто называли Vernunftrepublikaner, и, наверное, было правдой, что в глубине души он оставался монархистом. Но если вспомнить, что Vernunft означает просто циничный расчет, то такое прозвище будет несправедливым по отношению к нему. Vernunft, выступавший на первый план в борьбе за стабильность в Веймарской республике, на самом деле выражал «государственные интересы». 29 марта 1924 года на всеобщей конференции Германской национальной народной партии (ГННП) в Ганновере Штреземан отметил, что стать самым популярным человеком в стране проще всего, поддержав призыв Гитлера к тому, чтобы Германия «прошла маршем через Рейн под кайзеровскими черно-бело-красными стягами». Но такой популизм говорит лишь о полной безответственности[1358]. «Призыв к диктатуре» – это худший вариант «политического дилетантизма»[1359]. Члены правого крыла его партии, наследники национал-либералов времен Бисмарка, возможно, симпатизировали идее маргинализации СДП и объединению усилий с радикальными националистами из ГННП, тем более что в ходе всеобщих выборов в мае 1924 года последняя набрала лишь немногим меньше голосов, чем социал-демократы, и стала второй партией в рейхстаге. Однако в разгар деликатных переговоров по плану Дауэса Штреземан отказался от подобных шагов. Пангерманская риторика ГННП, сдобренная либеральными дозами антисемитизма, не годилась «на экспорт»[1360]. Только ответственная республиканская политика могла обеспечить минимальный порядок в стране и рабочие отношения с Британией и Соединенными Штатами.
Но восстановление стабильности в Германии строилось не только на умелой политике Штреземана. Оно требовало болезненных мер по сокращению расходов и повышению налогов. И здесь вопрос о диктаторе обретал особое значение. Чтобы выйти из тупика, созданного группами интересов, подстегивавшими инфляцию, правительство при поддержке СДП предоставило Фридриху Эберту право использовать президентские полномочия[1361]. Процесс дефляции, запущенный после ноября 1923 года, не щадил никого: резко сократилась численность государственных служащих, уменьшилась реальная заработная плата. Но дефляция имела двойственные результаты. В реальном выражении с декабря 1923 года к новому году сбор налогов в рейхе вырос в 5 раз. Деловые круги Германии никогда не могли смириться со значительными расходами республики на социальные нужды. Но это был хорошо продуманный ход. Штреземан, министр финансов Ганс Лютер, известный своей строгостью, и энергичный банкир Ялмар Шахт, вставший во главе Рейхсбанка после инфляционного краха, в первую очередь стремились восстановить прочность позиций германского государства как внутри страны, так и за ее пределами. Шахт считал Рейхсбанк «единственным местом экономической власти, занимая которое государство в состоянии успешно отражать атаки сил, представляющих особые интересы»[1362]. После многих лет засилья корпораций и катастрофической инфляции, говорил он, «деловым кругам Германии придется привыкнуть подчиняться, а не распоряжаться»[1363].
Но при всей направленности этой программы на консолидацию страны результаты выборов в рейхстаг в мае 1924 года были таковы, что даже голосов СДП оказалось недостаточно для принятия конституционных поправок, необходимых для ратификации плана Дауэса, предусматривавшего в том числе и передачу Рейхсбана в международный залог. Более четверти избирателей страны отдали свои голоса за правых: 19 % за ГННП, почти 7 % за гитлеровскую НСДАП. Коммунисты получили почти 13 %. В большинство, составлявшее две трети мест в рейхстаге, должны были войти, по крайней мере, некоторые депутаты от ГННП, которая безоговорочно отвергала Версальский договор и была первоисточником легенды об «ударе ножом в спину». Иностранные державы были настолько встревожены, что американский посол Алансон Хоутон пошел на прямое вмешательство в политическую жизнь в Германии. Он вызвал к себе лидеров ГННП и без обиняков объяснил, что если они отвергнут план Дауэса, то в следующий раз Америка окажет помощь Германии не раньше чем через сто лет. 29 августа 1924 года под сильнейшим нажимом со стороны деловых кругов, поддерживавших партию, депутаты от ГННП в нужном количестве перешли на сторону правительства и проголосовали за ратификацию плана Дауэса. В ответ правительство рейха в знак благодарности националистам формально дезавуировало свое согласие со статьей Версальского договора, в которой говорилось об ответственности за развязывание войны.
Как бы там ни было, но 10 октября 1924 года Джек Морган нехотя подписал соглашение о предоставлении займа, согласно которому его банк при участии ведущих финансистов Лондона, Парижа и даже Брюсселя предоставлял Германии заем на сумму 800 млн золотых марок[1364]. Заем был предназначен для того, чтобы предприниматели, руководствуясь здравым смыслом, могли использовать эти средства для врачевания ран, полученных в ходе войны. Предложение было, конечно, привлекательным. Эмитенты, действовавшие в рамках плана Дауэса, платили за свои облигации из расчета 85 центов за доллар. Погашение облигаций производилось с 5-процентной премией. Получив заем в размере 800 млн марок, Германия должна была обеспечить обслуживание облигаций общей нарицательной стоимостью в 1,027 млрд марок[1365].
Морган был в недоумении от роли, которую его заставили играть, и это говорит о том, что изменения в конфигурации мировой политики, происходившие в 1924 году, оказались понятны далеко не всеми. Правительство лейбористов, выступавшее в роли хозяина на проходившем в Лондоне последнем раунде переговоров, стало первым избранным социалистическим правительством, которое управляло самым важным центром капитализма Старого Света. Следуя манифесту партии, выпущенному в 1919 году, правительство должно было работать над созданием платформы для проведения радикальной национализации и социальных преобразований. Но во имя «мира и процветания» оно в сговоре с вашингтонской администрацией, в которой тон задавали консерваторы, и Банком Англии работало над тем, чтобы обеспечить выполнение требований американских инвесторов. В ходе этой работы наносился финансовый ущерб французскому правительству, занятому проведением радикальных реформ. Эта работа отвечала интересам Германской республики, правительство которой на тот момент находилось в руках коалиции, возглавляемой ранее известным поборником аннексий, а теперь изменившим свои взгляды Густавом Штреземаном.
Слово «деполитизация» представляет собой эвфемизм для описания этой общей картины взаимного разграбления[1366]. Конечно, план Вильсона, получивший название «Новая свобода», не предусматривал такого возвышения Моргана. Да и самому Моргану нисколько не хотелось работать на условиях, определенных в плане Дауэса. И если при Вильсоне в качестве последней инстанции выступало общественное мнение, то теперь окончательное решение зависело от общественного мнения «инвесторов», для которых банкиры как финансовые советники были всего лишь пресс-секретарями. Но, если восемь лет призыв Вильсона к «миру без победы» опирался на коллективное смирение европейского политического класса, то теперь казалось, что, взирая на план Дауэса и результаты Лондонской конференции 1924 года, Вильсон посмеивается, лежа в своей недавно вырытой могиле. Мир был достигнут. Но европейцев среди победителей не было.
25 Новая политика войны и мира
В июне 1927 года Густав Штреземан, занимавший в то время пост министра иностранных дел Германии, предстал перед переполненным актовым залом университета Осло, чтобы произнести речь в связи с присвоением ему Нобелевской премии мира[1367]. Его речь транслировалась по радио в Норвегии, Швеции и Дании. Нобелевской премии мира Густав Штреземан был удостоен вместе с Аристидом Брианом и Остином Чемберленом за усилия, позволившие их странам подписать Локарнский пакт безопасности, который стал, по общему признанию, первым подлинным договором о мире послевоенной эпохи. Переговоры по этому пакту продолжались в течение года после того, как был утвержден план Дауэса, а его ратификация состоялась в Женеве 14 сентября 1926 года. Локарнский пакт закреплял статус-кво и торжественно гарантировал неизменность границ в Западной Европе. Штреземан не скрывал того, что побежденным принять этот пакт было сложнее, чем победителям. Именно предшествовавшая подписанию пакта карьера Штреземана как знаменосца германского империализма и глашатая неограниченной подводной войны, делала это событие особенно значительным. Его речь была искренней. Подписание Локарнских соглашений, сказал он, означало осуществление общеевропейской мечты, предвидения Каролингов о том, что «Treuga Dei – Мир Божий» может воцариться на Рейне, «где на протяжении столетий полыхали кровопролитные войны…» Обращаясь к своим слушателям, он добавил: «Именно эта цель может привлечь на нашу сторону молодежь Германии. Она видит свой идеал в личных физических и духовных достижениях, в мирных соревнованиях на Олимпийских играх и, я надеюсь, также и в техническом и интеллектуальном развитии. Германия обращена к этому будущему как стабильная страна… опирающаяся на упорный труд… и жизненный дух, стремящийся к миру, как об этом говорит философия Канта и Фихте».
Во второй половине 1920-х годов подобные взгляды постполитического свойства не вызывали усмешки, а воспринимались как Realpolitik[1368]. Какие еще уроки можно было извлечь из кризиса, продолжавшегося целое десятилетие – с 1914 по 1924 год? Эпоха, когда война великих держав считалась допустимым инструментом политики, а не необходимостью при самообороне, без сомнения, завершилась. За что отдали жизнь погибшие на войне, на какие цели были израсходованы многие миллиарды начиная с 1914 года? Британия добилась великой победы, но затем растратила завоеванное во время ужасных послевоенных событий в Амритсаре, Ирландии, на Ближнем Востоке. Итальянцы не могли смириться с тем, что их победу превратили в насмешку. Муссолини захватил остров Корфу, но не сумел удержать его. Япония, которой возможность осуществить свои имперские мечты в России и Китае была ниспослана свыше, не сумела закрепить свои достижения. Германия одержала важнейшую победу на Востоке, но не смогла обеспечить легитимный мир. На Западе ей пришлось мириться с поражением не один, а три раза. А какие плоды победы могли предъявить французы, одержавшие верх над немцами совсем недавно – в 1923 году?
У этих сокрушительных потерь не было одной общей причины. Но существовала определенная закономерность. Война шла повсюду: на поле брани, в тылу, в доках Шанхая, на полях Украины, на сталелитейных фабриках Рура, и остановить ее было уже невозможно. Все (даже победа) требовало непомерных расходов. Трудно было объяснить, что такое самоопределение, и еще труднее добиться его, но претензии на имперское превосходство уже вызывали неприятие и открытое осуждение. Во внутренней политике для имперских авантюр средств почти не оставалось. Война вела к тому, что этих средств становилось еще меньше, а демократия ощутимо ограничивала свободу действий как с точки зрения расстановки приоритетов в расходах правительства, так и с точки зрения легитимности принимаемых им решений. Наконец, соперничество между державами в военной, экономической и политической сферах выступало в качестве основной уравновешивающей силы. Кандалы, сковывавшие «одной цепью» различные страны, были настоящими[1369].
Это с потерями для себя испытала Британия на Ближнем Востоке, когда то, что казалось недорогим приобретением в одном, оборачивалось чрезмерно высокой ценой на другом стратегическом направлении, будь то на берегах Рейна или в Бенгалии.
Если у всех этих печальных событий и был один общий знаменатель, то он заключался в ослаблении позиций европейских держав, возникших еще в XVII веке по образцу, который затем через Японию попал в Азию, – ослаблении перед лицом вызовов новой эпохи и развития новых направлений в экономической, политической и военной власти, воплотившихся в Соединенных Штатах Америки. В ноябре 1928 года министерство иностранных дел Британии отмечало в своем меморандуме: «В лице Соединенных Штатов Америки Великобритания сталкивается с феноменом, не имеющим аналогов в нашей современной истории, – со страной, которая больше нашей в 25 раз, богаче в 5 раз, имеет в 3 раза большую численность населения и амбиции, вдвое превосходящие наши, со страной, которая почти неуязвима и, по меньшей мере, не уступает нам в зажиточности, жизненной энергии, технической оснащенности и прикладной науке. Это страна поднялась до своего нынешнего уровня развития в то время, когда Великобритания до сих пор не может прийти в себя после сверхчеловеческого напряжения военных лет, обременена долгами и страдает от безработицы». При всем разочаровании, которое сопровождало поиски путей сотрудничества с Соединенными Штатами, вывод был один: «сотрудничество почти в любой сфере более выгодно для нас, чем для них»[1370]. Это относилось к Британии и всей империи, и в еще большей степени ко всем остальным странам, которые когда-то были великими державами. Перед всеми этими странами стоял один и тот же вопрос. Если противостояние невозможно, то на каких условиях будут строиться отношения «взаимного сотрудничества» при новом мироустройстве?
I
Одним из решений, принятых на столь неудачно начавшейся в апреле 1922 года Генуэзской конференции, омраченной успехом Рапалльского договора, было решение о возврате к общему золотовалютному стандарту. Внимание, которое Вашингтон в 1924 году уделял плану Дауэса и выпуску новой, обеспеченной золотом рейхсмарки, указывало на то, что эти вопросы теперь входили в число новых приоритетов трансатлантических связей. Золото становилось основой восстановления нормальных отношений, гарантом финансового порядка. Но, как показал ход событий начиная с 1920 года, последствия таких перемен не могли быть безболезненными[1371]. Для установления финансового порядка требовалось согласие по вопросам, связанным с внутренними и внешними долгами. В этом смысле ситуация в Германии отличалась тем, что ее внутренний долг буквально испарился под воздействием инфляции. Страна была обременена репарациями, но в остальном баланс страны был безупречен. В отличие от Британии, Франции или Италии, Германия не была обременена союзническими долгами. При этом некогда процветавшие предприятия и ухоженные города представляли собой первоклассный залог.
Поэтому стабилизация Веймарской республики после 1924 года обеспечивалась за счет значительного притока американских кредитов, предлагаемых частным предпринимателям и органам управления различного уровня, но не рейху, считавшемуся банкротом[1372]. То, что такой приток капитала предполагал дефицит торгового баланса, способствовал росту цен, заработной платы и неконкурентному повышению курса обмена валюты, не вызывало особой тревоги. Главным было движение денежной массы. И даже то, что когда-то наступит время расчета, не сильно беспокоило Штреземана. Берлин надеялся, что в случае кризиса ему удастся привлечь своих новых американских кредиторов, чтобы противостоять репарационным претензиям Британии и Франции. Задолженность перед Америкой станет тем рычагом, с помощью которого можно будет добиться пересмотра условий[1373]. В 1925 году, находясь в неформальной обстановке, Штреземан как-то заметил: «Надо просто набрать достаточно долгов; надо набрать столько долгов, чтобы кредитор понимал, что крах заемщика создаст опасность для его собственного существования»[1374].
В 1922 году, вслед за фиаско европейской политики Ллойда Джорджа, Британия умыла руки и отошла от участия в решении вопросов европейских долгов и запутанной ситуации с репарациями. Урегулирование в 1923 году задолженности перед Соединенными Штатами было болезненным, но оно восстановило кредитоспособность Британии. Начиная с 1920 года министерство финансов и Банк Англии использовали дефляцию лишь в ограниченных масштабах. С точки зрения Соединенных Штатов следующим первоочередным шагом после введения в действие плана Дауэса в Германии должен был стать возврат Британии к золотому стандарту. Если Британия сделает это, то ее примеру последуют империя и значительная часть стран Европы и Латинской Америки. Лейбористское правительства Рамсея Макдональда колебалось, прислушиваясь к критическим доводам бывшего канцлера Казначейства Реджинальда Маккены и его главного советника Джона Мейнарда Кейнса. Если в Соединенных Штатов не будет роста инфляции, то достижение окончательного ценового паритета между Британией и Америкой может стать мучительным. И хотя Соединенному Королевству удалось выбраться из глубокой рецессии 19201921 годов, а профсоюзы утратили свою активность к октябрю 1924 года, Британия стояла перед полномасштабной «красной угрозой». Левое крыло лейбористской партии призывало к национализации Банка Англии, а правая газета Daily Mail распускала слухи о подрывной деятельности Советов.
29 октября 1924 года первое в истории Британии правительство лейбористов было вынуждено уступить победившим с огромным преимуществом консерваторам во главе со Стенли Болдуином. Лондонский Сити пытался «защитить систему от жуликов», Соединенные Штаты грозили отобрать Канаду и Южную Африку, когда 28 апреля 1925 года канцлер Казначейства Уинстон Черчилль объявил о возврате Британии к золотому стандарту[1375]. К концу года 35 валют мира либо официально обменивались на золото, либо сохраняли свой стабильный курс на протяжении не менее одного года. По замечанию одного из современных критиков, это была «самая грандиозная» попытка следовать согласованной мировой экономической политике во всей истории. Неустойчивые периферийные экономики Австрии, Венгрии, Болгарии, Финляндии, Румынии и Греции были вынуждены «буквально морить себя голодом, чтобы достигнуть вожделенных золотых берегов»[1376].
В Британии последствия оказались не столь тяжелыми, но возврат к золоту по курсу, действовавшему в довоенное время, снизил конкурентоспособность ориентированных на экспорт основных отраслей промышленности, в особенности угледобывающей. Продолжавшийся всю зиму 1925/26 года ожесточенный спор между владельцами шахт и рабочими пробудил к жизни профсоюзных активистов. 4 мая 1926 года Британский конгресс тред-юнионов (БКТ) наконец решился на то, на что никак не мог пойти сразу после окончания войны. Он объявил всеобщую забастовку. В первый день на работу не вышли 1 млн 750 тысяч человек. По любым меркам это было очень серьезным событием, вызвавшим ликование всего мирового социалистического движения. В 1920 году этого было бы достаточно, чтобы заставить правительство принять меры. Но в 1926 году тори имели значительное большинство в парламенте. Британия уже не была единственным поставщиком для всей Европы. Достаточное количество угля поставляли Германия и Польша. У консерваторов было достаточно времени, чтобы подготовиться к столкновению с шахтерами. Профсоюзы ослабли за шесть лет массовой безработицы, а в их рядах уже не было былой солидарности. Рабочие в массовом порядке возвращались на рабочие места, и уже 11 мая БКТ предложил заключить мир. Это оказалось последним всплеском сильнейшей волны рабочих выступлений, начавшихся за несколько лет до Первой мировой войны. В Москве это поражение восприняли как спад послевоенной волны революционной активности[1377].
Британия активно проводила политику дефляции, что вызывало вопросы у ее бывших партнеров по Антанте. В 1920 году Италия, Япония и Франция решили, что, в отличие от Британии и США, не станут прибегать к дефляции. Но смогут ли они вернуться к возродившемуся золотому стандарту? Из всех стран Антанты наиболее значительное долговое бремя относительно доходов лежало на Италии. Премьер-министр Франческо Нитти и другие находившиеся в сложном положении либеральные правительства послевоенного периода обращались к Вашингтону, прося уступок, но безрезультатно. А вот режим Муссолини, напротив, мог рассчитывать на определенное сочувствие в Госдепартаменте и на Уолл-стрит[1378]. В ноябре 1925 года министр финансов Италии, промышленник Джузеппе Вольпи, обладавший обширными связями, добился крайне выгодной сделки по военным долгам, которая открывала дорогу к получению новых кредитов на Уолл-стрит (табл. 12)[1379]. Это позволило Италии выйти в 1926 году из зоны турбуленции на рынке обмена валют и в августе 1926 года привязать курс лиры к фунту стерлингов на уровне 90 лир за фунт, что соответствовало курсу, действовавшему на момент прихода к власти Муссолини четыре года назад. Фашизм перестал терять популярность. В отличие от Британии, в фашистской Италии можно было не опасаться общей забастовки. Squadristi Муссолини хорошо поработали во время уличных боев в 19201922 годах. В 1927 году диктатура использовала всю свою мощь, чтобы урезать заработную плату на 20 %.
Таблица 12. Договоренности с Вашингтоном: соглашения о погашении военных долгов, 1923–1930 гг.
Для Японии возврат к золотому стандарту начинался неудачно[1380]. В 1923 году, после трех лет дефляции, курс иены приблизился к довоенному, но 1 сентября произошло одно из самых разрушительных землетрясений за всю современную историю. Погибло 140 тысяч человек, около полумиллиона остались без крова, большая часть японских городов лежала в руинах. Банк Японии был вынужден срочно заняться привлечением кредитов. Иностранная валюта уходила из страны, и после десяти лет накопления иностранных активов в январе 1924 года Япония была вынуждена при посредничестве банковской группы Дж. П. Моргана взять заем под грабительские 6,5 %. Помня об условиях, на которых займы предоставлялись до войны, его стали называть «займом национального унижения»[1381]. Этот эпизод со всей ясностью показал, что источник финансирования Японии окончательно переместился из Лондона в Нью-Йорк[1382]. Спустя три года общее движение возврата к золотому стандарту вновь приблизило Японию к довоенному курсу иены, но в этот раз помешал сильнейший банковский кризис, в результате которого закрылось три десятка банков. В 1927 году, когда валюта уже предлагалась со значительными скидками по курсу, близкому к довоенному, новое экспансивно настроенное правительство, сформированное партией Сэйюкай, решило приостановить попытки перехода на золотой стандарт, чтобы уделить основное внимание вызовам, исходящим от китайских националистов. Приоритетом считалось развитие Японии, если необходимо, то с участием государства. Как и в случае с Италией времен Муссолини, это удивительным образом совпадало с интересами Уолл-стрит во главе с Дж. П. Морган (табл. 13).
Опыт Франции оказался более болезненным. В ноябре 1924 года, после того как Германия получила заем по плану Дауэса, группа Дж. П. Моргана обратилась в Государственный департамент за разрешением консолидировать краткосрочный заем на сумму 100 млн долларов для премьер-министра Пуанкаре.
Таблица 13. Doux Commerce: частные долгосрочные иностранные инвестиции США, декабрь 1930 г., млн долл.
Однако у Вашингтона были свои приоритеты. Франция не получит дальнейших кредитов до тех пор, пока не приведет свою финансовую систему в порядок и не урегулирует вопрос с выплатой 3,5 млрд долларов своей задолженности по союзническим обязательствам. С апреля 1925 года администрация Кулиджа ввела полное эмбарго на выдачу займов, начав с отмены крупного займа, предназначенного для города Парижа. В том же месяце злополучное правительство Эдуарда Эррио, известное как Cartel de Gauche, потерпело поражение в Сенате, открыв тем самым сезон политической и финансовой нестабильности, который завершился лишь в конце ноября 1925 года, когда пост премьер-министра вновь занял Аристид Бриан. Он немедленно обратился к Вашингтону, чтобы урегулировать вопрос о займе. В результате было заключено соглашение Меллона – Беранже, предусматривавшее полную выплату долга в течение 60 лет по льготной ставке 1,6 %. Первоначальный ежегодный платеж составлял 30 млн долларов.
Желая поскорее закрыть сделку, Эндрю Меллон провел предложение через палату представителей США, но, когда в начале лета 1926 года план стал известен широкой общественности во Франции, реакция была ошеломляющей. Соглашение Меллона – Беранже называли «приговором к пожизненной каторге». Бриана обвиняли в том, что он «затянул петлю на шее Франции». В июле 25 тысяч ветеранов прошли молчаливым маршем протеста против «мировых финансистов-стервятников»[1383]. Посол США Майрон Т. Херрик сообщал, что американские банкиры эвакуировали свои семьи из Парижа, подальше от жаркого антиамериканского лета. 21 июля по всему Парижу прошли тысячные демонстрации националистов, одетых в черные рубашки, характерные для боевиков Муссолини, а курс франка, составлявший в 1914 году 25,22 франка за фунт стерлингов, упал до 238,50. В июле 1926 года инфляция во Франции составила 350 % в годовом исчислении[1384]. Слухи о возможности правого государственного переворота во главе с маршалом Петеном вызвали тревогу политического класса республики. Пуанкаре вновь занял пост премьер-министра и создал межпартийное коалиционное правительство, в которое вошли его предшественник Эррио и еще четыре бывших премьер-министра[1385]. Бриан был назначен министром иностранных дел. Чтобы обеспечить гарантии возврата средств кредиторам внутри страны, было создано независимое агентство по погашению государственной задолженности[1386]. Доверие удалось восстановить, и 17 августа курс поднялся до 179 франков за фунт стерлингов и продолжал расти.
В декабре 1926 года курс франка стабилизировался на вызывающей отметке 124 франка за фунт стерлингов, или приблизительно 25 франков за доллар[1387] Это привело к серьезным убыткам кредиторов в самой Франции. Выросла стоимость импортируемых в страну товаров, но экспортеры оказались в выгодном положении, кроме того, становилось крайне привлекательным приобретение французских активов, что вызвало беспрецедентный приток золота в Париж. Стабилизация не только укрепила Французскую республику. Пуанкаре делал выводы из унизительного решения, навязанного Франции после ее победы в Руре. В 1924 году из-за своей финансовой слабости Франция была отдана на милость Британии и Америки. А осенью 1926 года свою роль сыграл поток золота, поступавшего в Банк Франции. Оно, по выражению управляющего Банка, способствовало «укреплению престижа и независимости страны на международной арене»[1388]. Пуанкаре выбирал еще более яркие выражения. Используя «внутренние ресурсы», его соотечественники освободятся из-под «англосаксонского финансового ига»[1389]. К лету 1927 года золотовалютные резервы Франции достигли 540 млн долларов. Это было несравнимо с суммой французского долга Британии и Соединенным Штатам в 6 млрд долларов, но представляло собой полезную masse de manoeuvre, с которой можно противостоять любому финансовому нажиму, в частности, со стороны Банка Англии[1390].
II
Вашингтонские соглашения 1921 года остановили гонку в строительстве боевых кораблей. В 1924 году план Дауэса, направленный на создание условий для экономического восстановления послевоенной системы, превратил Версальский договор в бесполезный документ. Он исключал использование в дальнейшем французской армии для обеспечения выполнения обязательств по договору. Поэтому возникал вопрос: каким образом будет обеспечиваться безопасность в Европе? Осенью 1924 года премьер-министр Рамсей Макдональд, желая сгладить унизительное положение, в котором оказалась Франция из-за плана Дауэса, встретился в Лиге Наций с Эдуардом Эррио, чтобы обсудить план действий, который позволит включить в Статут Лиги Наций положение об обязательной арбитражной процедуре, предусматривающее автоматическое введение режима санкций, а также выступить с совершенно новой инициативой по разоружению. Но в октябре 1924 года с уходом в отставку первого в истории Британии лейбористского правительства работа по так называемым Женевским протоколам сошла на нет. И хотя новый министр иностранных дел, консерватор Остин Чемберлен был подлинным франкофилом, остальные члены кабинета министров тори не желали привязывать Британию к системе принудительного арбитража Лиги Наций.
Кроме того, Женевские протоколы вызвали на удивление враждебную реакцию в Вашингтоне. Вместо того чтобы приветствовать европейскую инициативу, государственный секретарь Эванс Хьюз заявил, что жесткость предлагаемого механизма введения санкций приведет к тому, что Соединенные Штаты будут вынуждены рассматривать Лигу Наций как потенциально враждебную организацию[1391]. Соединенные Штаты не потерпят морской блокады, установленной в односторонне порядке флотами Британии и Франции, даже если такая блокада будет поддержана Лигой Наций. В 1916 году во время трансатлантического противостояния Британия уже сталкивалась с ситуацией, когда США были готовы перейти к враждебным акциям, и с тех пор была готова сделать все, лишь бы избежать повторения этого кошмара[1392]. Единственным решением, которое Хьюз считал приемлемым, было предоставление Вашингтону права вето на любые санкции, которые может ввести Лига Наций. Но, как отмечал Чемберлен, это означало приравнять полномочия Вашингтона к коллективным полномочиям Лиги Наций, а значит, наделить Соединенные Штаты статусом «супергосударства… апелляционным судом по всем процедурам Лиги». В ответ на замечание сэра Эсме Ховарда, посла Британии в США, о том, что «порой всем нам приходится считаться с фактами», Чемберлен резко возразил, что «существует разница между признанием факта и публичной оглаской его последствий»[1393].
Сам Чемберлен предпочел бы вернуться к предложению о предоставлении Британией двусторонней гарантии безопасности Франции. Это предложение во многом поддерживал британский генеральный штаб. В феврале 1925 года старший командный состав выступил с резким заявлением, в котором говорилось о том, что подобное обещание нельзя считать уступкой в пользу Франции. Оно напрямую отвечает интересам Британии и «лишь случайным образом связано с вопросами безопасности Франции…» Война показала, что «настоящая стратегическая граница Великобритании проходит по Рейну, а для ее безопасности необходимо, чтобы нынешние границы Франции, Бельгии и Голландии были сохранены и продолжали оставаться в руках друзей»[1394]. Но Францию не устраивали гарантии, касавшиеся только Рейна. Французы хотели полноценной военной поддержки при охране восточноевропейских границ. Для Лондона это было уже слишком. Для возврата к золотому стандарту требовалась максимальная экономия, а не новые обязательства[1395]. Поэтому 10 марта 1925 года Лондон заявил, что принимает предложение Германии о Рейнском гарантийном пакте, который обеспечит сохранность западных границ в Европе, нормализацию отношений с Германией и ее вступление в Лигу Наций. Пакт также жестко привязывал Германию к «западной системе»[1396]. Вызвавшему столько страхов раппальскому сценарию русско-германского союза было не суждено осуществиться.
Поиск компромисса привел к Локарнским соглашениям, ратифицированным в сентябре 1926 года. К сожалению, эти соглашения, обеспечивая сохранность границ на западе Европы, оставляли открытым вопрос о восточных границах. Германия и Польша так и не примирились. Путь германской экспансии на Восток оставался открытым. Но главным недостатком соглашений, направленных на создание системы безопасности великих держав, было не это. Настоящая проблема находилась не на Востоке, а на Западе. Главным было то, как отнесется к этим соглашениям Америка. В состоянии ли были Британия и Франция без поддержки со стороны Америки сдержать агрессию Германии в восточном или западном направлении? В 1927 году еще одну попытку привлечь США к участию в европейских делах предпринял Париж. 7 апреля, в 10-ю годовщину вступления Америки в войну, Аристид Бриан предложил Вашингтону заключить двустороннее соглашение о безопасности между Францией и США[1397]. Государственный департамент брезговал подобными особыми отношениями. Но, учитывая общие настроения в обществе, администрация Кулиджа не решалась отрицать привлекательность пакта о ненападении. Поэтому в декабре 1927 года государственный секретарь Франк Келлог выступил со встречным предложением – заключить не двусторонний, а многосторонний пакт об отказе от войны[1398].
В полдень 27 августа 1928 года в Париже при участии самого Келлога собрались представители 15 стран, чтобы поставить свои подписи под договором, «осуждающим возврат к войне как способу решения международных разногласий и подтверждающим отказ от нее как от инструмента национальной политики в отношениях друг с другом». Впервые с 1870 года на Кэ д’Орсэ был официально принят министр иностранных дел Германии[1399]. Германия надеялась, что в церемонии подписания договора примут участие и Советы, но для Вашингтона это было бы чересчур. Тем не менее именно Советский Союз первым ратифицировал то, что стало известным как пакт Келлога – Бриана[1400]. В течение 1928 года договор подписали не менее 33 стран. К 1939 году число подписавших договор стран достигло 60. В конце 1920-х годов господствовала новая идеология мира. «Мир, живущий без войн», был «нормальным явлением», а война – ничем иным, как преступным «отклонением от нормы»[1401]. Пакт Келлога – Бриана, который последующим поколением был высмеян, а затем жестоко нарушен, нельзя считать исторически неоправданным. В 1945 году, когда союзники формулировали в международном трибунале в Нюрнберге обвинительное заключение по делу нацистских вождей, то, определяя основной пункт обвинения, использовали не канонический перечень военных преступлений, составленный в XIX веке, и не сравнительно недавно появившуюся концепцию преступлений против человечности, не говоря уж о геноциде, мысль о котором в то время лишь изредка мелькала в головах специалистов по международному праву. Центральным пунктом обвинения, выдвинутого американскими прокурорами, стало нарушение нацистской Германией пакта Келлога – Бриана, ее преступления против мира.
Различие состояло в том, что в 1945 году Соединенные Штаты уже выступали в роли торжествующего победителя новой эры интернационализма. В 1928 году у французов и британцев были основания считать пакт Келлога – Бриана уловкой со стороны американцев. Чем обеспечивалось выполнение предусмотренных пактом обязательств? Вашингтон так и не позволил британскому флоту действовать. Вашингтон настаивал на том, чтобы не связывать пакт с Лигой Наций. Это не способствовало спокойствию французов. В 1923 году Пуанкаре оккупировал Рур, чтобы показать реакцию Франции на отказ Британии и США серьезно отнестись к требованиям ее безопасности. Теперь Франции предстояло действовать в обход установленного американцами блокпоста, используя европейское сотрудничество. В сентябре 1926 года министр иностранных дел Бриан, приветствовал Германию в качестве полноправного члена Лиги Наций и провел секретные переговоры с Густавом Штреземаном[1402]. Германия имела доступ к американскому рынку капиталов, которого Франция была лишена, поэтому предлагалось, чтобы рейх получил крупный заем на Уолл-стрит и использовал его для выплаты первоначального взноса Франции. В ответ Франция вернет Германии угольные шахты в Сааре и ускорит вывод своих войск из Рейнской области.
Если бы целью американской политики было поощрение Франции и Германии к поиску разумного решения существовавших между ними разногласий, то можно было бы ожидать, что Вашингтон благосклонно отнесется к так называемой инициативе Туари. Но Вашингтон предпочел трактовать франко-германское предложение как демонстративный шаг к созданию картеля должников. Государственный департамент наложил вето на этот план. Германия может получать займы только для собственных нужд. Если она намеревается получить заем для Франции, то перед этим Пуанкаре должен убедить французский парламент в необходимости проглотить горькую пилюлю в виде сделки по военным долгам. На деле Вашингтон еще более усилил давление, предупредив, что если договор Меллона – Беранже не будет ратифицирован, то в 1929 году Франции будет направлено требование о выплате 400 млн долларов наличными. Пуанкаре, верный своей политике восстановления кредитоспособности Франции, не испугался. Но ожесточенная двухнедельная схватка в палате депутатов в июле 1929 года по вопросу о военной задолженности перед Америкой стала последним актом его политической карьеры. Его здоровье было подорвано, и он был вынужден уйти в отставку в возрасте 69 лет. Но ратификация договора Меллона – Беранже восстановила кредитоспособность Франции[1403].
Британия тоже оказалась между двух огней. В правительстве консерваторов, возглавляемом Болдуином, нарастало отчаяние вследствие отказа США признавать законность морских блокад. Казначейство негодовало каждый раз, когда наступало время платежа по военным долгам. В 1928 году все громче слышались голоса тех, кто требовал смены стратегии. Ставка на построение стратегических отношений с Америкой начинала казаться ошибочной. Если бы Британия уделяла больше внимания империи, ей было бы проще противостоять Америке. А может, Британии следует поддержать Францию в вопросе о создании единого европейского блока с участием Германии и стран Бенилюкса. Но Лондон пребывал в нерешительности. Любой отход от Вашингтона представлялся рискованным. Если Британия настроит империю против Соединенных Штатов, то Канада, которая в соответствии с новой и более полной концепцией статуса доминионов получила разрешение открыть собственное посольство в Вашингтоне, может выйти из состава империи. Однако если Британия поддержит европейский выбор, то большие преимущества получит Германия. Форин-офис признавал, что США представляли собой «явление, не имевшее аналогов в современной истории Британии». Преимущества сотрудничества с США были многочисленны, а конфронтация представлялась немыслимой[1404]. Британское правительство, подобно французскому, решило не отступать, а предпринять попытку консолидации трансатлантических связей[1405].
Это намерение лишь окрепло, после того как лейбористы, одержав победу на всеобщих выборах 30 мая 1929 года, вновь сформировали правительство, которое возглавил Рамсей Макдональд. Для убежденного атлантиста и франкофоба Макдональда первоочередной задачей стало улучшение отношений с Соединенными Штатами. Еще больший энтузиазм у него вызывало то, что ему предстояло иметь дело с таким ярким представителем прогрессивизма послевоенного периода, как недавно избранный Герберт Гувер. Троцкий насмешливо заметил по этому поводу, что дело было уже не в англо-французских переговорах: «Чтоб вести серьезный разговор, потрудитесь пересечь Атлантический океан»[1406]. Макдональд стал первым в длинной очереди европейских государственных мужей, жаждущих отметить свое вступление в должность поездкой в Америку. В октябре 1929 года, в сельском поместье президента в Рапидан-Кемп в штате Вирджиния, вдали от отзвуков бушевавшей на Уолл-стрит паники, Гувер и Макдональд, сидя на противоположных концах ствола поваленного дерева, определяли повестку дня конференции по вопросам разоружения на море, которая, как обещали газеты, будет проведена в новом расширенном формате в начале 1930 года в Лондоне[1407].
III
С одной стороны, эти конструкции выглядели прочными. С другой стороны, их расплывчатость вызывала разочарование, и если учесть, что послевоенный порядок стоял на двух столпах, одним из которых были Локарнские соглашения, а другим – подписанные в Вашингтоне договоры по Тихому океану, то в глаза бросалось такое свойство этой новой геополитической картины, как незавершенность. «Между» Локарно и Вашингтоном простиралась огромная территория Евразии, на которой доминировал Советский Союз. Напротив, с точки зрения Москвы наступление нового мирового порядка привело к тому, что в середине 1920-х годов Польша и Китай превратились в арену продолжавшейся борьбы между революцией и контрреволюцией. В этой борьбе Москва занимала оборонительную позицию. То, что польская граница с Германией была демонстративно исключена из Локарнских соглашений, без сомнения, тревожило Варшаву. Однако, когда в мае 1926 года маршал Пилсудский совершил государственный переворот, в Москве забили тревогу[1408]. Советы хорошо помнили его агрессию шестилетней давности.
Но на этот раз Пилсудский занимал оборонительные позиции. Его задача состояла в сохранении баланса в мультиэтническом Польском государстве, поддержании статус-кво в отношениях Польши с Советским Союзом и Германией, а также в том, чтобы делать все возможное для модернизации польской экономики и вооруженных сил. Это указывало на соотношение сил в середине 1920-х годов, которое (и в этом Пилсудский оказался совершенно прав) не позволяло России или Германии совершить нападение на Польшу в ближайшие десять лет. Конечно, тревожило то, что в апреле 1926 года Германия и Советский Союз подписали пакт о нейтралитете и ненападении, который стал продолжением Рапалльского договора. Однако, в отличие от пакта о ненападении, заключенного этими странами в 1939 году, этот пакт носил действительно оборонительный характер. Главной целью Берлина было послать сигнал о том, что Германия, вопреки подстрекательствам со стороны Франции и Британии, не будет участвовать в нападении Польши на Россию. Штреземан демонстрировал, что у него нет желания повторять опасные игры на поддержание баланса, как это было в Рапалло. Когда летом 1927 года выпады Советов против Польши стали опасными, Германия взяла на себя функции посредника, убедив Советы в отсутствии у Британии и Франции агрессивных намерений и в том, что Москве следует воздержаться от каких-либо действий со своей стороны[1409].
Было очевидно, что ситуация на Западе стабилизировалась, и теперь перед Коминтерном встал вопрос о препятствиях, стоявших на его пути в Азию. Британия восстановила свои позиции в Индии. Отношения между западными державами и Японией, с точки зрения Советов, складывались подозрительно спокойно. Зато в Китае продолжались волнения. На встречах в Версале и Вашингтоне Япония и западные державы демонстративно отказывались принимать китайский национализм всерьез. Оставалось дождаться, кто решит воспользоваться сложившейся ситуацией. В сентябре 1924 года в восточных прибрежных районах Китая возобновились сражения между различными группировками. И это были не обычные стычки между военачальниками-милитаристами[1410]. Китайские генералы впервые широко применяли современное оружие времен Первой мировой войны. Группировка Жили и «нефритовый генерал» Ву Пеифу, захватившие долину Янцзы в октябре 1924 года, похоже, готовились к тому, чтобы подчинить себе всю территорию Китая. Воинственность Ву Пеифу была хорошо известна, поэтому руководство западных стран и Японии забеспокоилось. Японский прозападный министр иностранных дел Киджуро Сидехара, протеже маркиза Сайондзи, стремился избежать открытого нарушения принципов, согласованных в Вашингтоне, но группировку Жили надо было остановить. Не желая отправлять в Китай свою армию, Токио передал большое количество оружия на склады маньчжурского военачальника Чжан Зулиня и израсходовал значительную сумму на взятки, чтобы внести раскол в ряды группировки Жили[1411]. В 1925 году коалиция Ву Пеифу начала распадаться, процесс объединения страны повернул вспять, политическая жизнь деградировала еще больше, превратившись в позорную и убийственную неразбериху.
Вашингтону очень не нравился национализм Ву Пеифу. В то же время для Франции и Британии хаос в Китае был не самым худшим вариантом[1412]. Они были готовы терпеть беспорядки до тех пор, пока имели возможность защищать свои сферы интересов и пока у националистического движения не появился лидер. Но вторжение Ву Пеифу на юге затрагивало уже и их интересы. 30 мая 1925 года британская полиция в Шанхайской концессии открыла огонь по мирным китайским демонстрантам, выступавшим с патриотическими лозунгами. Более десяти человек были убиты, десятки людей получили ранения. Это несоразмерное применение силы вызвало всплеск патриотических настроений таких масштабов, которых не наблюдалось с 4 мая 1919 года. В течение нескольких недель в Шанхае 150 тысяч рабочих присоединились к забастовке протеста. Это открыло дорогу силе еще более опасной, чем даже Ву Пеифу, – Гоминьдану и Коминтерну.
На севере Китая военачальники собирали своих советников и все более современное вооружение со складов Антанты. В отличие от событий начала 1923 года, после подписания декларации Сунь Ятсена-Иоффе взоры националистов были обращены к Москве. 6 октября в Кантон прибыл революционер-активист Михаил Бородин, перед которым стояла задача на месте руководить работой по преобразованию национального движения в массовую партию[1413]. На первом Национальном съезде новой партии Гоминьдан в январе 1924 года 10 % делегатов и 25 % членов центрального исполнительного комитета составляли коммунисты. Открывая съезд, Сунь Ятсен выступил с антиимпериалистической прокламацией. В знак уважения памяти скончавшегося в январе Ленина съезд приостановил свою работу на три дня. Советы реагировали со всей щедростью. Помня о ленинской концепции единого фронта, они направили в Китай более 1000 советников и передали 40 млн долларов для поддержки своих новых союзников, что значительно превышало революционные ресурсы, которые Москва когда-либо использовала в Европе. Гоминьдан приступил к созданию политизированных вооруженных сил по советскому образцу. Герой Гражданской войны Василий Блюхер был назначен главным военным советником. Сунь Ятсен направил на обучение в Москву своего перспективного военного командира Чан Кайши. Для идеологической обработки рядового состава в каждом воинском подразделении была создана партийная ячейка. На острове Вампоа начала работать военная академия, перед которой стояла задача подготовки нового поколения командиров. Политическим комиссаром академии был назначен Чжоу Энлай, еще в 1919 году вступивший в Коммунистическую партию и ставший надежным агентом Коминтерна во время учебы в Париже и Берлине.
Со времен Юань Шикая, первого президента Китайской Республики, модернизация милитаризма была основной формой политики, проводимой китайскими военачальниками. Коммунисты отличались от остальных в первую очередь тем, что они ставили задачу расширения социальной базы китайского национализма. Когда зимой 1923/24 года местный военачальник стал угрожать базе Гоминьдана в Кантоне, Бородин предложил экстренный план массовой мобилизации. Он посоветовал издать декрет об экспроприации земель крупных землевладельцев и ее распределении между крестьянами, а также о введении восьмичасового рабочего дня и минимальной оплаты труда для промышленных рабочих. Опасаясь потерять поддержку среднего класса, Сунь Ятсен отказался от других предложений Бородина, носивших еще более подстрекательский характер. Впервые в националистическую повестку дня Гоминьдана были включены требования социального характера. В июне 1925 года националистически настроенные активисты из Кантона поддержали массовую забастовку в Гонконге, в которой приняли участие 250 тысяч рабочих, а также длительный и результативный торговый бойкот британской концессии[1414]. В 500-мильном коридоре, протянувшемся на север от Кантона до Уханя и дальше, назревало крестьянское восстание[1415]. Следуя призывам коммуниста-организатора Пень Пая, отдел по работе с крестьянами Гоминьдана начал разрабатывать план действий по созданию массовой базы партии[1416]. Гоминьдан открыл курсы руководителей крестьянского движения, работой которых с мая 1926 года руководил молодой революционер из Хунаня по имени Мао Цзэдун[1417]. К концу первого года работы этих курсов школы Мао мог отчитаться о том, что в ряды новой организации вступили 1 млн 200 тысяч крестьян[1418].
Летом 1925 года, пока воевавшие на севере военачальники истребляли друг друга, Блюхер со своими китайскими помощниками разработал то, что русские назвали «великим военным планом Гоминьдана» – скоординированную военную кампанию по распространению влияния Гоминьдана с базы, расположенной на юге в провинции Гуандун, на север в направлении долины реки Янцзы. Оттуда можно было готовить удар в направлении Пекина[1419]. Целью этой беспрецедентной по своим масштабам кампании было объединение двух третей территории Китая, на которой проживало не менее 200 млн человек, где действовали крупные военизированные формирования под командованием пяти военачальников, способных, как показали события 1924 года, мобилизовать огромные армии численностью до 1,2 млн солдат, в то время как в распоряжении националистов было всего лишь 150 тысяч человек[1420]. Это была непростая задача, даже если учитывать разброд в стане Жили. Сначала националисты рассчитывали, что проведение конференции позволит объединить военачальников, не прибегая к вооруженным действиям. Но неожиданная кончина Сунь Ятсена в марте 1925 года нарушила эти планы: объединительная конференция осталась без очевидного лидера, а Москва утратила значительную часть своего влияния на Гоминьдан.
Сунь Ятсен завещал партии сохранить союз с Советами, но теперь в ней произошел раскол на левых, связанных с Коммунистической партии Китая, и военных, во главе которых стоял Чан Кайши. В марте 1926 года Чан заявил о себе, осуществив политический переворот в руководстве националистов в Кантоне, и, вытеснив коммунистов, объявил себя главой Национальной революционной армии. Коминтерн, не теряя времени, перешел к наступательным действиям. Лев Троцкий призвал китайских коммунистов выйти из состава партии Гоминьдан и создать собственную военную базу с опорой на крестьян и рабочих Гуандуна. Но его призыв не был поддержан. Коминтерн, со Сталиным и Бухариным в первых рядах, занялся всеобъемлющей подготовкой решающей Северной экспедиции[1421].
За короткое время были достигнуты триумфальные результаты. Перспективы революции в Европе становились все более призрачными, несмотря на всеобщую забастовку в Британии. Зато в Китае в период с июня по декабрь 1926 года Национальная республиканская армия (НРА) провела прекрасно организованную успешную операцию, позволившую националистам взять под свой контроль большую часть Центрального и Южного Китая. Оперативным планированием занимался штаб Блюхера. Советские пилоты обеспечивали прикрытие с воздуха. Руководители китайских коммунистов вели политическую работу в тех частях НРА, где были особенно сильны левые настроения. Во многих провинциях операция против военачальников-милитаристов проходила на волне крестьянского восстания[1422]. Молодой Мао напоминал «огненный смерч или, если говорить более сдержанно, мягкую и в то же время мощную силу, которой не могла противостоять ни одна держава, какой бы великой она ни была»[1423].
10 октября 1956 года после 38-дневной осады, к 15-й годовщине революции 1911 года Национальная революционная армия захватила город Ханькоу-Ухань, в котором эта революция и начиналась. Западные державы были растеряны как никогда. Еще в 1926 году Лондон отказался признавать то, что оставалось от китайского правительства в Пекине[1424]. Теперь, 18 декабря, пытаясь как-то реагировать на прорыв националистов, посольство Британии выпустило открытый меморандум, в котором признавалось, что «сегодняшняя ситуация в Китае… в корне отличается от существовавшей в то время, когда страны работали над Вашингтонскими соглашениями»[1425]. Великие державы должны «оставить мысль о том, что экономическое и политическое развитие Китая может быть обеспечено лишь под иностранным попечительством». Они должны найти ответ на требования китайский националистов о пересмотре договора[1426].
Но как далеко готова была Британия пойти навстречу требованиям националистов? Пределы гибкости подверглись проверке почти сразу. 4 января 1927 года, после нескольких недель беспорядков, толпы китайцев при поддержке республиканских войск, уложив лицами в землю отряд британских морских пехотинцев, захватили британскую концессию в Ханькоу-Ухань. Умелое маневрирование на месте событий позволило избежать кровопролития, но Британия была повергнута в глубокий шок. В Лондоне слышались призывы (и среди них звучал голос Черчилля) к немедленному отмщению. Однако министр иностранных дел Остин Чемберлен хорошо понимал «глубоко миролюбивое отношение» британской общественности и то, какую отрицательную реакцию в Вашингтоне встретит любое агрессивное действие: «только проявляя терпение… ясно показывая всем, с какой целеустремленностью Британия ищет мирного решения… сколь либеральна ее политика», можно мобилизовать необходимые силы на тот случай, если стратегические интересы Британии действительно окажутся под угрозой[1427].
Стратегическим активом, который Британия действительно была готова отстаивать, был Шанхай. Для Британии он являлся важным торговым центром в Восточной Азии. Речь шла о сотнях миллионов фунтов стерлингов. 17 января 1927 года британский кабинет министров принял решение направить в Китай 20-тысячный контингент, обеспечив ему серьезную поддержку с моря: 3 крейсера, канонерки и флотилия эсминцев. Всего в Шанхай прибыло 35 кораблей из семи стран. Вдоль побережья Китая расположился Королевский флот в составе двух легких авианосцев, 20 крейсеров, 12 подводных лодок и 15 речных канонерок[1428].
Похоже, все было готово к конфронтации. Внутри Гоминьдана вновь укреплялись позиции коммунистов. Коммунистическая партия Китая (КПК) из небольшой группы интеллектуалов превратилась в партию, состоявшую из 60 тысяч активных членов, сконцентрированных в крупных городах Центрального и Южного Китая. Не обращая внимания на демонстрацию силы западных держав, армия националистов продвигалась в направлении побережья. 21 марта силы НРА вошли в Шанхай. Это послужило сигналом для восстания, возглавляемого коммунистами, которые стремились направить неизбежную победу националистов над Чан Кайши в направлении революции[1429]. Через три дня, 24 марта, НРА, избежав столкновения с западными странами в Шанхае, заняла Нанкин, что вызвало волну бунтов[1430]. Американские и британские боевые корабли, стоявшие на якоре в Янцзы, обстреляли город, что привело к многочисленным жертвам. Было ли этого достаточно, если учесть, что погибли несколько граждан западных стран, здание консульства Британии получило повреждения, а сам генеральный консул был ранен? В Шанхае Британия имела возможность применить настоящую военную силу.
11 апреля было направлено предупреждение генералу Чан Кайши и националистам, захватившим власть в Ухане. Левое правительство Гоминдана в Ухане ответило на него решительным отказом. Боевые позиции, казалось, были определены[1431]. Но именно в этот момент наибольшего обострения достигла борьба за власть между коммунистами, левым и правым крылом в Гоминдане. Коминтерн из Москвы призывал своих товарищей свергнуть генерала Чан Кайши. Но тот не собирался уступать позиции. В марте 1927 года Чан Кайши отдал приказ разоружить состоявшую из коммунистов милицию в армейских дивизионах, находившихся под его командованием. На следующий день, после того как западные страны заявили протест в связи с «беспорядками» в Нанкине, и не дожидаясь пока мощный шанхайский профсоюз организует сопротивление, Чан Кайши нанес решающий удар[1432].
12 апреля, заявив, что китайская революция должна освободиться от попечительства русских, он приступил к кровавой зачистке коммунистов в Шанхае. Японцы были готовы поддержать выступление Чан Кайши против коммунистов, американцы закрыли глаза на применение силы, а Лондон отступил. КПК, организационно входившая в Гоминдан, оказалась беззащитной. Когда против нее выступило и левое крыло Гоминдана в Ухане, положение коммунистов стало безнадежным. Если весной 1926 года численность китайских коммунистов составляла 60 тысяч человек, то к концу 1927 года в живых оставалось не более 10 тысяч. В сельской местности белый террор унес жизни сотен тысяч восставших крестьян[1433]. Остатки сельских организаций были разгромлены в ходе организованного Мао восстания, печально известного как «сбор осеннего урожая», в Хунане в сентябре 1927 года[1434]. Год спустя, в июле 1928 года, после того как Пекин был сдан регулярным отрядам НРА, Соединенные Штаты признали правительство Чан Кайши со столицей в Нанкине и предоставили ему право определять размер таможенных пошлин – право, которого так долго добивались китайские националисты[1435].
Москва была ошеломлена происшедшим в Китае. Дважды на протяжении семи лет – первый раз в Польше в 1920 году, а теперь, весной 1927 года, в Китае – советский режим, казалось, был близок к революционному прорыву, который, однако, вновь обернулся сокрушительным поражением. Москве с ее воспаленным геополитическим воображением взаимосвязь событий в Польше и Китае казалась очевидной. Все это было результатом происков британского империализма. 12 мая 1927 года, через несколько недель после шанхайской катастрофы, Скотленд-Ярд провел рейд по помещениям, которые занимала советская торговая делегация в Лондоне. Правительство тори заявило, что в ходе обысков были обнаружены изобличающие улики, и разорвало дипломатические отношения с Советским Союзом. Слухи о войне еще более усилились, когда 7 июня в Варшаве белый русский террорист застрелил советского представителя в Варшаве. Что это, еще одно Сараево?[1436] Страх перед войной охватил Москву. В Коммунистической партии обострились внутренние противоречия между сталинистами и троцкистами, а в октябре, когда стало ясно, что план по закупкам урожая не будет выполнен, предчувствие кризиса усилилось. Как и во время Гражданской войны, крестьяне забастовали. В 19201921 годах Ленин уже сталкивался с подобной ситуацией. Непомерные амбиции, связанные с революционной экспансией и социалистическим строительством, разбились о стену силового противостояния Запада и угрозу голода. Провозгласив новую экономическую политику и принцип мирного сосуществования, Ленин сделал шаг назад.
В 1927 году повторить такой шаг означало предать все, что было достигнуто с момента того стратегического отступления. Для Сталина это означало опасную уступку жаждавшим реванша оппонентам. Сталин не собирался отступать. Троцкий и Зиновьев были высланы из страны. Но что означал шаг вперед? В 1925 году именно Троцкий и левая оппозиция выступали за ускорение индустриализации. Теперь, летом 1927 года, столкнувшись с угрозой войны, Политбюро внесло изменения в свою повестку дня. К концу года гигантская программа индустриализации была представлена в виде пятилетнего плана и дополнена программой принудительной коллективизации на селе. Сталин приступал к выполнению совершенно беспрецедентной программы экономических и социальных преобразований, которая в течение нескольких лет должна была обеспечить Советскому государству полный и непосредственный контроль над массами крестьянства[1437]. Это была, по выражению Троцкого, «азартная бюрократическая сверхиндустриализация», полная экономических и политических рисков[1438]. В начале 1930-х годов эта волюнтаристская попытка обеспечить рост любой ценой приведет к жуткому голоду и жестокой войне с крестьянством и заставит переориентировать внешнюю политику Советского Союза на оборону. Сталин не случайно так горячо приветствовал пакт Келлога – Бриана. Для построения в обозримом будущем «социализма в одной отдельно взятой стране» требовался мир.
IV
В конце 1920-х годов в Восточной Азии была еще одна страна, находившаяся в состоянии еще большей стратегической неопределенности, чем Советский Союз, и этой страной была Япония. В среде японских политиков и военных часто раздавались голоса, требовавшие более активных действий. С начала 1920-х годов относительная умеренность японской политики строилась на недооценке потенциала китайского национализма.
В свете мобилизации сил, проведенной Ву Пеифу в 1924 году, и еще более значительного размаха Северной экспедиции такая самоуспокоенность становилась опасной. Тем не менее министр иностранных дел Сидехара, не обращая внимания на возмущение правых сил, продолжал проводить неагрессивную политику, которую он выбрал еще в 1921 году. Весной 1927 года, когда США и Британия применили военную силу против китайских националистов, Япония воздержалась от каких-либо действий[1439]. На японском флоте чувство унижения было столь сильным, что один из лейтенантов, принимавших участие в эвакуации японцев из Нанкина, совершил харакири в знак протест[1440]. Почему Япония не встала на защиту собственных интересов? Китай собирал силы, а важнейший японский плацдарм в Маньчжурии оставался забытым[1441]. В конце 1920-х годов численность японских поселенцев в Маньчжурии составляла всего лишь 200 тысяч, и каждый год она увеличивалась не более чем на 7 тысяч человек. Для сравнения, в 1927 году приток в Манчжурию китайцев, желавших получить землю, достиг пика в 780 тысяч. Японские правители избегали по-настоящему решительных политических шагов, лишая себя будущего даже в естественных сферах интересов.
В апреле 1927 года экономический кризис, разразившийся в стране на фоне событий в Китае, привел к отставке либерального правительства, столь упорно придерживавшегося политики примирения[1442]. К власти пришла консервативная партия Сэйюкай во главе с бывшим начальником генерального штаба, прокитайски настроенным генералом Танакой, обещавшим занять более твердую позицию. Укрепляя японские позиции в Шаньдуне и Маньчжурии и одновременно добиваясь расположения Чан Кайши, Танака надеялся в конце концов убедить китайцев согласиться с разделом территории к северу от Великой стены. Танака не мог пойти на разрыв с западными странами даже тогда, когда НРА вела крупную наступательную операцию на севере в апреле 1928 года. Несмотря на неоднократные столкновения НРА с японскими отрядами, в ходе которых погибли тысячи китайцев, Танака продолжал молчать и официально подтвердил перед Вашингтоном суверенитет Китая над Маньчжурией.
Для японских крайних националистов это было уже слишком[1443]. 4 июня 1928 года радикально настроенные офицеры японской армии в Маньчжурии убили военачальника Чжан Цзолиня, который спешил покинуть Пекин до того, как туда войдет НРА. Убийцы надеялись таким образом спровоцировать столкновение с армией Чжан Цзолиня и дать повод для полной аннексии Маньчжурии Японией. Но их ждало разочарование. НРА заняла Пекин, и националисты завершили объединение Китая, а на смену Чжан Цзолиню в Маньчжурии пришел его сын, Чжан Сюэлян. «Молодой маршал» избегал открытого столкновения с японской армией, но вскоре проявил себя китайским патриотом новой формации. В декабре, игнорируя японцев, он передал три маньчжурские провинции в управление правительству националистов в Нанкине, которое теперь было уже официально признанно Соединенными Штатами и Великобританией.
Политика премьер-министра Танаки полностью провалилась. Неспособный противостоять китайцам или договориться с ними, он напоминал «Дон-Кихота Востока», самурая старой школы, пережившего свое время[1444]. Когда наконец в июле 1929 года его правительство ушло в отставку, на смену пришли не националисты-радикалы, а их главные противники, Конституционная народная правительственная партия, или Менсэйто. Партия придерживалась реформистской, а не конфронтационной линии. Япония должна ратифицировать пакт Келлога – Бриана и принять приглашение Британии и США на переговоры о сокращении морских вооружений в Лондоне, завершить либерализацию внутренней политики и возобновить продвижение к золотому стандарту. В феврале 1930 года эти партнеры Штреземана в Азии получили значительное большинство голосов японских избирателей, выступавших за демократизацию[1445]. Даже действия Сталина и Чан Кайши не вызвали выступлений сторонников агрессивной политики в Азии.
26 Великая депрессия
Великая депрессия стала событием, которому было суждено разрушить эту на удивление жизнеспособную систему мирового порядка. Но ее разрушительное воздействие проявилось не сразу. Первые проявления спада, подобные рецессии 1920–1921 годов, вели к ужесточению действовавших ограничений, но еще не к разрушению мира. И правда, то, что в 1929 году, в отличие от 1920 года, дефляция проводилась во всех крупных странах, свидетельствовало о том, насколько глубоко укоренились новые нормы. Курс на дефляцию был взят не только в Британии и Соединенных Штатах, но и во Франции, Италии и Германии. В январе 1930 года, стремясь оправдать ожидания мировой общественности, новое либеральное правительство Японии ввело золотой стандарт. Для этого был привлечен крупный заем, полученный при посредничестве банковской группы Дж. П. Морган. С тех самых пор критики задаются вопросом: почему мир с такой готовностью решился на принятие коллективных мер жесткой экономии? И если экономисты- кейнсианцы и экономисты-монетаристы могут хоть в чем-то прийти к единому мнению, так это в том, что дефляционный консенсус имел катастрофические последствия. Что было тому виной, невежество руководителей центральных банков или атавистическая приверженность воспоминаниям о позолоченном веке?[1446] А может быть, инфляция, разразившаяся после Первой мировой войны, вызвала антиинфляционные настроения даже в наиболее удачливых странах (Соединенных Штатах и Франции), которым приходилось делать хоть что-то, лишь бы создать противовес грузу, тянувшему Британию, Германию и Японию на дно?[1447] Многие политические обозреватели объясняют происходившее тем, что дефляция давала финансовым «ястребам» долгожданную возможность отказаться от уступок профсоюзам, на которые они были вынуждены пойти в беспокойные послевоенные годы[1448].
Однако для всех этих объяснений характерна недооценка политических инвестиций в восстановление мирового порядка 1920-х годов, которые имели более широкий смысл. Эти инвестиции не были обусловлены страхом перед инфляцией или присущим консерваторам желанием сократить социальные расходы. Золотой стандарт был связан с видением международного сотрудничества, выходящего за пределы технической дискуссии между руководителями центральных банков. Золотой стандарт был «защитой от мошенничества» на уровне чувствительных точек всей мировой системы, а не только препятствием на пути социалистов, озабоченных крупными расходами и ростом инфляции. «Золотые оковы» сдерживали и милитаристов. Действительно, на фоне вето Вашингтона на создание более жестких систем коллективной безопасности заложенный в основу «золотого стандарта» рыночный либерализм оставался единственным надежным средством предотвратить возрождение империализма. Циклические рецессии, даже те, которые приводили к массовым безработице и банкротствам, были малой ценой за поддержание мирового порядка, позволявшего надеяться на сохранение мира и экономический прогресс. Трагическая ирония Великой депрессии проявилась еще и в том, что конструктивная политика, направленная на обеспечение международного сотрудничества, оказалась столь тесно связана с политикой жесткой экономии. Следствием отрицательного свойства стало то, что сторонники «позитивной» экономической политики оказывались втянутыми в орбиту лагеря бунтарей-националистов.
I
План Юнга стал подготовкой к действию. Рецессия была уже не за горами, когда 11 февраля 1929 года в Париже начался новый раунд переговоров о репарациях. Переговоры проходили под председательством Оуэна Д. Юнга, который в 1924 году был заместителем Чарльза Дауэса. Инициаторами переговоров выступили США, а не Германия, и это стало триумфом дипломатии Штреземана. Американцы имели основания опасаться того, что увеличение репарационных обязательств Берлина, предусмотренных планом Дауэса, приведет к увеличению доли частных долгов Германии на Уолл-стрит. Переговоры, закончившиеся год спустя на Второй Гаагской конференции в январе 1930 года, были успешными лишь отчасти[1449]. Формально план Юнга сулил снятие напряженности в вопросе репараций за счет деполитизации системы выплат. Но на деле отказ Вашингтона разрешить совместное обсуждение военных долгов и репараций привел к неутешительным результатам.
При всей непоколебимости позиции Вашингтона, которая стала еще более заметна с приходом администрации Гувера, ставшего президентом в марте 1929 года, Франция и Британия могли согласиться на уменьшение суммы репарационных выплат Германии, но не более чем на 20 %[1450]. Они располагали лишь незначительным пространством для маневра, так как по мере уменьшения суммы репараций претензии к ним со стороны Соединенных Штатов становились еще больше. В 1919 году соотношение суммы претензий по репарациям к сумме военной задолженности перед США было вполне приемлемым и составляло 3:1. Но жесткая дипломатия США в вопросе о задолженности и ревизионистская позиция Германии в отношении Версальского договора привели к тому, что это соотношение изменилось в худшую сторону. Британия и Франция все чаще выступали в роли передаточного канала при обмене платежами между Соединенными Штатами и Германией. Согласно плану Юнга, Франция могла рассчитывать на получение лишь 40 % всех причитавшихся ей репарационных платежей, а Британия получала лишь немногим более 22 %. По этому поводу Троцкий с характерной для него резкостью писал: «От финансового ядра, привязанного к ногам Германии, идут солидные цепи, надетые на руки Франции, на ноги Италии и на шею Британии. Макдональд, выполняющий сейчас обязанности сторожа при британском льве, с гордостью показывает на ошейник, как на лучший инструмент мира»[1451]. И то, что сумма в 2 млрд долларов, выплаченная Соединенным Штатам в качестве возврата военных долгов к 1931 году, почти полностью соответствовала общей сумме кредитов, выданных Германии США в начале 1920-х годов, было не просто совпадением[1452]. Средства двигались по кругу. Но именно это циклическое движение по условиям плана Юнга было строго ограничено. Этот план был призван нормализовать ситуацию с задолженностью Германии и в то же время сделать ее более прозрачной, еще более ясно указывая на ответственность Берлина[1453].
Националисты ответили митингами протеста с требованием проведения референдума. Это позволило Адольфу Гитлеру придать новый импульс своему движению, которое после катастрофического провала на выборах в рейхстаг 1928 года, казалось, постепенно уходило в небытие[1454]. Но бунтовщики потерпели поражение и на этот раз. «Нет» сказали лишь 14 % избирателей. Депутаты-националисты вновь стыдливо проголосовали таким образом, чтобы план Юнга получил сверхквалифицированное большинство, необходимое для его ратификации. Еще одной победой практической дипломатии стало то, что союзнические войска покинули Рейнскую область на пять лет раньше предусмотренного срока.
Этой видимой нормализации обстановки соответствовали и те положения плана Юнга, которые требовали все более строгой финансовой ортодоксальности по мере восстановления суверенитета Германии. Система защиты трансфертов, за которой с 1924 года следил находившийся в Берлине американский агент по репарациям, была ликвидирована. Отныне Германия сама несла ответственность за свой платежный баланс. Теперь выплаты направлялись не в Комиссию по репарациям, а в новый международный клиринговый дом, получивший название Банка международных расчетов. Это предъявляло новые требования к финансовой дисциплине, что вполне устраивало германских консерваторов. В марте 1930 года социал-демократы были вынуждены покинуть межпартийную коалицию, которая сформировала правительство, действовавшее с 1928 года. Пришедшее ему на смену правительство партии Центра под руководством Генриха Брюнинга приступило к долгосрочной трансформации Веймарского государства[1455]. Конечной целью был пересмотр Версальского договора, но для достижения этой ревизионистской цели использовались конформистские подходы. Германия освободится от пут политической задолженности, возродив свою конкурентоспособность. Из дефляционной чистки она выйдет такой же, какой была до 1914 года, – ведущим мировым экспортером, окончательно освободившимся от финансового наследия войны.
Зимой 1929/30 года Германия вплотную занималась репарациями. Тем временем Британия и Америка готовились вернуться к вопросу о глобальном разоружении. 21 января 1930 года в роскошном зале палаты лордов состоялось заседание второй Лондонской морской конференции. Церемония открытия конференции транслировалась в прямом радиоэфире по всему миру и стала сенсацией на расстоянии 5 тысяч миль – в Японии. Впервые мировая общественность имела возможность непосредственно следить за ходом столь важного события в средствах информации[1456]. Время проведения конференции выбралось с учетом того, что истекал срок действия системы, созданной десять лет назад в Вашингтоне. В 1931 году с отменой нового соглашения Британия, США и Япония были готовы построить 39 линейных кораблей общей стоимостью около 2 млрд долларов. Ограничения, относившиеся к линейному флоту и согласованные в Вашингтоне, не помешали тому, чтобы с 1922 года со стапелей сошли крейсеры, эсмины и подводные лодки общим водоизмещением почти в 1 млн тонн. На рассмотрении Конгресса находился проект бюджета, предусматривавший значительные ассигнования на развитие военно-морских сил. Все это явно противоречило насущной необходимости проведения дефляции. Поэтому в Лондоне страны «Большой тройки» согласились не ограничиваться только линейным флотом, но принять решение о действительно всеобъемлющем ограничении морских вооружений.
2 апреля 1930 года правительство Ямагути заявило о готовности пойти на компромисс, а именно – принять соотношение, составлявшее почти 10:10:7, для крейсеров и других вспомогательных кораблей, что стало крупным достижением конференции. Это оказалось еще большим, по сравнению с Вашингтонской конференцией 1921 года, триумфом японских гражданских политиков и дипломатов над военными, занятыми в тот момент Китаем и потерявшим всякую веру в добрую волю Америки. Но независимо от стратегических оценок сомнений относительно общего дефляционного императива не было. В администрации Гувера подсчитали, что Соединенным Штатам удалось сэкономить 500 млн долларов[1457]. Для Японии, приступившей к строительству крейсера в 1921 году, решения конференции означали полное прекращение строительства флота. В общей сложности в течение шести последующих лет Япония имела право построить новые корабли общим водоизмещением лишь 50 тысяч тонн. Военно-морское лобби негодовало. Воспользовавшись тем, что в оппозиции находилась партия Сейюкай, выступавшая за увеличение расходов, лоббисты использовали Лондонскую морскую конференцию, чтобы провести «самую важную конституционную битву» со времени начала периода Тайсё в 1913 году[1458]. Но премьер-министр Осахи Ямагути, несмотря на отставку начальника генерального штаба японского флота адмирала Като Канзи и по меньшей мере один случай ритуального самоубийства среди младших офицеров, не изменил своей позиции[1459]. Бюджет неумолимо требовал сокращения расходов. Премьер-министр пользовался поддержкой значительного большинства в парламенте и мог рассчитывать на поддержку ветерана, президента Тайного совета императора, известного своими прозападными настроениями и либерала, принца Сайондзи[1460]. Несмотря на вызовы со всех сторон правительство Ямагути продолжало выступать на стороне Лондона и Вашингтона в вопросах политики обеспечения безопасности и возврата к золотому стандарту. 28 октября 1930 года проходили торжества по поводу подписания Лондонского договора о морских вооружениях, с которых велась трансляция по радио на все три страны. В ходе этой трансляции с заявлениями, в которых отмечалось значение этого события для мира во всем мире, выступили японский премьер-министр Ямагути, британский премьер-министр Рамсей Макдональд и президент США Герберт Гувер.
Как и девять лет назад, на переговорах в Лондоне несговорчивость проявили французы[1461]. И у них были основания считать, что вопросы безопасности их страны остаются без внимания. Располагая флотом, едва ли равным одной трети того, что имелось у Британии или Америки, Франция должна была выбирать между защитой собственного атлантического побережья и патрулированием Средиземного моря на случай действий со стороны Муссолини, который в открытую выказывал свое презрение ко всему процессу разоружения. Франция не собиралась соперничать с Британией или Соединенными Штатами. Напротив, для Франции было важно связать разоружение с более конкретными обязательствами в сфере обеспечения безопасности, чем те, которые предусматривались Лигой Наций или пактом Келлога – Бриана. Если Лондон и Вашингтон хотели провести разоружение на море, то Франция хотела, чтобы то, что оставалось от королевского флота, было в состоянии обеспечить ее оборону.
Новоявленным вильсонианцам во втором лейбористском правительстве Макдональда это, как всегда, пришлось не по вкусу. По мнению Макдональда, Великая война явилась результатом франко-русских интриг не в меньшей степени, чем германской агрессии[1462] Совершенно необходимо было сделать так, чтобы Британия никогда больше не оказалась в том положении, в котором она оказалась в 1916 году, когда ее вовлеченность в европейские события заставила страну рисковать всем ради бесполезного конфликта с прогрессивным американским президентом. Конференция 1930 года проходила в Лондоне, но ее исход определялся американской делегацией. Если ключом к европейской безопасности была готовность британцев поддержать французскую армию, прибегнув к жесткой морской блокаде, то без согласия американцев обойтись было невозможно. Британия не стала бы обещать Франции ничего, что могло вызвать недовольство Америки.
24 марта 1930 года госсекретарь США Генри Стимсон, отчаянно пытаясь увести конференцию с «края обрыва», заявил, что если Франция согласится на разоружение, то Соединенные Штаты рассмотрят вопрос о заключении консультативного пакта, согласно которому они возьмут на себя обязательство заранее определять свою позицию в случае любой франко-британской блокады[1463]. Это было намного больше того, на что был готов в 1924 году госсекретарь Хьюз, правда, Стимсон не согласовывал своих слов с Госдепартаментом или президентом Гувером. Его предложение так и не дошло до обсуждения в Сенате. Но этой малой уступки, предполагавшей, по крайней мере, возможность поддержки со стороны Америки действий Британии в пользу Франции, оказалась достаточно для того, чтобы Франция согласилась не срывать конференцию. Неблагоприятным исходом этой борьбы стало, однако, то, что Франция была выставлена в неблагоприятном свете именно тогда, когда она отчаянно нуждалась в поддержке Британии.
После обескураживающего начала переговоров вокруг плана Юнга, движение за европейскую интеграцию, пережившее первый прилив энтузиазма после кризиса в Руре, возвратилось к самой главной теме дискуссии[1464]. В июне 1929 года в ходе встречи в Мадриде Бриан и Штреземан, помня о жесткой позиции США в вопросе военных долгов, обсудили вопрос создания европейского блока, достаточно крупного для того, чтобы составить конкуренцию американской экономике и уйти от зависимости от Уолл-стрит[1465]. 5 сентября 1929 года, выступая с трибуны Лиги Наций, Бриан взял инициативу на себя: европейские страны, входившие в Лигу Наций, должны создать более тесный союз. Беззубого мирного договора, названного его именем, было недостаточно. При наблюдавшейся тенденции спада в мировой экономике и перспективах усиления американского протекционизма Бриан предлагал в первую очередь создать систему преференциального снижения тарифов. Однако этот экономический подход вызвал столь враждебное отношение, что зимой Бриан решил пойти по другому пути.
В начале мая 1930 года, за несколько недель до завершения Лондонской морской конференции, на которой было затронуто немало щекотливых вопросов, французское правительство разослало всем 26 европейским странам – членам Лиги Наций официальное письмо, в котором Париж призывал всех европейцев к осознанию важности «географического единства» и налаживанию продуманных, «основанных на солидарности связей»[1466].
В частности, Бриан предлагал учредить европейскую конференцию, которая бы проводила регулярные заседания с ротацией председателей и имела постоянно действующий политический комитет. Главной задачей конференции предполагалось создание «федерации, построенной на идее союза, а не единства». «Именно сейчас наступило время, позволяющее и требующее начать подобную конструктивную работу, – писал в заключение Бриан. – Настал решающий час, когда Европа, проявив дальновидность, может свободно определить собственное будущее. Объединимся же во имя жизни и процветания!»
II
Говорят, что, когда 3 октября, почти месяц спустя после его выступления в Европе, Бриану сообщили о смерти Густава Штреземана, французский премьер воскликнул, что пришла пора заказывать второй гроб для него самого. Не вызывало сомнений, что уход с политической сцены Штреземана и последовавшее за ним вступление на пост рейхсканцлера в Берлине Генриха Брюнинга в качестве главы кабинета министров правого меньшинства указывали на опасные изменения в политической жизни Германии. Брюнинга и Эрцбергера нельзя было сравнивать. Эхо периода, когда тон в рейхстаге задавало большинство, становилось почти неслышным. Разочарование результатами плана Юнга усилило конфронтационные настроения внутри Германии. Это не имело бы особого значения, если бы Британия решилась поддержать предложение Бриана. Лондонская морская конференция показала, что совместных усилий Британии и Америки вполне достаточно для сдерживания Франции и Японии. Сотрудничество Британии и Франции могло стать определяющим для Европы. Британия была не только морской сверхдержавой, но и, в отличие от Франции, крупным импортером. Америка последовательно проводила протекционистский курс, поэтому доступ на рынки Британии и Британской империи становился серьезным козырем на переговорах[1467].
Однако лейбористское правительство упорно противилось сотрудничеству с Францией, и это развязывало руки Германии. Правительства 20 стран из 26, которым было адресовано обращение Бриана, с энтузиазмом откликнулись на него, в том числе все малые европейские страны, за исключением Венгрии и Ирландии, но Лондон и Берлин оставили это обращение без ответа. 8 июля 1930 года на заседании кабинета министров Брюнинга прозвучало самодовольное заявление о том, что лучшим ответом на историческую французскую инициативу будет обеспечить ее «погребение по первому разряду»[1468].
Но Лондон не понимал, что, загоняя Францию в тупик, он открывает путь к катастрофе. Вновь и вновь, начиная с 1918 года, политический класс Германии сплачивался и формировал большинство, готовое пойти на болезненные, но необходимые меры для выполнения взятых на себя обязательств. Примеры Рапалло и Рура убедительно показали, к каким катастрофическим последствиям приводит конфронтация. Но в 1930 году желание выполнять свои обязательства в очередной раз начало истощаться. Преемник Штреземана на посту министра иностранных дел, националист и сторонник Бисмарка Юлиус Курциус уже заявил о своем намерении «изменить баланс» внешней политики Германии в пользу Востока. В 1931 году крупный экспортный кредит, выданный под гарантии рейха, позволил увеличить экспорт Германии в Советский Союз в 4 раза. Германия стала важнейшим торговым партнером сталинского режима[1469]. Летом 1930 года Берлин укрепил связи с фашистской Италией, главным соперником Франции на Средиземном море. В начале июля Рейн покинули последние французские военные части, и тогда Курциус нанес свой главный удар. Он начал особо секретные переговоры с Веной относительно возможного австро-германского Zollverein (таможенного союза). Эта германская инициатива сохранялась в секрете до весны 1931 года и стала причиной первого схода лавины Великой депрессии.
То, что череда этих катастрофических событий будет вызвана чем-то вроде правительства Брюнинга, было вполне предсказуемой трагедией. Брюнинг был националистом, но в этом не было ничего необычного[1470]. Он определенно не сочувствовал фашистам. Его отношение к рейху было консервативным. Он был либералом в экономике. Своей задачей он видел своего рода возрождение золотого века Вильгельма. В случае богатой и сильной страны такое сочетание могло и не представлять опасности. Но в уязвимом положении, в котором находилась Германия, активный национальный либерализм превращался в опасный коктейль. Веймарской республике предстояло принять суровые экономические меры. В период с 1929 по 1931 год Германия прошла путь от стоящего на грани дефицита торгового баланса до значительного торгового профицита, в основном за счет снижения спроса на импортные товары внутри страны. Полномочия издавать президентские декреты, предоставленные фельдмаршалу Гинденбургу летом 1930 года, имели целью не установление диктатуры, а проведение дефляционной политики, предусмотренной международными обязательствами. Рост численности безработных, достигшей зимой 1930/31 года 4 млн был вполне предсказуем. Для компенсации падения внутреннего спроса Германии требовалось увеличить экспорт. Ничего нелогичного в стремлении наладить более тесные экономические отношения с Австрией не было. Но европейский план Бриана предлагал гораздо более широкий рынок. Германии требовалась помощь всего мирового сообщества, для того чтобы смягчить последствия дефляции.
В сложившихся обстоятельствах ведение секретных переговоров с Веной, нарушавших если не букву, то дух целых трех подписанных после окончания войны мирных договоров, было для Брюнинга, по меньшей мере, очень рискованной стратегией. Делать это лишь в угоду крайне правому крылу националистов, которое после выборов в рейхстаг в сентябре 1930 года все больше попадало под влияние Гитлера, было бы крайне безответственно. В основе стратегии Штреземана лежал тонкий расчет на то, что лучший способ расширить пространство для маневра состоит именно в том, чтобы избегать прямой конфронтации. Агрессивный подход Брюнера привел к обратному результату. Соблазнившись националистическими фантазиями, он не расширял пространство для маневра, а, скорее, сужал его, что лишь способствовало нарастанию проблем внутри страны и усилению нажима извне.
Появившееся в мировой прессе 20 марта 1931 года сообщение о планах создания австро-германского таможенного союза прозвучало подобно взрыву бомбы[1471]. Ранее в том же году Франция, желая вознаградить приверженность Германии золотому стандарту, готовилась предоставить ей возможность получения займов на Парижском рынке[1472]. Теперь, похоже, Берлин шел на обострение. Положение осложнялось тем, что правительства Британии и США не изъявляли желания обуздать Брюнинга. До тех пор пока США сохраняли за собой статус страны наибольшего благоприятствования, они не возражали против объединения находившихся в неблагоприятном положении стран Центральной Европы[1473]. Это тревожило Париж. Но благодаря политике стабилизации, проводимой Пуанкаре, позиции Парижа стали намного прочнее. К 1931 году недооцененность французской валюты и положительный платежный баланс позволили Франции сосредоточить у себя 25 % мировых запасов золота. В этом отношении Франция уступала только Соединенным Штатам и значительно превосходила Британию даже в период расцвета последней, когда та играла первую скрипку в оркестре золотого стандарта. С началом валютных спекуляций в Австрии, которые затем перекинулись на Германию, пошли слухи о том, что именно Париж намеренно устроил эту распродажу. Но в этом не было необходимости. Дефляция брала свое. Банкротство Viennese Kreditanstalt и проблемы, возникшие у банка Danat в Германии, были опасными, но вполне предсказуемыми побочными результатами жесткого дефляционного регулирования. Платежный баланс Германии был крайне нестабилен. Сам Брюнинг, казалось, был полон решимости запугать рынки. 6 июня, находясь по приглашению Макдональда в летней резиденции премьер-министра в Чекерсе, канцлер Германии воспользовался возможностью, чтобы заявить об отказе от выплаты предстоящего платежа по плану Юнга, назвав его «данью уважения».
Неудивительно, что в подобных обстоятельствах золото и иностранная валюта начали утекать из финансовой системы Германии. Германские политики ожидали этого момента с 1924 года. Удастся ли им использовать задолженность перед Америкой, чтобы уйти от выполнения обязательств по репарациям? Было очевидно, что Уолл-стрит оказалась в непростой ситуации. Американские инвесторы вложили в Германию в общей сложности 2 млрд долларов. Еще в январе 1931 года Стимсон предостерегал о серьезном риске, с которым столкнется Америка, в случае если в Германии произойдет коллапс[1474]. Однако ожидать, что президент пойдет на поводу у банкиров, означало повторить ошибку, которую Берлин допустил, когда принимал судьбоносное решение о начале подводой войны в январе 1917 года. Гувер не был другом магнатов с Уолл-стрит, тем более в число его друзей не входили избиратели, проживавшие на Среднем Западе. Лишь 19 июня, получив полные отчаяния телеграммы из Лондона, Гувер согласился действовать. На следующий день он выступил с заявлением о замораживании всех политических долгов, включая репарации и военные долги союзников. Это заявление прозвучало в воскресенье, а уже в понедельник, 22 июня, берлинская биржа была охвачена лихорадкой игры на повышение, которая продолжалась до тех пор, пока этот пузырь не лопнул внезапно, когда Франция отказалась принять это решение.
Наложенное Францией вето вызвало приступ ярости в Лондоне и Вашингтоне, а отзвуки протестов того времени звучат и в современной исторической литературе. По мнению наиболее авторитетного исследователя событий периода Великой депрессии, нежелание Франции поддержать попытку Гувера спасти ситуацию в июне 1931 года свидетельствовало о фактической слабости системы, существовавшей в период между войнами. Дело было «не в недостаточном лидерстве США, а в отсутствии готовности к сотрудничеству и, в частности, нежелании Франции участвовать в нем»[1475]. Современники были не столь осторожны в выборе выражений. В Лондоне в изобилии возникли галлофобские конспирологические теории. Премьер-министр Макдональд негодовал по поводу того, что «Франция ведет свою обычную недальновидную и эгоистическую игру вокруг предложений Гувера. Это методика, которой пользуются худшие из евреев…Германия треснет пополам, но Франция продолжит торговаться». В Вашингтоне заместитель госсекретаря Уилльям Касл назвал французов «самым безнадежным народом на свете»[1476]. Гувер мрачно намекнул на то, что в обозримом будущем он считает возможным возникновение только англо-германского союза, к которому, вероятно, присоединятся и США, и это будет союз против Франции[1477].
Настойчивые увещевания объяснялись тем, что чистые издержки Америки, связанные с объявленным Гувером мораторием, превышали издержки Британии или Франции. Отмена военных долгов компенсировала этим странам значительную часть того, что они теряли в результате отказа от репараций, поэтому их доля в общем балансе не превышала одной трети. Произведенные современниками расчеты показывали, что Германия освобождалась от выплаты ежегодных репараций на сумму 77 млн фунтов стерлингов, в то время как потери Соединенных Штатов в результате отказа от взыскания военных долгов составляли 53,6 млн фунтов стерлингов. Французы считали эту политическую арифметику односторонней. То, что Америка закрывает значительную часть счета, отражает тот факт, что Франция в части репараций делала одну уступку за другой, которые Вашингтон так и не компенсировал. К тому же репарации означали нечто большее, чем просто деньги. А свой нынешний вид они приобрели лишь благодаря плану Дауэса и плану Юнга, каждый из которых вынуждал Францию отступать. Франция вновь и вновь призывала к созданию международной системы безопасности, способной заменить достигнутые в Версале договоренности. Но эти призывы наталкивались на вето Вашингтона. Британия и Америка противопоставили этим призывам совместную работу по созданию нового порядка, базирующегося лишь на разоружении и правилах мирового финансового рынка. За время кризиса с 1924 по 1926 год Франция на собственном опыте испытала силу этих ограничений, которая, правда, зависела от того, насколько была готова к сотрудничеству каждая из стран, входящих в эту систему. Вопрос о том, готова ли Германия к такому сотрудничеству, оставался открытым. Франция, со своей стороны, приняла эти правила. Она заплатила сполна, обеспечив стабилизацию франка в 1926 году и приняв план Юнга и сделку Меллона – Беранже по военным долгам в 1929 году. Теперь, когда разразился кризис, который сами же немцы на себя и навлекли, Америка в одностороннем порядке объявляет ситуацию экстренной и меняет правила своей собственной игры. В Париже были настолько шокированы, что не могли поверить в происходящее. Гувер действовал без предварительных консультаций. Он, как громко заявила одна из газет, обращался с Францией как с Никарагуа[1478]. Но теперь, в отличие от 1923–1924 годов, Франция могла позволить себе торговаться, переводя риски на Германию и ее кредиторов. Лишь 6 июля Франция согласилась с тем, что рейх будет отдан под защиту моратория Гувера (табл. 14).
Таблица 14. Мораторий Гувера и «политические долги», июнь 1931 г., тыс. фунтов стерлингов
Тем временем в финансовой системе Германии наступил коллапс. Банки закрылись. Был объявлен мораторий на краткосрочные торговые займы, полученные в Британии, Голландии и Швейцарии. Рейхсбанк продолжал поддерживать курс национальной валюты в золотом выражении, но все указывало на то, что Германия отказывается от золотого стандарта. Рейх национализировал все золото и иностранную валюту, находившиеся в частном владении, и ввел контроль обменных операций. Брюнинг мог успокаивать себя тем, что добился приостановки репарационных выплат, но во всем остальном эта первая попытка защитить национальные интересы и уйти от ограничений, накладываемых мировым порядком, окончилась катастрофой. Чтобы обеспечить себе финансовую защиту со стороны Гувера, Брюнингу даже пришлось открыто заявить о том, что Германия отказывается от новых военных расходов на весь срок действия моратория[1479]. Политика, проводимая Брюнингом, показала, что для страны, находящейся в столь уязвимом положении, как Германия, защита национальных интересов несовместима с ее участием в мировой экономике. Из этого следуют два вывода. Консерваторы были вынуждены подчиниться. В декабре 1931 года Брюнинг воспользовался предоставленными ему полномочиями и издал декрет о принудительном сокращении заработных плат и снижении цен. Но такая стратегия была не просто мучительна. Она поднимала вопрос о том, сколь долго будет еще сохраняться мировой экономический или политический порядок, которому необходимо подчиняться. Более радикально настроенные националисты пришли к выводу о том, что если национализм и экономический либерализм несовместимы, то это требует действительно полной переоценки национальных интересов – не только экономических, но и стратегических и политических[1480].
III
В Японии также разгоралась борьба вокруг стратегии подчинения. Обязательства, взятые премьер-министром Ямагути на Лондонской конференции по вопросам сокращения вооружений на море, вызывали возмущение военно-морского лобби. Теперь, в Женеве, Лига Наций вела подготовку ко второму раунду переговоров по вопросам сокращения армий. Не станет ли дефляция 1930 года, подобно англо-американскому режиму сокращения расходов в 1920–1921 годах, причиной того, что еще одно десятилетие окажется потерянным для империалистических амбиций? Политики, казалось, совершенно не обращали внимания на опасное положение, в котором находилась Япония, и радикальные националисты решили, что настало время действовать. В октябре 1930 года Ямагути был смертельно ранен подосланным убийцей. В течение последующих месяцев были убиты другие видные деятели, стоявшие на позициях государственного интернационализма, в их числе министр финансов либерал Иноуэ Дзюнноскэ и глава корпорации Mitsui Дэн Такумо.
Но одних только убийств оказалось недостаточно. Ключом к решению всех проблем был Китай. В 1928 году радикалы убили видного военного деятеля Севера Китая Чжан Цзолиня, однако это не вызвало кризиса, на который они рассчитывали. В 1931 году они решили действовать иначе. Было инсценировано нападение Китая на Японию. 18 сентября на японской железной дороге, проходившей в непосредственной близости к одной из военных баз, которой командовал «молодой маршал», взорвалась бомба, заложенная японским солдатом-изменником. В течение суток японская армия нанесла ответный удар. Отряд в составе примерно 500 националистов-радикалов захватил региональную столицу Маньчжурии город Мукден. Вслед за этим отрядом подтянулись остальные силы Квантунской армии, и в течение нескольких недель три китайские провинции оказались под контролем японцев. Правое крыло действовало в открытую. Если их план удастся, то стратегическая дилемма, стоящая перед Японией, будет решена силой, а территория к северу от Великой стены окажется отделенной от основной территории Китая. Кроме того, если основные политические партии Японии откажутся с ними сотрудничать, а новый демократизированный электорат не согласится с новой линией, то придется проводить основательную «реконструкцию» и внутри страны.
Однако, несмотря на волнения в Маньчжурии, добиться желаемого развития событий не удалось[1481]. Китайские националисты не ответили на вызов, а японские дипломаты приложили все усилия, чтобы свести потери к минимуму. Японское правительство пользовалось достаточно хорошей репутацией. В отличие от Брюнинга с его предложением о создании таможенного союза с Австрией, провокация в Мукдене явно была делом рук подставных солдат. В любом случае, с точки зрения западных держав, было предпочтительнее, чтобы Маньчжурию контролировала Япония, а не Сталин. Москва, со своей стороны, всячески демонстрировала стремление избежать столкновения. Даже в условиях обострения экономического кризиса в 1931 году немногочисленная группа правых экстремистов пока была не в состоянии расшатать мировую систему. Германию можно было отправить на карантин. Понадобится еще один сокрушительный шок в самом сердце мировой финансовой системы, чтобы расчистить путь для надвигавшейся катастрофы. Именно такой кризис и назревал, по мере того как дефляция прокладывала себе путь по всему миру.
В выходные дни 19 и 20 сентября 1931 года, когда разворачивались события в Мукдене, мир следил не столько за тем, что происходит в Северо-Восточной Азии, сколько за новостями из Лондона. После катастрофы в Германии тучи начали сгущаться над Банком Англии[1482]. Начиная с 1929 года при всех бедах, выпадавших на долю британской промышленности, лейбористское правительство Рамсея Макдональда последовательно заявляло о необходимости сохранения золотого стандарта. По мере ослабления фунта стерлингов требования Банка Англии и Сити становились все более беспощадными. В августе Банк Англии и Сити рекомендовали сократить бюджет, составлявший 885 млн фунтов стерлингов, на 97 млн фунтов стерлингов, из которых 81 млн фунтов стерлингов приходился на долю ассигнований, предназначенных для борьбы с безработицей и для выплаты социальных пособий. Размер пособия, за счет которого существовали миллионы безработных и их семьи, предлагалось сократить на 30 %. Нью-Йорк и Париж выражали беспокойство, но Банк Англии хотел взять реванш у лейбористского правительства и даже втайне призывал потенциальных американских и французских кредиторов ужесточить условия предоставления кредитов. В вопросе о поддержании золотого стандарта существовало принципиальное единодушие, но сам Макдональд признавался своим коллегам в том, что требуемое от них представляет собой «отрицание всего, за что выступала лейбористская партия».
Когда кабинету министров не удалось прийти к единому мнению, Макдональд подал в отставку и сформировал межпартийное Национальное правительство, которое в отсутствие в своем составе опасных социалистов объявило о значительном повышении налогов и сокращении расходов. Но этого было недостаточно. В пятницу, 18 сентября, несмотря на помощь нью- йоркского отделения Федерального резерва и Банка Франции, Лондон сдался. Банк Англии находился далеко не в том положении, в котором летом находился Берлин. Но у него и не было желания оказаться в таком положении. Даже если бы Нью-Йорк и Париж оказали помощь в виде экстренных займов, к середине понедельника 21 сентября Банку Англии все равно пришлось бы принять действительно решительные меры. Но Макдональд решил взять это унижение на себя и признал, что фунт стерлингов покидает зону золотого стандарта.
В отличие от мукденского инцидента, это было действительно событием мирового значения, которое привело к краху банков в Америке и панике в Берлине. На день это событие даже вытеснило скандал в Маньчжурии с первых страниц токийских газет. Золотой стандарт определял дисциплину и координацию действий, которые были поставлены Вашингтоном и Лондоном во главу угла послевоенной стабилизации. С падением фунта стерлингов рушилась Британия, а за ней – вся империя и все ее более мелкие торговые партнеры. Первой реакцией на приостановку действия золотого стандарта был шок. Но события следующего года позволили стабилизировать фунт стерлингов на новом, гораздо более конкурентном уровне, и Национальное правительство Британии, во главе которого по-прежнему стоял Макдональд, обнаружило, что для страны, достигшей определенного уровня кредитоспособности на мировом рынке, плавающий курс обмена валюты означал не катастрофу, а возможность творческого обновления экономического либерализма[1483]. При сохранившейся банковской системе низкие процентные ставки стали эффективным стимулом для восстановления Британии. В сравнении с США или континентальной Европой происходившее в Британии в 1930-х годах выглядело далеко не столь удручающе.
Однако открытие Британией того, что Кейнс позже назовет «подлинным либерализмом», имело более широкие последствия. Падение фунта стерлингов сильно отразилось на торговых партнерах Британии. И этот эффект лишь усилился с принятием в феврале 1932 года протекционистских мер. Это был не первый случай протекционизма. И не самый плохой. В июне 1930 года через Конгресс был проведен печально известный закон Смута-Хоули о тарифе. Правда, протекционизм американцев ни у кого удивления не вызвал. Девальвация и введение тарифов в Британии указывали на сбой внутри самого режима. Со времени отмены в 1840-х годах хлебных законов Британия была столпом, на котором строилась свободная торговля. Теперь на Британию ложилась ответственность за раскручивание гибельной спирали протекционизма и развязывание войны курсов валют под девизом «разори ближнего твоего», которые разрывали мировую экономику на части. По признанию крупного британского чиновника, «ни одна страна не наносила более сокрушительного удара по мировой торговле», чем Британия, когда пустила в ход комбинацию из девальвации и протекционизма[1484].
На гребне волны политических убийств и необузданной агрессии Квантунской армии произошло внезапное обрушение основ мировой экономики, которое свело на нет стремление японских либералов придерживаться общей линии. В конце 1931 года представитель министерства иностранных дел, связанный с событиями в Маньчжурии и симпатизирующий фашистам, Мацуока Ёсуке потребовал ответа у японского парламента: «Приятно поговорить о внешнеэкономической политике.
Но у нас должен быть не только лозунг. Где результаты? Пусть нам покажут преимущества этого подхода»[1485]. Если даже Британия начала отгораживаться, то Японии тем более необходимо срочно создать собственный торговый блок. Если в Британии Рамсея Макдональда отказ от золотого стандарта привел к появлению низкопроцентных ипотечных кредитов на строительство жилья в пригородах, то ставки Японии в этой игре были выше. Решение о возврате к золотому стандарту, принятое в 1930 году, было напрямую связано с разоружением. Сразу после того как в декабре 1931 года Япония отказалась от золотого стандарта, министр финансов Корекио Такахаши оказался под серьезным нажимом со стороны военных. Обеспокоенные восстанием в Китае и опасной индустриализацией в Советском Союзе, военные были вдохновлены невиданным с 1905 года общим патриотическим подъемом в связи с событиями в Мукдене и полны решимости разорвать ограничения, установленные в 1920-х годах. В период с 1930 по 1934 год военный бюджет страны был увеличен вдвое. В 1935 году Такахаши отказался пойти на дальнейшее увеличение военного бюджета и был зарублен фанатиками из числа правых. К 1937 году военные расходы Японии вышли за пределы, согласованные на Лондонской морской конференции, и выросли по сравнению с 1930 годом в 5 раз[1486].
В условиях резко обострившейся стратегической обстановки в Восточной Азии финансовый кризис 1931 года оказал самое прямое воздействие на последовавшую за ним военную эскалацию. В Европе и на противоположном берегу Атлантики крушение происходило постепенно. После 1931 года золотой стандарт сохранялся во Франции и Италии. Правда, это привело не к «активизации» политики, как в Японии, а к тому, что тиски дефляции все теснее сковывали свободу действий этих стран. То обстоятельство, что Муссолини совместил это с экспансионистскими амбициями в своей внешней политике, свидетельствовало о разрушительной иррациональности его режима. Во многом из-за этого вооруженные силы Италии так и не сумели осуществить мечты дуче о завоеваниях. В свою очередь, Франция, обладавшая огромными золотыми запасами, несмотря на дефляцию, не видела особого смысла в отказе от золотого стандарта. В полной мере отрицательные последствия дефляции дали о себе знать лишь в 1932 году.
По-настоящему невыносимой становилась ситуация в Германии, которая не могла пойти на девальвацию, поскольку была связана колоссальными деноминированными в долларах иностранными долгами, масса которых неизбежно увеличилась бы в случае обесценивания рейхсмарки. Рейхсбанк, в отличие от Банка Англии, не располагал запасами, которые можно было бы использовать при отражении спекулятивных атак, неизбежных в случае отказа от золотого стандарта. Кроме того, Вашингтон ясно давал понять, что предпочитает, чтобы Германия выдержала паузу, воспользовавшись введенными летом контролем над обменом валюты и мораторием на выплаты. В этом случае Германия могла, по крайней мере, обслуживать свои долги на Уолл-стрит. Тем временем ситуация, когда Германия в своей торговле придерживалась золотого паритета, а Британия девальвировала свою валюту, неизбежно вела к катастрофе. До сентября 1931 года кабинет министров Брюнинга мог, по крайней мере, говорить о том, что проводимая им жесткая дефляционная политика позволяет повысить экспортную конкурентоспособность страны. Теперь, когда Германия с трудом держалась за обломки рассыпающегося золотого стандарта, германский экспорт получал один удар за другим. К концу 1931 года численность безработных увеличилась с 4 до 6 млн и волна банкротств накрыла промышленность Германии. Былого консенсуса по вопросу о дефляции уже не было. Если уже не существовало международной системы, перед которой требовалось выполнять свои обязательства, то в чем же тогда заключался смысл очередной серии правительственных декретов о снижении заработной платы и цен? По всей Германии всевозможные группы экспертов, представители интересов различных деловых групп и политические деятели призывали разработать согласованную политику экономического спасения страны.
Одна дискуссия развернулась вокруг профсоюзного движения, в другой дискуссии приняли участие многие авторитетные лица, поднявшие кампанию против плана Юнга, а также члены гитлеровской Национал-социалистической партии. Летом 1932 года нацисты провели широкую предвыборную кампанию с использованием красочных плакатов, разъяснявших предлагаемую ими программу создания рабочих мест, и одержали убедительную победу на выборах. Гитлеровская партия получила 37 % голосов, что было лишь немногим меньше того, что набрала Социалистическая партия в ходе выборов 1919 года. Правому крылу не удалось обеспечить себе большинства. ГННП испытывала финансовые трудности. На вторых общих выборах, состоявшихся в ноябре 1932 года, число голосовавших за нацистов начало уменьшаться. Но именно этот прорыв во время полной отчаяния зимы 1931/32 года позволил Гитлеру выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера. В январе 1933 года, когда попытки объединить страну, предпринятые сначала консерватором Францем фон Папеном, а затем военным диктатором генералом фон Шляйхером, провалились, пришло время Гитлера возглавить национальную коалицию[1487].
Военный класс и группы экономических интересов, такие как аграрии, немногое теряли, отказываясь от интернационализма. В то же время другие влиятельные группы, особенно крупный бизнес, расставались с появившимися у них в 1920-х годах ожиданиями не столь поспешно. В таких странах, как Япония и Германия, многосторонние торговые связи при поддержке со стороны Британии составляли основу экономического развития. Мог ли кто-нибудь предположить, что этот основополагающий элемент мирового порядка может исчезнуть? Мукденскй инцидент в Восточной Азии предоставлял собой очевидную опасность. Но ни одна из сторон не решилась превратить его в casus belli. В феврале 1932 года в Женеве начался второй раунд переговоров по разоружению[1488]. В июне того же года в Европе на Лозаннской конференции был наконец окончательно решен вопрос репараций. Франция придерживалась ортодоксальной монетаристской позиции. Отказ от золотого стандарта Британии и Японии был серьезным, но, возможно, не бесповоротным шагом. Летом 1932 года появились некоторые признаки выхода экономики из рецессии. На лето 1933 года было намечено проведение в Лондоне большой конференции, в повестке дня которой стояли вопросы реконструкции мировой экономики и в связи с этим рассмотрение одного вопроса, имевшего решающее значение: какова позиция Соединенных Штатов?
IV
Казалось, что убедительная победа Герберта Гувера на выборах 1928 года окончательно утвердила сложившийся после войны порядок. Гувер был великим инженером прогрессивизма, и его реакция на самые первые потрясения 1929 года была характерной[1489]. В октябре он вместе с Макдональдом выступил за разоружение. Во внутренней политике он использовал все свои связи в деловых кругах и торговых ассоциациях, пытаясь противопоставить кризису частные инвестиции. Но в условиях резкого снижения доверия и сокращения расходов внутри страны этих мер было недостаточно. Гувер как мастер создания катастрофических ситуаций за рубежом, провозвестник американского благоденствия, символ прогрессивной эффективности и самоудовлетворенности, чувствовал себя униженным из-за разразившейся в стране катастрофы и опустошающего возврата к нестабильности, от которой американская экономика так сильно пострадала в конце XIX века[1490]. И дело было не в том, что президент не понимал обоснованности правительственных расходов, направленных на преодоление цикличности. Проблема состояла в том, что бюджет федерального правительства, составлявший 3 % ВВП, был слишком мал, для того чтобы обеспечить стабилизирующее воздействие. Гувер также не смог воспрепятствовать принятию Конгрессом скандального закона Смута – Хоули о тарифе. В то же время, несмотря на призывы Белого дома, ФРС пожертвовала стабильностью банковской системы в интересах проведения серьезной дефляции. В сентябре 1931 года, после того как Британия отказалась от золотого стандарта, в Америке лопнуло 522 банка, общая сумма депозитов в которых составляла примерно 705 млн долларов. Но худшее было впереди.
В начале февраля 1933 года, когда Америка находилась в ожидании нового президента, в штате Луизиана началось массовое закрытие банковских вкладов. 3 марта эта эпидемия достигла самой сердцевины мирового финансового порядка – Нью-Йорка. В отчаянии власти штата Нью-Йорк обратились в Вашингтон с просьбой принять меры на федеральном уровне. Но именно в этот день истекал срок президентских полномочий Гувера, а его преемник Франклин Рузвельт отказался заниматься этим вопросом. Не получив указаний от федерального правительства к утру 4 марта 1933 года, губернатор Нью-Йорка принял решение закрыть центр мировой финансовой системы. Столкнувшись с сильнейшим мировым экономическим кризисом во всей современной истории, американское государство решило самоустраниться.
Первое, с чего начала новая администрация Франклина Делано Рузвельта, была попытка исправить это впечатление. Демократия должна показывать, что она управляет[1491]. «Новый курс» представлял принципиально новую концепцию роли федерального правительства. После революции и Гражданской войны 1860-х годов Соединенным Штатам предстояло пережить третий момент своего становления[1492]. Сам Гувер уже предпринимал решительные шаги по расширению поддержки экономики федеральным правительством. Была создана Реконструктивная финансовая корпорация, уполномоченная к лету 1932 года занять средств на сумму до 3 млрд долларов. Предстояли и другие важные шаги. Однако этот поворот к «конструктивной» политике в Соединенных Штатах был связан, как и повсюду, с отказом от выполнения международных обязательств. Не последствия Первой мировой войны, а реакция на разочарование 1920-х годов и Великая депрессия привели к тому, что теперь во главе угла американской политики оказался полномасштабный изоляционизм[1493]. Националистический поворот в американской политике на первом этапе деятельности администрации Франклина Делано Рузвельта завершил процесс дезинтеграции, начало которому было положено шоком, распространившимся из Британии в 1931 году.
Начиная с 1870-х годов золотой стандарт считался флагманом респектабельной политической жизни Америки. В ходе борьбы за золото в 1890-е годы сформировалось новое поколение прогрессивистов, наследниками которых стали Вильсон и Гувер. Но к весне 1933 года золотые запасы Америки были в такой степени истощены, а банковская система пережила столь сильные потрясения, что 19 апреля Рузвельт объявил об отказе Америки от золотого стандарта. Это решение заложило основу финансовой стабильности, необходимой для восстановления Соединенных Штатов[1494]. Однако неожиданное обесценивание доллара в сочетании с заоблачными тарифами чрезвычайно затрудняли экспорт в США[1495]. Вдобавок после того, как было восстановлено доверие инвесторов, фонды возвратились в Нью-Йорк, поглотив ликвидные активы, имевшиеся в других частях света.
По мере приближения лета нарастающая обособленность Америки поставила под вопрос международную экономическую конференцию, которую Британия и Франция намеревались провести в Лондоне, причем произошло это именно тогда, когда все более очевидным становилось опасное развитие ситуации в Германии. Гитлеровская коалиция публично заявляла о своем стремлении к миру и восстановлению своей страны. Она не решалась пойти на немедленный открытый разрыв с мировым порядком. Но ни для кого не было секретом, что гитлеровское правительство уделяет перевооружению не меньшее внимание, чем дорожному строительству. Тем временем Ялмар Шахт, чьи знания и авторитет были востребованы в ходе кампании, направленной против плана Юнга, при Гитлере вновь занял пост президента Рейхсбанка. Он незамедлительно отправился в Вашингтон, надеясь договориться о том, чтобы приостановить обслуживание долгов Германии. 9 июня 1933 года, получив отказ за три дня до начала конференции в Лондоне, где должны были собраться представители 66 стран, Шахт объявил о том, что Германия в одностороннем порядке вводит мораторий на выплаты. На конференции глава германской делегации Альфред Гугенберг пошел еще дальше, решительно потребовав возврата Германии ее колониальных активов и в открытую предложив создать антикоммунистический пакт, направленный против Сталина. Но летом 1933 года новое, приводящее в ужас правительство Германии оказалось на втором плане. На международной экономической конференции главным был вопрос о том, смогут ли Америка, Франция и Британия договориться о дальнейших действиях в условиях резких скачков курса доллара и фунта стерлингов по отношению к франку, ставшему теперь ведущей валютой, привязанной к золоту. Длившиеся весь июнь переговоры могли привести к согласию. Но 3 июля Рузвельт подписал свою «телеграмму-бомбу», в которой заявлял об отказе от любых попыток стабилизации американской валюты, как не отвечающих интересам восстановления экономики. Американской экономике был необходим плавающий курс доллара, а каким образом это отразится на остальном мире, не имело никакого значения. В Берлине намек поняли. В октябре Гитлер отозвал германскую делегацию с переговоров по вопросам разоружения в Лиге Наций и объявил практически полный дефолт по всем действовавшим международным обязательствам Германии.
Германия и Япония одновременно решились на полный разрыв с послевоенным порядком (в стратегии, политике и экономике) – и кто мог им противостоять? Наводящей всеобщий страх коалиции, доминировавшей в мире в 1919 году и, казалось, способной соблюдать нейтралитет еще в 1930-м, уже не существовало. В 1931 году Франция и Британия неохотно приняли мораторий Гувера. Летом 1932 года на Лозаннской конференции они окончательно освободили Германию от дальнейших выплат репараций. Делая этот шаг, они исходили из того, что будут также сняты все требования по союзническим долгам.
Но Конгресс так и не утвердил мораторий, объявленный Гувером. Когда Гувер дал понять, что желает, чтобы этот мораторий действовал постоянно, то немедленно получил отказ. В декабре 1931 года американские законодатели решили напомнить миру, что «любая отмена или сокращение любой задолженности иностранных государств перед Соединенными Штатами противоречит политике, проводимой Конгрессом». Было совершенно очевидно, что мораторий Гувера строился не на желании защитить Лондон и Париж, а на стремлении спасти инвестиции Уолл-стрит в Германии и что введение такого моратория означало одностороннюю дискриминацию кредиторов, связанных с репарациями. Британские дипломаты были ошеломлены. По словам посла Британии в Вашингтоне, сэра Рональда Линдсея, это был случай «проявления безответственности, шутовства и глупости, аналогов которым вряд ли можно найти даже в гаитянском законодательстве»[1496].
Поколением раньше безответственность парламентов, похожих на парламент Гаити, привела к вторжению американских морских пехотинцев на все Карибские острова. Теперь, столкнувшись с казавшимися безответственными действиями вашингтонских законодателей, Лондон и Париж сделали немыслимое. К концу 1933 года правительства Британии и Франции, некогда бывшие столпами мировой финансовой системы и активными членами демократического союза с Соединенными Штатами, приостановили выплаты по миллиардным займам, полученным у американского народа. Лишь маленькая Финляндия продолжала платежи по всем своим долгам. 30 мая 1934 года в своих дневниках Рамсей Макдональд, самый проамерикански настроенный из всех британских премьер-министров, записал в своем дневнике: «Платежи, ведущие к нарушению финансового порядка (каким бы он ни был), являются предательством по отношению ко всему миру. Мы вынуждены взять на себя выполнение неблагодарной задачи и положить конец безрассудству, заставляющему нас платить»[1497].
Заключение Ставки растут
Во время Первой мировой войны была сделана первая попытка построения коалиции либеральных сил, способной взять на себя руководство всем огромным и малоуправляемым современным миром. Эта коалиция строилась на военной мощи, политических обязательствах и деньгах. Постепенно эта коалиция распалась на многие части. Цена крушения этого великого демократического альянса не поддается точному определению. Поражение демократических сил привело к тому, что в начале 1930-х годов распахнулось окно стратегических возможностей. Мы знаем, каким кошмарным силам удалось воспользовались этим окном. Весной 1933 года начались еврейские погромы в Берлине. Однопартийному правлению в Японии пришел конец весной 1932 года после массированного нападения вооруженных людей на штаб консервативной партии Сейюкай. Муссолини после нескольких лет картинного позирования наконец удовлетворил свою жажду первой крови, начав наступление в Абиссинии в 1935 году. Но в связке агрессивно настроенных государств-инсургентов, «скованных одной цепью»[1498], Германия, Япония и Италия были лишь на вторых и третьих ролях.
Первые роли начиная с 1917 года принадлежали преемникам Ленина. Стабилизация ситуации в Европе и Азии в начале 1920-х годов строилась на их поражении. В 1926–1927 годах, поддержав Великую северную экспедицию, Советы нанесли первый по-настоящему ощутимый удар по послевоенному порядку и продемонстрировали очевидную неспособность Японии и западных держав найти общий язык с китайскими националистами. Чан Кайши истребил китайских коммунистов, а Советский Союз начал следующий этап преобразований, на этот раз уже на своей территории. Сокрушив Троцкого и внутреннюю оппозицию, Сталин развернул беспрецедентную программу внутреннего переустройства страны. Гигантские преобразования, когда в ходе коллективизации и индустриализации с нажитых мест были сорваны десятки миллионов человек, приоткрыли нечто особо значимое в мировом порядке, возникшем в первые десять лет после Первой мировой войны. И это «нечто» представлялось совершенно ужасным для тех, кто пытался бросить вызов этому порядку.
Слишком часто и слишком легко мы используем выражение «история межвоенного периода», как будто существует неразрывная преемственность между временем, которое мы здесь рассматриваем (с 1916 по 1931 год), и последующим историческим отрезком, начавшимся в 1930-х годах. Разумеется, преемственность существовала. Но наиболее важной представляется диалектика реакции и подавления. Не только Сталин, но и инсургенты в Японии, Германии, Италии 1930-х годов черпали энергию радикализма в чувствах, вызванных неудавшейся первой попыткой. Западные державы могли вступать в мелкие споры и уходить от прямых ответов на прямые вопросы. Но, зная, во что обойдется полномасштабная война – как политически, так и экономически, – они всеми способами избегали ее. И не потому, что боялись потерпеть поражение. Британии, Франции или Соединенным Штатам было нечего опасаться в прямом столкновении. В 1930 году, когда на Лондонской морской конференции шел торг вокруг числа боевых кораблей, крейсеров, эсминцев и подводных лодок, России и Германии было не с чем принять участие в этом торге. А Япония и Италия выступали лишь на вторых и третьих ролях. В феврале 1931 года, в самом разгаре хода выполнения первого, с таким трудом дававшегося пятилетнего плана, Сталин наставлял директоров заводов: «Задержать темпы – это значит отстать. А отсталых бьют. Но мы не хотим оказаться битыми…Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут»[1499].
То, о чем говорил Сталин, не просто отвечало здравому смыслу эпохи глобальной конкуренции. После Первой мировой войны такие взгляды были характерны для тех, кому довелось ощутить на себе, к чему приводит отставание в условиях глобальной силовой игры, пережить разочарование революционного порыва и стать очевидцем подавляющего превосходства западного капитализма, мобилизовавшего свои силы против имперской Германии – главной возмутительницы спокойствия в XIX веке. Люди, которых Ленин считал первопроходцами организованной современности – Ратенау, Людендорф и иже с ними, – мужественно сражались, но потерпели поражение. Требовалось нечто еще более радикальное. На протяжении жизни следующего поколения сталинский рефрен повторяли стратеги и политики в Японии, Италии и Германии, а с началом распада колониальной системы он зазвучал в Индии, Китае и десятках других бывших колоний.
И опять история 1930-х годов оказывается, в определенном смысле, хорошо нам знакомой, для того чтобы позволить оценить весь драматизм событий тех лет. Мы говорим о гонке вооружений так, как будто действия Японии, Германии и Советского Союза были повторением событий, связанных с гонкой в строительстве дредноутов в предыдущий период. На самом же деле кампании по перевооружению 1930-х годов в Японии и нацистской Германии, равно как и мобилизация в сталинском Советском Союзе, невозможно сравнить ни с чем из того, что происходило на протяжении всей трехсотлетней истории современного милитаризма. В 1938 году доля расходов на гонку вооружений в национальном доходе нацистской Германии в 5 раз превышала долю национального дохода имперской Германии, которая направлялась на гонку вооружений с эдвардианской Британией, притом что ВВП, находившийся в распоряжении Гитлера, был на 60 % больше того, которым располагал кайзер. В постоянных ценах, ресурсы, щедро расходуемые на содержание вермахта в конце 1930-х годов, по меньшей мере в 7 раз превосходили все то, что было получено военными Германии в 1913 году. Это была дань уважения силе статус-кво, коллективно выплаченная всеми государствами-инсургентами 1930-х годов. Они понимали, какие силы им противостоят. Они знали, что в период Первой мировой войны попытки Японии и Германии выйти за пределы своих возможностей обычными способами потерпели провал (табл. 15). Здесь требовалось совершенно беспрецедентное решение.
Таблица 15. Дорожающая конфронтация: военные расходы накануне Первой мировой войны в сравнении с расходами в 1930-х гг.
Были, конечно, и те, кто связывал свои надежды с новыми технологиями, в первую очередь самолетами, полагая, что с их помощью удастся преодолеть безжалостную логику материального обеспечения. Япония, Германия и Италия ценой собственного опыта убедились в том, что война в воздухе – это преимущественно война на истощение, в которой определяющую роль играют экономика и технология. До 1945 года существовали две мировые морские державы: Британия и Соединенные Штаты. Своим знаменитым заявлением в мае 1940 года о том, что США располагают 60 тысячами самолетов, Рузвельт давал понять, что в век авиации США претендуют на исключительное преимущество. Первыми эту ужасную силу ощутят на себе города Германии и Японии, а за ними последуют Корея, Вьетнам, Камбоджа и многие другие.
Однако будущим государствам-инсургентам предстояло оспаривать не только экономическую и военную мощь. Их вызов носил и политический характер. Урок первых десятилетий XX века состоял не только в том, что, как об этом часто говорят, демократии были слабы. Конечно, у них имелись свои слабые стороны, но они были намного более жизнеспособными, чем монархические и аристократические режимы, на смену которым они пришли. Стратегически важнее было то, что с приходом массовой демократии использование некоторых видов силовой политики становилось все более проблематичным. В ходе Первой мировой войны сами по себе исчезали созданные еще в конце XIX века такие удобные транзитные пункты, расположенные на четверти и на полпути к демократии, как конституция Бисмарка или ограниченное право голоса в Британии, Италии и Японии. Но прежде чем исчезнуть, рейхстаг и японская «диета» оставались действенным фактором сдерживания устремлений германских и японских милитаристов. Всеобщее или частичное избирательное право для мужчин, а в недавно возникших государствах национальный республиканизм стали нормой повсеместно – от Японии до Соединенных Штатов. Нередко эти образования были еще довольно слабыми и недостаточно сформировавшимися. Но требования масс, которые отражались в этих новых образованиях, были уже вполне сложившимися, поэтому в условиях, более или менее приближенным к либеральным, любая крупномасштабная империалистическая экспансия представлялась маловероятной.
Националистически настроенным инсургентам все чаще казалось, что они стоят перед выбором между бездеятельным демократическим конформизмом и национальным самоутверждением, движимым некоей новой форой авторитаризма внутри страны. Казалось, компромисса быть не могло. Это была совершенно нетрадиционная формула. До определенного момента историческим примером для инсургентов был Бонапарт, а его вряд ли можно считать традиционалистом. Авторитарные движения межвоенного периода и режимы, ими создаваемые, стали новым ответом на драматические изменения во внешней и внутренней политике. Но такой ответ формулировался постепенно. На протяжении 1920-х годов диктатуры, подобные диктатуре Муссолини, все еще оставались редкостью и существовали на периферии. Диктатуры 1920-х годов в Польше и Испании воспринимались как нечто временное. Лишь в 1930-х годах сталинизм, нацизм и японский империализм в своем стремлении бросить вызов статус-кво обретут определенное постоянство. Новый империализм не имел аналогов, а его необузданная агрессия была направлена как против собственного народа, так и против народов других стран. Лицемерие – это единственное преступление, в котором нельзя обвинить нацизм.
Но что позволило государствам-инсургентам решиться на бунт, с самого начала обреченный на провал? Как мы видели в первой части настоящей книги, в Первой мировой войне победила коалиция, которая внешне демонстрировала новый уровень международного сотрудничества. Соединенные Штаты и Антанта вели совместные военные действия. Они объединили свои экономические ресурсы и пытались определить некие общие ценности. После окончания войны Франция, Британия, Япония и какое-то время Италия стремились закрепить эти отношения. Решающим фактором во всех этих расчетах были Соединенные Штаты. В результате переговоров в Версале появилась Лига Наций, до 1930-х годов игравшая роль нового форума мировой политики. Неслучайно, что в 1920-х годах все основные европейские инициативы были так или иначе связаны с Женевой. Но без своего великого политического вдохновителя – президента США – Лига превращалась в символ, определявший основную черту новой эры – незримое присутствие американской мощи. Америка была, по выражению одного британского интернационалиста, «привидением на всех наших застольях»[1500].
Разумеется, Вудро Вильсон рассчитывал, что Америка будет использовать свое влияние, действуя через Лигу Наций. Но, как он дал ясно понять в январе 1917 года в речи, посвященной «миру без победы», у него не было ни малейшего желания, чтобы Соединенные Штаты возглавили что-нибудь наподобие международной коалиции. Еще в Версале он дистанцировался от военных союзников. Реальная конструкция, появившаяся в начале 1920-х годов, стала ироническим воплощением устремлений Вильсона. Как отмечал в 1924 году Остин Чемберлен, отход Америки от участия в Лиге Наций в сочетании с зависимостью Британии и Франции от США фактически превращал Америку в «супергосударство», обладающее правом вето на решения, совместно принятые остальными странами мира[1501]. Это было самое меньшее, к чему стремились Вильсон и его преемники-республиканцы.
Все изложенное в настоящей книге – от «мира без победы» до моратория Гувера в 1931 году – непосредственно связано с этим основным импульсом, общим для сменявших друг друга президентских администраций: использовать привилегированную удаленность Америки и зависимость от нее остальных мировых держав для того, чтобы определять основные параметры преобразований во всем мире. Надо было дать возможность полностью состояться «революции» в Европе и Азии, которая еще была далека до завершения. Во многих отношениях это был либеральный и прогрессивный проект, осуществляемый на условиях, которые определяли сами Соединенные Штаты. Ключевыми словами этого проекта были мирные отношения между великими державами, разоружение, торговля, прогресс, технология и связь. Но в своей основе, в понимании самой Америки, в концепции того, чего от нее следовало ожидать, этот был глубоко консервативный проект.
Вильсон и Гувер хотели, чтобы революционные преобразования затронули весь остальной мир, а еще лучше, чтобы эти преобразования стали поддержкой того, что им представлялось идеалом судьбы самой Америки. Тем не менее их консерватизм не был направлен вперед – к маккартизму и холодной войне. Напротив, он был направлен назад – в XIX век. За 50 лет, предшествовавших 1914 году, ни одной стране не довелось пережить более жестоких конфликтов, вызванных «неравномерным и многосторонним развитием», чем те, через которые прошла Америка. Наступивший после кровопролитной гражданской войны позолоченный век сулил новое единство и новую стабильность. Два поколения американских прогрессистов видели свою главную задачу в том, чтобы не допустить распространения разрушительных идеологий и социальных сил XX столетия, чтобы не нарушить обретенное Америкой равновесие. О хрупкости этой концепции свидетельствовали унижения, которым Вильсон подвергался в Конгрессе, панический страх перед «красной угрозой» и внезапная дефляционная рецессия 1920–1921 годов. Возврат к «нормальности», казалось, позволил восстановить консервативный порядок, но лишь до тех пор, пока в 1929 году он не оказался под ударом самого разрушительного за всю историю экономического кризиса. К 1933 году идея того, что Америке удастся избежать вихря исторических событий XX века, изжила себя сама. Миллиарды долларов были потеряны в Европе. В Азии попытки Америки добиться стабилизации ситуации в мире, держась от него на расстоянии, закончились провалом. Интернационализм в стиле договора Келлога – Бриана, не подкрепленный санкциями, грозил дискредитацией самой идеи «новой дипломатии».
Первой реакцией было желание полной изоляции. Политика «Нового курса» на ее ранней стадии была заложницей такого порыва. Эту политику один историк назвал «великой изоляционистской аберрацией»[1502]. Перемены внутри страны покупались ценой ухода с международной арены. Однако рост числа внешнеполитических вызовов в 1930-х годах не позволял администрации Рузвельта оставаться в стороне. «Новый курс» привел к созданию мощного американского государства, способного оказывать на мировой арене гораздо более позитивное и интервенционистское влияние, чем после Первой мировой войны. Но именно такого статуса великой милитаризованной державы прогрессивисты из разряда Вильсона и Гувера надеялись избежать. При всей новой мощи Америки неизбежным становится вывод, который приводит в замешательство. В связке государств, «скованных одной цепью», двигавшейся в непредсказуемом направлении, США оказались ведомыми в неменьшей степени, чем ведущими.
В 1929 году, говоря о европейской интеграции, Аристид Бриан признал радикализм требований нового мира. «Всем самым мудрым и важным поступкам человека всегда был присущ элемент безумства или безрассудства»[1503], – говорил он. Эта типично изящная и диалектически глубокая фраза удивительным образом определяет рамки продолжающейся дискуссии об историческом отрезке, который мы рассмотрели. Конечно, в ретроспективе доморощенные реалисты с легкостью критикуют прогрессивные взгляды на порядок, сложившийся в межвоенный период, считая их симптомами разочарования в либеральном идеализме и печальной увертюрой к умиротворению. Но взгляд в прошлое не только обманывает, но и проясняет. Как показано в настоящей книге, неустанный поиск новых путей обеспечения порядка и сохранения мира был проявлением не увязшего в заблуждениях идеализма, но более высокой формы реализма. Стремление к созданию международной коалиции и сотрудничеству было единственным уместным ответом на неравномерное и многостороннее развитие, на жизнь в международной связке «скованных одной цепью». Это были расчеты нового типа либерализма, Realpolitik прогресса. И эта драма еще более волнует оттого, что она остается незавершенной, незаконченной историей, не менее серьезным вызовом для нас и сегодня.
Примечания
1
W. Wilson, «The Reconstruction of the Southern States», Atlantic Monthly, January 1901, vol. lxxxvii, р. 1–15.
(обратно)2
J. M. Keynes, «Mr Churchill on the Peace», New Republic, 27 March 1929.
(обратно)3
The Times, 27 December 1915, issue 41047, р. 3.
(обратно)4
Reichstag, Stenographischer Bericht, vol. 307, 850 ff, 5 April 1916, р. 852.
(обратно)5
W. S. Churchill, The Gathering Storm (Boston, MA, 1948), р. vii.
(обратно)6
W. S. Churchill, The Aftermath (London, 1929), р. 459.
(обратно)7
G. L. Weinberg (ed.), Hitler’s Second Book (New York, 2006).
(обратно)8
См. его работы, собранные на: http: // /.
(обратно)9
Центральная тема книги C. Schmitt, Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar-Genf-Versailles 1923–1939 (Berlin, 1940).
(обратно)10
Эта фраза получила распространение благодаря книге: D. Chakrabarty, Provincializing Europe (Princeton, NJ, 2000), который заимствовал ее у H.-G. Gadamer, по всей вероятности, из «Karl-Jaspers-Preis Laudatio für Jeanne Hersch», Heidelberger Jahrbücher 37 (1993), р. 151–158. Сам Гадамер связывает эти впечатления со своим ранним детством, которое пришлось на годы после окончания Первой мировой войны.
(обратно)11
Две прекрасно аргументированные точки зрения по этому вопросу изложены в книгах: M. Hardt and A. Negri, Empire (Cambridge, MA, 2001); М. Хардт и А. Негри, Империя (Москва, 2004) и C. S. Maier, Among Empires: American Ascendancy and Its Predecessors (Cambridge, MA, 2006).
(обратно)12
L. Trotsky, «Is the Slogan „The United States of Europe“ a Timely One?» http: //-2/25b.htm; Л. Троцкий. О своевременности лозунга «Соединенные Штаты Европы» // Правда. 1923. 30 июня.
(обратно)13
A. Hitler, «Zweites Buch» (неопубликовано), р. 127–128.
(обратно)14
Это близко к ряду теорий войны, связанных с «переходом власти» и «сделками», изложенными в: A. F. K. Organski and J. Kugler, The War Ledger (Chicago, IL, 1980).
(обратно)15
В теориях войны, связанных с концепцией «передачи власти», фактор готовности рисковать отмечается такими авторами, как W. Kim и J. D. Morrow, «When Do Power Shifts Lead to War?», American Journal of Political Science 36, no. 4 (November 1992), р. 896–922.
(обратно)16
О политических ставках, сделанных еще в самом начале войны, см.: H. Strachan, The First World War (London, 2003).
(обратно)17
F. R. Dickinson, World War I and the Triumph of a New Japan, 1919–1930 (Cambridge,2013) р. 87.
(обратно)18
L. Trotsky, «Perspectives of World Development», ; Л. Троцкий. К вопросу о перспективах мирового развития. Доклад. 28 июля 1924 г. // Правда. 1924. 5 августа (№ 176).
(обратно)19
L. Trotsky, «Disarmament and the United States of Europe», 4 October 1929; Л. Троцкий. Разоружение и Соединенные Штаты Европы//Бюллетень оппозиции ((большевиков-ленинцев). 1929. 4 октября (№ 6), http: // web.mit.edu/fjk/www/FI/BO/BO-06.shtml.
(обратно)20
F. Meinecke, Machiavellism: The Doctrine of Raison d’État and its Place in Modern History, trans. Douglas Scott (New Haven, CT, 1957), р. 432.
(обратно)21
C. Schmitt, The Nomos of the Earth in the International Law of the Jus Publicum Europaeum (New York, 2006); К. Шмитт, Номос земли в праве народов Jus Publicum. Europaeum (Санкт-Петербург, 2008).
(обратно)22
Более подробно об исторических коррективах см.: P. W. Schroeder, The Transformation of European Politics, 1763–1848 (Oxford, 1994).
(обратно)23
S. Falasca-Zamponi, Fascist Spectacle: The Aesthetics of Power in Mussolini’s Italy (Berkeley CA, 1997) р. 163.
(обратно)24
A. J. Mayer, Wilson vs Lenin: Political Origins of the New Diplomacy, 1917–1918 (New York, 1964); N. Gordon Levin, Woodrow Wilson and World Politics (Oxford, 1968).
(обратно)25
L. Trotsky, «Perspectives on World Development», http: //; Л. Троцкий. К вопросу о перспективах мирового развития. Доклад. 28 июля 1924 г. // Правда. 1924. 5 августа (№ 176), http: // web. mit.edu/fjk/www/Trotsky/Europa/chapter2.html.
(обратно)26
L. Trotsky, «Europe and America», February 1924; Л. Троцкий. Европа и Америка (доклад 15 февраля 1926 г.), http: //web.mit.edu/fjk/www/Trotsky/Europa/chapter3.html.
(обратно)27
Ibid; там же.
(обратно)28
См., например, данные, собранные для ОЭСР Ангусом Мэддисоном (Angus Maddison), на http: // /.
(обратно)29
Современным классиком является P. Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers (London, 1987).
(обратно)30
J. Darwin, Empire Project: The Rise and Fall of the British World-System, 1830–1970 (Cambridge, 2009).
(обратно)31
D. Bell, The Idea of Greater Britain (Princeton, NJ, 2009).
(обратно)32
E. J. Eisenach, The Lost Promise of Progressivism (Lawrence, KS, 1994), р. 48–52.
(обратно)33
Это отличие было намеренно заретушировано при помощи обтекаемого понятия «неформальной империи», предложенного Джоном Галлагером и Рональдом Робинсоном (John Gallagher and Ronald Robinson, «The Imperialism of Free Trade», The Economic History Review, second series, VI, no. 1 (1953), р. 1–15.
(обратно)34
W. A. Williams, The Tragedy of American Diplomacy (New York, 1959).
(обратно)35
Самосознание, превосходно запечатленное в книге: V. de Grazia, Irresistible Empire: America’s Advance Through Twentieth-Century Europe (Cambridge, MA, 2005).
(обратно)36
Приведу в качестве примера лишь одно высокоавторитетное издание: E. Hobsbawm, Age of Extremes (London, 1994); Хобсбаум Э. Эпоха крайностей: короткий двадцатый век (1914–1991). М., 2004.
(обратно)37
Среди которых наиболее влиятельным был R. S. Baker, Woodrow Wilson and the World Settlement (New York, 1922).
(обратно)38
Достаточно посмотреть критику Вильсона, например, в: T. A. Bailey, Woodrow Wilson and the Lost Peace (New York, 1944), р. 154–155.
(обратно)39
В самих США радикальные критики Вильсона пришли к выводу, что Версаль не был «провалом», но заинтересованность в сохранении существующего порядке и была истинной причиной заключения мирного договора. См.: T. Veblen, Editorial from «The Dial», 15 November 1919, in Veblen, Essays in Our Changing Order (New York, 1934), р. 459–461.
(обратно)40
Это основная сюжетная линия прослеживается во всех работах Арно Майера: A. Mayer, The Persistence of the Old Regime: Europe to the Great War (New York, 1981); A. Mayer, Wilson versus Lenin: Political Origins of the New Diplomacy, 19171918 (New York, 2nd ed., 1964); A. Mayer, Politics and Diplomacy of Peacemaking (New York, 1967); A. Mayer, Why Did the Heavens Not Darken? The «Final Solution» in History (New York, 1988).
(обратно)41
Наибольшее признание получила книга M. Mazower, Dark Continent: Europe’s Twentieth Century (London, 1998).
(обратно)42
J. L. Harper, American Visions of Europe (Cambridge, 1994).
(обратно)43
D. E. Ellwood, The Shock of America (Oxford, 2012).
(обратно)44
Различные нюансы подобного теоретизирования можно встретить в: P. Kindleberger, The World in Depression: 1929–1939 (Berkeley, CA, 1973), R. Gilpin, «The Theory of Hegemonic War», The Journal of Interdisciplinary History 18, no. 4 (Spring 1988), р. 591–613, and G. Arrighi, The Long Twentieth Century: Money, Power, and the Origins of Our Times (London, 1994).
(обратно)45
J. Ikenberry, After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order after Major Wars (Princeton, NJ, 2001).
(обратно)46
A. Kupchan, No One’s World: The West, the Rising Rest, and the Coming Global Turn (Oxford, 2012).
(обратно)47
C. Bright and M. Geyer, «For a Unified History of the World in the Twentieth Century», Radical History Review 39 (September 1987), р. 69–91; M. Geyer and C. Bright, «World History in a Global Age», in American Historical Review 100 (October 1995), р. 1034–1060, and M. Geyer and C. Bright, «Global Violence and Nationalizing Wars in Eurasia and America: The Geopolitics of War in the Mid-Nineteenth Century», Comparative Studies in Society and History 38, no. 4 (October 1996), р. 619–657.
(обратно)48
J. Hobson, Imperialism: A Study (London, 1902); Гобсон Дж. Империализм. Ленинград, 1926.
(обратно)49
См. недавно появившееся блестящее исследование: A. D’Agostino, The Rise of Global Powers: International Politics in the Era of the World Wars (Cambridge, 2012).
(обратно)50
N. Smith, American Empire: Roosevelt’s Geographer and the Prelude to Globalization (Berkeley, CA, 2003).
(обратно)51
M. Nebelin, Ludendorff (Munich, 2010).
(обратно)52
D. Fromkin, The Peace to End all Peace (New York, 1989).
(обратно)53
Данная аргументация, приводимая в книге, многим обязана работе: A. Iriye, After Imperialism: The Search for a New Order in the Far East, 1921–1931 (Cambridge, MA, 1965).
(обратно)54
D. Gorman, The Emergence of International Society in the 1920s (Cambridge, 2012).
(обратно)55
Как и в предыдущей работе, я многое почерпнул из: M. Berg, Gustav Stresemann. Eine politische Karriere zwischen Reich und Republik (Göttingen, 1992).
(обратно)56
N. Bamba, Japanese Diplomacy in a Dilemma (Vancouver, 1972), р. 360–366.
(обратно)57
L. Trotsky, Perspectives of World Development (1924), http: //; Л. Троцкий К вопросу о перспективах мирового развития. Доклад. 28 июля 1924 г. // Правда. 1924. 5 августа (№ 176), http: // web.mit.edu/fjk/www/Trotsky/Europa/chapter2.html.
(обратно)58
A. Hitler, Mein Kampf (London, 1939), vol. 2, chapter 13.
(обратно)59
Здесь я полностью согласен с: R. Boyce, The Great Interwar Crisis and the Collapse of Globalization (London, 2009).
(обратно)60
Краткое вступление см.: A. Stephanson, Manifest Destiny: American Expansionism and the Empire of Right (New York, 1995).
(обратно)61
Eisenach, Lost Promise, р. 225.
(обратно)62
Эта тема в последнее время получила развитие в: D. E. Ellwood, The Shock of America (Oxford, 2012). Более вдумчивую критику см. в: T. Welskopp and A. Lessoff (eds), Fractured Modernity: America Confronts Modern Times, 1890s to 1940s (Oldenbourg, 2012).
(обратно)63
Вывод, к которому пришел совсем с другой стороны G. Kolko, The Triumph of Conservatism: A Reinterpretation of American History, 1900–1916 (New York, 1963).
(обратно)64
J. T. Sparrow, Warfare State: World War II Americans and the Age of Big Government (New York, 2011).
(обратно)65
Douglas Steeples and David O. Whitten, Democracy in Desperation: The Depression of 1893 (Westport, CT, 1998).
(обратно)66
Лучшим кратким введением остается: A. S. Link, Woodrow Wilson and the Progressive Era 1910–1917 (New York, 1954).
(обратно)67
W. C. Widenor, Henry Cabot Lodge and the Search for an American Foreign Policy (Berkeley, CA, 1983).
(обратно)68
B. Knei-Paz, The Social and Political Thought of Leon Trotsky (Oxford, 1978).
(обратно)69
V. I. Lenin, «The chain Is No Stronger Than Its Weakest Link», Pravda 67, 9 June (27 May) 1917; Lenin: Collected Works (Moscow, 1964), vol. 24, 519–520; В. И. Ленин. Крепость цепи определяется крепостью самого слабого звена // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 32. М., 1969, с. 201–202.
(обратно)70
S. Hoffmann, Gulliver’s Troubles, or the Setting of American Foreign Policy (New York, 1968), р. 52. Другие высказывания политологов о «неравномерном и комбинированном развитии» см. в: R. Gilpin, War and Change in World Politics (Cambridge 1981).
(обратно)71
В числе недавно изданных работ см.: H. Strachan, The First World War (London, 2003); D. Stevenson, 1914–1918: The History of the First World War (London, 2004).
(обратно)72
N. A. Lambert, Planning Armageddon: British Economic Warfare and the First World War (Cambridge, MA, 2012).
(обратно)73
S. Roskill, Naval Policy Between the Wars (New York, 1968 and 1976), vol. 1, р. 80–81.
(обратно)74
H. Nouailhat, France et Etats-Unis: Août 1914-Avril 1917 (Paris, 1979), р. 349–355.
(обратно)75
C. Seymour (ed.), The Intimate Papers of Colonel House (London, 1926), vol. 1, р. 312–313.
(обратно)76
A. S. Link (ed.) et al., The Papers of Woodrow Wilson [hereafter PWW], 69 vols (Princeton, NJ,1966–1994), vol. 36, р. 120.
(обратно)77
J. J. Safford, Wilsonian Maritime Diplomacy 1913–1921 (New Brunswick, NJ, 1978), р. 67–115.
(обратно)78
P. O. O’Brian, British and American Naval Power: Politics and Policy, 1900–1936 (West-port, CT, 1998), р. 117.
(обратно)79
R. Skidelsky, John Maynard Keynes: A Biography, 3 vols (New York, 1983–2000), vol. 1,р. 305–315.
(обратно)80
K. Burk, Britain, America and the Sinews of War, 1914–1918 (London, 1985); H. Strachan, Financing the First World War (Oxford, 2004).
(обратно)81
K. Neilson, Strategy and Supply: The Anglo-Russian Alliance 1914–1917 (London, 1984), р. 106–112.
(обратно)82
M. Horn, Britain, France, and the Financing of the First World War (Montreal, 2002).
(обратно)83
Nouailhat, France, р. 368.
(обратно)84
S. Broadberry and M. Harrison (eds), The Economics of World War I (Cambridge, 2005).
(обратно)85
Классическая работа: H. Feis, Europe: The World’s Banker 1870–1914 (New York, 1965).
(обратно)86
R. Chernow, The House of Morgan: An American Banking Dynasty and the Rise of Modern Finance (New York, 2001).
(обратно)87
J. M. Keynes, The Collected Writings of John Maynard Keynes, vol. 16 (London, 1971-89), р. 197.
(обратно)88
P. Roberts, «„Quis Custodiet Ipsos Custodes?“ The Federal Reserve System» s Founding Fathers and Allied Finances in the First World War’, The Business History Review 72 (1998) р. 585–620.
(обратно)89
E. Sanders, Roots of Reform (Chicago, IL, 1999); A. H. Meltzer, A History of the Federal Reserve (Chicago, IL, 2002–2003).
(обратно)90
W. L. Silber, When Washington Shut Down Wall Street: The Great Financial Crisis of 1914 and the Origins of America’s Monetary Supremacy (Princeton, NJ, 2007).
(обратно)91
N. Ferguson, The Pity of War: Explaining World War I (London, 1998).
(обратно)92
A. Offer, The First World War: An Agrarian Interpretation (Oxford, 1991).
(обратно)93
Обзор см. в: D. E. Ellwood, The Shock of America (Oxford, 2012).
(обратно)94
J. Banno, Democracy in Prewar Japan: Concepts of Government 1871–1937 (London, 2001), р. 47.
(обратно)95
W. Wilson, Congressional Government: A Study in American Government (PhD thesis, Johns Hopkins University, 1885).
(обратно)96
D. T. Rodgers, Atlantic Crossings: Social Politics in a Progressive Age (Cambridge, MA,1998).
(обратно)97
W. Wilson, «Democracy and Efficiency», Atlantic Monthly (March 1901), р. 289.
(обратно)98
T. Raithel, Das Wunder der inneren Einheit (Bonn, 1996).
(обратно)99
T. Roosevelt, America and the World War (New York, 1915).
(обратно)100
J. M. Cooper, The Warrior and the Priest: Theodore Roosevelt and Woodrow Wilson (Cambridge, MA, 1983), р. 284–285.
(обратно)101
W. Wilson, A History of the American People (New York, 1902), and J. M. Cooper, Woodrow Wilson: A Biography (New York, 2009).
(обратно)102
PWW, vol. 57, р. 246.
(обратно)103
W. Wilson, «The Reconstruction of the Southern States», Atlantic Monthly, January 1901, р. 1–15.
(обратно)104
R. E. Hannigan, The New World Power: American Foreign Policy, 1898–1917 (Philadelphia, PA, 2002), р. 45–48.
(обратно)105
R. S. Baker and W. E. Dodd (eds), The Public Papers of Woodrow Wilson (New York, 1925–1927), vol. 1, р. 224–225.
(обратно)106
T. J. Knock, To End All Wars: Woodrow Wilson and the Quest for a New Order (Princeton, NJ, 1992), р. 77.
(обратно)107
PWW, vol. 37, р. 116.
(обратно)108
PWW, vol. 40, р. 84–85.
(обратно)109
PWW, vol. 41, р. 183–184, и еще раз в феврале 1917 г. – см.: ibid., р. 316–317.
(обратно)110
B. M. Manly, «Have Profits Kept Pace with the Cost of Living?», Annals of the American Academy of Political and Social Science 89 (1920), р. 157–162.
(обратно)111
M. J. Pusey, Charles Evans Hughes (New York, 1951), vol. 1, р. 335–366.
(обратно)112
The Memoirs of Marshal Joffre, trans. T. B. Mott (London, 1932), vol. 2, р. 461.
(обратно)113
P. v. Hindenburg, Aus Meinem Leben (Leipzig, 1920), р. 180–181.
(обратно)114
G. Ritter, Staatskunst und Kriegshandwerk (Munich, 1954–1968), vol. 3, р. 246.
(обратно)115
G. E. Torrey, Romania and World War I (Lasi, 1998), р. 174.
(обратно)116
S. Miller, Burgfrieden und Klassenkampf: Die deutsche Sozialdemokratie in Ersten Weltkrieg (Düsseldorf, 1974), р. 263–264.
(обратно)117
D. French, The Strategy of the Lloyd George Coalition, 1916-19 (Oxford, 1995); M. G. Fry, Lloyd George and Foreign Policy (Montreal, 1977).
(обратно)118
Keynes, The Collected Writings (18 October 1916), vol. 16, р. 201.
(обратно)119
Блестяще изложено в G.-H. Soutou, L’Or et le Sang: Les Buts de guerre économique de la Première Guerre Mondiale (Paris, 1989), р. 365–363, 398–399.
(обратно)120
Papers Relating to the Foreign Relations of the United States: Lansing Papers (Washington, DC, 1940), vol. 1, р. 306–307.
(обратно)121
Seymour (ed.), Intimate Papers, vol. 2, р. 129.
(обратно)122
Fry, Lloyd George, р. 219.
(обратно)123
Neilson, Strategy and Supply, р. 191; A. Suttie, Rewriting the First World War: Lloyd George, Politics and Strategy 1914–1918 (London, 2005), р. 85.
(обратно)124
V. I. Lenin, «Imperialism, the Highest Stage of Capitalism», in V. I. Lenin, Selected Works. M.,1963, vol. 1, р. 667–766; В. И. Ленин. Империализм, как высшая стадия капитализма //Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 27. М., 1969, с. 400.
(обратно)125
На левом фланге Ленин выступал против теории так называемого ультраимпериализма, см.: K. Kautsky, «Der Imperialismus», Die Neue Zeit 32, no. 2 (1914), р. 908–922. О недавнем возрождении этой теории см.: A. Negri and M. Hardt, Empire (Cambridge, MA, 2001); Хардт М., Негри А. Империя. М., 2004.
(обратно)126
A. S. Link (ed.) et al., The Papers of Woodrow Wilson [hereafter PWW], 69 vols (Princeton, NJ, 1966-94), vol. 40, р. 19–20. Поучительное ревизионистское описание того, как Америка вступила в войну, см.: J. D. Doenecke, Nothing Less Than War: A New History of America’s Entry into World War I (Lexington, KY, 2010).
(обратно)127
PWW, vol. 40, р. 77.
(обратно)128
P. Roberts, „Quis Custodiet Ipsos Custodes?“ The Federal Reserve System’s Founding Fathers and Allied Finances in the First World War’, Business History Review 72(1998) р. 585–620.
(обратно)129
H. Nouailhat, France et Etats-Unis: Aout 1914-Avril 1917 (Paris, 1979), р. 382.
(обратно)130
J. Siegel, For Peace and Money (Oxford, 2014), chapter 4.
(обратно)131
G.-H. Soutou, L’Or et le Sang: Les Buts de guerre économique de la Preminre Guerre Mondiale (Paris, 1989), р. 373–378; J. Wormell, The Management of the Public Debt of the United Kingdom (London, 2000), р. 222–241.
(обратно)132
J. H. von Bernstorff, My Three Years in America (New York, 1920), р. 317.
(обратно)133
T. J. Knock, To End All Wars: Woodrow Wilson and the Quest for a New Order (Princeton, NJ, 1992), р. 110. О реакции в России см.: Papers Relating to the Foreign Relations of the United States: Lansing Papers [FRUS: Lansing Papers] (Washington, DC, 1940), vol. 2, р. 320–321.
(обратно)134
«President Wilson and Peace», The Times (London), Friday 22 December 1916, N9; «French Public Opinion», The Times (London), 23 December 1916, N7.
(обратно)135
Nouailhat, France, p. 393.
(обратно)136
D. French, The Strategy of the Lloyd George Coalition, 1916–1918 (Oxford, 1995), p. 34.
(обратно)137
Ibid., p. 38.
(обратно)138
J. M. Keynes, Collected Writings of John Maynard Keynes, vol. 16 (London, 1971).
(обратно)139
The New York Times, 23 January 1917; PWW, vol. 40, p. 533–539.
(обратно)140
Knock, To End All Wars ближе всех подходит к пониманию этого, но он воспринимает речь не критически, а как манифест прогрессистов. Критическая оценка «новых левых» см.: N. Levin, Woodrow Wilson and World Politics (New York,1968), p. 260.
(обратно)141
J. Cooper, The Warrior and the Priest: Woodrow Wilson and Theodore Roosevelt (Cambridge, MA, 1983).
(обратно)142
C. Seymour (ed.), The Intimate Papers of Colonel House (London, 1926), vol. 2, p. 412.
(обратно)143
PWW, vol. 40 p. 533–539.
(обратно)144
Bernstorff, My Three Years, p. 390–391.
(обратно)145
The New York Times, 23 January 1917.
(обратно)146
PWW, vol. 41, p. 11–12.
(обратно)147
The New York Times, 23 January 1917.
(обратно)148
«Labour in Session», The Times (London), 23 January 1917, N5.
(обратно)149
«War Aims of Labour», The Times (London), 24 January 1917, N7.
(обратно)150
The New York Times, 24 January 1917.
(обратно)151
Nouailhat, France, p. 398.
(обратно)152
Bernstorff, My Three Years, p. 286.
(обратно)153
Ibid., p. 371.
(обратно)154
«Aufzeichnung über Besprechung 9.1.1917», in H. Michaelis and E. Schraepler (eds), Ursachen und Folgen. Vom deutschen Zusammenbruch 1918 und 1945 (Berlin, 1958), vol. 1, p. 146–147.
(обратно)155
K. Erdmann (ed.), Kurt Riezler. Tagebücher, Aufsaetze, Dokumente (Göttingen, 1972),p. 403–404.
(обратно)156
M. Weber, Gesammelte politische Schriften (Tübingen, 1988).
(обратно)157
Как об этом Лансинг говорил Вильсону 2 февраля 1917 года: FRUS: Lansing Papers, vol. p p. 591–592.
(обратно)158
K. Burk, «The Diplomacy of Finance: British Financial Missions to the United States 1914–1918», The Historical Journal 22, no. 2 (1979), p. 359.
(обратно)159
Об истории атлантизма см.: M. Mariano, Defining the Atlantic Community (New York, 2010).
(обратно)160
M. G. Fry, Lloyd George and Foreign Policy, vol. 1, The Education of a Statesman: 1890–1916 (Montreal, 1977), p. 34.
(обратно)161
См.: D. Lloyd George, The Great Crusade: Extracts from Speeches Delivered during the War (London, 1918).
(обратно)162
R. Hanks, «Georges Clemenceau and the English», The Historical Journal 45, no. 1 (2002), p. 53–77.
(обратно)163
PWW, vol. 42, p. 375–376. О том, как сам Тардье воспринимал вызовы, связанные с такими отношениями, см.: A. Tardieu, France and America: Some Experiences in Cooperation (Boston, MA, 1927).
(обратно)164
PWW, vol. 41, p. 136, 256, 336–337.
(обратно)165
Ibid., p. 89, 94, 101, and PWW, vol. 42, p. 255.
(обратно)166
PWW, vol. 41, p. 120.
(обратно)167
M. Hunt, Ideology and US Foreign Policy (New Haven, CT, 1987), р. 129–30. Пытаясь связать Вильсона и холодную войну, Хант преувеличивает роль Коммуны, противопоставляя ее Великой революции 1789 г.
(обратно)168
См.: Burke’s Speech on Conciliation with the Colonies, in Robert Andersen (ed.) with an introduction by Woodrow Wilson (Boston, MA, 1896), р. xviii.
(обратно)169
W. Wilson, «The Character of Democracy in the United States», in idem, An Old Master and Other Political Essays (New York, 1893), p. 114–115.
(обратно)170
Wilson, «Democracy and Efficiency», Atlantic Monthly LXXXVII (1901), p. 289.
(обратно)171
Wilson, The Character of Democracy, p. 115.
(обратно)172
Ibid., p. 114.
(обратно)173
PWW, vol. 40, p. 133.
(обратно)174
E. Mantoux, The Carthaginian Peace (New York, 1952), p. 50.
(обратно)175
Лучшими биографиями остаются: D. Watson, Georges Clemenceau: A Political Biography (London, 1976), и G. Dallas, At the Heart of a Tiger: Georges Clemenceau and His World 1841–1929 (London, 1993).
(обратно)176
G. Clemenceau, American Reconstruction, 1865–1870 (New York, 1969), p. 226.
(обратно)177
W. Wilson, A History of the American People (New York, 1901), vol. 5, p. 49–53.
(обратно)178
Clemenceau, American Reconstruction, р. 84.
(обратно)179
Сходство позиций Клемансо и Рузвельта в вопросе мира и справедливости было отмечено Клемансо еще в 1910 году в лекциях, собранных в книге: G. Clemenceau, Sur La Democratie (Paris 1930), p. 124–125.
(обратно)180
E. Benton, The Movementfor Peace Without Victory during the Civil War (Columbus, OH, 1918), и J. McPherson, This Mighty Scourge (Oxford, 2007), p. 167–186.
(обратно)181
Рузвельт дождался, пока Вильсон откажется действовать в ответ на агрессию Германии, перед тем как разразиться тирадой «МИР БЕЗ ПОБЕДЫ ОЗНАЧАЕТ МИР БЕЗ ЧЕСТИ», опубл. в: Poverty Bay Herald XLIV, 20 March 1917, 8. См.: E. Morrison (ed.), The Letters of Theodore Roosevelt (Cambridge, MA, 1954), p. 1162–1163.
(обратно)182
PWW, vol. 41, p. 87.
(обратно)183
FRUS: Lansing Papers, vol. 2, p. 118–120.
(обратно)184
PWW, vol. 41, p. 201, 283.
(обратно)185
Ibid., p. 123, 183–184.
(обратно)186
Michaelis and Schraepler, Ursachen und Folgen, vol. 1, p. 151–152.
(обратно)187
Цит. по: F. Katz, The Secret War in Mexico: Europe, the United States and the Mexican Revolution (Chicago, IL, 1981), p. 359–360.
(обратно)188
W. Rathenau, Politische Briefe (Dresden, 1929), p. 108.
(обратно)189
A. S. Link, Woodrow Wilson and the Progressive Era 1910–1917 (New York, 1954), p. 275.
(обратно)190
PWW, vol. 42, p. 140–148.
(обратно)191
N. Saul, War and Revolution: The United States and Russia, 1914–1921 (Lawrence, KS, 2001), p. 97–98.
(обратно)192
Лучше всех из недавних авторов это описано в: O. Figes, A People’s Tragedy: The Russian Revolution 1891–1924 (London, 1996).
(обратно)193
Зарисовки царивших настроений см. в: M. Steinberg, Voices of Revolution, 1917 (New-Haven, CT, 2001).
(обратно)194
A. S. Link (ed.) et al., The Papers of Woodrow Wilson [hereafter PWW], 69 vols (Princeton, NJ, 1966–1994), vol. 41, р. 425–427.
(обратно)195
PWW, vol. 41, р. 440, и Papers Relating to the Foreign Relations of the United States: Lansing Papers [FRUS: Lansing Papers] (Washington, DC, 1940), vol. 1, р. 626–628, 636.
(обратно)196
Заявление Вильсона об объявлении войны, 2 апреля 1917 г.
(обратно)197
Цит. по: M. Winock, Clemenceau (Paris, 2007), р. 418–419.
(обратно)198
Яркое описание приводится в: N. Sukhanov, The Russian Revolution, 1917: A Personal Record (London, 1955), р. 202–203; Суханов Н. Записки о революции, кн. 2. Берлин; Петербург; М., 1922, с. 140.
(обратно)199
Sukhanov, Russian Revolution, р. 240–41; Суханов Н. Записки о революции, с. 337.
(обратно)200
W. Roobol, Tsereteli – A Democrat in the Russian Revolution: A Political Biography (The Hague, 1976); M. Khoundadze, La révolution de février 1917: La social-démocratie contre le bolchevisme, Tsertelli face à Lenine (Paris, 1988); R. Abraham, Alexander Kerensky: The First Love of the Revolution (London, 1987).
(обратно)201
V. I. Lenin, «Letter to Pravda on 7 April 1917», in V. I. Lenin, Collected Works (Moscow, 1964), vol. 24, р. 19–26; В. И. Ленин. О задачах пролетариата в данной революции // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 31. М., 1969, с. 113–118.
(обратно)202
J. H. von Bernstorff, My Three Years in America (London, 1920), р. 383.
(обратно)203
D. Stevenson, «The Failure of Peace by Negotiation in 1917», The Historical Journal 34, no. 1 (1991) р. 65–86.
(обратно)204
S. Miller, Burgfrieden und Klassenkampf: Die deutsche Sozialdemokratie imErsten Weltkrieg (Düsseldorf, 1974), р. 283–298.
(обратно)205
PWW, vol. 42, MacDonald to Wilson, 29 May 1917, р. 420–422.
(обратно)206
J. Turner, British Politics and the Great War: Coalition and Conflict 1915–1918 (New Haven, СД 1992).
(обратно)207
L. Gardner, Safe for Democracy: The Anglo-American Response to Revolution, 1913–1923 (Oxford, 1987), р. 138; A. Suttie, Rewriting the First World War: Lloyd George, Politics, and Strategy, 1914–1918 (Houndmills, 2005), р. 191–194.
(обратно)208
S. Carls, Louis Loucheur and the Shaping of Modern France 1916–1931 (Baton Rouge, FL, 1993) р. 43–44, 50–51.
(обратно)209
C. Seton-Watson, Italy from Liberalism to Fascism 1870–1925 (London, 1979), р. 468–471.
(обратно)210
Der Interfraktioneller Ausschuss, 1917/18 [hereafter IFA], eds E. Matthias and R. Morsey (Düsseldorf, 1959), vol. 1, р. 3–13.
(обратно)211
M. Epstein, Matthias Erzberger and the Dilemma of German Democracy (Princeton, NJ, 1959).
(обратно)212
IFA, vol. 1, р. 15.
(обратно)213
I. Sinanoglou, «Journal de Russie d’Albert Thomas: 22 avril-19 juin 1917», Cahiers du Monde Russe et Soviétique 14, no. 1/2 (1973), р. 86–204, and J. Winter, Socialism and the Challenge of War (London, 1974), р. 243–259.
(обратно)214
Wade, Russian Search for Peace, 79–80.
(обратно)215
FRUS: Lansing Papers, vol. 2, р. 332 and 338.
(обратно)216
PWW, vol. 43, р. 465–70 and 487–489; see also PWW, vol. 42, р. 140–141.
(обратно)217
PWW, vol. 42, р. 365–367.
(обратно)218
Ibid., р. 385.
(обратно)219
J. J. Wormell, Management of the National Debt in the United Kingdom, 1900–1932 (London, 2000), р. 249–259.
(обратно)220
J. Termine, White Heat: The New Warfare 1914-18 (London, 1982), р. 218.
(обратно)221
D. French, The Strategy of the Lloyd George Coalition, 1914–1918 (Oxford, 1995), р. 101–123.
(обратно)222
B. Millman, Managing Domestic Dissent in First World War Britain (London, 2000).
(обратно)223
V. I. Lenin, «Peace Without Annexations and the Independence of Poland as Slogans of the Day in Russia», http: // ; В. И. Ленин. О мире без аннексий и о независимости Польши //Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 27. М., 1969, с. 247–249.
(обратно)224
V. I. Lenin, «The Discussion on Self-Determination Summed Up, July 1916», in V. I. Lenin, Collected Works, (Moscow, 1963), vol. 22, р. 320–360; В. И. Ленин. Итоги дискуссии о самоопределении // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 30. М., 1969, с. 17–58.
(обратно)225
V. I. Lenin, «The Petrograd City Conference of the R.S.D.L.P. 14–22 April 1917», in ibid., Collected Works (Moscow, 1964), vol. 24, р. 139–166; В. И. Ленин. Петроградская общегородская конференция РСДРП(б). 14–22 апреля 1917 г. // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 31. М., 1969, с. 237–265.
(обратно)226
FRUS: Lansing Papers, vol. 2, р. 340–341; L. Bacino, Reconstructing Russia: U. S. Policy in Revolutionary Russia, 1917–1922 (Kent, OH, 1999).
(обратно)227
L. Heenan, Russian Democracy’s Fatal Blunder: The Summer Offensive of 1917 (New York, 1987).
(обратно)228
A. Kerensky, The Kerensky Memoirs (London, 1965), р. 285; Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. Мемуары. М., 1993, с. 199.
(обратно)229
H. Herwig, The First World War: Germany and Austria-Hungary 1914–1918 (London, 1974 р. 338.
(обратно)230
M. Thompson, The White War: Life and Death on the Italian Front 1915–1919 (New York, 2008), р. 294–327.
(обратно)231
H. Hagenlücke, Deutsche Vaterlandspartei (Düsseldorf, 1997).
(обратно)232
Abraham, Kerensky, р. 257.
(обратно)233
Ibid.,р. 305.
(обратно)234
R. Service, Lenin: A Biography (London, 2000), р. 304; Сервис Р. Ленин. Минск, 2002, с. 360.
(обратно)235
O. Radkey, Russia Goes to the Polls: The Election to the All-Russian Constituent Assembly, 1917 (Ithaca, NY, 1989), р. 63.
(обратно)236
PWW, vol. 43, р. 471–472.
(обратно)237
Ibib., р. 523.
(обратно)238
Ibid., р. 509.
(обратно)239
Ibid., р. 523–525.
(обратно)240
O. Radkey, The Agrarian Foes of Bolshevism: Promise and Default of the Russian Socialist Revolutionaries, February to October 1917 (New York, 1958), р. 85.
(обратно)241
Ibid., р. 88.
(обратно)242
W. Wheeler, China and the World War (New York, 1919), р. 100.
(обратно)243
A. S. Link (ed.) et al., The Papers of Woodrow Wilson [hereafter PWW], 69 vols (Princeton, NJ,1966-94), vol. 41, р. 108–112.
(обратно)244
G. Xu, China and the Great War (Cambridge, 2005), р. 162–163.
(обратно)245
Жесткую критику Фрэнка Гуднау из Колумбийского университета по поводу этого меморандума см. в: B. Putnam Weale, The Fight for the Republic in China (New York, 1917), р. 142–190; J. Kroncke, «An Early Tragedy of Comparative Constitutionalism: Frank Goodnow and the Chinese Republic», Pacific Rim Law and Policy Journal 21, no. 3 (2012), р. 533–590.
(обратно)246
W. Kirby, «The Internationalization of China: Foreign Relations at Home and Abroad in the Republican Era», The China Quarterly, р. 150, «Special Issue: Reappraising Republican China» (1997), р. 433–458.
(обратно)247
D. Kuhn, Die Republik China von 1912 bis 1937 (Heidelberg, 2004), р. 89.
(обратно)248
T. S. Chien, The Government and Politics off China (Cambridge, MA, 1950), р. 75–76.
(обратно)249
S. Craft, V. K. Wellington Koo and the Emergence of Modern China (Lexington, KY,2004), р. 40–41.
(обратно)250
J. Sheridan, China in Disintegration: The Republican Era in Chinese History, 1912–1949 (New York, 1977), р. 69.
(обратно)251
N. Bose, American Attitudes and Policy to the Nationalist Movement in China (1911–1921)(Bombay, 1970), р. 105.
(обратно)252
Xu, China and the Great War, р. 213.
(обратно)253
S. Schram (ed.), Mao’s Road to Power: Revolutionary Writings 1912–1949: The Pre-Marxist Period, vol. 1, 1912–1920 (New York, 1992), р. 104.
(обратно)254
N. Pugach, Paul S. Reinsch: Open Door Diplomat in Action (Millwood, NY, 1979), р. 226.
(обратно)255
PWW, vol. 41, р. 177.
(обратно)256
Ibid.,р. 175.
(обратно)257
Ibid., р. 185.
(обратно)258
N. Kawamura, Turbulence in the Pacific: Japanese-US Relations During World War I(Westport, CT, 2000), р. 66.
(обратно)259
C. Tsuzuki, The Pursuit of Power in Modern Japan 1825–1995 (Oxford, 2000).
(обратно)260
F. Dickinson, War and National Reinvention: Japan in the Great War 1914–1919 (Cambridge 1999).
(обратно)261
L. Gardner, Safe for Democracy: The Anglo-American Response to Revolution, 1913–1923(Oxford, 1987), р. 83; Xu, China and the Great War, р. 94–97.
(обратно)262
K. Kawabe, The Press and Politics in Japan (Chicago, IL, 1921); F. R. Dickinson, World War I and the Triumph of a New Japan, 1919–1930 (Cambridge, 2013), р. 52.
(обратно)263
Dickinson, War and National Reinvention, р. 150–165.
(обратно)264
M. Schiltz, The Money Doctors from Japan: Finance, Imperialism, and the Building of the Yen Bloc, 1895–1937 (Cambridge, MA, 2012), р. 135–154.
(обратно)265
P. Duus, Party Rivalry and Political Change in Taisho Japan (Cambridge, 1968), р. 97–99.
(обратно)266
P. Duus (ed.), The Cambridge History of Japan, vol. 6, The Twentieth Century (Cambridge, 1988), р. 280.
(обратно)267
Weale, Fight, р. 206.
(обратно)268
Цитата по: Pugach, Reinsch, р. 226.
(обратно)269
Wheeler, China and the World War, р. 71.
(обратно)270
PWW, vol. 41, р. 186.
(обратно)271
PWW, vol. 42, р. 53–54.
(обратно)272
Papers Relating to the Foreign Relations of the United States: Lansing Papers [hereafter FRUS: Lansing Papers] (Washington, DC, 1940), vol. 2, p. 19–32; Y. Zhang, Chinain the International System, 1918–1920 (Basingstoke, 1991), p. 203.
(обратно)273
M. Bergere, Sun Yat-Sen (Stanford, CA, 1998), p. 271.
(обратно)274
Wheeler, China and the World War, p. 51.
(обратно)275
«American Press Tributes to Dr Wu Ting-Fang», China Review 3 (1922), p. 69–72.
(обратно)276
Xu, China and the Great War, p. 241.
(обратно)277
PWW, vol. 42, p. 466.
(обратно)278
Wheeler, China and the World War, p. 94.
(обратно)279
The New York Times Current History, vol. 13, The European War (New York, 1917), p. 353.
(обратно)280
Wheeler, China and the World War, p. 173–174.
(обратно)281
FRUS: Lansing Papers, vol. 2, p. 432–433.
(обратно)282
Kawamura, Turbulence in the Pacific, p. 91–92.
(обратно)283
Xu, China and the Great War, p. 226–227.
(обратно)284
G. McCormack, Chang Tso-Lin in Northeast China, 1911–1928: China, Japan and the Manchurian Idea (Stanford, CA, 1977).
(обратно)285
Dickinson, War and National Reinvention, p. 223.
(обратно)286
PWW, vol. 42, p. 60–64.
(обратно)287
Pugach, Reinsch, p. 236.
(обратно)288
M. Metzler, Lever of Empire: The International Gold Standard and the Crisis of Liberalism in Prewar Japan (Berkeley, CA, 2005), p. 108–109.
(обратно)289
F. Fischer, Griff nach der Weltmacht: Die Kriegszielpolitik des Kaiserlichen Deutschland, 1914-18 (Düsseldorf, 1961).
(обратно)290
J. Wheeler-Bennett, Brest-Litovsk: The Forgotten Peace, March 1918 (London, 1938).
(обратно)291
История Ober Ost, написанная в условиях Третьего рейха, изложена в: V. Liulevicius,War Land on the Eastern Front: Culture, National Identity, and German Occupation in World War I (Cambridge, 2000). (Ober Ost – сокращение от нем. Oberbefehlshaber der gesamten deutschen Streitkräfte im Osten. – Примеч. науч. ред.)
(обратно)292
V. I. Lenin, «The Debate on Self-Determination Summed Up», in V. I. Lenin, Collected Works (Moscow, 1964), vol. 22, p. 320–360; В. И. Ленин. Итоги дискуссии о самоопределении //Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 30. М., 1969, с. 17–58.
(обратно)293
V. I. Lenin, «Statistics and Sociology», in V. I. Lenin, Collected Works (Moscow, 1964), vol. 23, p. 271–277; В. И. Ленин. Статистика и социология // Ленин В. И. Полн. собр. соч- Т. 30. М с. 349–356.
(обратно)294
T. Snyder, The Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569–1999 (New Haven, CT, 2003).
(обратно)295
«Hitch in Negotiations: German Delegates Point to Peoples Who Desire…», The New York Times, 31 December 1917.
(обратно)296
Der Interfraktioneller Ausschuss, 1917/18 [hereafter IFA], eds E. Matthias and R. Morsey (Düsseldorf, 1959), vol. 1, p. 213–402.
(обратно)297
Heinz Hagenlücke, Deutsche Vaterlandspartei (Düsseldorf, 1996).
(обратно)298
IFA, vol. 1, p. 635.
(обратно)299
W. Ribhegge, Frieden für Europa: Die Politik der deutschen Reichstagsmehrheit, 1917–1918(Essen, 1988), p. 228–229.
(обратно)300
M. Llanque, Demokratisches Denken im Krieg: Die deutsche Debatte im Ersten Weltkrieg (Berlin, 2000), p. 207.
(обратно)301
A. Vogt, Oberst Max Bauer, Generalstabsoffizier im Zwielicht, 1869–1929 (Osnabrück, W4) p. 108.
(обратно)302
K. Erdmann (ed.), Kurt Riezler: Tagebücher, Aufsaetze, Dokumente (Göttingen, 1972).
(обратно)303
W. Ribhegge, Frieden für Europa. Die Politik der deutschen Reichstagsmehrheit 1917/18 (Berlin, 1988), p. 228–229.
(обратно)304
P. Gatrell, A Whole Empire Walking: Refugees in Russia during World War I (Indiana, IN, 2005).
(обратно)305
Hagenlücke, Vaterlandspartei, p. 204.
(обратно)306
I. Geiss, Der polnische Grenzstreifen 1914–1918: Ein Beitrag zur deutschen Kriegszielpolitik im Ersten Weltkrieg (Lübeck, 1960), p. 129.
(обратно)307
Насмешливые высказывания Эрцбергера см. в: Ribhegge, Frieden, p. 173–175. О реакции СДП см.: ibid., p. 228–229.
(обратно)308
P. Theiner, Sozialer Liberalismus und deutsche Weltpolitik. Friedrich Naumann im Wilhelminischen Deutschland (1860–1919) (Baden-Baden, 1983), p. 242–258.
(обратно)309
M. Berg, Gustav Stresemann und die Vereinigten Staaten von Amerika: weltwirtschaftliche Verflechtung und Revisionspolitik, 1907–1929 (Baden-Baden, 1990), p. 43.
(обратно)310
IFA, vol. 1, p. 11.
(обратно)311
R. Service, Lenin: A Biography (London, 2000), p. 321–325; Сервис Р. Ленин. Минск, 2002, с. 364.
(обратно)312
Fischer, Griff, p. 299–300.
(обратно)313
Fischer, Griff, p. 299–300.
(обратно)314
J. Snell, «The Russian Revolution and the German Social Democratic Party in 1917», Slavic Review 15, no. 3 (1956), p. 339–50; IFA, vol. 1, p. 631–632.
(обратно)315
S. Miller, Burgfrieden und Klassenkampf: Die deutsche Sozialdemokratie im Ersten Weltkrieg (Düsseldorf, 1974), p. 228–229.
(обратно)316
K. Epstein, Matthias Erzberger and the Dilemma of German Democracy (Princeton, NJ, 1959), p. 219–220, 237.
(обратно)317
Более общее рассмотрение вопроса о возобновлении переговоров о суверенитете см. в: M. Koskenniemi, The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law 1870–1960 (Cambridge, 2002), p. 172.
(обратно)318
Miller, Burgfrieden, p. 351.
(обратно)319
S. D. Krasner, Sovereignty: Organized Hypocrisy (Princeton, NJ, 1999).
(обратно)320
Wheeler-Bennett, Brest, p. 117–120.
(обратно)321
G. Kennan, Russia Leaves the War: Soviet-American Relations, 1917–1920 (Princeton, NJ), vol. 1, p. 136.
(обратно)322
C. Seymour (ed.), The Intimate Papers of Colonel House (Boston, MA, 1926–1928), vol. 3, p. 264–285.
(обратно)323
W. Hahlweg (ed.), Der Friede von Brest-Litowsk. in unverцffentlichter Band aus dem Werk des Untersuchungsauschusses der deutschen verfassungsgebenden Nationalver-sammung und des deutschen Reichstages (Düsseldorf, 1971), p. 150–153.
(обратно)324
A. May, The Passing of the Habsburg Monarchy, 1914–1918 (Philadelphia, PA, 1966), vol. 1, p.458.
(обратно)325
IFA, vol. 2, p. 86.
(обратно)326
Полный текст приведен в: Hahlweg, Der Friede, p. 176.
(обратно)327
Обобщение см. в: V. I. Lenin, «Theses on the Question of the Immediate Conclusion of a Separate and Annexationist Peace, 7 January 1918», in V. I. Lenin, Collected Works (Moscow, 1972), vol. 26, p. 442–450. В. И. Ленин. Тезисы по вопросу о немедленном заключении сепаратного и аннексионистского мира // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 35. М., 1974, с. 243–252.
(обратно)328
Wheeler-Bennett, Brest, p. 145.
(обратно)329
L. Gardner, Safe for Democracy: The Anglo-American Response to Revolution, 1913–1923 (Oxford, 1987), p. 160.
(обратно)330
E. Manela, The Wilsonian Moment: Self-Determination and the International Origins of Anticolonial Nationalism (Oxford, 2007), p. 19–53.
(обратно)331
B. Unterberger, The United States, Revolutionary Russia, and the Rise of Czechoslovakia (Chapel HILL, NC 1989) p. 94–95.
(обратно)332
Об этом и о том, что за этим последовало, см.: A. S. Link (ed.) et al., The Papers of Woodrow Wilson [PWW], 69 vols (Princeton, NJ, 1966–1994), vol. 45, p. 534–539.
(обратно)333
Papers Relating to the Foreign Relations of the United States: Lansing Papers (Washington, DC, 1940), vol. 2, p. 348.
(обратно)334
Резкая критика приведена в: Kennan, Russia Leaves the War, p. 255–272.
(обратно)335
C. Warvariv, «America and the Ukrainian National Cause, 1917–1920», in T. Hunczak (ed.), The Ukraine 1917–1921: A Study in Revolution (Cambridge, MA, 1977), p. 366–372.
(обратно)336
PWW, vol. 45, p. 534–539.
(обратно)337
D. Woodward, Trial by Friendship: Anglo-American Relations, 1917–1918 (Lexington, KY, 1993 p. 153–154.
(обратно)338
B. Unterberger, «Woodrow Wilson and the Russian Revolution», in A. Link (ed.), Woodrow Wilson and a Revolutionary World (Chapel Hill, NC, 1982), p. 54.
(обратно)339
J. Reshetar, The Ukrainian Revolution, 1917–1920: A Study in Nationalism (Princeton, NJ, 1952 p. 53–54.
(обратно)340
W. Stojko, «Ukrainian National Aspirations and the Russian Provisional Government», in T. Hunczak (ed.), The Ukraine 1917–1921: A Study in Revolution (Cambridge, MA, 1977).
(обратно)341
P. Borowsky, Deutsche Ukrainepolitik 1918 unter besonderer Berьcksichtigung der Wirtschaftsfragen (Lübeck, 1970), p. 21–25.
(обратно)342
E. Carr, The Bolshevik Revolution, 1917–1923 (London, 1966), vol. 1, p. 301.
(обратно)343
W. Hahlweg (ed.), Der Friede von Brest-Litowsk: Ein unverцffentlichter Band aus dem Werk des Untersuchungsausschusses der deutschen verfassunggebenden Nationalversammlung und des deutschen Reichstages (Düsseldorf, 1971), p. 299.
(обратно)344
J. Wheeler-Bennett, Brest-Litovsk: The Forgotten Peace, March 1918 (London, 1938), p. 161–163.
(обратно)345
Самое известное объяснение трагедии было предложено германским социологом Максом Вебером в его речи «Политика как профессия», произнесенной в начале 1919 года. Примечательно, что для того, чтобы прийти к этому трагическому заключению, Вебер искажает смысл произнесенного Троцким, цитируя лишь отрывок первого произнесенного им предложения; см.: Peter Lassman and Ronald Speirs (eds), Weber: Political Writings (Cambridge, 1994), P. З10.
(обратно)346
M. D. Steinberg, Voices of Revolution, 1917 (New Haven, CT, 2001), p. 262–273.
(обратно)347
W. H. Roobol, Tsereteli – A Democrat in the Russian Revolution: A Political Biography (The Hague, 1977), p. 181–182.
(обратно)348
J. Bunyan and H. Fisher (eds), The Bolshevik Revolution 1917–1918: Documents and Materials (Stanford, CA, 1934), p. 369–380.
(обратно)349
M. Gorky, Untimely Thoughts (New Haven, CT, 1995), p. 124–125; А. М. Горький, «Несвоевременные мысли. Заметки о революции и культуре. 1917–1918 гг.: 9 января – 5 января», Новая Жизнь. № 6 (220), 9 (22) января 1918 г.
(обратно)350
R. Pipes, The Russian Revolution (New York, 1990), p. 554; Пайпс Р. Русская революция, кн. 2. М., 2005, с. 270.
(обратно)351
V. I. Lenin, «People from Another World», in V. I. Lenin, Collected Works (Moscow, 1972), vol. 26, p. 431–433; В. И. Ленин. Люди с того света // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 35. М., 1969, с. 232–237.
(обратно)352
J. Siegel, For Peace and Money (Oxford, 2014, forthcoming), chapter 5.
(обратно)353
C. Bell and B. Elleman, Naval Mutinies of the Twentieth Century: An International Perspective (London, 2003), p. 45–65.
(обратно)354
P. Scheidemann, Der Zusammenbruch (Berlin, 1921), p. 70–71.
(обратно)355
Der Interfraktioneller Ausschuss, 1917/18, eds E. Matthias and R. Morsey (Düsseldorf, 1959), vol. 2, p. 188–193.
(обратно)356
Wheeler-Bennett, Brest-Litovsk, p. 209–211.
(обратно)357
K. Liebknecht, Politische Aufzeichnungen aus seinem Nachlass (Berlin, 1921), 51, cited in L. Trotsky, My Life (New York, 1960), p. 378.
(обратно)358
G.-H. Soutou, L’Or et le Sang: Les Buts de guerre économique de la Première Guerre Mondiale (Paris, 1989), p. 661–663.
(обратно)359
Wheeler-Bennett, Brest-Litovsk, p. 171.
(обратно)360
Pipes, Russian Revolution, p. 591; Пайпс Р. Русская революция, с. 320.
(обратно)361
Цитата, соответственно, по: V. I. Lenin, «Peace or War, 23 February 1918», в V. I. Lenin, Collected Works (Moscow, 1972), vol. 27, 36–39; В. И. Ленин. Мир или война? //Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 35. М., 1969, с. 366–368.
(обратно)362
R. Debo, Revolution and Survival: The Foreign Policy of Soviet Russia 1917–1918 (Toronto, 1979), p. 120–121.
(обратно)363
Wheeler-Bennett, Brest-Litovsk, p. 226–229.
(обратно)364
IFA, vol. 2, p. 250.
(обратно)365
Ibid., p. 163.
(обратно)366
Об этих и последующих событиях см. в: W. Baumgart and K. Repgen, Brest-Litovsk (Göttingen, 1969), p. 58–66.
(обратно)367
Подлинные слова кайзера: «bolshewiki tiger, kesseltreiben abschiessen».
(обратно)368
Baumgart and Repgen, Brest-Litovsk, p. 61.
(обратно)369
Ibid., p. 62.
(обратно)370
Ibid., p. 66.
(обратно)371
R. von Kühlmann, Erinnerungen (Heidelberg, 1948), p. 548.
(обратно)372
I. Geiss, Der polnische Grenzstreifen, 1914–1918. Ein Beitrag zur deutschen Kriegszielpolitik im Ersten Weltkrieg (Lübeck, 1960), p. 132–134.
(обратно)373
M. Hoffmann, War Diaries and Other Papers (London, 1929), vol. 1, p. 205.
(обратно)374
R. Pipes, Russia under the Bolshevik Regime (New York, 1994), p. 27–28, 52.
(обратно)375
Pipes, Russian Revolution, p. 588; Пайпс Р. Русская революция, с. 360.
(обратно)376
Debo, Revolution, p. 124–146.
(обратно)377
Wheeler-Bennett, Brest-Litovsk, p. 245.
(обратно)378
Pipes, Russian Revolution, p. 594; Пайпс Р. Русская революция, с. 364.
(обратно)379
V. I. Lenin, «Political Report of the Bolshevik Central Committee, 7 March 1918. Seventh Congress of the Russian Communist Party: Verbatim Report 6–8 March 1918», in V. I. Lenin, Collected Works (Moscow, 1972), vol. 27, 85-158; В. И. Ленин. Седьмой экстренный съезд РКП (б) // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 36. М., 1969, с. 1–76.
(обратно)380
R. Service, Lenin: A Political Life (Bloomington, IN, 1985), p. 327–330.
(обратно)381
V. I. Lenin, «Extraordinary Fourth All-Russia Congress of Soviets, 14–16 March 1918», in V. I. Lenin, Collected Works (Moscow, 1972), vol. 27, p. 169–201; В. И. Ленин. IV Чрезвычайный всероссийский съезд Советов. 14–16 марта 1918 г. // Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 36. М., 1969, с. 89–123.
(обратно)382
W. Ribhegge, Frieden für Europa: Die Politik der deutschen Reichstagsmehrheit, 1917-18 (Essen, 1988), p. 264–265.
(обратно)383
Der Interfraktioneller Ausschuss, 1917/18, eds E. Matthias and R. Morsey (Düsseldorf, 1959), vol. 2, p. 285–291; S. Miller, Burgfrieden und Klassenkampf: Die deutsche Sozialdemokratie im Ersten Weltkrieg (Düsseldorf, 1974), p. 368.
(обратно)384
Wheeler-Bennett, Brest-Litovsk, p. 304–307.
(обратно)385
Ribhegge, Frieden, p. 268.
(обратно)386
IFA, vol. 2, p. 303.
(обратно)387
Stevenson, With Our Backs to the Wall (London, 2011), p. 42, 53–54.
(обратно)388
W. Churchill, The World Crisis, 1916–1918 (New York, 1927), vol. 2, p. 132.
(обратно)389
W. Goerlitz (ed.), Regierte Der Kaiser? Kriegstagebücher, Aufzeichnungen und Briefe des Chefs des Marinekabinetts Admiral George Alexander von Mueller, 1914–1918 (Göttingen, 1959), p. 366.
(обратно)390
Erich Ludendorff, My War Memories (London, 1919), vol. 2, p. 602.
(обратно)391
Max von Baden, Erinnerungen und Dokumente (Stuttgart, 1968), p. 242–243.
(обратно)392
W. Baumgart, Deutsche Ostpolitik 1918. Von Brest-Litowsk bis zum Ende des Ersten Weltkrieges (Vienna and Munich, 1966), p. 40. (Действительный источник цитаты: В. И. Ленин. Доклад о внешней политике на объединенном заседании ВЦИК и московского совета 14 мая 1918 г.// Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 36. М., 1969, с. 328. – Примеч. науч. ред.)
(обратно)393
S. F. Cohen, Bukharin and the Bolshevik Revolution: A Political Biography 1888–1938 (London 1974).
(обратно)394
«The Chief Task of Our Day», Izvestia VTsIK, no. 46, 12 March 1918, in V. I. Lenin, Collected Works (Moscow, 1972), vol. 27, p. 159–163. (Действительный источник цитаты: В. И. Ленин. Доклад о пересмотре программы и изменении названия партии 8 марта 1918 г. // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 36. М., 1969, с. 47. – Примеч. науч. ред.)
(обратно)395
Здесь и далее: Seventh Congress of the Russian Communist Party: Verbatim Report, 6–8 March 1918, in ibid., 85-158; В. И. Ленин. Седьмой экстренный съезд РКП(б) // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 36. М., 1969, с. 1–76.
(обратно)396
Baumgart, Deutsche Ostpolitk, p. 36. Это красноречивое признание позже было изъято из официального московского издания собрания сочинений Ленина.
(обратно)397
R. Pipes, The Russian Revolution (New York, 1990), p. 603–605; Пайпс Р. Русская революция, с. 347–349.
(обратно)398
P. E. Dunscomb, Japan’s Siberian Intervention, 1918–1922 (Plymouth, 2011), p. 40.
(обратно)399
F. R. Dickinson, War and National Reinvention: Japan in the Great War, 1914–1919 (Cambridge, MA, 1999 p. 57 and 197.
(обратно)400
J. Morley, The Japanese Thrust into Siberia, 1918 (New York, 1957), p. 53.
(обратно)401
Dickinson, War, p. 183–184.
(обратно)402
Dunscomb, Siberian Intervention, p. 42–43.
(обратно)403
Dickinson, War, p. 196.
(обратно)404
S. Naoko, Japan, Race and Equality: The Racial Equality Proposal of 1919 (London, 2003), p. 109.
(обратно)405
C. Tsuzuki, The Pursuit of Power in Modern Japan, 1825–1995 (Oxford, 2000), p. 206.
(обратно)406
G. Kennan, Russia Leaves the War: Soviet-American Relations, 1917–1920 (Princeton, NJ), vol. 1, p. 272–273.
(обратно)407
B. M. Unterberger, «Woodrow Wilson and the Russian Revolution», in Woodrow Wilson and a Revolutionary World, ed. Arthur S. Link (Chapel Hill, NC, 1982), p. 61.
(обратно)408
Kennan, Soviet-American, p. 480.
(обратно)409
C. Seymour (ed.), The Intimate Papers of Colonel House (Boston, MA, 1926–1928), vol. 3, P.З99.
(обратно)410
Pipes, Russian Revolution, p. 598–599; Пайпс Р. Русская революция, с. 340.
(обратно)411
Morley, The Japanese Thrust, p. 140–141.
(обратно)412
N. Kawamura, Turbulence in the Pacific: Japanese-US Relations during World War I (Westport, CT, 2000), p. 116; A. S. Link (ed.) et al., The Papers of Woodrow Wilson, 69 vols (Princeton, NJ, 1966–1994).
(обратно)413
Хауз, по меньшей мере, сделал это, признав наличие в Японии «двух партий», см.: Seymour (ed.), Intimate Papers, vol. 3, p. 415.
(обратно)414
U. Trumpener, Germany and the Ottoman Empire 1914–1918 (Princeton, NJ, 1968), p. 249.
(обратно)415
См. переписку 18 июня между Эрцбергером, Кульманом и Хертлингом в: Der Interfraktioneller Ausschuss, 1917/18 [IFA], eds E. Matthias and R. Morsey (Düsseldorf,1959) 2, p. 410.
(обратно)416
R. G. Hovanissian, Armenia on the Road to Independence, 1918 (Berkeley, CA, 1967), p. 175.
(обратно)417
Baumgart, Ostpolitik, p. 181.
(обратно)418
p. 193–194.
(обратно)419
Hovannisian, Armenia on the Road to Independence, p. 184.
(обратно)420
Эту политику допустил комитет рейхстага, см.: IFA, vol. 2, p. 519.
(обратно)421
Trumpener, Germany, p. 256–257.
(обратно)422
R. G. Suny, The Making of the Georgian Nation (Bloomington, IN, 1994), p. 192.
(обратно)423
Baumgart, Ostpolitik, p. 269.
(обратно)424
P. Borowsky, Deutsche Ukrainepolitik, 1918 (Lübeck 1970).
(обратно)425
Как настаивал Эрцбергер в дискуссии с германской администрацией на Украине, IFA, vol. 2, p. 407.
(обратно)426
Объяснения, предоставленные большинству в рейхстаге, см. в: IFA, vol. 2, p. 404.
(обратно)427
Max Hoffmann, War Diaries and Other Papers (London, 1929), vol. 1, p. 209.
(обратно)428
T. Hunczak, «The Ukraine under Hetman Pavlo Skoropadskyi», in idem., The Ukraine: A Study in Revolution, 1917–1921 (Cambridge, MA, 1977), p. 61–81.
(обратно)429
A. F. Upton, The Finnish Revolution 1917–1918 (Minneapolis, MN, 1980).
(обратно)430
C. J. Smith, Finland and the Russian Revolution 1917–1922 (Athens, GA, 1958), p. 78.
(обратно)431
Stanley G. Payne, Civil War in Europe 1905–1940 (Cambridge, 2011), p. 30.
(обратно)432
Pipes, Russian Revolution, 612–615; Пайпс Р. Русская революция, с. 356.
(обратно)433
Baumgart, Ostpolitik, p. 37.
(обратно)434
R. H. Ullman, Anglo-Soviet Relations 1917–1921, vol. 1, Intervention and the War (Princeton, NJ, 1961), p. 177.
(обратно)435
Baumgart, Ostpolitik, p. 267–268.
(обратно)436
V. I. Lenin, „Left-Wing“ Childishness’, written April 1918, first published 9, 10, 11 May 1918 in Pravda, nos 88, 89, 90; Lenin, Collected Works (Moscow, 1972), vol. 27, p. 323334; В. И. Ленин. О «левом» ребячестве и мелкобуржуазности // Ленин В. И.Полн. собр. соч. Т. 36. М., 1969, с. 283–314.
(обратно)437
Baumgart, Ostpolitik, p. 264.
(обратно)438
Russian American Relations March 1917-March 1920 (New York, 1920), Doc. 73, p. 152–153.
(обратно)439
Ibid., Doc. 91, p. 209.
(обратно)440
D. W. McFadden, Alternative Paths: Soviets and Americans 1917–1920 (Oxford, 1993),p. 122.
(обратно)441
Baumgart, Ostpolitik, p. 70.
(обратно)442
Ibid., p. 129.
(обратно)443
Ibid., p. 183.
(обратно)444
K. Epstein, Matthias Erzberger and the Dilemma of German Democracy (Princeton, NJ, 1959) p. 239–240.
(обратно)445
Borowsky, Deutsche Ukrainepolitik, p. 190–192.
(обратно)446
См.: Gothein, IFA, vol. 2, p. 289.
(обратно)447
О его протестах против вмешательства в систему образования в Литве см.: IFA,vol. 2, p. 388.
(обратно)448
Epstein, Erzberger, p. 242.
(обратно)449
W. Baumgart and K. Repgen (eds), Brest-Litovsk (Göttingen, 1969), p. 100. Большинство в рейхстаге выступило против германского вторжения с самого начала, см.:IFA, vol. 2, p. 316–317.
(обратно)450
R. H. Ullman, Anglo-Soviet Relations, 1917–1921 (Princeton, NJ, 1962), vol. 1, p. 169.
(обратно)451
C. Seymour (ed.), The Intimate Papers of Colonel House (Boston, MA, 1926-8), vol. 3, p. 410.
(обратно)452
R. Pipes, The Russian Revolution (New York, 1990), p. 558–565; Пайпс Р. Русская революция, кн. 2. М., 2005, с. 291.
(обратно)453
B. M. Unterberger, The United States, Revolutionary Russia and the Rise of Czechoslovakia (Chapel Hill, NC, 1989), p. 124–127, notes to p. 150–158.
(обратно)454
Papers Relating to the Foreign Relations of the United States: Lansing Papers (Washington, DC, 1940), vol. 2, p. 126–128, 139–141 and 364.
(обратно)455
L. Gardner, Safe for Democracy: The Anglo-American Response to Revolution, 1913–1923 (Oxford, 1987), p. 186.
(обратно)456
Цит. по: Unterberger, United States, p. 235.
(обратно)457
Цит. по: T. J. Knock, To End All Wars: Woodrow Wilson and the Quest for a New Order (Princeton, NJ, 1992), p. 161.
(обратно)458
I. Somin, Stillborn Crusade: The Tragic Failure of Western Intervention in the Russian Civil War 1918–1920 (New Brunswick, NJ, 1996), p. 40.
(обратно)459
Ullman, Anglo-Soviet, p. 222.
(обратно)460
Ibid., p. 305.
(обратно)461
Ibid., p. 221–222.
(обратно)462
Pipes, Russian Revolution, p. 633–635; Пайпс Р. Русская революция, p. 380.
(обратно)463
W. Baumgart, Deutsche Ostpolitik 1918. Von Brest-Litowsk bis zum Ende des Ersten Weltkrieges (Vienna and Munich, 1966), p. 85.
(обратно)464
Ibid., p. 85–86.
(обратно)465
F. Fischer, Griff nach der Weltmacht: Die Kriegszielpolitik des Kaiserlichen Deutschland, 1914-18, (Düsseldorf, 1961), p. 836–840.
(обратно)466
Der Interfraktioneller Ausschuss, 1917/18 [IFA], eds E. Matthias and R. Morsey (Düsseldorf, 1959) vol 2, p. 400–401.
(обратно)467
Baumgart, Ostpolitik, p. 139.
(обратно)468
M. Kitchen, The Silent Dictatorship: The Politics of the German High Command under Hindenburg and Ludendorff, 1916–1918 (London, 1976), p. 204.
(обратно)469
IFA, vol. 2, p. 413–418.
(обратно)470
Цит. по: W. Ribhegge, Frieden für Europa: Die Politik der deutschen Reichstagsmehrheit, 1917–1918 (Essen, 1988), p. 299.
(обратно)471
IFA, vol. 2, p. 447–465.
(обратно)472
Ibid., p. 426–428.
(обратно)473
Ibid., p. 517.
(обратно)474
Ibid., 25. p. 474.
(обратно)475
Pipes, Russian Revolution, p. 638–639; Пайпс Р. Русская революция, с. 372.
(обратно)476
Ibid, p. 653–656; Там же, с. 403–405; Baumgart, Ostpolitik, p. 232.
(обратно)477
A. J. Mayer, Furies: Violence and Terror in the French and Russian Revolutions (Princeton, NJ, 2000), p. 273–274.
(обратно)478
Ibid., p. 277.
(обратно)479
Lenin speech to All-Russia Central Executive Committee, Fifth Convocation, 29 July 1918, in V. I. Lenin, Collected Works (Moscow, 1965), vol. 28, p. 17–33; В. И. Ленин. Речь на объединенном заседании ВНИК, Московского совета, фабрично-заводских комитетов и профессиональных союзов Москвы 29 июля 1918 г. // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 37. М., 1969, с. 1–19.
(обратно)480
K. Helfferich, Der Weltkrieg (Berlin, 1919), vol. 3, 466.
(обратно)481
Rosa Luxemburg, «The Russian Tragedy», Spartacus, no. 11, 1918.
(обратно)482
IFA, vol. 2, p. 505–506.
(обратно)483
Baumgart, Ostpolitik, p. 109.
(обратно)484
Pipes, Russian Revolution, p. 664–666; Пайпс Р. Русская революция, с. 410–411; Baumgart, Ostpolitik, p. 111–113.
(обратно)485
Предпринятая в: G.-H. Soutou, L’Or et le Sang. Les Buts de guerre économique de la Premiure Guerre Mondiale (Paris, 1989), p. 706–708, попытка считать дополнительный Брестский договор предшественником Рапалльского слишком сильно преувеличивала бы значение сделанного Лениным. Однако автор прав в том, что экономические условия трудно было назвать карательными.
(обратно)486
M. Kitchen, The Silent Dictatorship: The Politics of the German High Command under Hindenburg and Ludendorff, 1916–1918 (New York, 1976), p. 242; Baumgart, Ostpolitik, p. 201.
(обратно)487
Pipes, Russian Revolution, p. 666; Пайпс Р. Русская революция, с. 411.
(обратно)488
R. Pipes, Russia under the Bolshevik Regime (New York, 1994), p. 53–55; Пайпс Р. Русская революция, кн. 3. М., 2005, с. 70–71.
(обратно)489
IFA, vol. 2, p. 476–479.
(обратно)490
Baumgart, Ostpolitik, p. 313–315.
(обратно)491
IFA, vol. 2, p. 474–479, 500–501.
(обратно)492
Helfferich, WeltkriegIII, p. 490–492.
(обратно)493
IFA, vol. 2, p. 517.
(обратно)494
Baumgart, Ostpolitik, p. 318–319.
(обратно)495
C. Tsuzuki, The Pursuit of Power in Modern Japan, 1825–1995 (Oxford, 2000), p. 206.
(обратно)496
Это полностью соответствует утверждениям Пайпса в: Pipes, Russian Revolution, p. 668–670; Пайпс Р. Русская революция, с. 412–413, однако он упрощает позицию Германии.
(обратно)497
D. Stevenson, With Our Backs to the Wall: Victory and Defeat in 1918 (London, 2011).
(обратно)498
Примером типичной оценки можно считать комментарии одного из заместителей министра, мучительно переживавшего события в парламенте Германии в сентябре 1918 года, см.: Der Interfraktioneller Ausschuss, 1917/18, eds E. Matthias and R. Morsey (Düsseldorf, 1959), vol. 2, p. 773–778.
(обратно)499
M. Knox, To the Threshold of Power, 1922/33, vol. 1, Origins and Dynamics of the Fascist and National Socialist Dictatorships (Cambridge, 2007), p. 143–231.
(обратно)500
L. V. Smith, S. Audoin-Rouzeau and A. Becker, France and the Great War (Cambridge, 2003).
(обратно)501
P. O’Brien, Mussolini in the First World War: The Journalist, The Soldier, The Fascist(Oxford, 2005).
(обратно)502
G. Clemenceau, «Discours de Guerre», Chambre des Députés, Assemblée Nationale, Paris (8 March 1918).
(обратно)503
D. Watson, Georges Clemenceau: A Political Biography (London, 1976), p. 275–292.
(обратно)504
G. Clemenceau, Demosthenes (New York, 1926).
(обратно)505
W. A. McDougall, France’s Rhineland Diplomacy 1914–1924 (Princeton, NJ, 1978), p. 17–25.
(обратно)506
H. J. Burgwyn, The Legend of the Mutilated Victory: Italy, the Great War, and the Paris Peace Conference, 1915–1919 (Westport, CT, 1993).
(обратно)507
C. Seton-Watson, Italy from Liberation to Fascism, 1870–1925 (London, 1967), p. 485.
(обратно)508
D. Rossini, Woodrow Wilson and the American Myth in Italy (Cambridge, MA, 2008), p. 125–131.
(обратно)509
Замечательный материал, составленный почти современником этих событий, см. в: L. Hautecoeur, L’Italie sous le Ministère Orlando 1917–1919 (Paris, 1919), p. 83–110.
(обратно)510
C. Killinger, Gaetano Salvemini: A Biography (Westport, CT, 2002).
(обратно)511
K. J. Calder, Britain and New Europe 1914–1918 (Cambridge, 1976), p. 180–182.
(обратно)512
G. A. Heywood, Failure of a Dream: Sidney Sonnino and the Rise and Fall of Liberal Italy 1847–1922 (Florence, 1999).
(обратно)513
H. Nicolson, Peacemaking, 1919 (London, 1933), p. 167.
(обратно)514
S. Di Scala, Vittorio Orlando (London, 2010), 119; Rossini, Woodrow Wilson, р. 142–146.
(обратно)515
Незаменимый справочный материал по всем последующим событиям представлен в: J. Darwin, The Empire Project: The Rise and Fall of the British World System, 18301970 (Cambridge, 2009).
(обратно)516
J. Grigg, Lloyd George: War Leader, 1916–1918 (London, 2002), р. 61.
(обратно)517
Эти события блестящим образом описаны в: R. Fanning, Fatal Path: British Government and Irish Revolution, 1910–1922 (London, 2013).
(обратно)518
J. P. Finnan, John Redmond and Irish Unity, 1912–1918 (Syracuse, NY, 2004).
(обратно)519
C. Duff, Six Days to Shake an Empire (London, 1966).
(обратно)520
J. S. Mortimer, «Annie Besant and India 1913–1917», Journal of Contemporary History 18, no. 1 (January 1983), р. 61–78.
(обратно)521
H. F. Owen, «Negotiating the Lucknow Pact», The Journal of Asian Studies 31, no. 3 (May 1972) р. 561–587.
(обратно)522
A. Rumbold, Watershed in India, 1914–1922 (London, 1979), р. 64.
(обратно)523
Ibid., р. 73.
(обратно)524
B. R. Tomlinson, The Political Economy of the Raj, 1914–1947: The Economics of Decolonization in India (London, 1979).
(обратно)525
Rumbold, Watershed, р. 71–72.
(обратно)526
P. Robb, «The Government of India and Annie Besant», Modern Asian Studies 10, no.1 (1976) р. 107–130.
(обратно)527
H. Owens, The Indian Nationalist Movement, c. 1912–1922: Leadership, Organisation and Philosophy (New Delhi, 1990), р. 85.
(обратно)528
R. Kumar, Annie Besant’s Rise to Power in Indian Politics, 1914–1917 (New Delhi, 1981), р. 115.
(обратно)529
B. Millman, Managing Domestic Dissent in First World War Britain (London, 2000), р. 170.
(обратно)530
H. C. G. Matthew, R. I. McKibbin and J. A. Kay, «The Franchise Factor in the Rise of the Labour Party», The English Historical Review 91, no. 361 (October 1976), р. 723–752.
(обратно)531
Незаменимым источником остается: M. Pugh, Electoral Reform in War and Peace, 1906–1918 (London, 1978).
(обратно)532
Ibid., р. 103.
(обратно)533
J. Lawrence, «Forging a Peaceable Kingdom: War, Violence, and Fear of Brutalization in Post-First World War Britain», Journal of Modern History 75, no. 3 (2003), р. 557–589.
(обратно)534
D. H. Close, «The Collapse of Resistance to Democracy: Conservatives, Adult Suffrage, and Second Chamber Reform, 1911–1928», The Historical Journal 20, no. 4 (December 1977) р. 893–918.
(обратно)535
Pugh, Electoral Reform, р. 136.
(обратно)536
S. S. Holton, Feminism and Democracy: Women’s Suffrage and Reform Politics in Britain, 1900–1918 (Cambridge, 1986), р. 149.
(обратно)537
Pugh, Electoral Reform, р. 75.
(обратно)538
Darwin, Empire Project, р. 353.
(обратно)539
Ibid р. 348.
(обратно)540
Rumbold, Watershed, р. 88.
(обратно)541
S. D. Waley, Edwin Montagu: A Memoir and an Account of his Visits to India (London, 1964 р. 130–134.
(обратно)542
R. Danzig, «The Announcement of August 20th, 1917», The Journal of Asian Studies 28, no. 1 (November 1968), р. 19–37; R. J. Moore, «Curzon and Indian Reform», Modern Asian Studies 27, no. 4 (October 1993), р. 719–740.
(обратно)543
Waley, Montagu, р. 135.
(обратно)544
Ibid., р. 137–138.
(обратно)545
H. Tinker, The Foundations of Local Self-Government in India, Pakistan and Burma (London, 1954), р. 112–161.
(обратно)546
Все последующее взято из: E. Montagu and F. Chelmsford, The Constitution of India Under British Rule: The Montagu-Chelmsford Report (New Delhi, 1992).
(обратно)547
D. A. Low, Lion Rampant: Essays in the Study of British Imperialism (London, 1973).
(обратно)548
T. R. Metcalf, Ideologies of the Raj (Cambridge, 1997), р. 225–226.
(обратно)549
M. Gandhi, Collected Works (New Delhi, 1999), vol. 17, «Appeal for Enlistment 22 June 1918».
(обратно)550
S. Sarkar, Modern India, 1885–1947 (Madras, 1983), р. 150.
(обратно)551
Kumar, Annie Besant, р. 112–113.
(обратно)552
Умозрительная конструкция, на основе которой Манела надеялся воспроизвести вильсоновский момент в Индии, строилась во многом лишь вокруг личности Лала Ладжпата Рая; см.: E. Manela, The Wilsonian Moment: Self-Determination and the International Origins of Anticolonial Nationalism (Oxford, 2007), р. 84–97.
(обратно)553
S. Hartley, The Irish Question as a Problem in British Foreign Policy, 1914–1918 (Basingstoke, 1987), 107.
(обратно)554
Finnan, Redmond, р. 190.
(обратно)555
A. S. Link (ed.) et al., The Papers of Woodrow Wilson [PWW], 69 vols (Princeton, NJ, 1966-94), vol. 42, р. 24–25 and 41–42.
(обратно)556
M. Beloff, Imperial Sunset: Britain’s Liberal Empire, 1897–1921 (London, 1969), vol. 1, р.316.
(обратно)557
Hartley, The Irish Question, р. 147–148.
(обратно)558
Ibid., р. 153.
(обратно)559
PWW, vol. 42, р. 542. Вильсон сам просил, чтобы ему передавали эти отчеты, см: PWW, vol. 43, р. 360–361.
(обратно)560
Hartley, Irish Question, р. 134.
(обратно)561
Ibid., р. 175.
(обратно)562
Ibid., р. 178.
(обратно)563
House of Lords parliamentary debates, May 1917, р. 170.
(обратно)564
Hartley, Irish Question, р. 172 и 191.
(обратно)565
J. Gallagher, «Nationalisms and the Crisis of Empire, 1919–1922», Modern Asian Studies 15, no. 3 р. 355–358.
(обратно)566
E. Monroe, Britain’s Moment in the Middle East, 1914–1971 (Baltimore, MD, 1981), р. 26–35.
(обратно)567
B. C. Bush, Britain, India, and the Arabs, 1914–1921 (Berkeley, CA, 1971).
(обратно)568
H. Luthy, «India and East Africa: Imperial Partnership at the End of the First World War», Journal of Contemporary History 6, no. 2 (1971), р. 55–85.
(обратно)569
D. R. Woodward, Trial by Friendship: Anglo-American Relations, 1917–1918 (Lexington, 1993) р. 174.
(обратно)570
J. Kimche, The Unromantics: The Great Powers and the Balfour Declaration (London, 1968), р. 66.
(обратно)571
J. Renton, The Zionist Masquerade: The Birth of the Anglo-Zionist Alliance, 1914–1918 (Houndsmill, 2007); L. Stein, The Balfour Declaration (London, 1961).
(обратно)572
Levene, «The Balfour Declaration: A Case of Mistaken Identity», The English Historical Review 107, no. 422 (January 1992), p. 54–77.
(обратно)573
J. Reinharz, «The Balfour Declaration and Its Maker: A Reassessment», The Journal of Modern History 64, no. 3 (September 1992), р. 455–499; R. N. Lebow, «Woodrow Wilson and the Balfour Declaration», The Journal of Modern History 40, no. 4 (December 1968), р. 501–523.
(обратно)574
Grigg, Lloyd George, р. 308–309.
(обратно)575
Ibid., р. 336–337.
(обратно)576
D. Lloyd George, The Great Crusade: Extracts from Speeches Delivered During the War (New York, 1918), р. 176–86 (5 January 1918).
(обратно)577
C. Seymour (ed.), The Intimate Papers of Colonel House (Boston, MA, 1926-8), vol. 3, р. 341.
(обратно)578
W. L. Silber, When Washington Shut down Wall Street: The Great Financial Crisis of 1914 and the Origins of America’s Monetary Supremacy (Princeton, NJ, 2007).
(обратно)579
H. Strachan, The First World War, vol. 1, To Arms (Oxford, 2001).
(обратно)580
V. Lenin, «„Left-Wing“ Childishness», April 1918, in V. I. Lenin, Collected Works, vol. 27 (Moscow, 1972), 323–334; В. И. Ленин. Детская болезнь «левизны» в коммунизме // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 35. М., 1969, с. 76.
(обратно)581
Пример, иллюстрирующий влияние, которым пользовался Ратенау, приводится в: A. Dauphin-Meunier, «Henri de Man et Walther Rathenau», Revue Européenne des Sciences Sociales 12, no. 31 (1974), р. 103–120.
(обратно)582
G. Feldman, Army, Industry and Labour in Germany, 1914–1918 (Oxford, 1992).
(обратно)583
T. S. Broadberry and M. Harrison (eds), The Economics of World War I (Cambridge, 2005); K. D. Stubbs, Race to the Front: The Material Foundations of Coalition Strategy in the Great War, 1914–1918 (Westport, CT, 2002).
(обратно)584
J. Termine, White Heat: The New Warfare 1914–1918 (London, 1982).
(обратно)585
D. L. Lewis, The Public Image of Henry Ford (Detroit, MI, 1976), р. 70–77, 93–95.
(обратно)586
R. Alvarado and S. Alvarado, Drawing Conclusions on Henry Ford (Detroit, MI, 2001), р. 82.
(обратно)587
C. S. Maier, In Search of Stability: Explorations in Historical Political Economy (Cambridge, 1987), р. 19–69; J. Herf, Reactionary Modernism: Technology, Culture and Politics in Weimar and the Third Reich (Cambridge, 1984).
(обратно)588
D. R. Woodward, Trial by Friendship: Anglo-American Relations, 1917–1918 (Lexington, 1993) р. 130–149.
(обратно)589
Y.-H. Nouailhat, France et Etats-Unis: août 1914-avril 1917 (Paris, 1979), р. 250–262.
(обратно)590
Это стало рефреном в официальном отчете, см.: B. Crowell, America’s Munitions 1917–1918 (Washington, DC, 1919).
(обратно)591
J. H. Morrow, The Great War in the Air: Military Aviation from 1909 to 1921 (Washington DC 1993), р. 338.
(обратно)592
Woodward, Trial by Friendship, р. 118–119.
(обратно)593
R. Sicotte, «Economic Crisis and Political Response: The Political Economy of the Shipping Act of 1916», The Journal of Economic History 59, no. 4 (December 1999), р. 861–884.
(обратно)594
E. E. Day, «The American Merchant Fleet: A War Achievement, a Peace Problem», The Quarterly Journal of Economics 34, no. 4 (August 1920), р. 567–606.
(обратно)595
Woodward, Trial by Friendship, р. 136.
(обратно)596
Ibid., р. 155, 159.
(обратно)597
Papers Relating to the Foreign Relations of the United States: Lansing Papers (Washington, DC, 1940), vol. 2, р. 205.
(обратно)598
D. Rossini, Woodrow Wilson and the American Myth in Italy (Cambridge, MA, 2008), 100–103.
(обратно)599
A. Salter, Allied Shipping Control (Oxford, 1921).
(обратно)600
F. Duchкne, Jean Monnet: The First Statesman of Interdependence (New York, 1994).
(обратно)601
В книге: A. Kaspi, Le Temps des Américains. Le concours américain à la France en 1917–1918 (Paris, 1976), р. 253–65, это названо «victoire ignorée».
(обратно)602
G. D. Feldman, «Die Demobilmachung und die Sozialordnung der Zwischenkriegszeit in Europa», Geschichte und Gesellschaft, 9. Jahrg., vol. 2 (1983), р. 156–177.
(обратно)603
E. Roussel, Jean Monnet 1888–1979 (Paris, 1996), р. 67.
(обратно)604
C. P. Parrini, Heir to Empire: United States Economic Diplomacy, 1916–1923 (Pittsburgh, PA, 1969) р. 31–32.
(обратно)605
J. J. Safford, Wilsonian Maritime Diplomacy (New Brunswick, NJ, 1978), р. 149.
(обратно)606
Salter, Allied Shipping, р. 165–174.
(обратно)607
W. Churchill, The World Crisis, 1916–1918 (London, 1927), vol. 2, р. 195.
(обратно)608
R. Skidelsky, John Maynard Keynes: Hopes Betrayed, 1883–1920 (London, 1983), vol. 1, р. 342; K. Burk, Britain, America and the Sinews of War (Boston, MA, 1985).
(обратно)609
A. S. Link (ed.) et al., The Papers of Woodrow Wilson [hereafter PWW], 69 vols (Princeton, NJ, 1966-94) vol. 43, р. 136.
(обратно)610
Skidelsky, John Maynard Keynes, vol. 1, р. 345.
(обратно)611
R. Ally, Gold and Empire: The Bank of England and South Africa’s Gold Producers, 1886–1926 (Johannesburg, 1994), р. 31.
(обратно)612
PWW, vol 43, р. 390–91, 424–425.
(обратно)613
Ibid., р. 34 44 and 223-30, 326–333.
(обратно)614
Ally, Gold and Empire, р. 34–41.
(обратно)615
D. Kumar (ed.), The Cambridge Economic History of India (Cambridge, 1983); M. Goswami, Producing India (Chicago, IL, 2004), р. 209–241.
(обратно)616
H. S. Jevons, The Future of Exchange and the Indian Currency (London, 1922), р. 190–200.
(обратно)617
H. Tinker, The Foundations of Local Self-Government in India, Pakistan and Burma (London 1954) р. 96.
(обратно)618
G. Balachandran, John Bullion’s Empire: Britain’s Gold Problem and India Between the Wars (London, 1996), р. 54–59.
(обратно)619
Jevons, The Future, р. 206; F. L. Israel, «The Fulfillment of Bryan’s Dream: Key Pittman and Silver Politics, 1918–1933», Pacific Historical Review 30, no. 4 (November 1961), р. 359–380.
(обратно)620
Balachandran, John Bullion’s Empire, р. 58.
(обратно)621
I. Abdullah, «Rethinking the Freetown Crowd: The Moral Economy of the 1919 Strikes and Riot in Sierra Leone», Canadian Journal of African Studies 28, no. 2 (1994), р. 197–218.
(обратно)622
T Yoshikuni, «Strike Action and Self-Help Associations: Zimbabwean Worker Protest and Culture after World War I», Journal of Southern African Studies 15, no. 3 (1989), р. 440–468.
(обратно)623
M. A. Rifaat, The Monetary System of Egypt: An Inquiry into its History and Present Working (London, 1935).
(обратно)624
A. E. Crouchley, The Economic Development of Modern Egypt (London, 1938).
(обратно)625
P. H. Kratoska, «The British Empire and the Southeast Asian Rice Crisis of 1919–1921», Modern Asian Studies 24, no. 1 (February 1990), р. 115–146.
(обратно)626
M. Lewis, Rioters and Citizens: Mass Protest in Imperial Japan (Berkeley, CA, 1990).
(обратно)627
J. C. Ott, When Wall Street Met Main Street: The Quest for an Investors’ Democracy (Cambridge, MA, 2011), р. 64–135.
(обратно)628
J. C. Hollander, «Certificates of Indebtedness in Our War Financing», The Journal of Political Economy 26, no. 9 (November 1918), р. 901–908; C. Snyder, «War Loans, Inflation and the High Cost of Living», Annals of the American Academy of Political and Social Science 75 (January 1918), р. 140–146; A. Barton Hepburn, J. H. Hollander and B. M. Anderson, Jr, «Discussion of Government» s Financial Policies in Relation to Inflation’, Proceedings of the Academy of Political Science in the City of New York 9, no. 1 (June 1920), р. 55–66.
(обратно)629
A. H. Hansen, «The Sequence in War Prosperity and Inflation», Annals of the American Academy of Political and Social Science 89 (May 1920), р. 234–246.
(обратно)630
C. Gilbert, American Financing of World War I (Westport, CT, 1970), р. 200–219.
(обратно)631
E. B. Woods, «Have Wages Kept Pace with the Cost of Living?», Annals of the American Academy of Political and Social Science 89 (May 1920), р. 135–147.
(обратно)632
B. D. Mudgett, «The Course of Profits during the War», and B. M. Manly, «Have Profits Kept Pace with the Cost of Living?», Annals of the American Academy of Political and Social Science 89 (May 1920), р. 148–162.
(обратно)633
J. D. Morrow, The Great War: An Imperial History (London, 2005), p. 246–247.
(обратно)634
D. Stevenson, With Our Backs to the Wall: Victory and Defeat in 1918 (London, 2011).
(обратно)635
W. Ribhegge, Frieden für Europa: Die Politik der deutschen Reichstagsmehrheit, 1917–1918 (Essen, 1988), p. 312.
(обратно)636
Документы особенно важных заседаний, состоявшихся в сентябре 1918 года, представлены в: Der Interfraktioneller Ausschuss, 1917/18 [IFA], eds E. Matthias and R. Morsey (Düsseldorf, 1959), vol. 2, p. 494–788.
(обратно)637
IFA, vol. 2, p. 541.
(обратно)638
Michael Geyer, «Insurrectionary Warfare: The German Debate about a Levée en Masse in October 1918», TheJournal of Modern History 73, no. 3 (September 2001), p. 459–527.
(обратно)639
K. Helfferich, Der Weltkrieg (Berlin, 1919), vol. 3, p. 536–537.
(обратно)640
IFA, vol. 2, p. 485.
(обратно)641
M. Erzberger, Der Völkerbund. Der Weg zum Weltfrieden (Berlin, 1918).
(обратно)642
IFA, vol. 2, p. 615–616.
(обратно)643
Ibid., p. 626–627.
(обратно)644
F. K. Scheer, Die Deutsche Friedensgesellschaft (1892–1933): Organisation, Ideologie und Politische Ziele. Ein Beitrag zur Geschichte des Pazifismus in Deutschland (Frankfurt, 1981), p. 331–332.
(обратно)645
IFA, vol. 2, p. 530.
(обратно)646
Ibid., p. 779–782.
(обратно)647
A. S. Link (ed.) et al., The Papers of Woodrow Wilson [PWW], 69 vols (Princeton, NJ, 1966-94), vol. 42, p. 433; C. Seymour (ed.), The Intimate Papers of Colonel House (Boston, MA, 1928), vol. 3, p. 130–138.
(обратно)648
PWW, vol. 58, p. 172.
(обратно)649
D. R. Woodward, Trial by Friendship: Anglo-American Relations, 1917–1918 (Lexington, 1993) p. 210.
(обратно)650
Ibid., p. 218–219.
(обратно)651
PWW, vol. 53, p. 338.
(обратно)652
PWW, vol. 51, p. 415.
(обратно)653
C. M. Andrew and A. S. Kanya, «France, Africa, and the First World War», The Journal of African History 19, no. 1 (1978), p. 11–23.
(обратно)654
Представитель США в Высшем военном Совете, Таскер Блисс, с пониманием рассматривает имевшийся у этих стран выбор. Об этом см. В: Papers Relating to the Foreign Relations of the United States: Lansing Papers (Washington, DC, 1940), vol. 2, p. 288.
(обратно)655
PWW, vol. 43, p. 172–174.
(обратно)656
Наиболее значительная работа: J. M. Keynes, The Economic Consequences of the Peace (London, 1919), p. 60; Дж. М. Кейнс. Экономические последствия Версальского мирного договора //Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное. М., 2007, с. 465.
(обратно)657
Николсон отмечает изначальную двойственность намерений, которые и поддерживали мир, и подрывали его, но он не учитывает обстоятельств, приведших к соглашению о перемирии. См.: H. Nicolson, Peacemaking, 1919 (New York, 1965) p. 82–90.
(обратно)658
P. Krüger, «Die Reparationen und das Scheitern einer deutschen Verständigungs-politik auf der Pariser Friedenskonferenz im Jahre 1919», Historische Zeitschrift 221, no. 2 (October 1975), p. 326–372.
(обратно)659
T. J. Knock, To End All Wars: Woodrow Wilson and the Quest for a New Order (Princeton, NJ, 1992), p. 170–172.
(обратно)660
Ibid., p. 176.
(обратно)661
См.: E. Morison (ed.), The Letters of Theodore Roosevelt (Cambridge, MA, 1951), vol. 1, p. 378–381. Об обеспокоенности Рузвельта тем, что Ллойд Джордж не порвет с Вильсоном, см.: Ibid., vol. 1, p. 289.
(обратно)662
Knock, To End All Wars, p. 176. Переписку между Кэботом Лоджем и Рузвельтом см. в: C. Redmond (ed.), Selections from the Correspondence of Theodore Roosevelt and Henry Cabot Lodge 1884–1918 (New York, 1925), vol. 2, p. 542–543.
(обратно)663
Knock, To End All Wars, p. 180.
(обратно)664
Ibid., p. 178.
(обратно)665
J. M. Cooper, Breaking the Heart of the World: Woodrow Wilson and the Fight for the League of Nations (Cambridge, 2001), p. 39.
(обратно)666
Redmond, The Letters of Theodore Roosevelt, vol. 1, p. 394–395.
(обратно)667
A. S. Link (ed.) et al., The Papers of Woodrow Wilson [hereafter PWW], 69 vols (Princeton, NJ, 1966–1994) vol 53, p. 366.
(обратно)668
R. Olson, The Emergence of Kurdish Nationalism and the Sheikh Said Rebellion, 1880–1925 (Austin, TX, 1989), p. 28–29.
(обратно)669
R. M. Coury, The Making of an Egyptian Arab Nationalist: The Early Years of Azzam Pasha, 1893–1936 (Reading, 1998) p. 159.
(обратно)670
E. Manela, The Wilsonian Moment: Self-Determination and the International Origins of Anticolonial Nationalism (Oxford, 2007).
(обратно)671
M. Geyer, «Zwischen Krieg und Nachkrieg», in A. Gallus (ed.), Die vergessene Revolution (Göttingen, 2010), p. 187–222.
(обратно)672
A. Mayer, Politics and Diplomacy of Peacemaking: Containment and Counterrevolution at Versailles, 1918–1919 (London, 1968).
(обратно)673
V. I. Lenin, «Report at a Joint Session of the All-Russia Central Executive Committee: The Moscow Soviet, Factory Committees and Trade Unions, October 221918», in V. I. Lenin, Collected Works (Moscow, 1974), vol. 28, p. 113–126; В. И. Ленин. Речь на объединенном заседании ВЦИК 29 июля 1918 г. // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 37. М., 1969, с. 118.
(обратно)674
E. Mawdsley, The Russian Civil War (London, 2007).
(обратно)675
M. Gilbert, Winston S. Churchill, vol. 4, The Stricken World, 1917–1922 (London, 1975), p. 234.
(обратно)676
J. M. Thompson, Russia, Bolshevism, and the Versailles Peace (Princeton, NJ, 1966).
(обратно)677
Последующие цитаты взяты из: Document 129 in C. K. Cumming and W. W. Pettit (eds), Russian-American Relations, March 1917-March 1920 (New York, 1920), p. 284–289.
(обратно)678
Gilbert, Churchill, vol. 4, p. 230.
(обратно)679
M. J. Carley, «Episodes from the Early Cold War: Franco-Soviet Relations, 1917–1927», Europe-Asia Studies 52, no. 7 (November 2000), p. 1, 276.
(обратно)680
Document 127, «Russian-American Relations», p. 281.
(обратно)681
Переориентация правящих кругов Германии на Запад началась не в 1923 г., а еще осенью 1918 г., как верно подмечено в: G.-H. Soutou, L’Or et le Sang: Les Buts deguerre économique de la Première Guerre Mondiale (Paris, 1989), p. 745.
(обратно)682
R. Luxemburg, «What Does the Spartacus League Want?», Die Rote Fahne, 14 December 1918, and The Russian Revolution (written 1918, published Berlin, 1922).
(обратно)683
K. Kautsky, Terrorismus und Kommunismus (Berlin, 1919).
(обратно)684
H. A. Winkler, Arbeiter und Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik (Berlin, 1984), vol. 1.
(обратно)685
R. Luxemburg, «The National Assembly», Die Rote Fahne, 20 November 1918.
(обратно)686
G. D. Feldman, The Great Disorder: Politics, Economics, and Society in the German Inflation, 1914–1924 (Oxford, 1997).
(обратно)687
C. Mathews, «The Economic Origins of the Noskepolitik», Central European History 27, no. 1 (1994), p. 65–86.
(обратно)688
G. Noske, Von Kiel bis Kapp. Zur Geschichte der deutschen Revolution (Berlin, 1920), p. 68.
(обратно)689
W. Wette, Gustav Noske (Düsseldorf, 1987), p. 289–321.
(обратно)690
Mayer, Politics and Diplomacy, p. 373–409; A. S. Lindemann, The «Red Years»: European Socialism Versus Bolshevism, 1919–1921 (Berkeley, CA, 1974); G. A. Ritter (ed.), Die II Internationale 1918/1919. Protokolle, Memoranden, Berichte und Korrespondenzen (Berlin, 1980), vols 1 and 2.
(обратно)691
PWW, vol. 53, p. 574.
(обратно)692
D. Marquand, Ramsay MacDonald (London, 1997), p. 248–249; C. F. Brand, «The Attitude of British Labor Toward President Wilson during the Peace Conference», The American Historical Review 42, no. 2 (January 1937), p. 244–255.
(обратно)693
Ritter, Die II Internationale, vol. 1, p. 208–285.
(обратно)694
Ibid., vol. 1, p. 230–243.
(обратно)695
О неуместном энтузиазме Гувера в отношении НСДП см. в: Two Peacemakers in Paris: The Hoover-Wilson Post-Armistice Letters, 1918–1920 (College Station, TX, 1978), p. 128–129 and 135–141.
(обратно)696
Ritter, Die II Internationale, p. 288–377.
(обратно)697
Противоположная позиция о необходимости единства СДП и НСДП ясно изложена в: S. Miller, Burgfrieden und Klassenkampf: Die deutsche Sozialdemokratie im Ersten Weltkrieg (Düsseldorf, 1974), p. 320.
(обратно)698
D. Tanner, Political Change and the Labour Party, 1900–1918 (Cambridge, 1990), p. 393–397; R. McKibbin, Parties and People, England 1914–1951 (Oxford, 2010), p. 30.
(обратно)699
J. Turner, British Politics and the Great War: Coalition and Conflict, 1915–1918 (New Haven, CT, 1992) p. 319.
(обратно)700
Marquand, MacDonald, p. 236.
(обратно)701
M. Pugh, Electoral Reform in War and Peace, 1906–1918 (London, 1978), p. 176–177.
(обратно)702
M. Cowling, The Impact of Labour, 1920–1924 (Cambridge, 1971).
(обратно)703
Tanner, Political Change, p. 403–404.
(обратно)704
L. Haimson and G. Sapelli, Strikes, Social Conflict, and the First World War (Milan, 1992); C. Wrigley, Challenges of Labour: Central and Western Europe 1917–1920 (London, 1993); B. J. Silver, Forces of Labor: Workers’ Movements and Globalization since 1870 (Cambridge, 2003).
(обратно)705
C. Wrigley, Lloyd George and the Challenge of Labour: The Post-War Coalition, 1918–1922 (Hemel Hempstead, 1990).
(обратно)706
B. Millman, Managing Domestic Dissent in First World War Britain (London, 2000), p. 263.
(обратно)707
Wrigley, Lloyd George and the Challenge of Labour, p. 223.
(обратно)708
Turner, British Politics, p. 314.
(обратно)709
Wrigley, Lloyd George and the Challenge of Labour, p. 82.
(обратно)710
Ibid., p. 204.
(обратно)711
E. Morgan, Studies in British Financial Policy, 1914–1925 (London, 1952).
(обратно)712
L. Ross, «Debts, Revenues and Expenditures and Note Circulation of the Principal Belligerents», The Quarterly Journal of Economics 34, no. 1 (November 1919), p. 168.
(обратно)713
R. E. Bunselmeyer, The Cost of the War, 1914–1919: British Economic War Aims and the Origins of Reparations (Hamden, CT, 1975), p. 106–148.
(обратно)714
E. Johnson and D. Moggridge (eds), The Collected Writings of John Maynard Keynes (Cambridge, 2012), vol. 16, p. 418–419.
(обратно)715
B. Kent, The Spoils of War (Oxford, 1991); D. Newton, British Policy and the Weimar Republic 1918–1919 (Oxford, 1997).
(обратно)716
M. Daunton, Just Taxes: The Politics of Taxation in Britain, 1914–1979 (Cambridge, 2002), p. 69–72.
(обратно)717
D. P. Silverman, Reconstructing Europe after the Great War (Cambridge, MA, 1982), p. 71.
(обратно)718
Soutou, L’Or et Le Sang, p. 806–828.
(обратно)719
L. Blum, L’Oeuvre de Léon Blum, 3 vols (Paris, 1972), vol. 1, p. 278.
(обратно)720
E. Clémentel, La France et la politique économique interalliée (Paris, 1931), p. 343.
(обратно)721
A. S. Link (ed.) et al., The Papers of Woodrow Wilson [PWW], 69 vols (Princeton, NJ, 196694) vol 53, p. 550.
(обратно)722
T. J. Knock, To End All Wars: Woodrow Wilson and the Quest for a New Order (Princeton, NJ, 1992), p. 224.
(обратно)723
Наиболее авторитетной была книга: R. S. Baker, Woodrow Wilson and the World Settlement (New York, 1922), под влиянием которой была написана работа: A. Mayer, Wilson vs. Lenin: Political Origins of the New Diplomacy, 1917–1918 (New York, 1964).
(обратно)724
Авторы работ: C. Schmitt, Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar-Genf-Versailles, 1923–1939 (Hamburg, 1940); T. Veblen, «Peace», in Essays in Our Changing Order (New York, 1934), p. 415–422, подвергли Статут критике, считая его подтверждением банкротства либерализма Вильсона, берущего истоки в середине Викторианской эпохи.
(обратно)725
PWW, vol. 55, p. 175–177.
(обратно)726
PWW, vol. 53, p. 336–337.
(обратно)727
Journal officiel de la Républiquefrançaise (Paris, 1918), 29 December 1918, vol. 50, p. 3, 732ff.
(обратно)728
PWW, vol. 53, p. 571.
(обратно)729
В числе немногих, кто это понял, был W. R. Keylor, «France’s Futile Quest for American Military Protection, 1919–1922», in M. Petricioli and M. Guderzo (eds), Une Occasion manquée? 1922: La reconstruction de L’Europe (Frankfurt,1995), p. 62.
(обратно)730
G. Clemenceau, Grandeur and Misery of Victory (New York, 1930), p. 202. Ссылка на Блеза Паскаля взята из книги: G. Dallas, At the Heart of a Tiger: Clemenceau and His World 1841–1929 (London, 1993), p. 481. См. также его речь 1910 года о демократии и войне в: G. Clemenceau, Sur la Démocratie: neuf conférences (Paris, 1930), p. 117–134.
(обратно)731
D. Demko, Léon Bourgeois: Philosophe de la solidarité (Paris, 2001); C. Bouchard, Le Citoyen et l’ordre mondial 1914–1919 (Paris, 2008); S. Audier, Léon Bourgeois: Fonder la solidarité (Paris, 2007).
(обратно)732
P. J. Yearwood, Guarantee of Peace: The League of Nations in British Policy (Oxford, 2009), p. 139.
(обратно)733
F. Meinecke, Machiavellism: The Doctrine of Raison d’Etat and its Place in Modern History (New Haven, CT, 1962), p. 423–424, и: Schmitt, Positionen.
(обратно)734
F. R. Dickinson, War and National Reinvention: Japan in the Great War 1914–1919 (Cambridge MA, 1999), p. 212–218.
(обратно)735
L. Connors, The Emperor’s Adviser: Saionji Kinmochi and Pre-War Japanese Politics (Oxford, 1987), p. 60–66.
(обратно)736
S. Naoko, Japan, Race and Equality: The Racial Equality Proposal of 1919 (London, 2003), p. 61.
(обратно)737
PWW, vol. 53, p. 622; M. Macmillan, Peacemakers: The Paris Conference of 1919 and its Attempt to End War (London, 2001), p. 154–155.
(обратно)738
D. H. Miller, The Drafting of the Covenant [hereafter DC] (New York, 1928), vol. 2, p. 64–105.
(обратно)739
DC, vol. 1, p. 138.
(обратно)740
Ibid., p. 146–147. Эта фраза принадлежит Айре Кроу, см.: H. Nicolson, Peacemaking, 1919 (London, 1933), p. 226.
(обратно)741
DC, vol. 1, p. 162.
(обратно)742
Ibid., p. 152.
(обратно)743
Ibid., p. 160.
(обратно)744
Ibid., p. 160–162.
(обратно)745
Knock, To End All Wars, p. 218.
(обратно)746
DC, vol. 1, p. 160.
(обратно)747
Ibid., p. 166.
(обратно)748
DC, vol. 1, p. 165.
(обратно)749
Ibid., p. 165.
(обратно)750
Ibid., p. 167.
(обратно)751
DC, vol. 2, p. 303.
(обратно)752
DC, vol. 1, p. 216–217.
(обратно)753
DC, vol 2, p. 294.
(обратно)754
Ibid., p. 293.
(обратно)755
Ibid., p. 264.
(обратно)756
DC, vol. 2, p. 297.
(обратно)757
DC, vol. 1, p. 262.
(обратно)758
PWW, vol. 57, p. 126–127.
(обратно)759
S. Bonsal, Unfinished Business (New York, 1944), p. 202–217.
(обратно)760
A. Anghie, Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law (Cambridge, 2004); M. Mazower, No Enchanted Palace: The End of Empire and the Ideological Origins of the United Nations (Princeton, NJ, 2009).
(обратно)761
P. J. Yearwood, Guarantee, and G. W. Egerton, Great Britain and the Creation of the League of Nations (Chapel Hill, NC, 1978).
(обратно)762
PWW, vol. 53, p. 427.
(обратно)763
Ibid., p. 320–321.
(обратно)764
J. W. Jones, «The Naval Battle of Paris», Naval War College Review 62 (2009), p. 77–89.
(обратно)765
Двусмысленность позиции США признавали и советники администрации президента, см.: PWW, vol. 57, p. 180.
(обратно)766
Ibid., p. 91–92.
(обратно)767
Egerton, Great Britain and the League, p. 158.
(обратно)768
R. Dingman, Power in the Pacific: The Origins of Naval Arms Limitation, 1914–1922 (Chicago, IL, 1976), p. 86–87; PWW, vol. 57, p. 142–144, 216–217.
(обратно)769
J. Bainville, Les Conséquences politiques de la paix (Paris, 1920), p. 25.
(обратно)770
За основу описания взята книга: M. Macmillan, Peacemakers: The Paris Conference of 1919 and its Attempt to End War (London, 2001).
(обратно)771
M. Trachtenberg, Reparation in World Politics: France and European Economic Diplomacy, 1916–1923 (New York, 1980), p. 48–52.
(обратно)772
Пожалуй, самое живое и содержательное описание этого цикла представлено в: H. Nicolson, Peacemaking, 1919 (London, 1933); A. Lentin, Lloyd George, Woodrow Wilson and the Guilt of Germany (Leicester, 1984), и в: A. Lentin, Lloyd George and the Lost Peace: From Versailles to Hitler, 1919–1940 (Basingstoke, 2001).
(обратно)773
Bainville, Conséquences, p. 25–29.
(обратно)774
G. Clemenceau, Grandeur and Misery of Victory (New York, 1930), p. 144–207.
(обратно)775
A. Thiers, Discours parlementaire: 3eme partie 1865–1866 (Paris, 1881), p. 645–646.
(обратно)776
Clemenceau, Grandeur, p. 185.
(обратно)777
C. Clark, Iron Kingdom: The Rise and Downfall of Prussia, 1600–1947 (London, 2006); P. Schroeder, The Transformation of European Politics, 1763–1848 (Oxford, 1994); P. Schroeder, Austria, Great Britain, and the Crimean War: The Destruction of the European Concert (Ithaca, NY, 1972).
(обратно)778
A. S. Link (ed.) et al., The Papers of Woodrow Wilson [hereafter PWW], 69 vols (Princeton, NJ 1966-94) vo1. 54, p. 466.
(обратно)779
M. Beloff, Imperial Sunset, vol. 1, Britain’s Liberal Empire, 1897–1921 (London, 1969, and Basingstoke, 1989), p. 289–290.
(обратно)780
W. McDougall, France’s Rhineland Diplomacy, 1914–1924: The Last Bid for a Balance of Power in Europe (Princeton, NJ, 1978).
(обратно)781
Точка зрения Германии изложена в: B. Wendt, «Lloyd George’s Fontainebleau Memorandum», in U. Lehmkuhl, C. Wurm and H. Zimmermann (eds), Deutschland, Grossbritannien, Amerika (Wiesbaden, 2003), p. 27–45. Об антифранцузской атмосфере см. в: J. Cairns, «A Nation of Shopkeepers in Search of a Suitable France: 19191940», The American Historical Review 79 (June 1974), p. 714.
(обратно)782
PWW, vol. 57, p. 50–61.
(обратно)783
A. Tardieu, The Truth About the Treaty (London, 1921).
(обратно)784
N. Angell, The Great Illusion (New York, 1910).
(обратно)785
J. Horne and A. Kramer, «German „Atrocities“ and Franco-German Opinion, 1914: The Evidence of German Soldiers’ Diaries», TheJournal of Modern History 66 (1994), p. 1–33;I. Hull, Absolute Destruction: Military Culture and the Practices of War in Imperial Germany (Ithaca, NY, 2005).
(обратно)786
I. Renz, G. Krumeich and G. Hirschfeld, Scorched Earth: The Germans on the Somme 1914–1918 (Barnsley, 2009).
(обратно)787
J. M. Keynes, The Economic Consequences of the Peace (London, 1919), p. 126–128; Дж. М. Кейнс. Экономические последствия Версальского мирного договора // Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное. М., 2007, с. 498.
(обратно)788
F. W. O’Brien, Two Peacemakers in Paris: The Hoover-Wilson Post-Armistice Letters, 1918–1920 (College Station, TX, 1978), p. 65.
(обратно)789
PWW, vol. 57, p. 120–130, 316.
(обратно)790
D. Stevenson, «France at the Paris Peace Conference», in R. Boyce (ed.), French Foreign and Defence Policy, 1918–1940 (London, 1998), p. 10–29.
(обратно)791
G. Dallas, At the Heart of a Tiger: Clemenceau and His World, 1841–1929 (London, 1993), p. 566.
(обратно)792
Примеры критики таких компромиссов Пуанкаре см. в: PWW, vol. 58, p. 211–214.
(обратно)793
PWW, vol. 57, p. 279.
(обратно)794
W. Wilson, The Public Papers of Woodrow Wilson (New York, 1927), p. 523.
(обратно)795
Nicolson, Peacemaking, p. 32.
(обратно)796
P. Mantoux, The Deliberations of the Council of Four, trans. and ed. A. S. Link (Princeton, NJ, 1992), vol. 1, p. 144–145.
(обратно)797
S. Wambaugh, Plebiscites Since the World War (Washington, DC, 1933), vol. 1, p. 33–62, 206–270.
(обратно)798
P. Wandycz, France and her Eastern Allies, 1919–1925 (Minneapolis, MN, 1962).
(обратно)799
Mantoux, Deliberations, vol. 2, p. 452–455.
(обратно)800
E. Mantoux, The Carthaginian Peace – Or the Economic Consequences of Mr. Keynes (London, 1946).
(обратно)801
J. Hagen, «Mapping the Polish Corridor: Ethnicity, Economics and Geopolitics», Imago Mundi: The International Journalfor the History of Cartography 62 (2009), p. 63–82.
(обратно)802
R. Blanke, Orphans of Versailles: The Germans in Western Poland, 1918–1939 (Lexington 1993).
(обратно)803
A. Demshuk, The Lost German East: Forced Migration and the Politics of Memory, 1945–1970 (Cambridge, 2012).
(обратно)804
Papers Relating to the Foreign Relations of the United States: Lansing Papers [FRUS: Lansing Papers] (Washington, DC, 1940), vol. 2, p. 26.
(обратно)805
Clemenceau, Grandeur, p. 162–163.
(обратно)806
FRUS: Lansing Papers, vol. 2, p. 27.
(обратно)807
PWW, vol.57, p. 151.
(обратно)808
R. Boyce, The Great Interwar Crisis and the Collapse of Globalization (Basingstoke, 2009), p. 52–55.
(обратно)809
A. Orzoff, Battle for the Castle: The Myth of Czechoslovakia in Europe, 1914–1948 (Oxford,2009).
(обратно)810
D. Miller, Forging Political Compromise: Antonin Svehla and the Czechoslovak Republican Party, 1918–1933 (Pittsburgh, NJ, 1999); W. Blackwood, «Socialism, Czechoslovakism, and the Munich Complex, 1918–1948», The International History Review 21 (1999), p. 875–899.
(обратно)811
A. Polonsky, Politics in Independent Poland, 1921–1939: The Crisis of Constitutional Government (Oxford, 1972).
(обратно)812
T. Snyder, The Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569–1999 (New Haven, CT, 2003).
(обратно)813
D. Durand, «Currency Inflation in Eastern Europe with Special Reference to Poland», The American Economic Review 13 (1923), p. 593–608.
(обратно)814
N. Davies, «Lloyd George and Poland, 1919–1920», Journal of Contemporary History 6 (1971), p. 132–154.
(обратно)815
D. L. George, Memoir of the Peace Conference (New Haven, CT, 1939), vol. 1, p. 266–273.
(обратно)816
Boyce, Great Interwar Crisis, p. 51.
(обратно)817
M. Mazower, «Minorities and the League of Nations in Interwar Europe», Daedalus 126 (1997), p. 47–63.
(обратно)818
Wambaugh, Plebiscites, vol. 1, p. 249.
(обратно)819
G. Manceron (ed.), 1885: Le tournant colonial de la République: Jules Ferry contre Georges Clemenceau, et autres affrontements parlementaires sur la conquête coloniale (Paris, 2006).
(обратно)820
На что указывает, например, F. Meinecke, Machiavellism: The Doctrine of Raison d’Etat and its Place in Modern History (New Haven, CT, 1962), p. 432.
(обратно)821
C. Schmitt, Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar-Genf-Versailles, 1923–1939 (Hamburg, 1940).
(обратно)822
H. Winkler, Arbeiter und Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik, 1918–1924 (Berlin 1987) p. 185.
(обратно)823
C. Schmitt, Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar-Genf-Versailles, 1923–1939(Hamburg, 1940).
(обратно)824
G. D. Feldman, The Great Disorder: Politics, Economics, and Society in the German Inflation 1914–1924 (Oxford, 1993) p. 434.
(обратно)825
M. Horn, Britain, France, and the Financing of the First World War (Montreal, 2002).
(обратно)826
D. Artaud, La Question des dettes interalliées et la reconstruction de l’Europe, 1917–1929(Lille, 1978).
(обратно)827
G.-H. Soutou, L’Or et le Sang: Les Buts de guerre économique de la Preminre Guerre Mondiale (Paris, 1989), p. 777–805.
(обратно)828
В работе: G. Rousseau, Étienne Clémentel (Clermont-Ferrand, 1998), p. 18; P. Rabinow, French Modern: Norms and Forms of the Social Environment (Chicago, IL, 1995), p. 325, предлагает называть это «умеренным модернизмом».
(обратно)829
E. Clémentel, La France et la politique économique interalliée (Paris, 1931).
(обратно)830
M. Trachtenberg, Reparation in World Politics: France and European Economic Diplomacy, 1916–1923 (New York, 1980), p. 5.
(обратно)831
W. McDougall, «Political Economy versus National Sovereignty: French Structures for German Economic Integration after Versailles», The Journal of Modern History, vol. 51 (1979) p. 4–23.
(обратно)832
E. Roussel, Jean Monnet (Paris, 1996), p. 33–44.
(обратно)833
F. Duchnne,Jean Monnet (New York, 1994), p. 40; J. Monnet, Memoirs (London, 1978), p. 75.
(обратно)834
R. S. Baker, Woodrow Wilson and the World Settlement (New York, 1922), vol. 3, p. 322.
(обратно)835
W. R. Keylor, «Versailles and International Diplomacy», in M. Boemeke, R. Chickering and E. Glaser (eds), The Treaty of Versailles: A Reassessment After 75 Years (Washington, DC, 1998), p. 498.
(обратно)836
F. W. O’Brien, Two Peacemakers in Paris: The Hoover-Wilson Post-Armistice Letters, 1918–1920 (College Station, TX, 1978), p. 4.
(обратно)837
Ibid., p. 156–161.
(обратно)838
Trachtenberg, Reparations, p. 34.
(обратно)839
S. Lauzanne, «Can France Carry Her Fiscal Burden?», The North American Review 214 (1921), p. 603–609.
(обратно)840
A. Lentin, The Last Political Law Lord: Lord Sumner (Cambridge, 2008), 81-104; R. E. Bunselmeyer, The Cost of the War, 1914–1919: British Economic War Aims and the Origins of Reparation (Hamden, CT, 1975).
(обратно)841
P. M. Burnett, Reparation at the Paris Peace Conference (New York, 1940), vol. 1, Document 211, p. 777.
(обратно)842
Ibid., Document 210, p. 776.
(обратно)843
Ibid., Document 246, p. 857–858.
(обратно)844
Ibid., Document 234, p. 824, and Document 262, p. 898–903.
(обратно)845
Two Peacemakers, p. 118–119.
(обратно)846
J. M. Keynes, Revision of the Treaty (London, 1922), p. 3–4.
(обратно)847
Блестящее обобщение содержится в: E. Mantoux, The Carthaginian Peace; or, The Economic Consequences of Mr. Keynes (New York, 1952).
(обратно)848
V. Serge, Memoirs of a Revolutionary (Oxford, 1963), p. 102; L. Trotsky, The First Five Years of the Communist International (Moscow, 1924), vol. 1, p. 351.
(обратно)849
N. Ferguson, Paper & Iron: Hamburg Business and German Politics in the Era of Inflation, 1897–1927 (Cambridge, 1995).
(обратно)850
E. Johnson and D. Moggridge (eds), The Collected Writings of John Maynard Keynes (Cambridge, 2012), vol. 16, p. 156–184.
(обратно)851
R. Skidelsky, John Maynard Keynes: Hopes Betrayed, 1883–1920 (London,1983), vol. 1, 317.
(обратно)852
J. M. Keynes, The Economic Consequences of the Peace (London, 1919), p. 5, 253; Дж. М. Кейнс. Экономические последствия Версальского мирного договора // Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное. М., 2007, с. 464, 523.
(обратно)853
Ibid., p. 146–50; там же, р. 490–492.
(обратно)854
Ibid., р. 269; там же, р. 524.
(обратно)855
Artaud, La Question des dettes interalliées, vol. 1, p. 116.
(обратно)856
D. P. Silverman, Reconstructing Europe after the Great War (Cambridge, MA, 1982), p. 32.
(обратно)857
A. Tardieu, The Truth About the Treaty (Indianapolis, IN, 1921), p. 344.
(обратно)858
Silverman, Reconstructing Europe, p. 39.
(обратно)859
Keynes, Collected Writings, vol. 16, p. 422.
(обратно)860
Ibid., p. 426–427.
(обратно)861
Keynes, Economic Consequences, p. 283–288; Дж. М. Кейнс. Экономические последствия Версальского мирного договора, с. 516–518.
(обратно)862
Keynes, Collected Writings, vol. 16, p. 428–436.
(обратно)863
Keynes, Collected Writings, vol. 16, p. 434.
(обратно)864
Silverman, Reconstructing Europe, p. 36.
(обратно)865
A. Orde, British Policy and European Reconstruction after the First World War (Cambridge, 1990) p. 57.
(обратно)866
Hoover to Wilson, 11 April 1919, Two Peacemakers, p. 112–115.
(обратно)867
Baker, Woodrow Wilson, vol. 3, p. 344–346.
(обратно)868
Ibid., p. 373–375.
(обратно)869
L. Gardner, Safe for Democracy: The Anglo-American Response to Revolution, 1913–1923 (Oxford, 1987), p. 247; F. Costigliola, Awkward Dominion: American Political, Economic, and Cultural Relations with Europe, 1919–1933 (Ithaca, NY, 1987), p. 35.
(обратно)870
Two Peacemakers, p. 196–203.
(обратно)871
B. D. Rhodes, «Reassessing „Uncle Shylock“: The United States and the French War Debt, 1917–1929», The Journal of American History 55 (March 1969), p. 791.
(обратно)872
Silverman, Reconstructing Europe, p. 171, 205–211.
(обратно)873
A. Hitler, Mein Kampf (Munich, 1925–1927).
(обратно)874
H. J. Burgwyn, The Legend of the Mutilated Victory: Italy, the Great War, and the Paris Peace Conference, 1915–1919 (Westport, CT, 1993), p. 300.
(обратно)875
Falasca-Zamponi, Fascist Spectacle (Berkeley, CA, 1997), 32, p. 163–164.
(обратно)876
О Муссолини см.: A. Mayer, Politics and Diplomacy: Containment and Counter-Revolution at Versailles, 1918–1919 (New York, 1967), p. 206–207; P. O’Brien, Mussolini in the First World War: The Journalist, the Soldier, the Fascist (Oxford, 2005), p. 151. О Гитлере см.: Mein Kampf, p. 712–713.
(обратно)877
Mayer, Politics and Diplomacy, p. 219–220.
(обратно)878
Papers Relating to the Foreign Relations of the United States: Lansing Papers (Washington, DC, 1940), vol. 2, p. 89–90.
(обратно)879
H. Nicolson, Peacemaking, 1919 (London, 1933), p. 161.
(обратно)880
A. S. Link (ed.) et al., The Papers of Woodrow Wilson [PWW], 69 vols (Princeton, NJ, 1966-94/ vol 57, p. 614.
(обратно)881
Burgwyn, The Legend, p. 256–258.
(обратно)882
PWW, vol. 57, p. 432–433.
(обратно)883
PWW, vol. 58, p. 19.
(обратно)884
PWW, vol. 57, p. 527.
(обратно)885
PWW, vol. 58, p. 7.
(обратно)886
D. Rossini, Woodrow Wilson and the American Myth in Italy (Cambridge, MA, 2008), p. 117–123.
(обратно)887
Ibid., p. 131.
(обратно)888
PWW, vol. 58, p. 142.
(обратно)889
Ibid., p. 47.
(обратно)890
PWW, vol. 57, p. 70.
(обратно)891
PWW, vol. 58, p. 4.
(обратно)892
Ibid., p. 59.
(обратно)893
Ibid., p. 91–93.
(обратно)894
Burgwyn, Legend, p. 281.
(обратно)895
Nicolson, Peacemaking, p. 319.
(обратно)896
PWW, vol. 58, p. 143.
(обратно)897
D. J. Forsyth, The Crisis of Liberal Italy (Cambridge, 1993), p. 205.
(обратно)898
L. Hautecoeur, L’Italie sous le Ministure Orlando, 1917–1919 (Paris, 1919), p. 209–210.
(обратно)899
M. Knox, To the Threshold of Power, 1922/33: Origins and Dynamics of the Fascist and National Socialist Dictatorships (Cambridge, 2007), vol. 1, p. 307–310.
(обратно)900
G. Salvemini, The Origins of Fascism in Italy (New York, 1973), p. 230.
(обратно)901
Akten der Reichskanzlei Das Kabinett Scheidemann (AdR DKS), Nr 66, p. 303.
(обратно)902
Ibid., p. 303–306.
(обратно)903
Ibid., 8 May 1919, p. 306, and AdR DKS Nr 70, 12 May 1919, p. 314–316.
(обратно)904
P. Scheidemann, The Making of a New Germany (New York, 1928), p. 24–25.
(обратно)905
AdR DKS Nr 15, 63, and Nr 20, p. 85–91. See also K. Kautsky, Wie der Weltkrieg Entstand (Berlin, 1919).
(обратно)906
AdR DKS Nr 79, 19 May 1919, p. 350–351.
(обратно)907
AdR DKS Nr 67, 9 May 1919, p. 308.
(обратно)908
AdR DKS Nr 80, 20 May 1919, p. 354.
(обратно)909
Ibid., 20 May 1919, p. 358–359, Nr 86, 26 May 1919, p. 375, Nr 87, 26 May 1919, p. 379–380.
(обратно)910
AdR DKS Nr 84, 23 May 1919, p. 368–369.
(обратно)911
P. Krüger, «Die Reparationen und das Scheitern einer deutschen Verständigungspolitikauf der Pariser Friedenskonferenz im Jahre 1919», Historische Zeitschrift 221 (1975), p. 336–338.
(обратно)912
L. Haupts, Deutsche Friedenspolitik, 1918-19: eine Alternative zur Machtpolitik des Ersten Weltkrieges (Düsseldorf, 1976), p. 329–372.
(обратно)913
Сравните оценку Кейнсом реальной ценности контрпредложения Германии с суммой репараций, предложенной им самим и составлявшей те же самые 7,5 млрд долл., которая не вызвала интереса. J. M. Keynes, The Economic Consequences of the Peace (London, 1919), p. 223, 262; Дж. М. Кейн. Экономические последствия Версальского мирного договора //Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное. М., 2007, с. 522, 545.
(обратно)914
В The Deliberations of the Council of Four (March 24—June 28,1919): Notes of the Official Interpreter, Paul Mantoux, trans. and ed. by Arthur S. Link and Manfred F. Boemeke (Princeton, NJ, 1991), vol. 2, p. 462–466, Фох говорит о 39 дивизиях, равных по силе обычным 44 дивизиям, учитывая удвоенную мощь американских дивизий.
(обратно)915
H. Mühleisen, «Annehmen oder Ablehnen? Das Kabinett Scheidemann, die Oberste Heeresleitung und der Vertrag von Versailles im Juni 1919. Fünf Dokumente aus dem Nachlaß des Hauptmanns Günther von Posek», Vierteljahrsheftefür Zeitgeschichte 35 (1987) p. 419–481.
(обратно)916
AdR DKS Nr 107, 11 June 1919, p. 445.
(обратно)917
AdR DKS Nr 114, 20 June 1919.
(обратно)918
AdR DKS Nr 111, 14 June 1919.
(обратно)919
AdR DKS Nr 113, p. 469–475.
(обратно)920
AdR DKS Nr 99, 3 June 1919.
(обратно)921
AdR DKS Nr 113, 17 June 1919, p. 475.
(обратно)922
AdR DKS Nr 105, 10 June 1919, p. 105.
(обратно)923
AdR DKS Nr 114, 20 June 1919, p. 485–486.
(обратно)924
AdR DKS Nr 118, 18 June 1919, p. 506.
(обратно)925
AdR DKS Nr 100, 4 June 1919, p. 419–420.
(обратно)926
Этот сюжет изложен в: A. Luckau, «Unconditional Acceptance of the Treaty of Versailles by the German Government, June 22–28, 1919», The Journal of Modern History 17 6945) P. 215–220.
(обратно)927
G. Noske, Von Kiel bis Kapp: zur Geschichte der deutschen Revolution (Berlin, 1920), p. 147–156, and W. Wette, Gustav Noske: eine politische Biographie (Düsseldorf, 1987), p. 461–493.
(обратно)928
AdR DKS Nr 118, p. 501–502.
(обратно)929
AdR DKS Nr 114, 20 June 1919, p. 491.
(обратно)930
AdR DKS Nr 3, 23 June 1919, p. 10.
(обратно)931
Two Peacemakers in Paris: The Hoover-Wilson Post-Armistice Letters, 1918–1920, ed. with commentaries by Francis William O’Brien (College Station, TX, 1978), p. 168–173; Nicolson, Peacemaking, p. 362–364.
(обратно)932
Wette, Noske, p. 506–517.
(обратно)933
Описание переворота см. в: AdR KBauer Nr. 183, 653-6, Nr 186-92, 667-83, Nr 218,P. 771–791.
(обратно)934
AdR KBauer Nr 204, p. 710–725.
(обратно)935
AdR KBauer, Nr 215, 760–762. Весьма критический подход к этим событиям см. в: G. Eliasberg, Der Ruhrkrieg von 1920 (Bonn, 1974).
(обратно)936
H. A. Turner, Stresemann and the Politics of the Weimar Republic (Princeton, NJ, 1963), p. 43–91.
(обратно)937
M. Berg, Gustav Stresemann und die Vereinigten Staaten von Amerika: Weltwirtschaftliche Verflechtung und Revisionspolitik, 1907–1929 (Baden-Baden, 1990), p. 102.
(обратно)938
Взгляды американцев и китайцев на эти события см. в: E. Manela, The Wilsonian Moment: Self-Determination and the International Origins of Anticolonial Nationalism(Oxford, 2007), p. 99–117, 177–196.
(обратно)939
Connors, The Emperor’s Adviser: Saionji Kinmochi and Pre-War Japanese Politics (Oxford, 1987) p. 60–71.
(обратно)940
Y. S. Sun, The International Development of China (New York, 1922).
(обратно)941
Y. Zhang, China in the International System, 1918–1920 (Basingstoke, 1991), p. 15.
(обратно)942
N. S. Bose, American Attitudes and Policy to the Nationalist Movement in China, 1911–1921 (Bombay p. 157–159.
(обратно)943
L. Gardner, Safe for Democracy: The Anglo-American Response to Revolution, 1913–1923(Oxford, 1987), p. 230.
(обратно)944
Zhang, China, p. 55.
(обратно)945
S. G. Craft, V. K.: Wellington Koo and the Emergence of Modern China (Lexington, KY, 2004) p. 49–50.
(обратно)946
S. Naoko, Japan, Race and Equality: The Racial Equality Proposal of 1919 (London, 2003),p. 49–50.
(обратно)947
N. Kawamura, Turbulence in the Pacific: Japanese-U. S. Relations during World War I (Westport, CT, 2000), p. 140.
(обратно)948
Y. Ozaki, The Autobiography of Ozaki Yukio (Princeton, NJ, 2001), p. 330–336.
(обратно)949
О неоднозначности массовой политики того периода см. в: A. Gordon, Labor and Imperial Democracy in Prewar Japan (Berkeley, CA, 1991).
(обратно)950
Naoko, Japan, p. 19.
(обратно)951
M. Lake and H. Reynolds, Drawing the Global Color Line: White Men’s Countries and the International Challenge of Racial Equality (Cambridge, 2008).
(обратно)952
A. S. Link (ed.) et al., The Papers of Woodrow Wilson [hereafter PWW], 69 vols (Princeton, NJ 1966–1994) vol 57, p. 239–240.
(обратно)953
Ibid., p. 247, 264.
(обратно)954
Naoko, Japan, p. 29–31.
(обратно)955
PWW, vol. 57, p. 285.
(обратно)956
Как об этом Макино ясно заявил Бальфуру, см.: PWW, vol. 58, p. 179.
(обратно)957
Kawamura, Turbulence, p. 147.
(обратно)958
PWW, vol. 57, p. 554.
(обратно)959
D. H. Miller, The Drafting of the Covenant (New York, 1928), vol. 1, p. 103.
(обратно)960
PWW, vol. 57, p. 584 and 618.
(обратно)961
PWW, vol. 58, p. 165.
(обратно)962
Connors, Emperor’s Adviser, p. 74.
(обратно)963
PWW, vol. 58, p. 112–113.
(обратно)964
Craft, Wellington Koo, 56; PWW, vol. 57, p. 615–626.
(обратно)965
PWW, vol. 58, p. 130, 183–184.
(обратно)966
Zhang, China, p. 88–89.
(обратно)967
R. Mitter, A Bitter Revolution: China’s Struggle with the Modern World (Oxford, 2004).
(обратно)968
J. Chesneaux, F. Le Barbier and M.-C. Bergère, China from the 1911 Revolution to Liberation, trans. P. Auster and L. Davis (New York, 1977), p. 65–69.
(обратно)969
D. Kuhn, Die Republik China von 1912 bis 1937: Entwurf für eine politische Ereignisgeschichte (Heidelberg, 2004), p. 142.
(обратно)970
Zhang, China, p. 79.
(обратно)971
Chesneaux et al., China, p. 67–68.
(обратно)972
Zhang, China, p. 75–99.
(обратно)973
Y. T Matsusaka, The Making of Japanese Manchuria, 1904–1932 (Cambridge, MA, 2001),p. 241.
(обратно)974
L. A. Humphreys, The Way of the Heavenly Sword: The Japanese Army in the 1920s (Stanford, CA, 1995), p. 175.
(обратно)975
Ibid., 41.
(обратно)976
Matsusaka, The Making, p. 241.
(обратно)977
Zhang, China, p. 139–141.
(обратно)978
S. R. Schram and N. J. Hodes (eds), Mao’s Road to Power: Revolutionary Writings 1912–1949 (New York, 1992), vol. 1, p. 321–322, 337, 357–367, 390, and vol. 2, p. 159–160, 186–188.
(обратно)979
W. C. Kirby, Germany and Republican China (Stanford, CA, 1984), p. 35.
(обратно)980
B. A. Ellman, Diplomacy and Deception: The Secret History of Sino-Soviet Diplomatic Relations, 1917–1927 (London, 1997), p. 25.
(обратно)981
Zhang, China, p. 157.
(обратно)982
A. S. Link (ed.) et al., The Papers of Woodrow Wilson [PWW], 69 vols (Princeton, NJ, 1966-94), vol. 61, p. 426–436.
(обратно)983
Ibid., p. 225.
(обратно)984
Ср.: R. S. Baker, Woodrow Wilson and the World Settlement (New York, 1922), и L. E. Ambrosius, Woodrow Wilson and the American Diplomatic Tradition: The Treaty Fight in Perspective (Cambridge, 1987).
(обратно)985
The New York Times, «Bullitt Asserts Lansing Expected the Treaty to Fail», 13 September 1919.
(обратно)986
W. C. Bullitt and S. Freud, Thomas Woodrow Wilson: A Psychological Study (Boston, MA, 1967).
(обратно)987
The New York Times, «Lodge Attacks Covenant and Outlines 5 Reservations; Assailed by Williams», 13 August 1919.
(обратно)988
Ambrosius, Woodrow Wilson, p. xxx.
(обратно)989
W. C. Widenor, Henry Cabot Lodge and the Search for an American Foreign Policy (Berkeley, CA, 1980).
(обратно)990
The New York Times, «Qualify Treaty on Ratification, Says Elihu Root», 22 June 1919.
(обратно)991
PWW, vol. 42, p. 340–344.
(обратно)992
T. J. Knock, To End All Wars: Woodrow Wilson and the Quest for a New Order (Princeton, NJ, 1992), p. 267.
(обратно)993
M. Leffler, The Elusive Quest: America’s Pursuit of European Stability and French Security, 1919–1933 (Chapel Hill, NC, 1979), p. 15.
(обратно)994
W. Lippmann, «Woodrow Wilson’s Approach to Politics», New Republic, 5 December 1955; T. Bimes and S. Skowronek, «Woodrow Wilson’s Critique of Popular Leadership: Reassessing the Modern-Traditional Divide in Presidential History», Polity 29 (1996), p. 27–63.
(обратно)995
K. Wimer, «Woodrow Wilson’s Plan for a Vote of Confidence», Pennsylvania History 28 (1961), p. 2–16, and R. L. Merritt, «Woodrow Wilson and the „Great and Solemn Referendum“, 1920», The Review of Politics 27 (1965), p. 78–104.
(обратно)996
См. речи, произнесенные в августе и сентябре 1916 года, в: PWW, vol. 40.
(обратно)997
A. Hagedorn, Savage Peace: Hope and Fear in America, 1919 (New York, 2007), p. 297–322.
(обратно)998
A. Hart (ed.), Selected Addresses and Public Papers of Woodrow Wilson (New York, 1918) p. 270.
(обратно)999
W. Wilson, A History of the American People (New York, 1902), vol. 5, p. 59–64.
(обратно)1000
Hart (ed.), Selected Addresses, p. 271.
(обратно)1001
The New York Times, 26 November 1919.
(обратно)1002
T. Kornweibel, «Seeing Red»: Federal Campaigns against Black Militancy, 1919–1925 (Bloomington, IN, 1998).
(обратно)1003
The New York Times, «President Cheered from Pier to Hotel», 25 February 1919.
(обратно)1004
Hagedorn, Savage Peace, p. 218–225.
(обратно)1005
PWW, vol. 62, p. 58.
(обратно)1006
The New York Times, «Raid from Coast to Coast», 3 January 1920; R. K. Murray, Red Scare: A Study in National Hysteria, 1919–1920 (Minneapolis, MN, 1955).
(обратно)1007
J. A. McCartin, Labor’s Great War: The Struggle for Industrial Democracy and the Origins of Modern American Labor Relations (Chapel Hill, NC, 1997).
(обратно)1008
J. Cooper, The Warrior and the Priest: Woodrow Wilson and Theodore Roosevelt (Cambridge, MA, 1983), p. 264.
(обратно)1009
PWW, vol. 64, p. 84.
(обратно)1010
Commission of Enquiry, the Interchurch World Movement, «Report on the Steel Strike of 1919» (New York, 1920); D. Brody, Labor in Crisis: The Steel Strike of 1919 (New York, 1965).
(обратно)1011
PWW, vol. 63, p. 600.
(обратно)1012
D. Montgomery, The Fall of the House of Labor: Workplace, the State, and American Labor Activism, 1865–1925 (New Haven, CT, 1988).
(обратно)1013
McCartin, Labor’s Great War, p. 199–220.
(обратно)1014
The New York Times, «Palmer Pledges War on Radicals», 1 January 1920.
(обратно)1015
R. K. Murray, The Politics of Normalcy: Governmental Theory and Practice in the Harding-Coolidge Era (New York, 1973), p. 3; idem., The Harding Era: Warren G. Harding and His Administration (Minneapolis, MN, 1969), p. 82.
(обратно)1016
B. M. Manly, «Have Profits Kept Pace with the Cost of Living?», Annals of the American Academy of Political and Social Science 89 (1920), p. 157–162, and E. B. Woods, «Have Wages Kept Pace with the Cost of Living?», Annals of the American Academy of Political and Social Science 89 (1920), p. 135–147.
(обратно)1017
The New York Times, «Palmer Has Plan to Cut Living Cost», 17 December 1919, p. 19.
(обратно)1018
The New York Times, «Urge President to Return», 24 May 1919, p. 4.
(обратно)1019
Interchurch World Movement, «Report», p. 94–106.
(обратно)1020
H. L. Lutz, «The Administration of the Federal Interest-Bearing Debt Since the Armistice», The Journal of Political Economy 34 (1926), p. 413–457.
(обратно)1021
M. Friedman and A. J. Schwartz, A Monetary History of the United States, 1867–1960 (Princeton, NJ, 1963), p. 222–226.
(обратно)1022
A. Meltzer, A History of the Federal Reserve (Chicago, IL, 2003), vol. 1, p. 94–95.
(обратно)1023
Friedman and Schwartz, Monetary History, p. 227.
(обратно)1024
Meltzer, History, p. 101–102.
(обратно)1025
Friedman and Schwartz, Monetary History, p. 230.
(обратно)1026
45. Meltzer, History, p. 127.
(обратно)1027
The New York Times, «Williams Strikes at High Interest», 11 August 1920, 24, and «Bank Convention Condemns Williams», 23 October 1920, p. 20.
(обратно)1028
J. Higham, Strangers in the Land: Patterns of American Nativism, 1860–1925 (New Brunswick, NJ, 1988); N. K. MacLean, Behind the Mask of Chivalry: The Making of the Second Ku Klux Klan (Oxford, 1995).
(обратно)1029
J. C. Prude, «William Gibbs McAdoo and the Democratic National Convention of 1924», The Journal of Southern History 38 (1972), p. 621–628.
(обратно)1030
F. E. Schortemeier, Rededicating America: Life and Recent Speeches of Warren G. Harding (Indianapolis, IN, 1920), p. 223.
(обратно)1031
Higham, Strangers, p. 309.
(обратно)1032
R. Boyce, The Great Interwar Crisis and the Collapse of Globalization (Basingstoke,2003), p. 88.
(обратно)1033
Leffler, Elusive Quest, p. 44.
(обратно)1034
Boyce, Great Interwar Crisis, p. 178.
(обратно)1035
S. M. Deutsch, Counter-Revolution in Argentina, 1900–1932: The Argentine Patriotic League (Lincoln, NB, 1986).
(обратно)1036
R. Gerwarth and J. Horne (eds), War in Peace: Paramilitary Violence in Europe after the Great War (Oxford, 2012).
(обратно)1037
C. S. Maier, Recasting Bourgeois Europe: Stabilization in France, Germany, and Italy in the Decade after World War I (Princeton, NJ, 1975), p. 136.
(обратно)1038
E. L. Dulles, The French Franc, 1914–1928: The Facts and their Interpretations (New York, 1929), p. 120–121.
(обратно)1039
M. Metzler, Lever of Empire: The International Gold Standard and the Crisis of Liberalism in Prewar Japan (Berkeley, CA, 2005), p. 118–133.
(обратно)1040
L. Humphreys, The Way of the Heavenly Sword: The Japanese Army in the 1920s (Stanford, CA, 1995), p. 44; P. Duus (ed.), The Cambridge History of Japan, vol. 6, The Twentieth Century (Cambridge, 1988), p. 277.
(обратно)1041
R. Haig, The Public Finances of Post-War France (New York, 1929), p. 70–88.
(обратно)1042
B. Martin, France and the Aprиs Guerre, 1918–1924: Illusions and Disillusionment (Baton Rouge, FL, 1999), p. 35–36.
(обратно)1043
F. R. Dickinson, War and National Reinvention: Japan in the Great War, 1914–1919 (Cambridge, MA, 1999), p. 230.
(обратно)1044
P. Duus, Party Rivalry and Political Change in Taisho Japan (Cambridge, MA, 1968), p. 141.
(обратно)1045
M. Lewis, Rioters and Citizens: Mass Protest in Imperial Japan (Berkeley, CA, 1990), p. 82.
(обратно)1046
C. Wrigley, Lloyd George and the Challenge of Labour: The Post- War Coalition, 1918–1922 (Hemel Hempstead, 1990), p. 81.
(обратно)1047
M. Daunton, Just Taxes: The Politics of Taxation in Britain, 1914–1979 (Cambridge, 2002),p. 76–77.
(обратно)1048
Metzler, Lever of Empire, p. 133.
(обратно)1049
G. Balachandran, John Bullion’s Empire: Britain’s Gold Problem and India Between the Wars (London, 1996), p. 96.
(обратно)1050
A. C. Pigou, Aspects of British Economic History, 1918–1925 (London, 1945), p. 149.
(обратно)1051
Balachandran, John Bullion’s Empire, 93, p. 109–112.
(обратно)1052
K. Jeffery (ed.), The Military Correspondence of Field Marshal Sir Henry Wilson, 1918–1922 (London 1854 p. 253.
(обратно)1053
A. Clayton, The British Empire as a Superpower, 1919-39 (Basingstoke, 1986), p. 103.
(обратно)1054
R. Middleton, Government versus the Market: The Growth of the Public Sector, Economic Management, and British Economic Performance, 1890–1979 (Cheltenham, р. m 311–335.
(обратно)1055
M. Leffler, The Elusive Quest: America’s Pursuit of European Stability and French Security 1919–1933 (Chapel Hill, NC, 1979) p. 14.
(обратно)1056
M. Milbank Farrar, Principled Pragmatist: The Political Career of Alexandre Millerand (New York, 1991).
(обратно)1057
D. Artaud, «La question des dettes interalliées», in M. Petricioli and M. Guderzo (eds), Une occasion manquée? 1922: La reconstruction de l’Europe (New York, 1995), p. 89.
(обратно)1058
Dulles, French Franc, p. 130.
(обратно)1059
F. H. Adler, Italian Industrialists from Liberalism to Fascism (Cambridge, 1995), p. 165.
(обратно)1060
Metzler, Lever of Empire, 134; Duus, Cambridge History, p. 461; Lewis, Rioters, p. 246.
(обратно)1061
C.-L. Holtfrerich, The German Inflation, 1914–1923 (Berlin, 1986).
(обратно)1062
M. Flandreau (ed.), Money Doctors: The Experience of International Financial Advising, 1850–2000 (London, 2003).
(обратно)1063
Duus, Party Rivalry, p. 111.
(обратно)1064
Metzler, Lever of Empire, p. 129, 160.
(обратно)1065
Humphreys, Heavenly Sword, p. 61.
(обратно)1066
I. Gow, Military Intervention in Prewar Japanese Politics: Admiral Kato-Kanji and the «Washington System» (London, 2004), p. 85.
(обратно)1067
F. R. Dickinson, World War I and the Triumph of a New Japan, 1919–1930 (Cambridge,2013) p. 115–116.
(обратно)1068
M. Beloff, Imperial Sunset, vol. 2, Dream of Commonwealth, 1921–1942 (Basingstoke, 1989), p. 27.
(обратно)1069
K. Jeffery, The British Army and the Crisis of Empire (Manchester, 1984), p. 13–23.
(обратно)1070
K. Jeffery, The Military Correspondence of Field Marshal Sir Henry Wilson, 1918–1922 (London, 1985), p. 197–201.
(обратно)1071
K. Jeffery, «„An English Barrack in the Oriental Seas“? India in the Aftermath of the First World War», Modern Asian Studies 15 (1981), p. 369–386.
(обратно)1072
Clayton, The British Empire as a Superpower, 1919–1939, p. 20.
(обратно)1073
S. Roskill, Naval Policy Between the Wars (New York, 1968), vol. 1, p. 215–216.
(обратно)1074
J. Ferris, The Evolution of British Strategic Policy, 1919-26 (Basingstoke, 1989), p. 54–63.
(обратно)1075
Maier, Recasting, p. 195.
(обратно)1076
D. P. Silverman, Reconstructing Europe after the Great War (Cambridge, MA, 1982), p. 215–220.
(обратно)1077
Ibid., p. 149.
(обратно)1078
R. Self, Britain, America and the War Debt Controversy: The Economic Diplomacy of an Unspecial Relationship, 1917–1941 (London, 2006), p. 29.
(обратно)1079
National archive, CAB24/116 CP 2214.
(обратно)1080
G. Unger, Aristide Briand: Le ferme conciliateur (Paris, 2005).
(обратно)1081
Maier, Recasting, p. 241–249.
(обратно)1082
G. D. Feldman, The Great Disorder: Politics, Economics, and Society in the German Inflation, 1914–1924 (Oxford, 1993), p. 338–341.
(обратно)1083
Это противоречие фактам рассматривается в: N. Ferguson, Paper and Iron: Hamburg Business and German Politics in the Era of Inflation, 1897–1927 (Cambridge, 1995).
(обратно)1084
S. B. Webb, Hyperinflation and Stabilization in Weimar Germany (Oxford, 1988).
(обратно)1085
N. Ferguson, «Constraints and Room for Manoeuvre in the German Inflation notes to pp. 361-70 of the Early 1920s», The Economic History Review New Series 49 (1996), p. 635–666.
(обратно)1086
Silverman, Reconstructing Europe, p. 224–225.
(обратно)1087
M. J. Pusey, Charles Evans Hughes (New York, 1951), vol. 1, p. 350.
(обратно)1088
N. A. Palmer, «The Veterans’ Bonus and the Evolving Presidency of Warren G. Harding», Presidential Studies Quarterly 38 (2008), 39–60.
(обратно)1089
Artaud, «La question», in Petricioli and Guderzo (eds), Occasion manquée, p. 87.
(обратно)1090
S. A. Schuker, «American Policy Towards Debts and Reconstruction», в: C. Fink (ed.), Genoa, Rapallo and European Reconstruction in 1922 (Cambridge, 1991), p. 98.
(обратно)1091
M. Leffler, «The Origins of Republican War Debt Policy, 1921–1923: A Case Study in the Applicability of the Open Door Interpretation», The Journal of American History 59 (1972) p. 593.
(обратно)1092
A. Orde, British Policy and European Reconstruction after the First World War (Cambridge, 1990) p. 173–174.
(обратно)1093
J. Gallagher, «Nationalisms and the Crisis of Empire, 1919–1922», Modern Asian Studies 15(1981) 355–368.
(обратно)1094
W. F. Elkins, «Black Power in the British West Indies: The Trinidad Longshoremen’s Strike of 1919», Science and Society 33 (1969), p. 71–75.
(обратно)1095
I. Abdullah, «Rethinking the Freetown Crowd: The Moral Economy of the 1919 Strikes and Riot in Sierra Leone», Canadian Journal of African Studies/Revue Canadienne des Etudes Africaines 28, no. 2 (1994), p. 197–218.
(обратно)1096
T. Yoshikuni, «Strike Action and Self-Help Associations: Zimbabwean Worker Protest and Culture after World War I», Journal of Southern African Studies 15, no. 3 (April 1989), p. 440–468.
(обратно)1097
D. Killingray, «Repercussions of World War I in the Gold Coast», The Journal of African History 19 (1978), p. 39–59; A. Olukoju, «Maritime Trade in Lagos in the Aftermath of the First World War», African Economic History 20 (1992), p. 119–135; A. Olukoju, «Anatomy of Business-Government Relations: Fiscal Policy and Mercantile Pressure Group Activity in Nigeria, 1916–1933», African Studies Review 38 (1995), p. 23–50.
(обратно)1098
R. Ally, Gold and Empire: The Bank of England and South Africa’s Gold Producers, 1886–1926 (Johannesburg, 1994); J. Krikler, «The Commandos: The Army of White Labour in South Africa», Past and Present 163 (1999), 202-44; A. Clayton, The British Empire as a Superpower, 1919–1939 (Basingstoke, 1986), p. 241–244; J. Krikler, White Rising: The 1922 Insurrection and Racial Killing in South Africa (Manchester, 2005).
(обратно)1099
C. Townsend, The British Campaign in Ireland, 1919–1921 (Oxford, 1975).
(обратно)1100
W. Wilson, Letters, 250, p. 266–272.
(обратно)1101
J. Lawrence, «Forging a Peaceable Kingdom: War, Violence, and Fear of Brutalization in Post-First World War Britain», The Journal of Modern History 75, no. 3 (September 2003), p. 557–589.
(обратно)1102
M. Beloff, Imperial Sunset: Britain’s Liberal Empire, 1897–1921 (London, 1969), vol. 1, p. 314.
(обратно)1103
M. Hopkinson, «President Woodrow Wilson and the Irish Question», Studia Hibernica 27(19934 p. 89–111.
(обратно)1104
Важные сведения собраны в книге: J. Darwin, Britain, Egypt and the Middle East: Imperial Policy in the Aftermath of War, 1918–1922 (London, 1981).
(обратно)1105
W. Stivers, Supremacy and Oil: Iraq, Turkey, and the Anglo-American World Order, 1918–1930 (Ithaca, NY, 1982) p. 45–50.
(обратно)1106
M. W. Daly (ed.), The Cambridge History of Egypt (New York, 1998), vol. 2, p. 246–247.
(обратно)1107
Ibid., p. 247–248. О слабости культурного влияния Британии см.: Beloff, Imperial Sunset, vol. 2, p. 44.
(обратно)1108
J. Berque, Egypt: Imperialism and Revolution (New York, 1972), p. 305.
(обратно)1109
M. Badrawi, Ismail Sidqi, 1875–1950 (Richmond, VA, 1996), p. 14.
(обратно)1110
M. A. Rifaat, The Monetary System of Egypt (London, 1935), p. 63–64; A. E. Crouchley, The Economic Development of Modern Egypt (London, 1938), p. 197.
(обратно)1111
Berque, Egypt, p. 316.
(обратно)1112
Berque, Egypt, p. 318.
(обратно)1113
J. L. Thompson, A Wider Patriotism: Alfred Milner and the British Empire (London, 2007),p. 184–195.
(обратно)1114
Berque, Egypt, p. 315–316.
(обратно)1115
Gallagher, «Nationalisms», p. 361.
(обратно)1116
Цит. по: E. Kedourie, The Chatham House Version and Other Middle-Eastern Studies (London, 1970), p. 121.
(обратно)1117
L. Stein, The Balfour Declaration (New York, 1961), p. 640–645.
(обратно)1118
E. Monroe, Britain’s Moment in the Middle East, 1914–1956 (Baltimore, MD, 1963), p. 65–66.
(обратно)1119
Q. Wright, «The Bombardment of Damascus», The American Journal of International Law 20 (1926), p. 263–280; D. Eldar, «France in Syria: The Abolition of the Sharifian Government, April-July 1920», Middle Eastern Studies 29 (1993), p. 487–504.
(обратно)1120
Stivers, Supremacy and Oil, 84, и E. Kedourie, «The Kingdom of Iraq: A Retrospect», in Kedourie, Chatham House Version, p. 236–285.
(обратно)1121
Beloff, Imperial Sunset, vol. 1, p. 347.
(обратно)1122
I. Friedman, British Miscalculations: The Rise of Muslim Nationalism, 1918–1925 (New Brunswick, NJ, 2012), p. 252.
(обратно)1123
B. Gökay, A Clash of Empires: Turkey between Russian Bolshevism and British Imperialism, 1918–1923 (London, 1997).
(обратно)1124
B. Lewis, The Emergence of Modern Turkey (Oxford, 1961), p. 247–251.
(обратно)1125
Gökay, Clash of Empires, p. 131.
(обратно)1126
G. Balachandran, John Bullion’s Empire: Britain’s Gold Problem and India Between the Wars (London, 1996).
(обратно)1127
B. R. Tomlinson, The Political Economy of the Raj, 1914–1947: The Economics of Decolonization in India (London, 1979).
(обратно)1128
J. Brown, Gandhi’s Rise to Power: Indian Politics, 1915–1922 (Cambridge, 1972), p. 161.
(обратно)1129
Ibid., p. 231.
(обратно)1130
Friedman, British Miscalculations, p. 229.
(обратно)1131
Brown, Gandhi, p. 202.
(обратно)1132
P. Woods, Roots of Parliamentary Democracy in India: Montagu-Chelmsford Reforms, 1917–1923 (Delhi, 1996) p. 139–140.
(обратно)1133
A. Rumbold, Watershed in India, 1914–1922 (London, 1979), p. 160–193.
(обратно)1134
W. R. Smith, Nationalism and Reform in India (New Haven, CT, 1938), p. 108–109.
(обратно)1135
Ibid., p. 118–119.
(обратно)1136
Блестяще изложено в: G. Pandey, «Peasant Revolt and Indian Nationalism: The Peasant Movement in Awadh, 1919–1922», in R. Guha (ed.), Subaltern Studies (Delhi, 1982–1989) vol.1, p. 143–191.
(обратно)1137
D. A. Low, «The Government of India and the First Non-Cooperation Movement 1920–1922», The Journal of Asian Studies 25 (1966), p. 247–248.
(обратно)1138
Rumbold, Watershed, p. 266–267.
(обратно)1139
См. доклад генерала Роулинсона Вильсону в: Wilson, Letters, p. 306–307.
(обратно)1140
Woods, Roots, p. 157–169.
(обратно)1141
Low, «Government of India», p. 252.
(обратно)1142
Rumbold, Watershed, p. 294.
(обратно)1143
Ibid., p. 301–303.
(обратно)1144
Monroe, Britain’s Moment, p. 69–70.
(обратно)1145
D. Waley, Edwin Montagu (New Delhi, 1964), p. 270.
(обратно)1146
K. Mantena, Alibis of Empire: Henry Maine and the Ends of Liberal Imperialism (Princeton, NJ, 2010).
(обратно)1147
D. A. Low, Lion Rampant: Essays in the Study of British Imperialism (London, 1973), p. 157.
(обратно)1148
Характеристики, предложенные Дж. Дарвином в: J. Darwin, «Imperialism in Decline?», Historical Journal 23 (1980), p. 657–679.
(обратно)1149
Анализ по существу французской дилеммы см. в: F. Cooper, Colonialism in Question: Theory, Knowledge, History (Berkeley, CA, 2005). See also Low, Lion Rampant, p. 70–72.
(обратно)1150
H. Tinker, Separate and Unequal: India and the Indians in the British Commonwealth, 1920–1950 (Vancouver, 1976), p. 43–77.
(обратно)1151
Woods, Roots, p. 232.
(обратно)1152
Beloff, Imperial Sunset, vol. 1, p. 312–13; Waley, Montagu, 258; Beloff, Imperial Sunset, vol. 2, p. 30.
(обратно)1153
W. R. Louis, British Strategy in the Far East, 1919–1939 (Oxford, 1971), p. 50–78; M. Beloff, Imperial Sunset: Britain’s Liberal Empire, 1897–1921 (London, 1969), vol. 1, p. 318–324.
(обратно)1154
N. Tracy, The Collective Naval Defence of the Empire, 1900–1940 (London, 1997).
(обратно)1155
S. Roskill, Naval Policy Between the Wars (New York, 1968), vol. 1, p. 271–290.
(обратно)1156
Beloff, Imperial Sunset, vol. 1, p. 332–343.
(обратно)1157
L. Gardner, Safe for Democracy: The Anglo-American Response to Revolution, 1913–1923 (Oxford, 1987),p. 307–309.
(обратно)1158
T. H. Buckley, The United States and the Washington Conference, 1921–1922 (Knoxville, TN, 1970), p. 30–37.
(обратно)1159
M. G. Fry, Illusions of Security: North Atlantic Diplomacy, 1918–1922 (Toronto, 1972), p. 144–151.
(обратно)1160
Roskill, Naval Policy, vol. 1, p. 311.
(обратно)1161
По замечанию Лансинга, присутствовавшего на Конференции; см.: Buckley, The United States, p. 74.
(обратно)1162
«The Arms Conference in Action», Current History 15, 3 December 1921, p. i.
(обратно)1163
Ibid., p. xxxii.
(обратно)1164
A. Iriye, After Imperialism: The Search for a New Order in the Far East, 1921–1931 (Cambridge, MA, 1965), p. 14.
(обратно)1165
L. Humphreys, The Way of the Heavenly Sword: The Japanese Army in the 1920s (Stanford,CA, 1995), p. 46.
(обратно)1166
Buckley, United States, p. 59.
(обратно)1167
I. Gow, Military Intervention in Prewar Japanese Politics: Admiral Kato-Kanji and the «Washington System» (London, 2004), p. 82–101.
(обратно)1168
Fry, Illusions of Security, p. 154–186.
(обратно)1169
Papers Relating to the Foreign Relations of the United States: Lansing Papers (Washington, DC, 1922), vol. 1, p. 130–133.
(обратно)1170
B. Martin, France and the Après Guerre, 1918–1924: Illusions and Disillusionment (Baton Rouge, FL, 1999), p. 87–89.
(обратно)1171
E. Goldstein and J. Maurer (eds), The Washington Conference, 1921–1922: Naval Rivalry, East Asian Stability and the Road to Pearl Harbour (London, 1994).
(обратно)1172
Roskill, Naval Policy, vol. 1, p. 354.
(обратно)1173
D. Wang, China’s Unequal Treaties: Narrating National History (Oxford, 2005).
(обратно)1174
«Arms Conference», Current History 15, p. 383–384.
(обратно)1175
G. McCormack, Chang Tso-lin in Northeast China, 1911–1928: China, Japan, and the Manchurian Idea (Stanford, CA, 1977), p. 52–66.
(обратно)1176
M. Metzler, Lever of Empire: The International Gold Standard and the Crisis of Liberalism in Prewar Japan (Berkeley, CA, 2005), p. 129.
(обратно)1177
E. S. K. Fung, The Diplomacy of Imperial Retreat: Britain’s South China Policy, 1924–1932 (Hong Kong p. 18–25.
(обратно)1178
Y. Zhang, China in the International System, 1918–1920 (Basingstoke, 1991), p. 184–185.
(обратно)1179
W. King, China at the Washington Conference, 1921–1922 (New York, 1963), p. 18–19.
(обратно)1180
Goldstein and Maurer, Washington Conference, p. 263.
(обратно)1181
См. мнения, изложенные в: King, China, p. 38–39.
(обратно)1182
Metzler, Lever of Empire, p. 127.
(обратно)1183
Gardner, Safe for Democracy, p. 313.
(обратно)1184
Ibid., p. 313.
(обратно)1185
Iriye, After Imperialism, p. 29.
(обратно)1186
Gardner, Safe for Democracy, p. 318–319.
(обратно)1187
Ibid., p. 320.
(обратно)1188
R. A. Dayer, Bankers and Diplomats in China, 1917–1925 (London, 1981), p. 155–161.
(обратно)1189
M. Lewin, Lenin’s Last Struggle (New York, 1968).
(обратно)1190
Как проницательно отмечено в: R. Hofheinz The Broken Wave: The Chinese Communist Peasant Movement, 1922–1928 (Cambridge, MA, 1977), 3, «сегодня не многие понимают, что сознательно сформулированная идея крестьянской революции появилась всего несколько десятилетий назад».
(обратно)1191
A. S. Lindemann, The Red Years: European Socialism versus Bolshevism, 1919–1921 (Berkeley, CA, 1974), p. 48–68.
(обратно)1192
C. S. Maier, Recasting Bourgeois Europe: Stabilization in France, Germany, and Italy in the Decade after World War I (Princeton, NJ, 1975), p. 113–174; F. H. Adler, Italian Industrialists from Liberalism to Fascism (New York, 1995), p. 165–168; G. Salvemini, The Origins of Fascism in Italy (New York, 1973), p. 206–208.
(обратно)1193
P. Pastor (ed.), Revolutions and Interventions in Hungary and its Neighbor States, 19181919 (Boulder, CO, 1988).
(обратно)1194
C. Kinvig, Churchill’s Crusade: The British Invasion of Russia, 1918–1920 (London, 2006), P. 283–285.
(обратно)1195
N. Davies, White Eagle, Red Star: The Polish-Soviet War, 1919–1920 (London, 1972), P. 71–76.
(обратно)1196
R. Pipes, Russia under the Bolshevik Regime (New York, 1994), p. 91–92; Пайпс Р. Русская революция, кн. 3. М., 2005, с. 108.
(обратно)1197
Davies, White Eagle, Red Star, p. 90–91.
(обратно)1198
C. E. Bechhofer, In Denikin’s Russia and the Caucasus, 1918–1920 (London, 1921), p. 120–122.
(обратно)1199
T. Snyder, The Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569–1999 (New Haven, CT, 2003), p. 63–139.
(обратно)1200
G. A. Brinkley, «Allied Policy and French Intervention in the Ukraine, 1917–1920», in T. Hunczak (ed.), The Ukraine, 1917–1921: A Study in Revolution (Cambridge, MA, 1977), p. 345–351.
(обратно)1201
N. Davies, «The Missing Revolutionary War», Soviet Studies 27 (1975), p. 178–195.
(обратно)1202
Pipes, Russia under the Bolshevik Regime, 179–183; Пайпс Р. Русская революция, кн. 3, с. 225–227.
(обратно)1203
T. Fiddick, «The „Miracle of the Vistula“: Soviet Policy versus Red Army Strategy», The Journal of Modern History 45 (1973), p. 626–643.
(обратно)1204
О реакции Британии см.: M. Beloff, Imperial Sunset: Britain’s Liberal Empire, 1897–1921 (London, 1969), vol. 1, p. 328–329.
(обратно)1205
J. Degras (ed.), The Communist International: Documents, 1919–1943 (London, 1956-65), vol. 1, p. 111–113.
(обратно)1206
Pipes, Russia under the Bolshevik Regime, p. 177; Пайпс Р. Русская революция, кн. 3, с. 223.
(обратно)1207
O. Ruehle, «Report from Moscow», http: // .
(обратно)1208
Lindemann, Red Years, p. 102–219.
(обратно)1209
Degras, The Communist International, 1919–1943, p. 166–172.
(обратно)1210
J. Jacobson, When the Soviet Union Entered World Politics (Berkeley, CA, 1994), p. 51–58.
(обратно)1211
J. P. Haithcox, Communism and Nationalism in India: M. N. Roy and Comintern Policy, 1920–1939 (Princeton, NJ, 1971).
(обратно)1212
S. White, Britain and the Bolshevik Revolution: A Study in the Politics of Diplomacy, 1920–1924 (London, 1979), p. 120.
(обратно)1213
S. Blank, «Soviet Politics and the Iranian Revolution of 1919–1921», Cahiers du Monde russe et soviétique 21 (1980), p. 173–194.
(обратно)1214
S. White, «Communism and the East: The Baku Congress, 1920», Slavic Review 33 (1974), p. 492–514.
(обратно)1215
J. Riddell (ed.), To See the Dawn: Baku, 1920 – First Congress of the Peoples of the East (New York, 1993), p. 47–52.
(обратно)1216
Ibid., p. 232.
(обратно)1217
Jacobson, When the Soviet Union, p. 77.
(обратно)1218
N. Davies, «The Soviet Command and the Battle of Warsaw», Soviet Studies 23 (1972), р. 573–585.
(обратно)1219
H. G. Linke, «Der Weg nach Rapallo: Strategie und Taktik der deutschen und sowjetischen Außenpolitik», Historische Zeitschrift 264 (1997), p. 63.
(обратно)1220
Beloff, Imperial Sunset, vol. 1, p. 328–329.
(обратно)1221
Pipes, Russia under the Bolshevik Regime, p. 134, 164; Пайпс Р. Русская революция, кн. 3, с. 173, 210.
(обратно)1222
S. R. Sonyel, «Enver Pasha and the Basmaji Movement in Central Asia», Middle Eastern Studies 26 (1990), p. 52–64.
(обратно)1223
Изящно отмечено в: Jacobson, When the Soviet Union.
(обратно)1224
B. Gökay, A Clash of Empires: Turkey between Russian Bolshevism and British Imperialism, 1918–1923 (London, 1997), p. 148–149.
(обратно)1225
B. A. Elleman, Diplomacy and Deception: The Secret History of Sino-Soviet Diplomatic Relations, 1917–1927 (Armonk, NY, 1997).
(обратно)1226
P. Dukes, The USA in the Making of the USSR: The Washington Conference, 1921–1922, and «Uninvited Russia» (New York and London, 2004), p. 57–61.
(обратно)1227
J. K. Fairbank and D. Twitchett (eds), The Cambridge History of China, vol. 12, Republican China, 1912–1949, Part 1 (Cambridge, 1983), p. 541.
(обратно)1228
A. J. Saich, The Origins of the First United Front in China: The Role of Sneevliet (Alias Maring) (Leiden, 1991).
(обратно)1229
G. D. Jackson, Comintern and Peasant in Eastern Europe, 1919–1930 (New York, 1966), P. 93.
(обратно)1230
Ibid., p. 60.
(обратно)1231
Papers Relating to the Foreign Relations of the United States: Lansing Papers (Washington, DC, 1921), vol. 2, p. 805.
(обратно)1232
B. M. Weissman, Herbert Hoover and Famine Relief to Soviet Russia, 1921–1923 (Stanford, W4) p. 15–16.
(обратно)1233
A. Orde, British Policy and European Reconstruction after the First World War (Cambridge, 1990), p. 162.
(обратно)1234
S. White, The Origins of Détente: The Genoa Conference and Soviet-Western Relations, 1921–1922 (Cambridge, 1985), p. 26–27.
(обратно)1235
Orde, British Policy, p. 163; C. Fink, The Genoa Conference: European Diplomacy, 1921–1922 (Chapel Hill, NC, 1984), p. 6.
(обратно)1236
P. Dukes, The USA in the Making of the USSR: The Washington Conference, 1921–1922, and «Uninvited Russia» (New York and London, 2004), p. 71.
(обратно)1237
B. Patenaude, The Big Show in Bololand: The American Relief Expedition to Soviet Russia in the Famine of 1921 (Stanford, CA, 2002).
(обратно)1238
C. M. Edmondson, «The Politics of Hunger: The Soviet Response to Famine, 1921», Soviet Studies 29 (1977), p. 506–518.
(обратно)1239
G. D. Feldman, The Great Disorder: Politics, Economics, and Society in the German Inflation, 1914–1924 (Oxford, 1993), p. 346–412.
(обратно)1240
Ibid., p. 388.
(обратно)1241
G. D. Feldman, Hugo Stinnes: Biographie eines Industriellen 1870–1924 (Munich, 1998), p. 720–738.
(обратно)1242
Orde, British Policy, p. 177.
(обратно)1243
R. Himmer, «Rathenau, Russia, and Rapallo», Central European History 9 (1976), p. 146–183.
(обратно)1244
H. G. Linke, «Der Weg nach Rapallo: Strategie und Taktik der deutschen und sowjetischen Außenpolitik», Historische Zeitschrift 264 (1997), p. 82.
(обратно)1245
A. Heywood, Modernising Lenin’s Russia: Economic Reconstruction, Foreign Trade and the Railways (Cambridge, 1999), p. 6.
(обратно)1246
Orde, British Policy, p. 170–178.
(обратно)1247
B. Martin, France and the Après Guerre, 1918–1924: Illusions and Disillusionment (Baton Rouge LA, p. 96.
(обратно)1248
Documents on British Foreign Policy, 1919–1939, 1st ser. [DBFP] (London, 1974), vol. 13–14, p. 57–58. Перемены, на которые не так давно было указано в: P. Jackson, «French Security and a British „Continental Commitment“ after the First World War: A Reassessment», English Historical Review CCXVI (2011), p. 519, 345–385. Более подробно о том, что предшествовало этим переменам, см. в: A.-M. Lauter, Sicherheit und Reparationen. Diefranzösische Öffentlichkeit, der Rhein und die Ruhr (1919–1923) (Essen, 2006), p. 232–242, 286–290.
(обратно)1249
Более подробно о том, что происходило в декабре 1921 и январе 1922 года, см. в: DBFP, vol. 9.
(обратно)1250
White, The Origins, p. 45.
(обратно)1251
Orde, British Policy, p. 180–182.
(обратно)1252
Feldman, Great Disorder, p. 382.
(обратно)1253
Martin, France, p. 97–126.
(обратно)1254
J. Keiger, Raymond Poincaré (Cambridge, 1997), p. 279–283.
(обратно)1255
The New Republic, 8 March 1922, p. 30–33.
(обратно)1256
DBFP, vol. 19, p. 171–172.
(обратно)1257
Ibid., p. 300.
(обратно)1258
Martin, France, 128; Feldman, Great Disorder, p. 383.
(обратно)1259
Feldman, Great Disorder, p. 410–431.
(обратно)1260
Ibid., p. 421.
(обратно)1261
Ibid., p. 431–434.
(обратно)1262
C. S. Maier, Recasting Bourgeois Europe: Stabilization in France, Germany, and Italy in the Decade after World War I (Princeton, NJ, 1975), p. 282–283; M. Berg, Gustav Stresemann und die Vereinigten Staaten von Amerika: Weltwirtschaftliche Verflechtung und Revisionspolitik, 1907–1929 (Baden-Baden, 1990), p. 108–109.
(обратно)1263
Fink, Genoa, p. 83–86.
(обратно)1264
W. Link, Die Amerikanische Stabilisierungspolitik in Deutschland, 1921–1932 (Dusseldorf, 1970), p. 174.
(обратно)1265
DBFP, vol. 19, p. 342.
(обратно)1266
White, The Origins, p. 82–94.
(обратно)1267
DBFP, vol. 19, p. 393.
(обратно)1268
Ibid., p. 348–351.
(обратно)1269
White, The Origins, p. 107–109.
(обратно)1270
Fink, Genoa, p. 60.
(обратно)1271
R. Himmer, «Rathenau, Russia and Rapallo», Central European History 9 (1976), p. 146–183.
(обратно)1272
J. Siegel, For Peace and Money (Oxford, 2014, forthcoming), chapter 5.
(обратно)1273
Fink, Genoa, p. 174–175.
(обратно)1274
Эту параллель прекрасно видели Советы, см.: White, The Origins, p. 110.
(обратно)1275
О предостережениях Ллойда Джорджа относительно попыток «османизации» Советского Союза см. в: DBFP, vol. 19, p. 377–378.
(обратно)1276
Linke, «Der Weg», p. 77.
(обратно)1277
B. Gökay, A Clash of Empires: Turkey between Russian Bolshevism and British Imperialism, 1918–1923 (London, 1997), p. 119.
(обратно)1278
Berg, Stresemann, p. 109; Maier, Recasting, p. 284.
(обратно)1279
Feldman, Great Disorder, p. 450.
(обратно)1280
Gökay, Clash of Empires, p. 119.
(обратно)1281
J. C. Cairns, «A Nation of Shopkeepers in Search of a Suitable France: 1919–1940», The American Historical Review 79, no. 3 (June 1974), p. 720.
(обратно)1282
M. Beloff, Imperial Sunset: Britain’s Liberal Empire, 1897–1921 (London, 1969), vol. 2, p. 79–80.
(обратно)1283
Z. Steiner, The Lights that Failed: European International History, 1919–1933 (Oxford, 2005), p. 113–120.
(обратно)1284
J. R. Ferris, The Evolution of British Strategic Policy, 1919–1926 (Basingstoke, 1989), p. 120.
(обратно)1285
Gökay, Clash of Empires, p. 164.
(обратно)1286
D. P. Silverman, Reconstructing Europe after the Great War (Cambridge, MA, 1982), p. 179–180.
(обратно)1287
R. Self, Britain, America and the War Debt Controversy: The Economic Diplomacy of an Unspecial Relationship, 1917–1941 (London, 2006), p. 36–54.
(обратно)1288
B. D. Rhodes, «Reassessing „Uncle Shylock“: The United States and the French War Debt, 1917–1929», The Journal of American History 55, no. 4 (March 1969), p. 793.
(обратно)1289
A. Turner, «Keynes, the Treasury and French War Debts in the 1920s», European History Quarterly 27 69974 p. 505.
(обратно)1290
M. P. Leffler, The Elusive Quest: America’s Pursuit of European Stability and French Security, 1919–1933 (Chapel Hill, NC, 1979), p. 69.
(обратно)1291
Link, Stabilisierungspolitik, p. 175.
(обратно)1292
B. Martin, France and the Après Guerre, 1918–1924: Illusions and Disillusionment (Baton Rouge, LA, 1999) p. 132–150.
(обратно)1293
A.-M. Lauter, Sicherheit und Reparationen: die französische Öffentlichkeit, der Rhein und die Ruhr (1919–1923) (Essen, 2006), p. 292–301.
(обратно)1294
Papers Relating to the Foreign Relations of the United States: Lansing Papers (Washington, DC, 1922), vol. 1, p. 557–558.
(обратно)1295
W. Link, Die amerikanische Stabilisierungspolitik in Deutschland 1921–1932 (Düsseldorf, 1970), p. 122–147.
(обратно)1296
S. A. Schuker, «Europe’s Banker: The American Banking Community and European Reconstruction, 1918–1922», in M. Petricioli and M. Guderzo (eds), Une Occasion manquée 1922: la reconstruction de l’Europe (Frankfurt, 1995), p. 56.
(обратно)1297
P. Liberman, Does Conquest Pay? The Exploitation of Occupied Industrial Societies (Princeton, NJ, 1996), p. 87–98.
(обратно)1298
Martin, France, p. 156; The New York Times, «Clemenceau Feels So Sure of Success He’s a „Boy“ Again», 23 November 1922, p. 1–3.
(обратно)1299
M. J. Pusey, Charles Evans Hughes (New York, 1951), vol. 2, p. 581–582.
(обратно)1300
C. E. Hughes, The Pathway of Peace: Representative Addresses Delivered during his Termas Secretary of State (1921–1925) (New York, 1925), p. 57; Link, Stabilisierungspolitik, p. 168–174.
(обратно)1301
W. I. Shorrock, «France and the Rise of Fascism in Italy, 1919–1923», Journal of Contemporary History 10 (1975), p. 591–610.
(обратно)1302
Martin, France, p. 165.
(обратно)1303
C. Fischer, The Ruhr Crisis, 1923–1924 (Oxford, 2003), p. 86–107.
(обратно)1304
Ibid., p. 176.
(обратно)1305
G. Krumeich and J. Schröder (eds), Der Schatten des Weltkrieges: Die Ruhrbesetzung, 1923 (Essen, 2004), p. 207–224.
(обратно)1306
G. D. Feldman, The Great Disorder: Politics, Economics, and Society in the German Inflation, 1914–1924 (Oxford, 1993), p. 637–669; C. S. Maier, Recasting Bourgeois Europe: Stabilization in France, Germany, and Italy in the Decade after World War I (Princeton, NJ, 1975), p. 367–376.
(обратно)1307
Feldman, Great Disorder, p. 705–766.
(обратно)1308
P. Cohrs, The Unfinished Peace after World War I (Cambridge, 2006), p. 88; M. Leffler, The Elusive Quest: America’s Pursuit of European Stability and French Security, 1919–1933 (Chapel Hill, NC, 1979), p. 86; B. Glad, Charles Evans Hughes and the Illusions of Innocence: A Study of American Diplomacy (Urbana, IL, 1966), p. 219–223.
(обратно)1309
S. Adler, The Uncertain Giant, 1921–1941: American Foreign Policy Between the Wars (New York, 1965), p. 75.
(обратно)1310
FRUS: Lansing Papers, 1923, vol. 2, p. 56.
(обратно)1311
W. Louis, British Strategy in the Far East, 1919–1939 (Oxford, 1971), p. 104.
(обратно)1312
M. Howard, The Continental Commitment: The Dilemma of British Defence Policy in the Era of the Two World Wars (London, 1972), p. 81–84.
(обратно)1313
Link, Stabilisierungspolitik, p. 179–187.
(обратно)1314
P. Yearwood, Guarantee of Peace: The League of Nations in British Policy, 1914–1925 (Oxford, 2009), p. 253.
(обратно)1315
Ibid., p. 264–265.
(обратно)1316
M. Berg, Gustav Stresemann und die Vereinigten Staaten von Amerika: weltwirtschaftliche Verflechtung und Revisionspolitik, 1907–1929 (Baden-Baden, 1990).
(обратно)1317
Fischer, The Ruhr Crisis, p. 230.
(обратно)1318
Martin, France, p. 188.
(обратно)1319
H.-P. Schwarz, Konrad Adenauer: A German Politician and Statesman in a Period of War, Revolution, and Reconstruction (Oxford, 1995), vol. 1, p. 171–194.
(обратно)1320
Feldman, Great Disorder, p. 768.
(обратно)1321
R. Scheck, «Politics of Illusion: Tirpitz and Right-Wing Putschism, 1922–1924», German Studies Review 18 (1995), p. 29–49.
(обратно)1322
A. Wirsching, Vom Weltkrieg zum Buergerkrieg? Politischer Extremismus in Deutschland und Frankreich, 1918–1933/39. Berlin und Paris im Vergleich (Munich, 1999), p. 238.
(обратно)1323
D. R. Stone, «The Prospect of War? Lev Trotskii, the Soviet Army, and the German Revolution in 1923», The International History Review 25, no. 4 (December 2003), p. 799–817.
(обратно)1324
G. Feldman, «Bayern und Sachsen in der Hyperinflation 1922», Historische Zeitschrift 238(1984), p. 569–609.
(обратно)1325
D. Pryce, «The Reich Government versus Saxony, 1923: The Decision to Intervene», Central European History 10 (1977), p. 112–147.
(обратно)1326
Feldman, Great Disorder, p. 774.
(обратно)1327
K. Schwabe (ed.), Die Ruhrkrise 1923: Wendepunkt der internationalen Beziehungen nachdem Ersten Weltkrieg (Paderborn, 1985), p. 29–38.
(обратно)1328
Feldman, Great Disorder, p. 776–777.
(обратно)1329
G. Schulz (ed.), Konrad Adenauer 1917–1933 (Cologne, 2003), 203–232, and K. D. Erdmann, Adenauer in der Rheinlandpolitik nach dem Ersten Weltkrieg (Stuttgart, 1966).
(обратно)1330
Schulz, Konrad Adenauer 1917–1933, p. 346.
(обратно)1331
Maier, Great Disorder, p. 393.
(обратно)1332
Feldman, Great Disorder, p. 825.
(обратно)1333
Ibid., p. 661.
(обратно)1334
Berg, Stresemann, p. 160, 168–169, 171.
(обратно)1335
Link, Stabilisierungspolitik, p. 206–207.
(обратно)1336
A. Orde, British Policy and European Reconstruction after the First World War (Camtiridge 1990), p. 244.
(обратно)1337
Krumeich and Schroeder (eds), Der Schatten, p. 80.
(обратно)1338
J. Bariéty, Les Relations Franco-Allemands aprés la Premiиre Guerre Mondiale (Paris, 1977), p. 263–265.
(обратно)1339
Berg, Stresemann, p. 159.
(обратно)1340
Leffler, Elusive Quest, p. 94–95.
(обратно)1341
Ibid., p. 99.
(обратно)1342
Yearwood, Guarantee of Peace, p. 273–289.
(обратно)1343
D. Marquand, Ramsay MacDonald (London, 1997), p. 297–305.
(обратно)1344
The Times, «MacDonald on Ruhr», 12 February 1923, 12, and «Mr. MacDonald On Ruhr „Success“», 26 September 1923.
(обратно)1345
Marquand, MacDonald, 333; The Times, «Labour and Allied Debts», 13 December 1923.
(обратно)1346
J. C. Cairns, «A Nation of Shopkeepers in Search of a Suitable France: 1919–1940», The American Historical Review 79, no. 3 (June 1974), p. 721.
(обратно)1347
Martin, France, p. 189–192.
(обратно)1348
S. A. Schuker, The End of French Predominance in Europe: The Financial Crisis of 1924 and the Adoption of the Dawes Plan (Chapel Hill, NC, 1976), p. 28, 53–57.
(обратно)1349
E. L. Dulles, The French Franc, 1914–1928: The Facts and their Interpretation (New York, 1929), p. 170–174.
(обратно)1350
Martin, France, p. 232–233; Maier, Recasting, p. 460–471.
(обратно)1351
Leffler, Elusive Quest, p. 97.
(обратно)1352
Feldman, Great Disorder, p. 829.
(обратно)1353
D. Neri-Ultsch, Sozialisten und Radicaux – eine schwierige Allianz (Munich, 2005).
(обратно)1354
Leffler, Elusive Quest, p. 100–104.
(обратно)1355
Leffler, Elusive Quest, p. 105.
(обратно)1356
FRUS: Lansing Papers, 1924, vol. 2, p. 28–30; B. Glad, Charles Evans Hughes and the Illusions of Innocence: A Study in American Diplomacy (Urbana, IL, 1966), p. 227.
(обратно)1357
Schuker, End of French Predominance, p. 103.
(обратно)1358
J. Wright, Gustav Stresemann: Weimar’s Greatest Statesman (Oxford, 2002), p. 275.
(обратно)1359
Scheck, «Politics of Illusion».
(обратно)1360
Feldman, Great Disorder, p. 801.
(обратно)1361
T. Raithel, Das Schwierige Spiel des Parlamentarismus: Deutscher Reichstag und französische Chambre des Députés in den Inflationskrisen der 1920er Jahre (Munich, 2005), p. 196–341.
(обратно)1362
Feldman, Great Disorder, p. 822–823.
(обратно)1363
Ibid., p. 815, 802.
(обратно)1364
Leffler, Elusive Quest, p. 111.
(обратно)1365
W. McNeil, American Money and the Weimar Republic: Economics and Politics on the Eve of the Great Depression (New York, 1986), p. 33.
(обратно)1366
Cohrs, Unfinished Peace.
(обратно)1367
Речь лауреата Нобелевской премии см. на: / laureates/1926/stresemann-lecture.html.
(обратно)1368
О развитии «пацифизма как Realpolitik» в Германии см.: L. Haupts, Deutsche Friedens-politik, 1918–1919 (Dusseldorf, 1976).
(обратно)1369
S. Hoffmann, Gulliver’s Troubles, or the Setting of American Foreign Policy (New York, p. 53.
(обратно)1370
Documents on British Foreign Policy, 1919–1939 [DBFP], series 1a, vol. 5, ed. E. L. Woodward and Rohan Butler (London, 1973), p. 857–75; B. McKercher, The Second Baldwin Government and the United States, 1924–1929: Attitudes and Diplomacy (Cambridge, 1984), p. 174.
(обратно)1371
W. Link, Die amerikanische Stabilisierungspolitik in Deutschland 1921-32 (Düsseldorf, 1970) p. 223–241.
(обратно)1372
W. McNeil, American Money and the Weimar Republic: Economics and Politics on the Eve of the Great Depression (New York, 1986).
(обратно)1373
A. Ritschl, Deutschlands Krise und Konjunktur, 1924–1934: Binnenkonjunktur, Auslands-verschuldung und Reparationsproblem zwischen Dawes-Plan und Transfersperre (Berlin, 2002).
(обратно)1374
A. Thimme, «Gustav Stresemann: Legende und Wirklichkeit», Historische Zeitschrift 181 (1956) p. 314.
(обратно)1375
R. Boyce, British Capitalism at the Crossroads, 1919–1932 (New York, 1987), p. 66–78.
(обратно)1376
K. Polanyi, The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Times (Boston, MA, 1944), p. 27; Поланьи К. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени. СПб., 2002, с. 37.
(обратно)1377
G. Gorodetsky, «The Soviet Union and Britain’s General Strike of May 1926», Cahiers du monde russe et soviétique 17, no. 2/3 (1976), p. 287–310; J. Jacobson, When the Soviet Union Entered World Politics (Berkeley, CA, 1994), p. 169–172.
(обратно)1378
Diggins, «Flirtation with Fascism: American Pragmatic Liberals and Mussolini’s Italy», The American Historical Review 71, no. 2 (1966), p. 487–506.
(обратно)1379
S. Romano, Guiseppe Volpi et l’italie moderne: Finance, industrie et état de l’nre giolittienne а la deuxinme guerre mondiale (Rome, 1982).
(обратно)1380
G. Allen, «The Recent Currency and Exchange Policy of Japan», The Economic Journal 35, no. 137 69254 p. 66–83.
(обратно)1381
M. Metzler, Lever of Empire: The International Gold Standard and the Crisis of Liberalism in Prewar Japan (Berkeley, CA, 2005), p. 149.
(обратно)1382
R. A. Dayer, Bankers and Diplomats in China, 1917–1925: The Anglo-American Relationship (London, 1981), p. 178.
(обратно)1383
B. D. Rhodes, «Reassessing „Uncle Shylock“: The United States and the French War Debt, 1917–1929», The Journal of American History 55, no. 4 (March 1969), p. 787–803.
(обратно)1384
О фашистском движении во Франции 1920-х годов см.: K.-J. Müller, «„Faschismus“ in Frankreichs Dritter Republik?», in H. Müller and M. Kittel (eds), Demokratie in Deutschland und Frankreich, 1918–1933/40 (Munich, 2002), p. 91–130.
(обратно)1385
T. Raithel, Das schwierige Spiel des Parlamentarismus: Deutscher Reichstag und fran-zösische Chambre des Députés in den Inflationskrisen der 1920er Jahre (Munich, 2005), p. 480–519.
(обратно)1386
D. Amson, Poincaré: L’acharné de la politique (Paris, 1997), p. 352–353.
(обратно)1387
R. M. Haig, The Public Finances of Post-War France (New York, 1929), p. 173.
(обратно)1388
R. Boyce, The Great Interwar Crisis and the Collapse of Globalization (Basingstoke, 2009), p. 165.
(обратно)1389
M. P. Leffler, The Elusive Quest: America’s Pursuit of European Stability and French Security 1919–1933 (Chapel Hill NC, W9) p. 153.
(обратно)1390
R. Boyce, British Capitalism at the Crossroads, 1919–1932 (New York, 1987), p. 144–146.
(обратно)1391
P. Yearwood, Guarantee of Peace: The League of Nations in British Policy, 1914–1925 (Oxford, 2009), p. 342.
(обратно)1392
M. Beloff, Imperial Sunset: Britain’s Liberal Empire 1897–1921 (London, 1969), vol. 2, 140, цит. по: DBFP, series 1a, III, p. 734.
(обратно)1393
Yearwood, Guarantee, p. 342.
(обратно)1394
Boyce, Great Interwar Crisis, p. 133.
(обратно)1395
J. R. Ferris, The Evolution of British Strategic Policy, 1919–1926 (Basingstoke, 1989), p. 158–178.
(обратно)1396
Yearwood, Guarantee, p. 355.
(обратно)1397
G. Unger, Aristide Briand: Leferme conciliateur (Paris, 2005), p. 532–537.
(обратно)1398
P. O. Cohrs, The Unfinished Peace after World War I: America, Britain and the Stabilisation of Europe, 1919–1932 (Cambridge, 2006), p. 448–476.
(обратно)1399
J. Wheeler-Bennett, Information on the Renunciation of War, 1927–1928 (London, 1928),p. 56.
(обратно)1400
Jacobson, When the Soviet Union, p. 247.
(обратно)1401
A. Iriye, The Cambridge History of American Foreign Relations, vol. 3, The Globalizing of America, 1913–1945 (Cambridge, 1993), p. 103–106.
(обратно)1402
Cohrs, Unfinished Peace, p. 378–409.
(обратно)1403
J. Keiger, Raymond Poincaré (Cambridge, 1997), p. 337–340.
(обратно)1404
McKercher, The Second Baldwin Government and the United States, 1924–1929, p. 174.
(обратно)1405
Beloff, Imperial Sunset, vol. 2, p. 142–143.
(обратно)1406
L. Trotsky, «Disarmament and the United States of Europe» (October 1929) http: //www. marxists.org/archive/trotsky/L929/L0/disarm.htm; Л. Троцкий. Разоружение и Соединенные Штаты Европы // Бюллетень оппозиции (большевиков-ленинцев). 1929. 4 октября (№ 6), http: // web.mit.edu/fjk/www/Fl/BO/BO-06.shtml.
(обратно)1407
D. Marquand, Ramsay MacDonald (London, 1997), p. 507.
(обратно)1408
Z. Steiner, The Lights that Failed: European International History, 1919–1933 (Oxford, 2005), p. 510–518.
(обратно)1409
Jacobson, When the Soviet Union, p. 183–188, 224–229.
(обратно)1410
A. Waldron, From War to Nationalism: China’s Turning Point, 1924–1925 (Cambridge, 1995).
(обратно)1411
J. Fairbank (ed.), The Cambridge History of China, vol. 12, Republican China, 1912–1949. Part 1 (Cambridge, 2008), p. 314–315; L. Humphreys, The Way of the Heavenly Sword: The Japanese Army in the 1920s (Stanford, CA, 1995), p. 130.
(обратно)1412
Dayer, Bankers, p. 186–187.
(обратно)1413
C. Martin Wilbur and J. Lien-Ying, Missionaries of Revolution: Soviet Advisers and Nationalist China, 1920–1927 (Cambridge, MA, 1989), p. 90–100.
(обратно)1414
E. Fung, The Diplomacy of Imperial Retreat: Britain’s South China Policy, 1924–1931 (Hong Kong, 1991), p. 42–54.
(обратно)1415
R. Hofheinz, The Broken Wave: The Chinese Communist Peasant Movement, 1922–1928 (Cambridge, MA, 1977).
(обратно)1416
Wilbur and Lien-Ying, Missionaries of Revolution, p. 108–112; P. Zarrow, China in War and Revolution, 1895–1949 (London, 2005), p. 216–221.
(обратно)1417
R. Karl, Mao Zedong and China in the Twentieth-Century World: A Concise History (Durham, NC, 2010), p. 29.
(обратно)1418
S. Schram (ed.), Mao’s Road to Power: Revolutionary Writings, 1912–1949 (New York, 1944 vol 2, p. 421.
(обратно)1419
J. Solecki and C. Martin Wilbur, «Blücher’s „Grand Plan“ of 1926», The China Quarterly 35 (1968), p. 18–39.
(обратно)1420
H. Kuo, Die Komintern und die Chinesische Revolution (Paderborn, 1979), p. 148.
(обратно)1421
B. Elleman, Moscow and the Emergence of Communist Power in China, 1925–1930 (London, 2009), p. 23–36.
(обратно)1422
Karl, Mao Zedong, p. 30.
(обратно)1423
Schram (ed.), Mao’s Road to Power, vol. 2, p. 430.
(обратно)1424
S. Craft, V. K. Wellington Koo and the Emergence of Modern China (Lexington, KY, 2004), p. 86.
(обратно)1425
Papers Relating to the Foreign Relations of the United States: Lansing Papers (Washington, DC, 1926), vol. 1, p. 924; A. Iriye, China and Japan in the Global Setting (Cambridge, MA, 1992), p. 99–101.
(обратно)1426
Fung, Diplomacy, p. 100–111.
(обратно)1427
Ibid., p. 131–132.
(обратно)1428
A. Clayton, The British Empire as a Superpower, 1919-39 (Basingstoke, 1986), p. 207–208.
(обратно)1429
Zarrow, China, p. 236–237.
(обратно)1430
M. Murdock, «Exploiting Anti-Imperialism: Popular Forces and Nation-State-Building during China’s Northern Expedition, 1926–1927», Modern China 35, no. 1 (2009), p. 65–95.
(обратно)1431
Fung, The Diplomacy of Imperial Retreat, p. 137–144.
(обратно)1432
Kuo, Komintern, p. 202–217.
(обратно)1433
Karl, Mao Zedong, p. 33.
(обратно)1434
Hofheinz, The Broken Wave, p. 53–63.
(обратно)1435
Craft, Wellington Koo, 92.
(обратно)1436
M. Jabara Carley, «Episodes from the Early Cold War: Franco-Soviet Relations, 1917–1927», Europe-Asia Studies 52, no. 7 (2000), 1, p. 297.
(обратно)1437
L. Viola, The War Against the Peasantry, 1927–1930: The Tragedy of the Soviet Countryside (New Haven, CT, 2005), p. 9–56.
(обратно)1438
L. D. Trotsky, «The New Course in the Economy of the Soviet Union» (March 1930), http: // ; Л. Троцкий. Экономический авантюризм и его опасности // Бюллетень оппозиции (большевиков-ленинцев). 1930. 13 февраля (№ 9), http: // web.mit.edu/fjk/www/Fl/BO/ BO-09.shtml.
(обратно)1439
P. Duus (ed.), The Cambridge History of Japan, vol. 6: The Twentieth Century (Cambridge, 1988), p. 286–282.
(обратно)1440
Humphreys, Heavenly Sword, p. 136–142.
(обратно)1441
W. F. Morton, Tanaka Giichi and Japan’s China Policy (New York, 1980), p. 71.
(обратно)1442
K. Colegrove, «Parliamentary Government in Japan», The American Political Science Review 21 no 4 (1927), p. 835–852.
(обратно)1443
Humphreys, Heavenly Sword, p. 122–157.
(обратно)1444
N. Bamba, Japanese Diplomacy in a Dilemma (Vancouver, 1972), p. 134.
(обратно)1445
T. Sekiguchi, «Political Conditions in Japan: After the Application of Manhood Suffrage», Pacific Affairs 3, no. 10 (1930), p. 907–922.
(обратно)1446
M. Friedman and A. Schwartz, A Monetary History of the United States, 1867–1960 (Princeton, NJ, 1963) и K. Polanyi, The Great Transformation: The Political and Economic Origins of our Times (Boston, MA, 1944), p. 21–44.
(обратно)1447
B. Eichengreen, Golden Fetters: The Gold Standard and the Great Depression, 1919–1939 (Oxford, 1992) и A. Meltzer, A History of the Federal Reserve (Chicago, IL, 2003), vol. 1.
(обратно)1448
H. James, The German Slump: Politics and Economics, 1924–1936 (Oxford 1986).
(обратно)1449
Z. Steiner, The Lights that Failed: European International History, 1919–1933 (Oxford, 2005), p. 470–491; P. Heyde, Das Ende der Reparationen (Paderborn, 1998), р. 35–77; P- Cohrs, The Unfinished Peace after World War I: America, Britain and the Stabilisation of Europe, 1919–1932 (Cambridge, 2006), p. 477–571.
(обратно)1450
S. Schuker, «Les États-Unis, la France et l’Europe, 1929–1932», in J. Bariéty (ed.), Aristide Briand, la Société des Nations et l’Europe, 1919–1932 (Strasbourg, 2007), p. 385.
(обратно)1451
L. Trotsky, «Disarmament and the United States of Europe» (October 1929) http: // ; Л. Троцкий. Разоружение Соединенные Штаты Европы//Бюллетень оппозиции (большевиков-ленинцев). 1929. 4 октября (№ 6), http: // web.mit.edu/fjk/www/FI/BO/BO-06.shtml. и Соединенные Штаты Европы//Бюллетень оппозиции (большевиков-ленинцев). 1929. 4 октября (№ 6), http: //web.mit.edu/fjk/www/Fl/BO/BO-06.shtml.
(обратно)1452
S. Adler, The Uncertain Giant, 1921–1941: American Foreign Policy Between the Wars (New York, 1965), p. 79.
(обратно)1453
A. Ritschl, Deutschlands Krise und Konjunktur 1924–1934: Binnenkonjunktur, Auslandsverschuldung und Reparationsproblem zwischen Dawes-Plan und Transfersperre (Berlin, 2002).
(обратно)1454
B. Fulda, Press and Politics in the Weimar Republic (Oxford, 2009), p. 144–1446.
(обратно)1455
H. Mommsen, The Rise and Fall of Weimar Democracy (Chapel Hill, NC, 1996).
(обратно)1456
F. R. Dickinson, World War I and the Triumph of a New Japan, 1919–1930 (Cambridge,2013), p. 185–186.
(обратно)1457
Adler, Uncertain Giant, p. 130.
(обратно)1458
R. Sims, Japanese Political History Since the Meiji Renovation: 1868–2000 (London, 2001), p. 150.
(обратно)1459
I. Gow, Military Intervention in Prewar Japanese Politics: Admiral Kato-Kanji and the «Washington System» (London, 2004), 249–266, и J. W. Morley (ed.), Japan Erupts: The London Naval Conference and the Manchurian Incident, 1928–1932(New York, 1984).
(обратно)1460
L. Connors, The Emperor’s Adviser: Saionji Kinmochi and Pre-War Japanese Politics (Oxford, 1987), p. 117–126; T. Mayer-Oakes (ed.), Fragile Victory: Saionji-Harada Memoirs (Detroit, IL, 1968).
(обратно)1461
R. Boyce, The Great Interwar Crisis and the Collapse of Globalization (Basingstoke, 2009).
(обратно)1462
Schuker, «États-Unis», p. 393.
(обратно)1463
W. Lippman, «An American View», Foreign Affairs 8, no. 4 (1930), p. 499–518; R. Fanning, Peace and Disarmament: Naval Rivalry and Arms Control, 1922–1933 (Lexington, KY, 1995) p. 125.
(обратно)1464
W. Lipgens, «Europäische Einigungsidee 1923–1930 und Briands Europaplan im Urteil der deutschen Akten (Part 2)», Historische Zeitschrift 203, no. 1 (1966), p. 46–89. Более подробно об этих надеждах см. в книге бывшего премьер-министра: E. Her-riot Europe (Paris, 1930).
(обратно)1465
Boyce, Great Interwar Crisis.
(обратно)1466
Société des Nations, Documents relatifs а l’organisation d’un régime d’Union Fédérale Européenne, Séries de publ. questions politique, VI (Geneva 1930), p. 1–16.
(обратно)1467
Boyce, Great Interwar Crisis, p. 258–272.
(обратно)1468
W. Lipgens, «Europäische Einigungsidee 1923–1930 und Briands Europaplan im Urteil der deutschen Akten (Part 2)», Historische Zeitschrift 203, no. 2 (1966), p. 341.
(обратно)1469
H. Pogge Von Strandmann, «Großindustrie und Rapallopolitik. Deutsch-Sowjetische Handelsbeziehungen in der Weimarer Republik», Historische Zeitschrift 222, no. 2 (1976), p. 265–341; R. Spaulding, Osthandel and Ostpolitik: German Foreign Trade Policies in Eastern Europefrom Bismarck to Adenauer (Oxford, 1997), p. 267–269.
(обратно)1470
W. Patch, Heinrich Brüning and the Dissolution of the Weimar Republic (New York, 1998).
(обратно)1471
T. Ferguson and P. Temin, «Made in Germany: The German Currency Crisis of 1931», Research in Economic History 21 (2003), p. 1–53.
(обратно)1472
Heyde, Das Ende, p. 130–144.
(обратно)1473
Schuker, «États-Unis», p. 394.
(обратно)1474
Boyce, Great Interwar Crisis, p. 305.
(обратно)1475
Eichengreen, Golden Fetters, p. 278.
(обратно)1476
Boyce, Great Interwar Crisis, p. 307–308.
(обратно)1477
Schuker, «États-Unis», p. 395.
(обратно)1478
Heyde, Das Ende, p. 208–216.
(обратно)1479
The New York Times, «Germany Pledges a Holiday on Arms», 6 July 1931.
(обратно)1480
A. Tooze, Wages of Destruction: The Making and Breaking of the Nazi Economy (London, 2006).
(обратно)1481
C. Thorne, The Limits of Foreign Policy: The West, the League and the Far Eastern Crisis of 1931–1933 (London, 1972).
(обратно)1482
Boyce, Great Interwar Crisis, p. 314–322.
(обратно)1483
Eichengreen, Golden Fetters, p. 279–316.
(обратно)1484
N. Forbes, Doing Business with the Nazis (London, 2000), p. 99.
(обратно)1485
K. Pyle, The Making of Modern Japan (Lexington, MA, 1978), p. 139.
(обратно)1486
J. Maiolo, Cry Havoc: How the Arms Race Drove the World to War, 1931–1941 (London, 2010), p. 31.
(обратно)1487
Tooze, Wages of Destruction, p. 1–33; R. Evans, The Coming of the Third Reich (London, 2003).
(обратно)1488
Steiner, The Lights, p. 755–799.
(обратно)1489
D. Kennedy, Freedom from Fear (Oxford, 1999), p. 70–103.
(обратно)1490
Cohrs, Unfinished Peace, p. 581–587.
(обратно)1491
I. Katznelson, Fear Itself: The New Deal and the Origins of Our Time (New York, 2013).
(обратно)1492
B. Ackerman, We the People, vol. 2, Transformations (Cambridge, MA, 1998).
(обратно)1493
R. Dallek, Franklin Roosevelt and American Foreign Policy, 1932–1945 (Oxford, 1979), p. 23–100.
(обратно)1494
C. Romer, «What Ended the Great Depression?», The Journal of Economic History 52, no. 4(1992) p. 757–784.
(обратно)1495
S. Schuker, American «Reparations» to Germany, 1919–1933 (Princeton, NJ, 1988), p. 101–105.
(обратно)1496
R. Self, Britain, America and the War Debt Controversy: The Economic Diplomacy of an Unspecial Relationship, 1917–1941 (London, 2006), p. 74.
(обратно)1497
R. Self, «Perception and Posture in Anglo-American Relations: The War Debt Controversy in the „Official Mind“, 1919–1940», The International History Review 29, no. 2(2007), p. 286.
(обратно)1498
S. Hoffmann, Gulliver’s Troubles, or the Setting of American Foreign Policy (New York,p. 53.
(обратно)1499
J. Stalin, Collected Works (Moscow, 1954), vol. 13, p. 41–42; И. В. Сталин. О задачах хозяйственников. Речь на первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности. 4 февраля 1931 г. // Сталин И. В. Собрание сочинений. Т. 13. М., 1954, с. 38–39.
(обратно)1500
H. Nicolson, Peacemaking, 1919 (London, 1933), p. 108.
(обратно)1501
P. Yearwood, Guarantee of Peace: The League of Nations in British Policy, 1914–1925 (Oxford, 2009), p. 342.
(обратно)1502
S. Adler, The Uncertain Giant, 1921–1941: American Foreign Policy Between the Wars (New York, 1965), p. 150.
(обратно)1503
R. Boyce, The Great Interwar Crisis and the Collapse of Globalization (Basingstoke, 2009), p. 251.
(обратно)
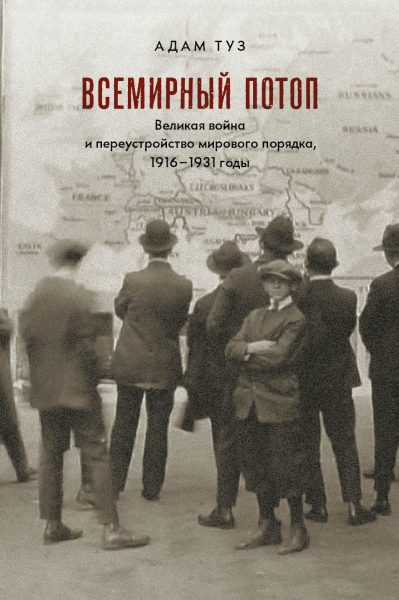





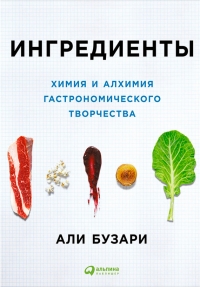
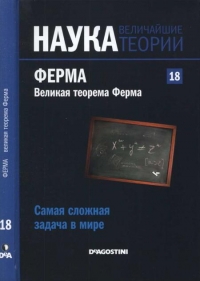



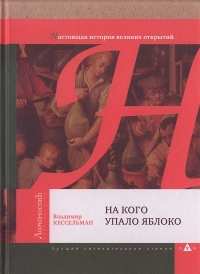

Комментарии к книге «Всемирный потоп», Адам Туз
Всего 0 комментариев