Ж. Бодрийяр Симулякры и симуляция
JEAN BAUDRILLARD
SIMULACRES ET SIMULATION
© Copyright by EDITIONS GALILEE 1981
© Перевод, редактура. Качалов А., 2011
© Издание на русском языке, перевод на русский язык. ООО Издательский дом «ПОСТУМ»,2014
© Оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2017
Прецессия симулякров
Симулякр — это вовсе не то, что скрывает собой истину, — это истина, скрывающая, что её нет.
Симулякр есть истина.
ЭкклезиастДаже если бы мы могли использовать как наилучшую аллегорию симуляции фантастический рассказ Борхеса, в котором имперские картографы составляют настолько детальную карту, что она в конце концов покрывает точно всю территорию (однако с упадком Империи эта карта начинает понемногу истрёпываться и распадается; и лишь несколько клочьев ещё виднеются в пустынях — метафизическая красота разрушенной абстракции, соизмеримой с масштабами претенциозности Империи, абстракции, которая разлагается как мёртвое тело и обращается в прах, — так и копия, подвергшаяся искусственному старению, в конце концов начинает восприниматься как подлинник), — всё равно эта история для нас уже в прошлом и содержит в себе лишь скромный шарм симулякров второго порядка.[1]
Абстракция сегодня — это не абстракция карты, копии, зеркала или концепта. Симуляция — это уже не симуляция территории, референциального{1} сущего, субстанции. Она — порождение моделей реального без оригинала и реальности: гиперреального. Территория больше не предшествует карте и не переживает её. Отныне карта предшествует территории — прецессия{2} симулякров, именно она порождает территорию, и если вернуться к нашему фантастическому рассказу, то теперь клочья территории медленно тлели бы на пространстве карты. То здесь, то там остатки реального, а не карты продолжали бы существовать в пустынях, которые перестали принадлежать Империи, а стали нашей пустыней. Пустыней самой реальности.
На самом деле даже в перевёрнутом виде рассказ Борхеса не пригоден для использования. Остаётся, пожалуй, лишь аллегория об Империи. Ведь современные симуляторы прибегают к такому же «империализму», когда стараются совместить реальное — всё реальное — со своими моделями симуляции. Однако речь уже не о карте и не о территории. Кое-что исчезло: суверенное различие между одним и другим, то, что составляло шарм абстракции. Ведь именно различие создаёт поэзию карты и шарм территории, магию концепта и очарование реального. Эта имажинерия{3} репрезентации{4}, которая достигает наивысшей точки и вместе с тем падает в пропасть в безумном проекте картографов достичь идеальной соразмерности карты и территории, исчезает в симуляции, действие которой ядерное и генетическое, а отнюдь не зеркальное и дискурсивное. Исчезает целая метафизика.
Нет больше зеркальности между бытием и его отображением, между реальным и его концептом. Нет больше воображаемой соразмерности: измерением симуляции становится генетическая миниатюризация. Реальное производится на основе миниатюрнейших ячеек матриц и запоминающих устройств, моделей управления и может быть воспроизведено неограниченное количество раз. Оно не обязано более быть рациональным, поскольку оно больше не соизмеряется с некоей, идеальной или негативной, инстанцией. Оно только операционально. Фактически это уже больше и не реальное, поскольку его больше не обволакивает никакое воображаемое. Это гиперреальное, синтетический продукт излучения комбинаторных моделей в безвоздушном гиперпространстве.
В этом переходе в пространство, искривление которого больше не является ни искривлением реального, ни искривлением истины, эра симуляции открывается, таким образом, через ликвидацию всех референтов, хуже того — через искусственное воскрешение их в системах знаков, материале ещё более гибком, чем смысл, поскольку он предлагает себя всяческим системам эквивалентности, всяческим бинарным оппозициям, всяческой комбинаторной алгебре. Речь идёт уже не об имитации, не о дублировании, даже не о пародии. Речь идёт о субституции{5}, подмене реального знаками реального, то есть об операции по апотропии{6} всякого реального процесса с помощью его операциональной копии, идеально дескриптивного{7}, метастабильного, программированного механизма, который предоставляет все знаки реального, минуя любые перипетии. Больше никогда реальное не будет иметь возможности проявить себя — такова витальная функция модели в летальной системе или, вернее, в системе заблаговременного воскрешения, которое больше не оставляет никакого шанса даже самому событию смерти. Отныне гиперреальное экранировано от воображаемого и от какого-либо различения между реальным и воображаемым, оставляя место лишь орбитальному самовоспроизведению моделей и симулированному порождению различий.
Божественная ирреферентность образов
Прибегать к диссимуляции — это значит делать вид, что вы не имеете того, что у вас есть. Симулировать — это значит делать вид, что у вас есть то, чего вы не имеете. Одно отсылает к наличию, другое — к отсутствию. Но дело осложняется тем, что симулировать не означает просто притворяться: «Тот, кто прикидывается больным, может просто лечь в кровать и убеждать, что он болен. Тот, кто симулирует болезнь, вызывает у себя её некоторые симптомы» (Литтре{8}). Таким образом, притворство, или диссимуляция, оставляет нетронутым принцип реальности: различие всегда явно, оно не замаскировано. Симуляция же ставит под сомнение различие между «истинным» и «ложным», между «реальным» и «воображаемым». Болен или не болен симулянт, который демонстрирует «истинные» симптомы? Объективно его нельзя считать ни больным, ни здоровым. Психология и медицина останавливаются здесь перед истинностью болезни, которую с этих пор невозможно установить. Ведь если можно «вызвать» любой симптом и его нельзя трактовать как естественный факт, то тогда любую болезнь можно рассматривать как такую, которую можно симулировать и которую симулируют, и медицина теряет свой смысл, поскольку знает только, как лечить «настоящие» болезни, исходя из их объективных причин. Психосоматика{9} совершает сомнительные пируэты на границе принципа болезни. Что касается психоанализа, то он переносит симптом органического порядка в порядок бессознательного и последнее снова полагает «истинным», более истинным, чем первое, — но от чего бы симуляция должна остановиться на пороге бессознательного? Почему «работу» бессознательного нельзя «подделать» таким же образом, как любой симптом в классической медицине? Сны, например, уже можно.
Конечно, психиатрия утверждает, что «каждая форма психического расстройства имеет особый порядок развития симптомов, о котором не знает симулянт и отсутствие которого удержит психиатра от заблуждения». Это утверждение (датированное 1865 годом) необходимо, лишь бы любой ценой спасти принцип истинности и избежать проблемы, которую ставит симуляция, а именно: истина, референция, объективная причина перестали существовать. Что может сделать медицина с тем, что колеблется на самой грани болезни и здоровья, с дублированием болезни в дискурсе{10}, который больше не является ни истинным, ни ложным? Что может сделать психоанализ с дублированием дискурса бессознательного в дискурсе симуляции, который нельзя больше разоблачить, поскольку он также не является ложным?[2]
Что может сделать с симулянтами армия? По обыкновению их разоблачают и наказывают в соответствии с чётким принципом идентификации. Сегодня могут освободить от воинской повинности очень ловкого симулянта точно так же, как «истинного» гомосексуалиста, сердечника или сумасшедшего. Даже военная психология избегает картезианской чёткости и не решается проводить различие между ложным и истинным, между «поддельным» и аутентичным симптомами. «Если симулянт так хорошо изображает сумасшедшего, то это потому, что он им и является». И здесь военная психология не так уж и ошибается: в этом смысле все сумасшедшие симулируют, и это неразличение является наихудшей разновидностью субверсии{11}. Это именно то, против чего и вооружился классический ум всеми своими категориями. Но это то, что сегодня вновь обходит его с флангов, угрожая принципу истинности.
После медицины и армии, излюбленных территорий симуляции, исследование ведёт нас к религии и симулякру божественности: «Я запретил в храмах изображать всяческое Своё подобие (симулякр{12}), ведь Творец, одухотворивший всю природу, Сам не может быть воспроизведён». Как бы не так. Однако чем становится божество, когда предстаёт в иконах, когда множится в статуях (симулякрах)? Остаётся ли оно высшей инстанцией, лишь условно запечатлённой в образах наглядного богословия? Или исчезает в симулякрах, которые сами проявляют себя во всём блеске и мощи фасцинации{13}, — зримая машинерия икон подменяет при этом чистую и сверхчувственную Идею Бога? Именно этого боялись иконоборцы, чей тысячелетний спор продолжается и сегодня.[3] Именно из предчувствия этого всемогущества симулякров, этой их способности стирать Бога из сознания людей и этой разрушительной, убийственной истины, которую они собой заявляют — что, в сущности, Бога никогда не было, что всегда существовал лишь его симулякр или даже что сам Бог всегда был лишь своим собственным симулякром, — и происходило то неистовство иконоборцев, с которым они уничтожали иконы. Если бы они могли принять во внимание, что образы лишь затеняют или маскируют платоновскую Идею Бога, причин для уничтожения не существовало бы. С идеей искажённой истины ещё можно ужиться. Но до метафизического отчаяния иконоборцев довела мысль, что иконы вообще ничего не скрывают, что по сути это не образа, статус которых определяет действие оригинала, а совершенные симулякры, непрерывно излучающие свои собственные чары. Поэтому и необходимо было любой ценой предотвратить эту смерть божественной референтности.
Отсюда следует, что иконоборцы, которых обвиняют в пренебрежении и отрицании образов, на самом деле знали их истинную цену, в отличие от иконопоклонников, которые видели в них лишь отображение и удовлетворялись тем, что поклонялись такому филигранному Богу. Можно, однако, рассуждать в обратном направлении, тогда иконопоклонники были наиболее современными и наиболее предприимчивыми людьми, ведь они под видом испарения Бога в зеркале образов уже разыгрывали его смерть и его исчезновение в эпифании{14} его репрезентаций (о которых они, возможно, знали, что те больше ничего не репрезентуют, являясь лишь чистой игрой, однако именно в этом и состояла большая игра — они знали также и то, что разоблачать образы опасно, ведь они скрывают, что за ними ничего нет).
Таков был подход иезуитов, которые строили свою политику на виртуальном исчезновении Бога и на внутримирском{15} и зрелищном манипулировании сознанием людей, — на исчезновении Бога в эпифании власти, означающем конец трансцендентности{16}, которая служит отныне лишь алиби для стратегии, абсолютно независимой от каких-либо влияний и критериев. За вычурностью образов скрывался серый кардинал политики.
Таким образом, ставка всегда была на смертоносную силу образов, смертоносную для реального, смертоносную для собственных их моделей, как возможно были смертоносными для божественной идентичности византийские иконы. Этой смертоносной силе противостоит сила репрезентации как диалектическая сила, очевидное и умопостигаемое опосредование Реального. Вся западная вера и аутентичность делали ставку на репрезентацию: на то, что знак способен отражать сокровенный смысл, что он способен обмениваться на смысл, и то, что существует нечто, что делает этот обмен возможным, гарантирует его адекватность — это, разумеется, Бог. Но что, если и самого Бога можно симулировать, то есть свести к знакам, удостоверяющим его существование? Тогда вся система теряет точку опоры, она сама становится не более чем гигантским симулякром — не тем, что вовсе оторвано от реальности, а тем, что уже никогда не обменивается на реальное, а обменивается на самое себя в непрерывном круговороте без референта и предела.
Такова симуляция в своём противопоставлении репрезентации. Репрезентация исходит из принципа эквивалентности реального и некоего «представляющего» это реальное знака (даже если эта эквивалентность утопическая, это фундаментальная аксиома). Симуляция, наоборот, исходит из утопичности принципа эквивалентности, из радикальной негации{17} знака как ценности, из знака как реверсии{18}, из умерщвления всякой референтности. В то время как репрезентация пытается абсорбировать симуляцию, интерпретируя её как ложное, «повреждённое» представление, симуляция охватывает и взламывает всю структуру репрезентации, превращая представление в симулякр самого себя.
Таковы последовательные фазы развития образа:
• он отражает фундаментальную реальность;
• он маскирует и искажает фундаментальную реальность;
• он маскирует отсутствие фундаментальной реальности;
• он вообще не имеет отношения к какой бы то ни было реальности, являясь своим собственным симулякром в чистом виде.
В первом случае образ — доброкачественное проявление: репрезентация имеет сакраментальный характер. Во втором — злокачественное: вредоносный характер. В третьем случае он лишь создаёт вид проявления: характер чародейства. В четвёртом речь идёт уже не о проявлении чего-либо, а о симуляции.
Переход от знаков, которые скрывают нечто, к знакам, которые скрывают, что за ними нет ничего, обозначает решительный поворот. Если первые отсылают к теологии истины и тайны (что всё ещё является частью идеологии), то вторые открывают эру симулякров и симуляции, когда уже не существует Бога, чтобы распознать своих, и Страшного суда, чтобы отделить ложное от истинного, реальное от его искусственного воскрешения, потому что всё уже умерло и воскрешено заблаговременно.
Когда реальное больше не является тем, чем оно было, ностальгия присваивает себе всё его смысловое содержание. Переизбыток мифов об истоках и знаках реального. Переизбыток вторичной истины, вторичной объективности и аутентичности. Эскалация истинного, пережитого, воскрешение образного там, где исчезли объект и субстанция. Необузданное производство реального и референциального, аналогичное и превосходящее необузданность материального производства: так симуляция проявляется в фазе, которая непосредственно затрагивает нас в виде стратегии реального, неореального и гиперреального, повсеместно дублируемой стратегией апотропии.
Рамсес, или Воскрешение в розовом цвете
Этнология прикоснулась к своей парадоксальной смерти в тот день 1971 года, когда правительство Филиппин решило вернуть к первозданности, туда, где до них не доберутся колонисты, туристы и этнологи, несколько десятков тасадаев{19}, которых незадолго до этого обнаружили в дебрях джунглей, где они прожили восемь столетий без каких-либо контактов с остальным человечеством. Это было сделано по инициативе самих антропологов, которые видели, как при контакте с ними туземцы сразу как бы разлагались, словно мумии на свежем воздухе.
Для того чтобы этнология продолжала жить, необходимо, чтобы умер её объект, который, умирая, мстит за то, что его «открыли», и своей смертью бросает вызов науке, которая пытается овладеть им.
Разве не живёт любая наука на этом парадоксальном склоне, на который её обрекают исчезновение её объекта в тот самый момент, когда она пытается овладеть им, и безжалостная реверсия, которую она получает со стороны мёртвого объекта? Подобно Орфею, она постоянно оборачивается слишком рано, и подобно тому, как это было с Эвридикой, её объект снова низвергается в ад.
Именно от этого адского парадокса хотели уберечь себя этнологи, снова создавая вокруг тасадаев границу безопасности в виде девственного леса. Никто более не будет их беспокоить: рудник с золотоносной жилой закрыт. Наука теряет на этом целый капитал, но потерянный для неё объект остаётся неповреждённым, нетронутым в своей «девственности». Речь идёт не о жертве (наука никогда не жертвует собой, она всегда смертоносна), а о симулированной жертве её объекта с целью спасения принципа реальности. Тасадаи, замороженные в своём естественном состоянии, будут служить ей абсолютным алиби, вечной гарантией. Здесь и начинается бесконечная антиэтнология, которую в разной степени исповедуют Жолен, Кастанеда, Кластр. Как бы там ни было, но логическая эволюция науки состоит во всё большем отдалении от своего объекта, пока она не начинает обходиться без него вовсе: её автономия становится от этого ещё более фантастичной, она достигает своей чистой формы.
Вот так сосланный в резервации индеец, в своём стеклянном гробу девственного леса, снова становится симулятивной моделью всех возможных индейцев времён до этнологии.
Благодаря такой модели этнология позволяет себе роскошь воплощаться вне своих границ, в «грубой» действительности этих перевоссозданных ею индейцев — дикарей, которые лишь благодаря этнологии остаются дикарями: какой зеркальный поворот, какое торжество науки, которая, как казалось, была обречена истреблять их!
Конечно же такие дикари — это посмертные создания: замороженные, крионированные, стерилизованные, защищённые от смерти, они стали референциальными симулякрами, и сама наука стала чистой симуляцией. То же самое происходит в Крезо{20}, в пределах экологического музея, где на месте событий музеефицировали как «исторических» свидетелей своей эпохи целые рабочие кварталы, действующие металлургические зоны, сразу целую культуру, мужчин, женщин, детей, вместе с их жестами, манерой разговаривать, обычаями, — всё это воспринимается как живые окаменелости, как стоп-кадр. Музей, перестав быть геометрически ограниченным местом, теперь повсюду — как ещё одно жизненное измерение. Так и этнология, вместо того чтобы ограничить себя как объективную науку, теперь, освободившись от своего объекта, будет распространяться на всё живое и будет становиться невидимой, как вездесущее четвёртое измерение — измерение симулякра. Мы все тасадаи — индейцы, которые благодаря этнологии вновь стали тем, чем они были, — индейцы-симулякры, которые наконец провозглашают универсальную истину этнологии.
Мы все заживо пропущены сквозь призрачный свет этнологии, или же антиэтнологии, которая является лишь чистой формой торжествующей этнологии, под знаком уничтожения различий или же их восстановления. Поэтому очень наивно искать этнологию среди дикарей или где-то в странах «третьего мира» — она здесь, повсюду, в метрополиях, среди белых людей, в целом мире, идентифицированном, проанализированном, а затем искусственно воскрешённом под видом реального, в мире симуляции, галлюцинации истины, шантажа реального, умерщвления любой символической формы и её истеричной исторической ретроспекции — умерщвления, первыми жертвами которого (положение обязывает) стали дикари, но которое уже давно распространилось на всё западное общество.
И вместе с тем этнология даёт нам свой единственный и последний урок, открывая тайну, которая убивает её (и о которой дикари знают гораздо лучше её): месть мёртвых.
Ограничение объекта науки эквивалентно ограничению сумасшедших и мёртвых. Точно так же, как целый социум непоправимо заражён тем зеркалом безумия, которое он сам поставил перед собой, так и науке остаётся лишь умереть, заразившись смертью своего объекта, который является её обратным зеркалом. Наука якобы овладевает объектом, но на самом деле это он проникает в неё, в какой-то бессознательной реверсии, давая лишь пустые и повторяющиеся ответы на пустые и повторяющиеся вопросы.
Ничего не меняется — ни когда социум разбивает зеркало безумия (упраздняя психбольницы, возвращая право голоса сумасшедшим и т. д.), ни когда наука якобы разбивает зеркало своей объективности (растворяясь в собственном объекте, как у Кастанеды, и т. д.) и склоняется перед «различиями». Форму ограничения сменяет бесконечно дифрагированный демультиплицированный диспозитив{21}. По мере того как этнология разрушается как классический институт, она перерождается в антиэтнологию, чьей задачей является инъецировать повсюду псевдоразличие, псевдодикаря, с тем чтобы скрыть, что именно этот, наш мир стал на свой манер диким, уничтожив различение и смерть.
Таким же образом под предлогом сохранения оригинала посетителям запретили доступ в гроты Ласко{22}, но в пятистах метрах построили их точную копию, так что каждый может увидеть их (взглянуть через глазок на часть настоящего грота, а потом посетить реконструкцию всего остального). Возможно, что сама память об оригинальных гротах постепенно исчезнет из сознания будущих поколений, и тогда различий не останется: дублирования достаточно, чтобы оба объекта стали одинаково искусственными.
Вот так же вся наука и технология не так давно мобилизовались, чтобы спасти мумию Рамсеса II, которая несколько десятилетий гнила в запасниках музея. Запад охватила паника при мысли, что он не сможет сохранить то, что символический порядок смог сберечь на протяжении сорока столетий вдали от людского взора и солнечного света. Рамсес ничего не значит для нас, только его мумия не имеет цены, поскольку она — гарант того, что накопление имеет хоть какой-то смысл. Вся наша линейная и накопительная культура рушится, если мы не сможем сохранить прошлое при свете дня. Для этого нужно извлечь фараонов из их гробниц, а мумии — из их безмолвия. Для этой цели необходимо эксгумировать их и отдать им воинские почести. Они одновременно являются добычей науки и червей. Один лишь абсолютный секрет наделял их тысячелетней властью — господство над тленом, которое означало господство над полным циклом обменов со смертью. Мы способны ныне лишь на то, чтобы поставить науку на службу репарации мумии, то есть реставрации очевидного порядка, тогда же как бальзамирование было символическим обрядом, стремлением увековечить сокрытое измерение.
Нам необходимо очевидное прошлое, очевидный континуум, очевидный миф о происхождении, которые бы утешали нас относительно нашего конца. Хотя в глубине души мы никогда не верили в них. Отсюда и эта историческая сцена приёма мумии в аэропорту Орли. Это потому, что Рамсес был великим деспотом и полководцем? Несомненно. Но прежде всего потому, что наша культура грезит, будто за этой исчезнувшей силой, которую она пытается аннексировать, скрывается другой порядок, с которым она не имеет ничего общего, и она грезит, будто уничтожила этот порядок, эксгумировав его в качестве своего собственного прошлого.
Мы заворожены Рамсесом, как христиане эпохи Возрождения были заворожены американскими индейцами, этими (человеческими?) созданиями, которые никогда не знали Слова Христова. Поэтому был в начале колонизации момент оцепенения и изумления перед самой возможностью избежать универсального закона Евангелия. Тогда следовало выбирать одно из двух: либо признать, что этот Закон неуниверсален, либо истребить индейцев, чтобы уничтожить улики. Как правило, довольствовались тем, что обращали их в свою веру, но даже просто обнаружения дикарей в дальнейшем было достаточно для их постепенного истребления.
Таким образом, достаточно было эксгумировать Рамсеса, чтобы уничтожить его через музеефикацию. Ведь мумии уничтожают не черви: они погибают из-за изъятия из неспешного символического порядка, властелина тлена и смерти, и перехода к порядку истории, науки и музея — нашему порядку, который больше не властен ни над чем и способен лишь обрекать то, что предшествовало ему, на тлен и смерть, а затем пытаться воскресить всё это с помощью науки. Это непоправимое насилие надо всем тайным, насилие со стороны цивилизации без тайн, ненависть всей цивилизации к своим собственным основам.
Как этнология, которая делает вид, что отказывается от своего объекта, чтобы надёжнее сохранить себя в своей чистой форме, так и демузеефикация — всего лишь ещё один виток возрастающей искусственности. Свидетельством тому — монастырь Сен-Мишель де Кукса, который за огромные деньги собираются возвратить на родину из Клойстерса{23} в Нью-Йорке и снова установить на «изначальном месте». И все должны аплодировать этому возвращению (как аплодировали «экспериментальной операции по отвоеванию тротуаров» на Елисейских Полях!). Но если вывоз капителей действительно был актом своеволия и если Клойстерс в Нью-Йорке всё-таки является искусственной мозаикой всех культур (в соответствии с логикой капиталистической централизации ценностей), их возвращение на «изначальное место», в свою очередь, насквозь искусственно: это абсолютный симулякр, который догнал «реальность», совершив полный оборот.
Монастырь должен был остаться в Нью-Йорке в симулированной атмосфере, которая, по крайней мере, никого не вводила в заблуждение.
Репатриация же — ещё одна уловка, чтобы сделать вид, будто ничего не случилось, и тешить себя ретроспективной галлюцинацией.
Таким же образом американцы хвалятся тем, что довели численность индейцев до той, какой она была до завоевания. Дескать, сотрём всё и начнём сначала. Они даже хвалятся, что достигнут большего и превзойдут начальную цифру. Это будет доказательством превосходства цивилизации: она породит даже больше индейцев, чем они сами были в состоянии сделать. (Звучит как злая шутка, так как это перепроизводство является ещё одним способом уничтожения индейской культуры, ведь она, как любая племенная культура, основывается на ограниченности группы и отказе от какого-либо «неограниченного» роста, как мы это видим в случае с Иши{24}. Поэтому в их демографическом «промоушне» скрывается ещё один шаг к символическому уничтожению.)
Так и мы все живём в мире, поразительно похожем на оригинальный, — вещи в нём продублированы по своему собственному сценарию. Но это удвоение не означает, как это было традиционно, близость их гибели — они уже очищены от своей смерти и даже выглядят лучше, чем при жизни: более привлекательные, более настоящие, чем их образцы, словно лица покойников в похоронных бюро.
Гиперреальное и воображаемое
Диснейленд{25} — прекрасная модель всех переплетающихся между собой порядков симулякров. Это прежде всего игра иллюзий и фантазмов: Пираты, Пограничная территория, Мир будущего и т. д. Этот воображаемый мир, как считают, причина успеха заведения. Но что притягивает толпы посетителей гораздо больше, так это социальный микрокосм, религиозное наслаждение миниатюризированной реальной Америкой со всеми её достоинствами и недостатками.
Вы паркуетесь снаружи, стоите в очередях внутри и остаётесь один на один с собой на выходе. В этом воображаемом мире единственной фантасмагорией является свойственная толпе теплота и сплочённость, а также чрезмерное количество гаджетов, необходимых для создания и поддержания этого эффекта массовости. Это полный контраст с абсолютным одиночеством автостоянки — настоящего концлагеря. Или иначе: внутри — целый арсенал гаджетов, которые, как магниты, притягивают толпу в разнонаправленных потоках; снаружи — одиночество, направленное на одну игрушку: автомобиль. По невероятному совпадению (и это, вероятно, одно из проявлений чародейства данного универсума) этот быстрозамороженный инфантильный мир, как оказывается, был задуман и воплощён в жизнь человеком, который сам находится сегодня в замороженном состоянии, при температуре 180 градусов ниже нуля, и ожидает своего воскрешения: Уолтом Диснеем.
Вот так повсюду в Диснейленде проступает объективный профиль Америки, вплоть до морфологии индивидуальности и толпы. Все её ценности превозносятся здесь в миниатюре, в форме комиксов. Забальзамированные и умиротворённые. Отсюда возможность (которой очень хорошо воспользовался Л. Марен в книге «Утопики. Игры пространств») идеологического анализа Диснейленда как дайджеста американского образа жизни, панегирика американским ценностям, идеализированной транспозиции противоречивой реальности. Всё правильно. Но за этим кроется другое, и это «идеологическое» построение служит прикрытием симуляции третьего порядка: Диснейленд существует для того, чтобы скрыть, что Диснейлендом на самом деле является «реальная» страна — вся «реальная» Америка (примерно так, как тюрьмы служат для того, чтобы скрыть, что весь социум во всей своей полноте, во всей своей банальной вездесущности является местом заключения). Диснейленд представляют как воображаемое, чтобы заставить нас поверить, что всё остальное является реальным, тогда же как весь Лос-Анджелес и Америка, которые окружают его, уже более не реальны, а принадлежат к порядку гиперреального и симуляции. Речь идёт уже не о ложной репрезентации реального (идеологии), а о том, чтобы скрыть, что реальное перестало быть реальным, и таким образом спасти принцип реальности.
Имажинерия Диснейленда не является ни истинной, ни ложной — это машина апотропии, призванная регенерировать фикцию реального в противоположной плоскости. Отсюда слабость этого воображаемого, его инфантильное вырождение. Этот мир претендует на то, чтобы быть детским, дабы убедить в том, что взрослые находятся в другом месте — в «реальном» мире, — и скрыть, что настоящая инфантильность повсюду, особенно среди тех взрослых, которые приезжают сюда превратиться в детей, чтобы ввести самих себя в заблуждение относительно своей реальной инфантильности.
А в общем, Диснейленд неуникален. Заколдованная деревня, Волшебная гора, Морской мир — Лос-Анджелес находится в окружении эдаких электростанций воображаемого, которые обеспечивают реальным, энергией реального город, чья тайна как раз состоит в том, что отныне он — лишь сеть непрерывной ирреальной циркуляции: город невероятных размеров, но без пространства и без объёма. Так же как и обычным и атомным электростанциям, так же как киностудиям, этому городу, который отныне является бесконечным сценарием и вечной киноплощадкой, необходимо это прежнее воображаемое (как симпатическая нервная система), состоящее из знаков детства и фальшивых фантазмов.
Диснейленд, пространство регенерации воображаемого, подобен размещённым в других местах, и даже в нём самом, заводам по переработке отходов. Сегодня повсюду перерабатывают отходы, а мечты, фантазмы, воображаемое (историческое, сказочное, легендарное) детей и взрослых и являются отходами, первыми ужасно токсичными испражнениями гиперреальной цивилизации. Диснейленд является прототипом этой новой функции на ментальном уровне. Но той же цели утилизации служат и все заведения по восстановлению сексуального, психического и соматического здоровья, которыми изобилует Калифорния. Люди больше не интересуются друг другом, но для этого есть различные общества и клубы. Они больше не соприкасаются друг с другом, но существует контактотерапия. Они больше не ходят пешком, но занимаются оздоровительным бегом и т. д. Всюду восстанавливают утраченные способности, или деградирующие тела, или потерянную коммуникабельность, или утраченный вкус к еде.
Заново изобретают дефицит, аскетизм, исчезнувшую грубую естественность: натуральные пищевые продукты, лечебное питание, йогу. Подтверждается, но уже на производном уровне, идея Маршалла Салинза{26} о том, что дефицит порождает именно рыночная экономика, а вовсе не натуральная: тут, на передовых рубежах торжествующей рыночной экономики, снова выдумывается дефицит/знак, дефицит/ симулякр, симулируется поведение слаборазвитых (даже провозглашают марксистские тезисы) для того, чтобы, прикрываясь экологией, энергетическим кризисом и критикой капитала, добавить последний эзотерический{27} венчик к торжеству экзотерической культуры. Но возможно, что ментальная катастрофа, имплозия{28} и беспрецедентная ментальная инволюция{29} подстерегают систему такого типа, видимыми признаками которых, похоже, и является это дикое ожирение или невероятное сосуществование самых причудливых теорий и практик, которое соответствует столь же невероятной коалиции излишества, райского блаженства и денег, невероятной реализации роскошной жизни и не поддающихся обнаружению противоречий.
Политическое чародейство
Уотергейт{30}. Тот же сценарий, что и в Диснейленде (эффект воображаемого, скрывающий, что реального не более за пределами искусственного периметра, чем в его границах), только здесь эффект скандала, скрывающий, что не существует никакого различия между фактами и их изобличением (и у ЦРУ, и у журналистов Washington Post идентичные методы). Та же операция по регенерации моральных и политических принципов через скандал, как и операция по спасению погибающего принципа реальности через воображаемое!
Разоблачение скандала — это всегда дань уважения закону. И Уотергейт достиг особого успеха в создании впечатления, что скандал имел место на самом деле — в этом смысле это была удивительная операция по оболваниванию. Введение огромной дозы политической морали в мировом масштабе. Можно было бы сказать вместе с Бурдье{31}: «Сущность любого баланса сил в том, чтобы скрывать себя как таковое, и он приобретает полную силу лишь потому, что скрывает себя как таковое», понимая это так: капитал, аморальный и беспринципный, может функционировать лишь под прикрытием моральной надстройки, и тот, кто возрождает эту общественную мораль (через возмущение, обличение и т. д.), невольно работает капиталу на руку. Как это произошло с журналистами Washington Post.
Когда Бурдье провозглашает свою идеологическую формулу, подразумевая под «балансом сил» истину капиталистического господства, и обличает этот баланс сил как скандал, он находится на той самой детерминистской{32} и моралистической позиции, что и журналисты Washington Post. Он выполняет ту же работу по очищению и восстановлению морального порядка, порядка истины, в котором берёт начало истинное символическое насилие социального порядка, выходящее далеко за пределы баланса сил, который является лишь переменной и индифферентной{33} конфигурацией в моральном и политическом сознании людей.
Всё, что требует от нас капитал, — это принимать его как нечто рациональное или бороться с ним во имя рациональности, принимать его как нечто моральное или бороться с ним во имя нравственности. На самом деле это одно и то же, и всё можно рассмотреть в ином ключе: раньше пытались скрывать скандал — сегодня же пытаются скрывать, что никакого скандала нет.
Уотергейт — это не скандал: вот что необходимо сказать любой ценой, ведь именно это все и стараются скрыть — это диссимуляция, маскирующая укреплением нравственности моральную панику, охватывающую нас по мере приближения к грубой сущности капитала: его взрывная жестокость, его непостижимая кровожадность, его фундаментальная аморальность — вот что скандально, вот что неприемлемо для системы моральной и экономической эквивалентности, которая остаётся аксиомой левой мысли со времён теорий Просвещения и до теории коммунизма. Капиталу абсолютно плевать на идею договора, которая ему приписывается: он — чудовищное предприятие [entreprise] без всяких принципов и ничего более. Это «просвещённая» мысль пытается контролировать капитал, устанавливая для него правила. И все те упрёки, которые заменяют теперь революционную мысль, сводятся к обвинению капитала в том, что он не следует правилам игры. «Власть несправедлива, её справедливость — это классовая справедливость, капитал эксплуатирует нас, и т. д.» — как будто капитал был связан договором с обществом, которым он управляет. Именно левые протягивают капиталу зеркало эквивалентности, надеясь, что он образумится, клюнет на фантасмагорию общественного договора и будет выполнять свои обязательства перед всем обществом (заодно отпадает необходимость революции — достаточно, чтобы капитал подчинился рациональной формуле обмена).
Капитал никогда не был связан договором с обществом, над которым он властвует. Капитал — это чародейство общественных отношений, это вызов обществу, на который и отвечать надо соответственно. Капитал — это не скандал, который следует обличать с позиций моральной или экономической рациональности, это вызов, который надо принять согласно символическому закону.
Обратная сторона ленты Мёбиуса
Итак, Уотергейт был лишь ловушкой, устроенной системой для своих противников, — симуляцией скандала в регенерационных целях. Это воплощено в фильме персонажем «Глубокая Глотка»{34}, который, как говорят, был серым кардиналом республиканцев и манипулировал левым крылом журналистов с целью избавиться от Никсона, — почему бы и нет? Все гипотезы возможны, однако эта лишняя: левые очень хорошо сами, непроизвольно, выполняют работу правых. Впрочем, было бы наивно видеть в этом самоотверженную добросовестность. Ведь правые также непроизвольно выполняют работу левых. Все гипотезы манипуляции являются обратимыми в бесконечной замкнутой системе. Ведь манипуляция является шаткой каузальностью{35}, в которой положительная и отрицательная позиции порождают и перекрывают друг друга каузальностью, в которой больше нет ни актива, ни пассива. Именно через произвольное прекращение обращения этой каузальности и может быть спасён принцип политической реальности. Именно через симуляцию ограниченного, традиционного, перспективного пространства, в рамках которого причины и следствия какого-либо действия или события можно просчитывать, и может сохраняться политическое правдоподобие (и конечно, «объективный» анализ, борьба и т. д.). Если рассматривать полный цикл любого действия или события в системе, в которой больше не существует линейной последовательности и диалектической полярности, в пространстве, повреждённом симуляцией, где исчезает всякая детерминированность, то каждое действие здесь отменяется с окончанием цикла, рассеиваясь во всех направлениях и становясь выгодным для всех.
Вот, к примеру, взрывы в Италии — это акция левых экстремистов, или правоэкстремистская провокация, или инсценировка центристов с целью дискредитации всех террористов-радикалов и удержания своей шаткой власти, или же полицейский сценарий и шантаж общественной безопасностью? Всё это одновременно верно, и поиск доказательств и даже объективность фактов не останавливает эту безудержность интерпретаций. Это потому, что мы находимся в логике симуляции, которая больше не имеет ничего общего с логикой фактов и рациональным порядком. Симуляции присуща прецессия модели, всех моделей, над самым незначительным фактом — модели предшествуют своей, орбитальной, как ракеты с ядерными боеголовками, циркуляции и составляют истинное магнитное поле события. Факты больше не имеют собственной траектории, они рождаются на пересечении моделей, один и тот же факт может быть порождён всеми моделями одновременно. Эта антиципация{36}, эта прецессия, это замыкание, это смешение факта с его моделью (нет больше искажения смысла, нет больше диалектической полярности, нет больше отрицательного заряда и имплозии антагонистических полюсов) — вот что каждый раз оставляет место для любых интерпретаций, даже самых противоречивых, все они одинаково верные в том смысле, что их истинность состоит во взаимообмене в пределах общего цикла, подобно моделям, из которых они проистекают.
Коммунисты атакуют Социалистическую партию так, будто хотят разрушить весь Союз левых сил. Они отстаивают идею, что это противодействие вызвано более радикальными политическими требованиями. На самом же деле это из-за того, что они не хотят власти. Но они не хотят её из-за конъюнктуры, неблагоприятной для левых в целом или неблагоприятной для них самих в рамках Союза левых сил, или же они, по определению, больше не хотят власти? Когда Берлингуэр{37} заявляет: «Не надо бояться того, что коммунисты придут к власти в Италии», это одновременно означает:
• что не следует бояться, потому что коммунисты, если они придут к власти, ничего не изменят в её фундаментальном капиталистическом механизме;
• что нет никакого риска, что они когда-нибудь вообще придут к власти (по той причине, что они не хотят её), и даже если они возьмут власть, то будут осуществлять её всегда только через других;
• что на самом деле власть, истинная власть, больше не существует, и потому нет ничего опасного в том, что кто-то её возьмёт или возвратит;
• но ещё: Я, Берлингуэр, не боюсь того, что коммунисты возьмут власть в Италии, — что может стать очевидным, однако это не совсем так, ведь:
• это может означать противоположное (ясно и без психоанализа): Я боюсь, что коммунисты возьмут власть (и для этого есть веские причины даже у коммуниста).
Всё это одновременно верно. В этом состоит секрет дискурса, который больше не является лишь неоднозначным, как это случается с политическим дискурсом, но выражает невозможность определить позицию власти, невозможность определить позицию в дискурсе. И эта логика не склоняется ни в ту, ни в другую сторону. Она пронизывает все дискурсы вопреки их желаниям.
Кто распутает этот клубок противоречий? Гордиев узел можно было, по крайней мере, разрубить. Если же разрезать ленту Мёбиуса, то она даёт дополнительную спираль, однако уже без реверсивности поверхностей (в нашем случае: реверсивная непрерывность гипотез). Перед нами ад симуляции, который уже не ад мучений и пыток, но ад неуловимого, зловредного, неопределимого искривления смысла,[4] где даже Бургосский процесс{38} становится ещё одним подарком со стороны Франко западной демократии, которая получает возможность регенерировать свой собственный шаткий гуманизм и чей негодующий протест, в свою очередь, укрепляет режим Франко, консолидируя испанские массы против иностранного вмешательства. Где во всём этом истина, когда подобные сговоры прекрасно происходят даже без ведома заговорщиков?
Конъюнкция{39} системы и её крайней альтернативы, словно двух сторон кривого зеркала, «порочная» искривлённость политического пространства, отныне намагниченного, кругообразного, реверсивность правого и левого, искривление, которое выступает злым гением коммутации, вся система, вся бесконечность капитала закольцована на его собственной поверхности: трансфинитной? И разве не то же самое происходит с желанием и пространством либидо? Конъюнкция желания и ценности (стоимости), желания и капитала. Конъюнкция желания и закона, наслаждение как финальная метаморфоза закона (вот почему оно так щедро представлено в повестке дня): наслаждается лишь капитал, говорил Лиотар{40}, прежде чем в дальнейшем прийти к мысли, что теперь мы получаем наслаждение посредством капитала. Ошеломляющая универсальность желания у Делеза{41}, загадочный зеркальный поворот, который производит желание «революционное в себе, и, не желая того, желая то, что оно желает» собственного подавления, оно вкладывает свою силу в параноидальные и фашистские системы. Зловредное искривление, которое отсылает эту революцию желания к той самой фундаментальной неоднозначности, как и другую революцию — историческую.
Все референции смешивают свои дискурсы вкруговую, в стиле Мёбиуса. Секс и работа не так давно были категорически противоположными понятиями, сегодня и то и другое превратилось в потребности одного типа. Раньше дискурс истории набирал силу, решительно противопоставляя себя дискурсу природы, дискурс желания — дискурсу власти, сегодня они обмениваются своими означающими{42} и своими сценариями.
Понадобилось бы слишком много времени, чтобы попутно рассмотреть всю гамму операциональных отрицательных позиций, все те сценарии апотропии, которые, подобно Уотергейту, пытаются регенерировать агонизирующий принцип через симулированный скандал, фантазм, убийство, — своего рода курс гормональной терапии через отрицание и кризис. Речь всегда о том, чтобы доказывать реальное через воображаемое, истинность — через скандал, закон — через нарушение, существование работы — через забастовку, существование системы — через кризис, а капитала — через революцию, подобно рассмотренному выше (история с тасадаями) доказательству этнологии через отказ от её объекта, и это без учёта: доказательства театра через антитеатр; доказательства искусства через антиискусство; доказательства педагогики через антипедагогику; доказательства психиатрии через антипсихиатрию и т. д.
Всё метаморфизируется в свою противоположность, чтобы пережить себя в откорректированной форме. Все органы власти, все институты говорят о себе через отрицание, стараясь через симуляцию смерти избежать своей реальной агонии. Власть может инсценировать своё собственное убийство, чтобы восстановить хотя бы проблеск существования и легитимности. Так было в случае с некоторыми американскими президентами: Кеннеди были убиты потому, что всё ещё обладали политическим измерением. Другие — Джонсон, Никсон, Форд — имели право лишь на призрачные покушения, на симулированные убийства. Но эта аура искусственной угрозы им всё ещё была необходима, чтобы скрыть, что они лишь манекены власти. Когда-то король (как и Бог) должен был умереть — в этом было его могущество. Сегодня он убого пытается симулировать смерть, с тем чтобы сохранить благодать власти. Но она уже утрачена.
Искать свежие силы в своей собственной смерти, возобновлять цикл через зеркало кризиса, отрицание и антивласть — вот единственный выход-алиби любой власти, любого института, пытающихся разорвать порочный круг своей безответственности и своего фундаментального небытия, своей ужевиденности [déjà-vu] и своей ужемёртвости [déjà-mort].
Стратегия реального
К тому же порядку, что и невозможность отыскать абсолютный уровень реального, принадлежит невозможность инсценировать иллюзию. Иллюзия больше невозможна, потому что больше невозможна реальность. В этом заключается вся политическая проблема имитации, гиперсимуляции или агрессивной симуляции.
Например, было бы интересно посмотреть, будет ли репрессивный аппарат реагировать с большей силой на симулированное вооружённое ограбление, чем на реальное? Ведь последнее всего лишь нарушает порядок вещей, право собственности, тогда как первое посягает на сам принцип реальности. Преступление и насилие менее серьёзны, потому что они не оспаривают распределение реального. Симуляция же бесконечно опаснее, так как, независимо от своей цели, позволяет в любой момент сделать предположение, что порядок и закон сами могут быть всего-навсего симуляцией.
Однако сложность пропорциональна опасности. Как симулировать преступление и доказать имитацию? Симулируя кражу в супермаркете, как убедить службу безопасности, что это симулированная кража?
Никакого «объективного» различия: жесты, знаки — всё то же самое, что и при реальной краже; по знакам невозможно различить, была ли это настоящая кража или имитация. С точки зрения установленного порядка знаки всегда принадлежат к категории реального.
Организуйте ложный налёт. Тщательно проверьте безопасность своего оружия и возьмите наиболее надёжного заложника, чтобы ни одна человеческая жизнь не подверглась опасности (потому что тогда вы попадаете в сферу уголовной юрисдикции). Потребуйте выкуп и сделайте всё, чтобы операция достигла по возможности большей огласки, — короче говоря, сделайте всё как можно более правдоподобно, чтобы проверить реакцию аппарата на совершённый симулякр. Вам это не удастся: сеть искусственных знаков безнадёжно перепутается с реальными элементами (полицейский в самом деле выстрелит в цель; клиент банка потеряет сознание и умрёт от сердечного приступа; вам реально заплатят выкуп фальшивыми деньгами), короче говоря, вы против своей воли сразу окажетесь в реальном, одна из функций которого состоит именно в том, чтобы поглощать любую попытку симуляции, чтобы сводить всё к реальному — в этом и есть суть установленного порядка, который вступает в игру задолго до общественных институтов и правосудия.
В этой невозможности отделить процесс симуляции следует усматривать влияние установленного порядка, который не способен замечать и постигать что-либо, кроме реального, потому что он не может функционировать больше нигде. Даже если симуляция преступления будет установлена, оно будет или подвергнуто лёгкой степени наказания как не имевшее последствий, или же наказано как оскорбление правоохранительных органов (например, если полицейская операция была развёрнута «без оснований»), но никогда как симуляция, потому что как раз в качестве таковой оно не может быть приравнено к реальному, а значит, невозможно и наказание. Власть не может ответить на вызов симуляции. А как подвергнуть наказанию симуляцию добродетели? А ведь это грех куда более тяжкий, нежели симуляция преступления. Имитация уравнивает повиновение и неповиновение закону, и вот в этом-то и кроется наибольшее преступление, поскольку это сводит на нет различие, на котором основывается закон. Установленный порядок ничего не может с этим поделать, поскольку закон представляет собой симулякр второго порядка, тогда как симуляция относится к третьему, располагаясь по ту сторону истинного и ложного, по ту сторону эквивалентности, по ту сторону рациональных различений, на которых основывается функционирование любого социального и любой власти. Таким образом, повреждение реального, симуляция, наносит удар по установленному порядку.
Именно поэтому порядок всегда выбирает реальное. В сомнениях он всегда отдаёт предпочтение этой гипотезе (так в армии предпочитают считать симулянта истинным сумасшедшим). Но это становится всё затруднительней, ведь если практически невозможно отделить процесс симуляции в силу инертности реального, которое нас окружает, то верно и обратное (и именно эта обратимость составляет часть механизма симуляции и бессилия власти), а именно: теперь невозможно отделить и процесс реального, или доказать реальность реального.
То есть все теракты, угоны самолётов и т. д. отныне являются в некотором смысле преступлениями-симуляциями, если иметь в виду их заведомую вписанность в дешифровку и ритуальную оркестровку средствами массовой информации, заведомую известность их сценариев и возможных последствий. Короче говоря, они функционируют как набор знаков, предназначенных исключительно для своего повторения как знаков, а вовсе не для «реальных» целей. Но от этого они не становятся безвредными. Напротив, именно как гиперреальные события, которые уже не имеют конкретного содержания и собственных целей и лишь бесконечно отражаются друг в друге (точно так же, как так называемые исторические события: забастовки, демонстрации, кризисы и т. д.),[5] они становятся неподвластны установленному порядку, который может осуществляться лишь в реальном и рациональном, в причинно-следственном; референциальному порядку, который может властвовать лишь над референциальным; детерминированной власти, которая может властвовать лишь над детерминированным миром, но ничего не может поделать с этой бесконечной повторяемостью симуляции, с этой туманностью в состоянии невесомости, которая больше не подчиняется законам гравитации реального. Сама власть в конце концов дезорганизовывается в этом пространстве, превращаясь в симуляцию власти (утрачивая связь со своими целями и задачами и обрекая себя на производство лишь эффектов власти и массовой симуляции).
Единственное оружие власти, её единственная стратегия против этого вероломства состоит в том, чтобы снова инъецировать повсюду реальное и референциальное, в том, чтобы убедить нас в реальности социального, в важности экономики и целесообразности производства. Для этого власть использует преимущественно дискурс кризиса, а также — почему бы и нет? — дискурс желания. «Принимайте ваши желания за действительность!» следует понимать как последний лозунг власти, поскольку в ирреференциальном мире даже смешение принципа реальности и принципа желания менее опасно, чем контагиозная{43} гиперреальность. Пока остаются принципы, остаётся и власть.
Гиперреальность и симуляция — средства апотропии любого принципа и любой цели, и они оборачивают против власти средство апотропии, которым она так хорошо пользовалась в течение длительного времени. Ведь, в конце концов, на протяжении всей своей истории капитал сам первым способствовал деструкции{44} всего, что связано с референциальным, всего, что связано с человеческим целеполаганием, это капитал уничтожил все идеалистические различия между истинным и ложным, между добром и злом, чтобы установить свой радикальный закон эквивалентности и обмена, железный закон своего господства. Капитал первым прибег к практике апотропии, абстракции, разъединения, детерриториализации{45} и т. д., и, если он был тем, кто насаждал реальность, принцип реальности, он же был первым, кто ликвидировал его через уничтожение всякой потребительской стоимости, всякой реальной эквивалентности производства и богатства, через само ощущение ирреальности целей и всесилия манипуляции. Так вот сегодня именно эта логика всё более радикально выступает против капитала. И всякий раз, когда он пытается вырваться из этой катастрофической спирали, испуская последний проблеск реальности, чтобы основать на нём последний проблеск власти, он лишь умножает знаки и ускоряет игру симуляции.
Пока историческая угроза власти исходила от реального, власть спекулировала апотропией и симуляцией, дезинтегрируя все противоречия с помощью производства эквивалентных знаков. Сегодня, когда угроза исходит от симуляции (угроза раствориться в игре знаков), власть спекулирует реальным, кризисом, спекулирует искусственным перевоссозданием социальных, экономических, политических целей. Для неё это вопрос жизни и смерти. Однако уже слишком поздно.
Отсюда характерная для нашего времени истерия производства и воспроизводства реального. Прочее производство — ценностей и товаров, производство классической эпохи политэкономии, — уже давно лишено собственного смысла. Всё, к чему стремится, продолжая производить и перепроизводить, целое общество, — это восстановление ускользающего от него реального. И поэтому теперь само «материальное» производство гиперреально. Оно сохраняет все черты, весь дискурс традиционного производства, однако является лишь слабым его отражением (так гиперреалисты фиксируют с невероятным сходством реальное, из которого исчезли весь смысл и весь шарм, вся глубина и энергия репрезентации). Так гиперреализм симуляции повсюду проявляется невероятным сходством реального с самим собой.
Власть также уже давно продуцирует лишь знаки своего подобия. И неожиданно разворачивается другой образ власти: коллективный спрос на знаки власти — священный союз, создающийся вокруг её исчезновения. Все страны так или иначе присоединяются к нему в ужасе от краха политического. В итоге игра во власть становится лишь опасной одержимостью власти — одержимостью своим умиранием и своим выживанием, которая растёт по мере исчезновения власти. Когда она исчезнет окончательно, логически, мы окажемся перед полной иллюзией власти — идеей фикс, которая уже заметна всюду и выражается одновременно в непреодолимом желании избавиться от неё (никто больше не желает власти, и каждый перекладывает её бремя на кого-то другого) и в панической ностальгии от её утраты. Меланхолия обществ без власти — именно она уже однажды спровоцировала фашизм, эту передозировку сильной референции в обществе, которое не может справиться со своей скорбью.
С истощением политической сферы президент всё больше уподобляется Манекену Власти, которым является вождь в первобытных обществах (Кластр{46}).
Все последующие президенты платили и продолжают платить за убийство Кеннеди, так, будто это они заказали его, что соответствует истине если не в фактическом, то фантазматическом плане. Они должны искупить этот грех и это соучастие через своё симулированное убийство. Ведь последнее теперь только и может быть лишь симулированным. Президенты Джонсон и Форд оба были объектами неудачных покушений, которые если и не были инсценированы, то, по крайней мере, совершались на основе симуляции. Кеннеди погибли, потому что ещё воплощали нечто: политическую власть, политическую субстанцию, — тогда как все последующие президенты были лишь их карикатурой, марионеточными персонажами; любопытно, что все они (Джонсон, Никсон, Форд) имели обезьяньи черты — обезьяны власти{47}.
Смерть никогда не является абсолютным критерием, но в этом случае она показательна: эпоха Джеймса Дина, Мэрилин Монро и Кеннеди, тех, кто реально умирали, потому что имели мифическое измерение, которое предполагает смерть (не из романтических побуждений, а как фундаментальный принцип реверсии и обмена), — эта эпоха давно закончилась. Настала эпоха убийств на основе симуляции, всеобъемлющей эстетики симуляции, убийства-алиби — аллегорического воскрешения смерти, которая нужна лишь для того, чтобы санкционировать институт власти, не имеющей без этого ни субстанции, ни автономной реальности.
Эти инсценировки покушений на президентов показательны, ибо сигнализируют о статусе любой отрицательной позиции на Западе: политической оппозиции левых, критического дискурса и т. д. — всё это контрастный симулякр, при помощи которого власть пытается разорвать порочный круг своего небытия, своей фундаментальной безответственности, своей «флотации»{48}. Власть «плавает», подобно курсу валют, языковой стилистике, подобно теориям. Только критика и отрицательная позиция ещё порождают призрак реальности власти. И если по той или иной причине они истощат свои силы, власти не останется ничего другого, как только искусственно их воскресить, галлюцинировать.
Так смертные казни в Испании служат ещё и стимулом для либеральной западной демократии, для агонизирующей системы демократических ценностей. Свежая кровь, но насколько её ещё хватит? Деградация всех видов власти неудержимо прогрессирует, и не столько «революционные силы» ускоряют этот процесс (скорее наоборот), сколько сама система подвергает свои собственные структуры насилию, сводит на нет любую субстанцию, любую целесообразность. Не следует сопротивляться этому процессу, пытаясь противостоять системе и разрушать её, потому что она, агонизируя от упразднения своей смерти, только этого от нас и ждёт: что мы возвратим ей смерть, что мы воскресим её через отрицание. Конец революционной практики, конец диалектики.
Любопытно, что Никсон, которого даже не посчитали достойным умереть от руки хоть какого-нибудь ничтожного случайного психа (и пусть, что, возможно, верно, президентов всегда убивают психи, это ничего не меняет: страстное желание левых выявлять в этом заговор правых создаёт лишь ложную проблему — функцию умерщвления или провозглашения пророчества и т. д. против власти ещё со времён первобытных обществ всегда осуществляли скудоумные, сумасшедшие или невротики, которые, тем не менее, выполняют социальную функцию столь же фундаментальную, как и любой президент), всё же был ритуально казнён Уотергейтом. Уотергейт — это всё ещё способ ритуального убийства власти (американский институт президентства намного интереснее в этом плане, чем европейские: он впитал в себя всё насилие и превратности первобытного права, дикарских ритуалов). Но вот импичмент уже не является убийством: он осуществляется по Конституции. Никсон всё-таки достиг того, о чём мечтает всякая власть: восприниматься достаточно серьёзно, представлять для некой группы достаточную смертельную опасность, чтобы однажды быть смещённым, изобличённым и устранённым. Форд уже не получает такого шанса: симулякр уже мёртвой власти, он может лишь накапливать против себя знаки реверсии через убийство, от которого он был фактически иммунизирован своим бессилием, которое выводило его из себя.
В отличие от первоначального ритуала, который предусматривает официальную и жертвенную смерть короля (король или вождь — ничто без обещания своей жертвы), современная политическая имажинерия движется всё дальше в направлении к тому, чтобы отсрочивать, как можно дольше скрывать смерть главы государства. Эта одержимость усилилась в эпоху революций и харизматических лидеров: Гитлер, Франко, Мао, не имея «законных» наследников для передачи власти, вынуждены были на неопределённое время пережить самих себя — народное мифотворчество не желает признавать их мёртвыми. Так уже было с фараонами, которые, сменяя друг друга, воплощали всегда одну и ту же личность.
Всё происходит так, будто Мао или Франко уже умирали много раз, а на смену им приходили их двойники. С политической точки зрения абсолютно ничего не меняется от того, что глава государства остаётся тем же самым или сменяется другим, если они подобны друг другу. В любом случае уже длительное время любой глава государства — безразлично кто именно — есть лишь симулякр самого себя, и это единственное, что наделяет его властью и правом повелевать. Никто не окажет ни наименьшего одобрения, ни наименьшей почтительности реальному человеку. Преданность направлена на его двойника, так как сам он изначально уже мёртв. Этот миф выражает лишь устойчивую потребность и вместе с тем вводит в заблуждение относительно жертвенной смерти короля.
Мы всё ещё находимся в одной лодке: ни одно общество не знает, как правильно распрощаться с реальным, властью, самим социальным, которое также исчезает. И именно через искусственное оживление всего этого мы пытаемся избежать траурной церемонии. Это может в конечном итоге даже вылиться в социализм. Вследствие непредвиденного поворота событий и иронии, которая больше не является иронией истории, именно из смерти социального и возникнет социализм, как из смерти Бога возникают религии. Извращённое пришествие, искажённое событие, реверсия, которая не поддаётся рациональной логике.
Фактически власть существует сегодня лишь для того, чтобы скрыть, что её больше нет. Эта симуляция может продолжаться бесконечно, потому что в отличие от «истинной» власти, которая является или являлась определённой структурой, стратегией, балансом сил, определённой целью, сегодняшняя власть — лишь объект общественного спроса, и, как объект закона спроса и предложения, она уже не является субъектом насилия и смерти. Полностью лишённая политического измерения, она зависит, как любой другой товар, от производства и массового потребления. Не осталось даже проблеска власти, осталась одна только фикция политического универсума.
То же самое происходит и с трудом. Искра производства, неистовство его устремлений исчезли. Всё по-прежнему производится, и во всё больших и больших объёмах, но незаметно труд стал чем-то иным: потребностью (как это в идеале представлял Маркс, но потребностью в другом смысле), объектом общественного «спроса», подобно досугу, которому труд эквивалентен в общем распорядке повседневности. Спросом, прямо пропорциональным потере цели в трудовом процессе.[6] Тот же неожиданный поворот, что и в случае с властью: сценарий труда существует для того, чтобы скрыть, что реальный труд, реальное производство исчезли. Так же как и реальная забастовка, которая больше не является остановкой работы, но её альтернативным полюсом в ритуальном скандировании социальных отчётов. Всё происходит так, как если бы после объявления забастовки каждый «занял» своё рабочее место и возобновил, как это положено в «самоуправляемых» профессиях, производство точно на тех же условиях, что и раньше, решительно заявляя, что он находится (и виртуально находясь) в состоянии перманентной забастовки.
Это не научно-фантастические грёзы: мы всюду имеем дело с дублированием трудового процесса и с дублированием забастовочного процесса — забастовки включены в трудовой процесс, как моральный износ в оборудование, как кризис в производство. Итак, больше нет ни труда, ни забастовки по отдельности, но есть и то и другое одновременно, а значит, нечто иное: магия труда, одна лишь видимость, сценодрама (чтобы не сказать мелодрама) производства, коллективная драматургия на пустой сцене социального.
Речь идёт уже не о трудовой идеологии — традиционной этике, которая затеняла бы «реальный» трудовой процесс и «объективный» процесс эксплуатации, — но о сценарии труда. Так же как речь идёт не об идеологии власти, но о сценарии власти. Идеология — лишь искажение реальности через знаки, симуляция — короткое замыкание реальности и её дублирование знаками. Цель идеологического анализа — восстановление объективного процесса, а намерение восстановить истину в рамках симулякра — ложная постановка проблемы.
Вот почему власть, в сущности, так легко соглашается с идеологическими дискурсами и дискурсами по поводу идеологии, ведь это дискурсы истины, которые всегда полезны (даже, и особенно, если они революционны) в борьбе со смертельными ударами симуляции.
Конец паноптизма
Именно с этой идеологией пережитого, эксгумированного реального в его фундаментальной банальности, в его радикальной аутентичности соотносится американский эксперимент реалити-шоу (TV Verite), проведённый в 1971 году над семьёй Лауд: семь месяцев непрерывной съёмки, триста часов прямого вещания, без сценария и постановки, одиссея одной семьи, её драмы, её радости, неожиданные перипетии нон-стоп — короче говоря, «сырой» исторический документ и «самое большое достижение телевидения, сопоставимое, в масштабе нашей повседневности, с репортажем о высадке на Луну». Дело усложняется тем, что эта семья распадается во время съёмок: разразился скандал, Лауды развелись и т. д. Отсюда неразрешимая контроверза{49}: виновато ли в этом телевидение? Что было бы, если бы там не было телевидения?
Фантазм был бы ещё более захватывающим, если бы Лаудов снимали так, будто там не было телевидения. Триумф режиссёров состоял бы в том, чтобы сказать: «Они жили так, будто нас там не было». Абсурдная, парадоксальная формула — не истинная и не ложная: утопическая. «Так, будто нас там не было» эквивалентно «так, будто вы там были». Именно эта утопия, этот парадокс заворожил двадцать миллионов телезрителей в значительно большей степени, чем «извращённое» удовольствие от вторжения в частную жизнь. В этом Verite-эксперименте речь идёт не о тайне, не о перверсии{50}, но о своего рода вибрации реального или эстетике гиперреального, вибрации от головокружительной и фальсифицированной достоверности, вибрации от одновременного отдаления и приближения, от искажения масштаба, от чрезмерной транспарентности{51}. Наслаждение от избыточного смысла, когда уровень знака опускается ниже привычной ватерлинии смысла: незначительное преувеличивается благодаря ракурсу съёмки. Каждый видит то, чего в реальности не было (но «как если бы вы там были»), без дистанции, которую даёт пространство перспективы и глубины восприятия (но «более естественное, чем само естество»). Наслаждение от микроскопической симуляции, которая превращает реальное в гиперреальное. (Так же происходит с порно, которое завораживает больше на метафизическом, чем на сексуальном уровне.)
Впрочем, эта семья уже была гиперреальной по своей природе, почему её и выбрали: типично идеальная американская семья, дом в Калифорнии, три гаража, пятеро детей, надёжный социальный и профессиональный статус, декоративная жена-домохозяйка, уровень жизни выше среднего. В определённой степени именно это статистическое совершенство и обрекает её на смерть. Идеальные герои американского образа жизни, они избираются, как и при древних жертвоприношениях, для того, чтобы быть прославленными и умереть в пламени медиума{52}, который играет роль современного фатума. Поскольку небесный огонь больше не поражает падшие города, объектив камеры, будто лазер, пронзает пережитую реальность, предавая её смерти. «Лауды — просто семья, которая согласилась предать себя в руки телевидению и умереть», — скажет режиссёр. Как видим, речь действительно идёт о жертвенном процессе, о жертвенном зрелище, предложенном двадцати миллионам американцев. Литургическая драма массового общества.
TV Verite (Истина ТВ). Замечательное в своей двусмысленности название — речь идёт об истине этой семьи или об истине телевидения? На самом деле телевидение, явившее истину Лаудов, — это телевидение той истины, которая становится истиной. Истиной, которая больше не является ни истиной отражения в зеркале, ни истиной перспективы паноптической{53} и контролирующей системы, но истиной манипулятивного теста, который зондирует и опрашивает, истиной лазера, который нащупывает и проникает, матриц, которые сохраняют ваши перфокарты, истиной генетического кода, который управляет вашими комбинациями генов, нервных клеток, которые управляют вашей сенсорикой. Именно этой истине подвергло медиум-телевидение семью Лауд и в этом смысле вынесло ей смертный приговор (но об истине ли ещё речь?).
Конец паноптической системы. Телевизионный глаз больше не является источником абсолютного наблюдения, и идеалом контроля больше не является идеальная транспарентность. Паноптическая система ещё предполагает существование объективного пространства (пространства Ренессанса) и всемогущество деспотического надзора. Это всё ещё если не система заключения, то, по крайней мере, система наблюдения по секторам. Более утончённая, однако всё ещё внешняя по своему характеру, построенная на оппозиции «наблюдать» и «быть под наблюдением», даже если фокальная точка системы наблюдения находится в слепой зоне.
Совсем иное в случае с Лаудами. «Вы больше не смотрите телевидение — это телевидение смотрит вас (Live)», или ещё: «Вы больше не слушаете передачу „Без паники!“ — это „Без паники!“ слушает вас» — поворот от паноптической системы контроля (см. «Надзор и наказание» Фуко{54}) к системе апотропии, в которой отменено различение между пассивным и активным. Больше нет императива подчинения модели или контролю. «ВЫ — модель!», «Главное — это ВЫ!». Таков аспект гиперреальной социальности, в которой реальное перепутано с моделью, как в статистической выкладке, или с медиумом, как в эксперименте с Лаудами. Такова следующая стадия социальных отношений, наша стадия, которая уже больше не является стадией убеждения (классической эрой пропаганды, идеологии, рекламы и т. д.), а является стадией разубеждения, апотропии: «ВЫ — последние известия, вы — социальное, вы — событие, вы имеете к этому отношение, слово вам» и т. д. Зеркальный поворот, благодаря которому становится невозможной локализация инстанции модели, власти, контроля, самих медиа, потому что вы всегда оказываетесь по ту сторону. Больше не существует ни субъекта, ни фокальной точки, ни центра или периферии — сплошная изогнутость или круговое отклонение. Больше не существует ни насилия, ни надзора — одна лишь «информация», скрытая вирулентность{55}, цепная реакция, медленная имплозия и пространственные симулякры, в которых ещё имеет место эффект реального.
Мы свидетели конца перспективного и паноптического пространства (которое ещё остаётся моральной гипотезой, согласующейся со всеми попытками классического анализа «объективной» сущности власти) и, таким образом, отмены самого спектакулярного{56}. Телевидение, как, например, в случае с Лаудами, больше не является спектакулярным медиумом. Мы больше не находимся ни в обществе спектакля, о котором говорили ситуационисты{57}, ни в разновидности специфического отчуждения и специфического подавления, которые оно предполагало. Сам медиум больше не воспринимается как таковой, и смешение медиума с месседжем (Маклюэн{58})[7] является первой важной формулой этой новой эпохи. Медиума в буквальном смысле больше не существует: теперь он неосязаем, рассеян и дифрагирован в реальном, и уже нельзя даже сказать, искажает ли он что-либо.
Такое смешение, такое вирусное, эндемическое, хроническое, паническое присутствие медиума, когда становится невозможно выделить его воздействие — призрачное, как рекламные лазерные скульптуры в пустом пространстве, как события, профильтрованные медиа, — растворение телевидения в жизни, растворение жизни в телевидении — гомогенный химический раствор: это означает, что мы все Лауды, обречённые не на вторжение, не на давление, не на насилие и шантаж со стороны СМИ и моделей, но на их индукцию, их инфильтрацию, их незаметное изнасилование.
Однако нужно остерегаться негативного направления, которое навязывает дискурс: речь идёт не о болезни, не о вирусной инфекции. О медиа следует думать лучше так, будто они находятся на внешней орбите и являются чем-то вроде генетического кода, который управляет мутацией реального в гиперреальное, и так же, как другой код, микромолекулярный, управляет переходом от репрезентативной сферы смысла к сфере генетически запрограммированного сигнала.
Под сомнение ставится вся традиционная система каузальности: метод перспективный и детерминистский, «активный» и критический, метод аналитический — различение между причиной и следствием, между активным и пассивным, между субъектом и объектом, между целью и средствами. Именно исходя из этого, можно сказать: телевидение наблюдает за нами, телевидение отчуждает нас, телевидение манипулирует нами, телевидение информирует нас… Мы остаёмся при всём этом заложниками аналитической концепции СМИ, концепции активного и эффективного внешнего агента, концепции «перспективной» информации, в которой точкой схода является горизонт реального и смысла.
Итак, телевидение нужно представлять себе по аналогии с ДНК, как следствие, в котором исчезают противоположные полюса детерминации, согласно контракции{59}, ядерной ретракции прежней полярной схемы, которая всегда сохраняла минимальную дистанцию между причиной и следствием, между субъектом и объектом, а именно дистанцию смысла, промежуток, различие, наименьший возможный разрыв (НВР!), который невозможно сократить под страхом поглощения алеаторным{60} и недетерминированным процессом, о котором дискурс не может даже дать представления, потому что сам принадлежит к детерминированному порядку.
Именно этот промежуток исчезает в процессе генетического кодирования, неопределённость которого является не столько неопределённостью случайной игры молекул, сколько неопределённостью полнейшей отмены соотношений. В процессе молекулярного управления, «исходящего» от ядра ДНК к «субстанции», которую он «информирует», уже нет места для развёртывания какого-либо эффекта, энергетики, детерминации, сообщения. «Команда, сигнал, импульс, сообщение» — всё это попытки сделать вещь понятной для нас, но по аналогии с использованием таких терминов, как «регистрация», «вектор», «декодирование» для описания измерения, о котором мы ничего не знаем, это уже даже не «измерение» или, возможно, именно то, что является четвёртым измерением (оно определяется, кстати, в теории относительности как поглощение различных полюсов пространства и времени). Но фактически весь этот процесс может быть понят только в отрицательной форме: больше ничто не отделяет один полюс от другого, начальное от конечного, происходит что-то вроде их деформирующего взаимопроникновения, некое фантастическое катастрофическое столкновение, обрушение друг в друга двух традиционных полюсов: имплозия — поглощение радиальной системы каузальности, дифференциальной{61} системы детерминации с её положительным и отрицательным зарядом — имплозия смысла. Именно здесь берёт своё начало симуляция.
Повсюду, во всех сферах — в политической, биологической, психологической, медийной, где больше невозможно сохранить различение между этими двумя полюсами, — мы попадаем в симуляцию и, следовательно, в абсолютную манипуляцию — не в пассивность, а в неразличимость активного и пассивного. ДНК реализует эту алеаторную редукцию на уровне живой субстанции. Телевидение, как в случае с Лаудами, также достигает этого предела неопределённости, когда люди не в большей или меньшей степени активны или пассивны относительно телевидения, чем некая живая субстанция относительно своего молекулярного кода. И тут и там одна и та же туманность, которая не поддаётся расшифровке ни на уровне своих простых элементов, ни на уровне своей истинности.
Орбитальное и ядерное
Апофеоз симуляции — ядерная угроза. Однако «равновесие страха» всегда только спектакулярный аспект системы апотропии, которая изнутри проникла во все поры повседневной жизни. Ядерная напряжённость лишь подкрепляет и банализирует систему апотропии, которая лежит в основе СМИ, насилия без последствий, царящего повсюду в мире, в основе алеаторного механизма всех решений, которые мы принимаем. Даже самые незначительные наши поступки регулируются нейтрализованными, индифферентными, эквивалентными знаками, сумма которых равна нулю, теми же знаками, которые управляют «стратегическими играми» (но истинное уравнение кроется в другом, и неизвестное в нём — это как раз та переменная симуляция, которая превращает сам атомный арсенал в форму гиперреального, в симулякр, возвышающийся над всеми нами и сводящий все «наземные» события лишь к неким эфемерным сценариям, трансформируя оставленную нам жизнь в выживание, в цель без цели — даже не в торг по поводу жизни и смерти, в торг, заранее проигранный).
Это не прямая угроза атомного уничтожения парализует наши жизни — это апотропия обескровливает нас. И апотропия эта исходит из того, что даже само реальное атомное столкновение исключается — исключается заведомо, как возможность реального в системе знаков. Все делают вид, будто верят в реальность этой угрозы (военных ещё можно понять, ведь на карту поставлена вся серьёзность их существования и весь их «стратегический» дискурс), но как раз на этом уровне стратегические цели отсутствуют, и вся оригинальность ситуации заключается в невероятности уничтожения.
Апотропия исключает возможность войны — архаичного насилия расширяющихся систем. Апотропия же является нейтральным, имплозивным насилием метастабильных систем или систем в состоянии инволюции. Нет больше ни субъекта устрашения, ни противника, ни стратегии, есть лишь планетарная структура уничтожения целей. Атомная война, наподобие Троянской, не состоится. Риск ядерного уничтожения служит лишь поводом для того, чтобы под предлогом усовершенствования военной техники (но это усовершенствование настолько чрезмерно по сравнению с любой целью, что она сама становится ничтожной) ввести всеобъемлющую систему безопасности, ограничения и контроля, апотропийный эффект которой направлен вовсе не на предотвращение атомного столкновения (которое никогда и не принималось в расчёт, за исключением, конечно, самой начальной стадии «холодной войны», когда ядерную систему ещё путали с традиционным методом ведения войны), а на апотропию намного более возможных реальных событий, всего того, что могло бы стать событием в общей системе и тем самым нарушить её равновесие. Равновесие страха — это страх равновесия.
Апотропия — не стратегия, она циркулирует и выступает предметом обмена между ядерными протагонистами точно так же, как международный капитал в орбитальной зоне валютных спекуляций, чьей флуктуации{62} достаточно для того, чтобы контролировать всю мировую торговлю. Так вот, валюты уничтожения (связанной с реальным уничтожением не больше, чем блуждающий капитал связан с реальным производством), циркулирующей на ядерной орбите, достаточно для того, чтобы контролировать всё насилие и все потенциальные конфликты земного шара.
В тени этой системы под предлогом серьёзнейшей «объективной» угрозы и благодаря этому ядерному дамоклову мечу затевается мощнейшая система контроля, которая когда-либо существовала, и постепенная сателлитизация{63} всей планеты с помощью этой гипермодели безопасности.
То же самое касается и мирной атомной энергетики. Умиротворение не делает различия между гражданским и военным: везде, где разрабатываются необратимые средства контроля, везде, где понятие безопасности становится всесильным, везде, где норма безопасности заменяет прежний арсенал законов и насилия (включая и войну), растёт эта самая система апотропии, а вокруг неё разрастается историческая, социальная и политическая пустыня. Гигантская инволюция заставляет сжаться все конфликты, все конечные цели, все конфронтации в пределах этого шантажа, который прерывает, нейтрализует, замораживает их всех. Никакое возмущение, никакой казус не могут больше разворачиваться в соответствии со своей собственной логикой, потому что в этом есть риск уничтожения. Никакая стратегия больше невозможна, и любая эскалация — только детская игра, оставленная для военных. Политическая цель мертва, остаются одни только симулякры конфликтов и тщательно очерченных ставок.
«Космическая гонка» сыграла точно такую же роль, что и ядерная эскалация. Вот почему космонавтика так легко смогла сменить её в 60-е годы (Кеннеди/Хрущёв) и развиваться параллельно в форме «мирного сосуществования». Ведь в чём заключается решающая функция космической гонки, покорения Луны, запуска спутников, если не во внедрении модели всемирного тяготения, сателлитизации, совершенным зародышем которой выступает лунный модуль — программируемый микрокосм, в котором ничто не может быть оставлено на волю случая? Траектория, энергетика, расчёты, физиология, психология, окружающая среда — ничто не может быть оставлено на волю случайных обстоятельств, перед нами всеобъемлющий мир нормы, в нём больше не существует закона, а его сила перешла к операциональной имманентности{64} всей совокупности деталей. Мир, очищенный от всякой угрозы смысла, асептический и невесомый, — именно это совершенство завораживает. Экзальтацию толп вызвал не факт высадки на Луну или запуск человека в космос (это скорее воплощение предыдущей мечты), нет, мы ошеломлены совершенством программирования и технического манипулирования, имманентным чудом запрограммированного развития событий. Завораживание от максимальной нормы и от управления вероятностью. Головокружение от модели, которая сближается с моделью смерти, но без страха и неосознанного влечения. Ведь если закон с его аурой нарушения, порядок с его аурой насилия ещё провоцируют перверсивное воображаемое, то норма фиксирует, завораживает, ошеломляет и производит инволюцию всего воображаемого. Тщательность программы не питает более воображение. Лишь её выполнение вызывает головокружение. Головокружение от мира без изъянов.
А ведь та же модель программированной непогрешимости, максимальной безопасности и апотропии сегодня регулирует и социальное пространство. В этом и заключаются истинные ядерные последствия{65}: тщательное манипулирование технологией служит моделью для тщательного манипулирования социальным. И здесь также ничто больше не остаётся на волю случая. Более того, в этом и есть суть социализации{66}, которая началась сотни лет тому назад, но сейчас вошла в фазу своего ускоренного развития, приблизившись к границе, которую считали эксплозивной (революция) и которая в данный момент выражается через противоположный процесс, имплозивный и необратимый: всеобъемлющая апотропия от любой случайности, от любой акциденции{67}, от любой трансверсальности, от любой финальности{68}, от любого противоречия, резкого изменения и осложнения в социальном, облучённом нормой и обречённом на дескриптивную транспарентность механизмов информации. На самом деле космическая и ядерная модели лишены собственных целей: таковыми не являются ни освоение Луны, ни военно-стратегическое превосходство. Их назначение — быть моделями симуляции, векторными моделями системы планетарного контроля (даже сверхдержавы не свободны от этого сценария — весь мир сателлитизирован).[8]
Очевидное противоречие: в процессе сателлитизации сателлитом является не то, что считается таковым. Вследствие орбитальной вписанности космического объекта, в сателлит превращается сама планета Земля, и земной принцип реальности становится эксцентричным, гиперреальным и незначительным. Вследствие орбитального инстанцирования системы контроля, такой как мирное сосуществование, в сателлиты превращаются все наземные микросистемы, которые теряют при этом свою самостоятельность. Вся энергия, все события поглощаются этой эксцентричной гравитацией, всё сжимается и имплозирует в единую микромодель контроля (орбитальный сателлит), как в другом примере, биологическом измерении, всё конвергирует{69} и имплозирует в молекулярную микромодель генетического кода. В ходе этих двух процессов, в этой развилке ядерного и генетического, в одновременном действии обоих фундаментальных кодов апотропии поглощается всякий принцип смысла, и никакое развёртывание реального не становится невозможным.
Яркой иллюстрацией этого была одновременность двух событий в июле 1975 года: стыковка в космосе двух суперспутников, американского и советского, апофеоз мирного сосуществования, и постановление китайцев об отказе от идеограмматического письма в пользу латинского алфавита. Последнее означало «орбитальное» инстанцирование абстрактной и смоделированной системы знаков, в орбите которой подвергаются резорбции{70} все уникальные когда-то формы стиля и письма. Сателлитизация языка: для китайцев это способ войти в систему мирного сосуществования, и она происходит точно в то же время, что и стыковка спутников в их небе. Орбитальный полёт «Большой двойки» соответствует нейтрализации и гомогенизации всех тех, кто остался на Земле.
И всё же, несмотря на эту апотропию посредством орбитальной инстанции — ядерного кода или кода молекулярного, — наземные события продолжают происходить, и неожиданные повороты становятся всё более многочисленными, если учесть глобальный процесс смежности и одновременности распространения информации. Хотя это трудноуловимо, но они больше не имеют смысла и становятся лишь дуплексным следствием симуляции на высшем уровне. Лучшего примера, чем война во Вьетнаме, не найти, ведь она происходила в точке пересечения максимальной исторической и «революционной» цели и процесса внедрения этой инстанции апотропии. Какое значение имела эта война, и не обозначает ли сам её ход конец истории в решающем и кульминационном событии нашей эпохи?
Почему эта война, такая тяжёлая, такая длинная, такая жестокая, рассеялась в течение нескольких дней, словно по мановению волшебной палочки?
Почему это американское поражение (самая большая неудача в истории США) не имело никаких внутренних последствий в Америке? Если бы оно действительно означало крах планетарной стратегии Соединённых Штатов, оно непременно нарушило бы и внутреннее равновесие американской политической системы. Ничего подобного не произошло.
Произошло, следовательно, что-то другое. По сути, эта война была лишь решающим эпизодом мирного сосуществования. Она ознаменовала присоединение Китая к мирному сосуществованию. Невмешательство Китая, достигнутое и конкретизированное после многолетнего изучения им мирового modus vivendi{71}, переход от стратегии мировой революции к стратегии разделения сфер влияния, отход от радикальной альтернативы в пользу изменений в политической системе, которая теперь в основном налажена (нормализация отношений между Пекином и Вашингтоном), — именно в этом заключалась цель вьетнамской войны, и в этом смысле США хоть и ушли из Вьетнама, но выиграли войну.
И война «спонтанно» прекратилась, когда эта цель была достигнута. Вот почему она была свёрнута, рассеялась с такой лёгкостью.
Подобную редукцию сил можно заметить и в самом Вьетнаме. Война продолжалась до тех пор, пока не были ликвидированы непримиримые элементы, несовместимые со здоровой политикой и дисциплиной власти, пусть даже коммунистической. Когда наконец инициатива перешла к регулярным частям Севера и выскользнула из рук партизан, война могла прекратиться: она достигла своей цели. Цель, таким образом, состояла в организованном политическом изменении. Как только вьетнамцы доказали, что они больше не носители непредсказуемой субверсии, можно было отдавать им и карты в руки. То, что порядок коммунистический, в сущности, не важно: он зарекомендовал себя, поэтому ему можно доверять. Он даже эффективнее капитализма в ликвидации «диких» и архаических докапиталистических структур.
По тому же самому сценарию проходила и война в Алжире.
Другой аспект этой войны и любой войны отныне: за вооружённым насилием, за смертельным антагонизмом противников, который представляется делом жизни и смерти и разыгрывается как таковой (иначе никогда не удалось бы посылать людей на гибель в подобных конфликтах), за этим симулякром смертельной борьбы и беспощадной глобальной цели, обоих противников объединяет фундаментальная солидарность против чего-то иного, неназванного и необсуждаемого, но полная ликвидация которого, при равном соучастии обоих противников, является объективным результатом войны: племенные, общинные, докапиталистические структуры, все формы символического обмена, языка, мироустройства — именно это нужно уничтожить, умерщвление всего этого является целью войны, — и последняя, со своим исполинским зрелищным арсеналом смерти, является лишь средством этого процесса террористической рационализации социального — умерщвление, в результате которого сможет установиться социальное бытие, неважно, какого направления — коммунистического или капиталистического. Полное соучастие, или разделение труда между двумя противниками (которые могут даже пойти ради этого на огромные жертвы), с той же целью перестройки и приручения социальных отношений.
«Северному Вьетнаму было рекомендовано согласиться на сценарий ликвидации американского присутствия, во время реализации которого, конечно, необходимо сохранить лицо».
Этот сценарий: крайне жестокие бомбардировки Ханоя. Их непереносимый характер не должен скрывать, что они были лишь симулякром, который давал возможность вьетнамцам делать вид, будто они соглашаются на компромисс, а Никсону — заставить американцев проглотить вывод своих войск. Игра состоялась, и на карте стояло лишь правдоподобие финальной сцены.
Пусть это не обескураживает моралистов от войны, поборников высокой воинской доблести: война не становится менее жестокой оттого, что она только симулякр, на ней человек по-прежнему испытывает настоящие телесные страдания, и её жертвы и ветераны с лихвой достойны жертв и ветеранов других войн. Эта задача всегда успешно выполняется, так же как задачи разделения территории по секторам и дисциплинарной социализации. Чего больше нет, так это противостояния противников, реальности антагонистических причин, идеологической серьёзности войны, а также реальности победы или поражения, поскольку война превратилась в процесс, который торжествует далеко за пределами своих внешних проявлений.
В любом случае умиротворение (или апотропия), которое доминирует сегодня, находится по ту сторону войны и мира, и его суть в том, что и война и мир беспрерывно эквивалентны. «Война — это мир», — говорится у Оруэлла{72}. И в этом также два дифференциальных полюса имплозируют друг в друга или рециркулируют{73} друг друга — синхронизация противоположностей, которая является одновременно пародией и концом любой диалектики. Таким образом, можно полностью пропустить истину войны, а именно то, что она закончилась задолго до своего завершения, что войне был положен конец в самом разгаре войны и что она, возможно даже, никогда не начиналась. Многие другие события (нефтяной кризис{74} и т. д.) никогда не начинались, никогда не существовали, разве что как искусственные перипетии — абстракции, эрзацы и артефакты истории, катастроф и кризисов, предназначенные для того, чтобы удерживать под гипнозом историческую инвестицию. Все СМИ и официальные источники информации задействованы только для того, чтобы поддержать иллюзию событийности, реальности целей, объективности фактов. Все события следует читать в обратном направлении, или же становится заметно (ретроспектива коммунистов «во власти» в Италии, посмертное повторное «открытие» ГУЛАГа и советских диссидентов, так же как недавнее открытие умирающей этнологией утраченного «различия» дикарей), что все эти вещи случаются слишком поздно в истории, которая запаздывает, в спирали, которая запаздывает, что они уже заранее исчерпали свой смысл и живут только благодаря искусственному возбуждению знаков, что все эти события сменяют друг друга без логической связи, в тотальной эквивалентности противоположностей, в полнейшей индифферентности к своим последствиям (а они их больше и не имеют, потому что исчерпывают свои силы в зрелищном промоушне), — все кадры новостной «кинохроники» производят мрачное впечатление китча, ретро и порно одновременно — несомненно, все знают об этом, и никто не воспринимает их всерьёз.
Реальность симуляции невыносима — более жестока, нежели Театр жестокости Арто{75}, который был всё ещё попыткой создать драматургию жизни, последним вздохом идеальности тела, крови, насилия в системе, которая уже изгоняла всё это прочь, бескровно поглощая все цели и задачи. И трюк удался. Любая драматургия, а также любой реальный стиль жестокости исчезли. Роль хозяйки принадлежит симуляции, и нам осталось право только на ретро, на призрачную пародийную реабилитацию всех утраченных референций. Всё по-прежнему разворачивается вокруг нас, в холодном свете апотропии (включая Арто, который имеет право, как и всё остальное, на своё возрождение, на повторное существование в качестве референции жестокости).
Вот почему распространение ядерного оружия не увеличивает риск атомного столкновения или катастрофы, за исключением промежутка, в котором «молодые» государства могут ощутить соблазн использовать его не с целью устрашения, а с «реальной» целью (как это сделали американцы в Хиросиме, но в самом деле только они и имели право на использование этой «потребительной стоимости» бомбы, и всех тех, кто получит доступ к ней в дальнейшем, будет удерживать от использования бомбы сам факт обладания ею). Вступление в ядерный клуб, так красиво названный, очень быстро отбивает (так же как вступление в профсоюз в трудовой сфере) любую охоту к силовому вмешательству. Ответственность, контроль, цензура, самосдерживание растут всегда быстрее, чем силовые структуры или средства вооружения, имеющиеся в распоряжении: таков секрет социального порядка. Так, даже сама возможность парализовать всю страну одним движением рубильника вниз гарантирует, что электроэнергетики никогда ею не воспользуются; весь миф о всеобщей и революционной забастовке рушится в тот самый момент, когда появляется возможность для её проведения, но, увы, именно потому, что появляется возможность для её проведения. В этом и заключается весь процесс апотропии.
Поэтому вполне вероятно, что однажды мы станем свидетелями того, как ядерные державы будут экспортировать атомные реакторы, ракетные войска и атомные бомбы по всей планете. На смену контроля путём угрозы придёт намного более эффективная стратегия умиротворения посредством бомбы и через обладание бомбой. «Малые» государства, полагая, что они приобрели независимую ударную силу, приобретут вирус апотропии, своего собственного сдерживания. То же относительно и атомных реакторов, которые мы им уже поставляем: по сути, это множество нейтронных бомб, которые нейтрализуют всякую историческую вирулентность, всякий риск эксплозии. В этом смысле ядерное повсюду вызывает ускоренный процесс имплозии, оно замораживает всё вокруг себя и поглощает всю жизненную силу.
Ядерное — одновременно кульминация высвобождения энергии и максимизация систем контроля всякой энергии. Затягивание гаек и контроль возрастают прямо пропорционально (и, несомненно, даже быстрее) по отношению к возможности раскрепощения. Это уже было апорией модернистской революции. Теперь это абсолютный парадокс ядерного. Энергии нейтрализуются своей собственной мощью, они сдерживают сами себя. Трудно даже представить, что за проект, что за власть, что за стратегия, что за субъект может скрываться за этим занавесом, за этим гигантским перенасыщением системы своими собственными силами, отныне нейтрализованными, неприменимыми, неразборчивыми, невзрывными, за исключением взрыва, направленного внутрь, имплозии, когда все эти энергии уничтожатся в катастрофическом процессе (в буквальном смысле, то есть в значении реверсии всего цикла к минимальной точке, реверсии энергии к минимальному порогу).
История как ретросценарий
В период насильственной и актуальной истории (скажем, между двумя мировыми войнами и в период холодной войны) миф завоёвывает кинематограф как его воображаемое содержание. Это золотой век масштабного воскрешения деспотического и легендарного. Миф, изгнанный из реального насилием истории, находит убежище на киноэкране.
Сегодня уже сама история завоёвывает кинематограф по тому же сценарию — историческая цель вытеснена из нашей жизни этой разновидностью гигантской нейтрализации, получившей название мирного сосуществования в мировом масштабе, и умиротворённой монотонностью в масштабе повседневности, — эта история, изгнанная обществом в состоянии медленного или внезапного оцепенения, убедительно празднует своё воскрешение на экранах в соответствии с тем же процессом, который заставлял оживать на них утраченные мифы.
История — это наш утраченный референт, то есть наш миф. Именно в этом качестве она приходит на смену мифам на киноэкране. Было бы иллюзией радоваться этому «осознанию истории посредством кинематографа», подобно тому, как радовались «поступлению политики в университет». То же недоразумение, та же мистификация. Политика, которая поступает в университет, вылетает из истории — это ретрополитика, лишённая своей субстанции и легализованная в своём поверхностном исполнении, площадка для игр и поле для авантюр, эта политика подобна сексуальности или непрерывному образованию (или социальному обеспечению в своё время), то есть она либерализована посмертно.
Основным событием этого периода, его большой травмой является эта агония сильных референтов, агония реального и рационального, которая открывает эру симуляции. В то время как столько поколений, и особенно последнее, жили в такт с историей, в ожидании, эйфорическом или катастрофическом, революции, сегодня складывается впечатление, что история отошла от дел, оставив после себя индифферентную туманность, пронизанную потоками, но лишённую своих референций. Именно в этой пустоте снова настигают фантазмы прошлого, коллекция из событий, идеологий, течений моды в стиле ретро — в основном не потому, что люди верят в это или ещё строят на этом свои надежды, а просто для того, чтобы воскресить время, когда, по крайней мере, ещё была история, по крайней мере, ещё было насилие (пусть даже фашистское), когда, по крайней мере, решался вопрос жизни и смерти. Всё годится, лишь бы избежать этой пустоты, этого малокровия истории и политики, этого кровотечения ценностей, — именно пропорционально этой тоске вспоминают вперемешку любой контент{76}, беспорядочно воскрешают всю предыдущую историю — ни одна идея не проходит больше квалификационного отбора, одна лишь ностальгия накапливается без конца: война, фашизм, великолепие Прекрасной эпохи{77} или революционная борьба — всё равнозначно и без различения смешивается в одной мрачной и похоронной экзальтации, в одной ретрофасцинации.
Впрочем, существует одна привилегия для эпохи, которая только что кончилась (фашизм, война, первые послевоенные годы — бесчисленные фильмы, которые снимаются в настоящее время на эти темы, имеют для нас более близкий, более порочный, более густой, более тревожный аромат). Это можно объяснить, вспомнив фрейдистскую теорию фетишизма (гипотеза, возможно, также принадлежащая к категории ретро). Эта травма (потеря референтов) подобна открытию ребёнком различия между полами: она так же серьёзна, так же глубока, так же необратима. Фетишизация предмета появляется, чтобы затенить это невыносимое открытие, но дело именно в том, говорит Фрейд, что этот предмет не является любым предметом, часто это последний предмет, бегло замеченный перед травмирующим открытием. Поэтому фетишизирована будет преимущественно та история, которая непосредственно предшествует нашей «ирреферентной» эпохе. Вот откуда вездесущность фашизма и войны в ретро — совпадение, но политика здесь ни при чём, наивно же выводить из воспоминания о фашизме современное его возрождение (именно потому, что мы больше не живём при нём, потому что мы живём в чём-то другом, ещё менее весёлом, именно поэтому фашизм может снова стать привлекательным в своей жестокости, профильтрованной эстетическими средствами ретро).[9]
Вот так история с триумфом входит в кинематограф после своей смерти (термин «исторический» подвергся такой же участи: «исторический» момент, «исторический» памятник, «исторический» съезд, «историческая» фигура — уже этим самым обозначаются как окаменелости). Её повторное введение не имеет ценности осознания, это лишь ностальгия по утраченному референту.
Это не значит, что история никогда не появлялась в кинематографе как кульминационный момент, как актуальный процесс, как возмущение, а не только как воскрешение из мёртвых. В «реальном», как и в кинематографе, история присутствовала, но её больше нет. История, которую нам сегодня «возвратили» (именно так, ведь она была у нас отобрана), связана с «историческим реальным» не больше, чем неофигуративизм{78} в живописи связан с классическим изображением реального. Неофигуративизм — это инвокация{79} подобия, но в то же время и явное свидетельство исчезновения объектов в самой их репрезентации, то есть гиперреальное. Предметы здесь, так сказать, блещут гиперподобием (как история в современном кино), что делает их, в сущности, больше ни на что не похожими, разве что на пустой образ подобия, на пустую форму репрезентации. Это не вопрос жизни или смерти — эти предметы уже ни живые, ни мёртвые. Вот почему они столь точные, столь тщательные, незыблемые, в таком состоянии, будто их внезапно захватил процесс потери реального.
Все эти исторические (и не только) фильмы, само совершенство которых беспокоит: «Китайский квартал», «Три дня Кондора», «Барри Линдон»{80}, «Двадцатый век», «Вся президентская рать» и т. д. Складывается впечатление, что мы имеем дело скорее с совершенными ремейками, с экстраординарным монтажом, что является частью скорее комбинаторной (или мозаичной, по Маклюэну) культуры, с какими-то гигантскими машинами фото-, кино-, историосинтеза и т. д., чем с настоящими фильмами. Условимся: мы не касаемся их качества. Проблема заключается скорее в том, что они оставляют нас в какой-то степени совершенно индифферентными. Возьмите «Последний киносеанс»: надо быть настолько невнимательным, как я, чтобы воспринять его как оригинальную продукцию 50-х годов, — очень хороший фильм, который изображает нравы и атмосферу маленького американского городка и т. д. Лишь одно лёгкое подозрение: он был как-то уж слишком хорош, слишком выверен, лучше других, без психологических, моральных и сентиментальных оплошностей, характерных для фильмов той эпохи. И ошеломление, когда становится известно, что это фильм 70-х, абсолютное ретро, отредактированное и вылизанное, что это гиперреальное воссоздание фильмов 50-х годов. Идут разговоры о пересъёмке немых фильмов, которые, без сомнения, также будут лучше, чем фильмы той эпохи. Возникает целая генерация фильмов, которые будут по отношению к прежним фильмам тем же, что и андроид по отношению к человеку: замечательными артефактами, лишёнными недостатков, гениальными симулякрами, которым недостаёт лишь воображаемого и той характерной иллюзии, без которой нет кинематографа. Большинство из тех фильмов, которые мы смотрим сегодня (лучшие), уже принадлежит к этой категории. Лучшим примером их является «Барри Линдон»: ещё никто не добивался подобного успеха и не добьётся подобного успеха… в чём? Это даже не припоминание, даже не эвокация{81} — перед нами симуляция. Все токсичные элементы отфильтрованы, все ингредиенты на месте, строго дозированы, ни одной ошибки.
Крутое [cool], холодное удовлетворение, даже не эстетическое в строгом смысле: удовлетворение функциональное, удовлетворение эквациональное, удовлетворение от махинации. Стоит вспомнить лишь о Висконти{82} («Леопард», «Чувство» и другие фильмы, которые некоторыми аспектами напоминают «Барри Линдона»), чтобы ощутить разницу не только в стиле, но и в кинематографическом действе. У Висконти есть смысл, история, чувственная риторика, паузы, увлекательная игра, и не только с историческим контентом, но и с постановкой. Ничего подобного нет у Кубрика, который манипулирует своим фильмом, как гроссмейстер шахматами, превращая историю в операциональный сценарий. И это не имеет ничего общего со старой оппозицией духа изящного и духа геометрического — эта оппозиция ещё является частью игры и ставкой на смысл. Мы же входим в эру фильмов, которые, в сущности, уже не имеют смысла, в эру мощных синтезирующих машин с изменяемой геометрией.
Кое-что из этого уже было в вестернах Леоне{83}? Возможно. Все регистры медленно соскальзывают в этом направлении. «Китайский квартал» — это детектив, стилистически переработанный с помощью лазерной техники. Это на самом деле не вопрос безупречности: техническое совершенство может быть составляющей смысла, и в таком случае оно не является ни ретро, ни гиперреализмом, тогда оно — один из эффектов искусства. В нашем случае техническое совершенство является эффектом модели: это одно из тактических значений референции. В отсутствие реального синтаксиса смысла нам доступны лишь тактические значения одного какого-то комплекса, в котором прекрасно сочетаются, скажем, ЦРУ — как способная на всё мифологическая машина, Роберт Редфорд — как разносторонняя звезда, социальные отношения — как референция, обязанная своим существованием истории, техническая виртуозность — как референция, обязанная своим существованием кинематографу.
Кинематограф и траектория его развития — от наиболее фантастического или мифического к реалистическому и гиперреалистическому.
В своих сегодняшних усилиях кинематограф всё больше и всё с большим совершенством приближается к абсолютной реальности в своей банальности, в своём правдоподобии, в своей обнажённой очевидности, в своей скуке и вместе с тем в своей заносчивости, претендуя на то, чтобы быть реальным, сиюминутным, незначительным, а это самая безумная из всех затей (так претензия функционализма{84} на то, чтобы обозначать — конструировать — высшую степень предмета в его сходности с его функцией, с его потребительской стоимостью, является совершенно абсурдным занятием). Ни одна культура не рассматривала знаки столь наивно, параноидально, пуритански и террористично, как кино с его нынешними устремлениями. Терроризм — это всегда терроризм реального.
Одновременно с этим стремлением к абсолютному совпадению с реальным, кино приближается также к абсолютному совпадению с самим собой, и в этом нет противоречия: это и есть дефиниция{85} гиперреального. Гипотипизация и зеркальность. Кино плагиаторствует у самого себя, вновь и вновь самокопируется, переснимает свою классику, ретроактивирует свои мифы, переснимает немоё кино таким образом, что оно становится более совершенным, нежели оригинал, и т. д.: всё это закономерно, кино заворожено самим собой как утраченным объектом, в точности так, как оно (и мы тоже) заворожено реальным как исчезнувшим референтом. Кинематограф и воображаемое (романическое, мифическое, ирреальное, включая исступлённое использование собственной технологии) были когда-то в живой, диалектической, полной, драматической взаимосвязи. Связь, которая устанавливается сегодня между кинематографом и реальным, является связью обратной, отрицательной, это следствие потери специфики и тем и другим. Равнодушная любовная связь, бесстрастный промискуитет{86}, бесполая помолвка двух холодных медиа, которые двигаются по направлению друг к другу по асимптотической линии: кинематограф, стремящийся самоустраниться в абсолюте реального, реальное, уже давно поглощённое кинематографическим (или телевизионным) гиперреальным.
История была сильным мифом, возможно, последним великим мифом наряду с бессознательным. Именно миф поддерживал одновременно возможность «объективной» связности причин и событий и возможность нарративной связности дискурса. Век истории — это также и век романа, если можно так выразиться. Именно эта легендарность, мифическая энергия события или повествования, теряется сегодня, кажется, ещё в большей степени. За перформативной и демонстративной логикой — одержимость исторической достоверностью, совершенным воспроизведением (таким, кстати, как воспроизведение реального времени или деталей повседневности Жанны Дильман, тщательно моющей посуду{87}), эта негативная достоверность одержима материальностью прошлого, настоящего (той или иной сценой прошлого или настоящего), реституцией абсолютного симулякра прошлого или настоящего, заменившего собой все другие ценности, — к этому причастны все мы, и это необратимо. Поскольку само кино внесло свой вклад в исчезновение истории и в пришествие архива. Фотография и кино внесли громадный вклад в секуляризацию истории, в фиксирование её в визуальной, «объективной» форме взамен мифов, которые её пронизывали.
Теперь кинематограф может отдать весь свой талант, всю свою технологию на службу реанимации того, к уничтожению чего сам был причастен. Но он воскрешает лишь фантомы, и сам теряется среди них.
Холокост
Забвение об уничтожении является частью уничтожения, потому что это ещё и уничтожение памяти, истории, социального и т. д. Это забвение так же существенно, как и событие, которое в любом случае неуловимо для нас, недосягаемо в своей истине. И это забвение ещё весьма опасное, его нужно стереть с помощью искусственной памяти (сегодня повсюду именно искусственные воспоминания стирают память людей, стирают людей из их собственной памяти). Эта искусственная память будет рестадированием{88} уничтожения, но запоздалым, слишком запоздалым, чтобы оно смогло вызвать настоящие волны и глубоко всколыхнуть что-то, а особенно сугубо посредством медиа — холодных, излучающих забвение, апотропию и уничтожение ещё более систематически, если такое возможно, чем сами лагеря смерти. Телевидение. Настоящее окончательное решение историчности любого события. Никто больше не заставляет евреев проходить через крематорий или газовую камеру — они проходят теперь через аудио- и видеоплёнки, через дисплей и через микропроцессор. Забвение, уничтожение достигают наконец своего эстетического измерения — они завершаются через ретроспекцию, наконец доведённые в ней до массового уровня.
Разновидность социально-исторического измерения, которое всё ещё остаётся в забвении в виде чувства вины, латентного стыда, невысказанного, больше не существует, потому что теперь «все знают», все содрогались и роняли слёзы при виде массового истребления — верный признак того, что «подобного» никогда больше не повторится. Однако то, что изгнано таким образом, с небольшими затратами, ценой нескольких слезинок, действительно никогда больше не повторится, потому что оно постоянно, снова и снова, повторяется, и как раз в той форме, в которой, как считается, его осуждают, в самом средстве этого мнимого экзорцизма — телевидении. Оно — тот же процесс забвения, ликвидации, уничтожения или даже аннигиляции воспоминаний и истории, обратное, имплозивное излучение, то же беззвучное поглощение, та же чёрная дыра, как и Освенцим. И нас хотели заставить поверить, что телевидение снимет бремя Освенцима путём излучения коллективного осознания, тогда как оно является воплощением Освенцима в другом облике, на этот раз уже не в виде места массового уничтожения, но в виде медиума апотропии.
Никто не хочет понять то, что телепроект Холокост является прежде всего (и исключительно) событием, или скорее телевизионным объектом (фундаментальное правило Маклюэна, которое не следует забывать), то есть попыткой разогреть холодное историческое событие, трагическое, но холодное, первое крупное событие холодных систем, систем замораживания, апотропии и уничтожения, которые впоследствии развернутся в других формах (включая холодную войну и т. д.) для холодных масс (евреи уже даже не имеют отношения к своей собственной смерти, и в конечном счёте самоуправляемые массы уже даже не возмущены, обескураженные до смерти, обескураженные своей собственной смертью) холодным же медиумом — телевидением, — для масс, которые сами холодные и для которых это будет лишь тактильными содроганиями и посмертными эмоциями, леденящим трепетом, которые унесут их в забвение с эстетически окрашенным осознанием катастрофы.
Для разогрева всего этого понадобилась целая политическая и педагогическая оркестровка, с помощью которой пытались всесторонне осмыслить событие (на этот раз событие телевизионное). Панический шантаж вокруг возможных последствий этой передачи для воображения детей и впечатлительных зрителей. Все педагоги и социальные работники были мобилизованы для фильтрации этого события, словно в этом искусственном воскрешении существовала какая-то опасность заражения! Опасность крылась как раз в обратном: в распространении холода, в социальной инертности холодных систем, телевидения в частности. Поэтому необходимо было, чтобы люди мобилизовались, дабы восстановить социальное, разжечь социальное, жаркую дискуссию, а следовательно, коммуникацию — на основе холодного монстра уничтожения. СМИ недостаёт целей, заинтересованности, историй, слов. Именно это и является фундаментальной проблемой. Поэтому цель заключается в том, чтобы создать то, чего не хватает, любой ценой, и тому предназначена эта передача: уловить искусственное тепло от мёртвого события, чтобы разогреть мёртвое тело социального. Отсюда привлечение ещё одного дополнительного медиума, призванного раздуть эффект с помощью обратной связи, — опросы сразу после передачи для подтверждения её массового эффекта, массового воздействия месседжа{89}, — тогда как эти опросы проверяли конечно же лишь телевизионный успех самих медиа. Впрочем, эта путаница никогда не акцентируется.
Поэтому нужно говорить о холодном свете телевидения, о его безвредности для воображения (в том числе детского), ведь оно больше не несёт никакого воображаемого по той простой причине, что оно больше не является образом. В отличие от кинематографа, который ещё имеет (но всё в меньшей степени, потому что всё больше заражается телевидением) сильное воображение, ведь кинематограф является образом. То есть не только экраном и визуальной формой, но и мифом, тем, что ещё сохраняет что-то от двойника, фантазма, зеркала, грёз и т. д. Ничего из всего этого нет в телевизионной «картинке», которая ничего не предлагает, которая гипнотизирует, которая сама по себе, лишь экран или даже лишь миниатюрный терминал, расположенный на самом деле в вашей голове; экран — это вы, и телевидение смотрит вас — транзисторизирует все ваши нейроны и прокручивает как магнитную ленту — ленту, но только не образ.
«Китайский синдром»
Фундаментальная проблема находится на уровне телевидения и информации. Так же как уничтожение евреев потерялось за телевизионным событием Холокоста — холодный медиум просто заменил собой холодную систему уничтожения, которую, как полагали, должны были изгнать с его помощью, — так и «Китайский синдром»{90} является замечательным примером верховенства телевизионного события над событием ядерной угрозы, которая, собственно, остаётся маловероятной и в определённой степени мнимой.
Кроме того, фильм (невольно) демонстрирует следующее: в том, что телевидение оказывается там, где происходят события, нет случайного совпадения, всё выглядит так, будто как раз бесцеремонное вторжение телевидения на электростанцию и приводит к неожиданному возникновению ядерного инцидента, потому что телевидение является как бы его антиципацией и моделью в повседневном мире — телерасщеплением{91} реальности и реального мира, — потому что телевидение и информация в целом являются определённым видом катастрофы в формальном и топологическом смысле, как у Тома Рене{92}: радикальным качественным изменением всей системы. Или скорее телевизионное и ядерное сходны по своей природе: за «горячими» и негэнтропийными концептами энергии и информации они скрывают одну и ту же силу апотропии холодных систем. Телевидение также является процессом ядерной цепной реакции, но процессом имплозивным: оно охлаждает и нейтрализует смысл и энергию событий. Ядерное же скрывает за предполагаемым риском взрыва, то есть процессом горячей катастрофы, длительную холодную катастрофу универсализации системы апотропии.
В конце фильма массовое вмешательство прессы и телевидения, второе по счёту, снова провоцирует драму — убийство технического директора бойцами спецназа, — драму, призванную заменить несостоявшуюся ядерную катастрофу.
Гомология ядерного и телевизионного прочитывается непосредственно в видеоряде: ничто так не похоже на центр наблюдения и дистанционного управления электростанцией, как телевизионные студии, и пульты управления ядерным процессом смешиваются в одном воображаемом с пультами в студиях записи и телевещания. Поэтому всё проходит между этими двумя полюсами: другой центр, центр реактора, в общем, истинная суть дела, о котором мы ничего не узнаем, этот центр похож на реальное, скрытое и неразборчивое и, в сущности, не имеет никакого значения в фильме (когда нам пытаются доказать обратное через неизбежный характер катастрофы, в плане воображаемого это не проходит: драма разыгрывается на экране, и нигде больше).
Гаррисберг,[10] Уотергейт и Телесеть{93} — такова трилогия «Китайского синдрома»: запутанная трилогия, в которой уже не разобрать, что является следствием или симптомом другого, является ли идеологический аргумент (эффект Уотергейта) лишь симптомом ядерного (эффект Гаррисберга) или информационной модели (эффект Телесети), является ли реальное (Гаррисберг) лишь симптомом воображаемого (Телесеть и Китайский синдром) или же наоборот? Изумительная неразличимость, идеальная констелляция{94} симуляции. Какое точное название — «Китайский синдром», ведь реверсивность симптомов и их конвергенция в том же самом процессе составляют именно то, что мы называем синдромом, то, что он китайский, только добавляет ему поэтический и интеллектуальный привкус головоломки или супликации.
Навязчивая конъюнкция «Китайского синдрома» и Гаррисберга. Но насколько непроизвольно всё это? Даже не устанавливая мистической связи между симулякром и реальным, ясно, что «Синдром» всё-таки имеет отношение к «реальному» инциденту в Гаррисберге, но не согласно каузальной логике, а согласно отношениям заражения и скрытой аналогии, связывающим реальное с моделями и симулякрами: индуцированию в фильме ядерного через телевидение с тревожной очевидностью соответствует индуцирование через фильм ядерного инцидента в Гаррисберге. Странная прецессия фильма реальному, самая удивительная из тех, которые нам было дано наблюдать: реальное детально соответствовало симулякру, включая приостановленный, незавершённый характер катастрофы, что является главным с точки зрения апотропии, — реальное подстроилось под фильм, чтобы произвести симуляцию катастрофы.
Отсюда к тому, чтобы перевернуть нашу логику и увидеть в «Китайском синдроме» реальное событие, а в Гаррисберге его симулякр, остаётся лишь один шаг, который необходимо сделать без лишних рассуждений. Ведь именно по этой логике ядерная реальность в фильме является результатом телевизионного эффекта, а «реальный» Гаррисберг — результат кинематографического эффекта «Китайского синдрома».
Однако фильм также не оригинальный прототип Гаррисберга, одно не симулякр того, относительно чего другое могло бы быть реальным, мы имеем дело лишь с симулякрами, и Гаррисберг — это разновидность симулякра второго порядка. Цепная реакция, безусловно, имеет место, и мы, возможно, погибнем от неё, но эта цепная реакция никогда не была ядерной, это цепная реакция симулякров и симуляции, которая действительно поглощает всю энергию реального, но уже не в зрелищном ядерном взрыве, а в тайной и непрерывной имплозии, которая приобретает сегодня, пожалуй, более смертельный характер, чем все взрывы, которыми нас пугают.
Ведь взрыв — это всегда обещание, он наша надежда: заметьте, в какой мере и в фильме, и в Гаррисберге все заняты ожиданием того, чтобы всё взлетело на воздух, чтобы разрушение стало явным и освободило нас от этой неописуемой паники, от этой паники апотропии, которую она распространяет в незримой форме ядерного. Пусть «центр» реактора откроет наконец свою жаркую мощь разрушения, пусть он укрепит нашу уверенность в присутствии энергии, хоть бы и катастрофической, и вознаградит нас её зрелищем. Ведь беда заключается в том, что не существует зрелища ядерного, зрелища ядерной энергии самой по себе (Хиросима уже в прошлом), и именно поэтому её отрицают — её полностью признали, если бы она выставляла себя напоказ, как предыдущие формы энергии. Парусия{95} катастрофы — главная пища нашего мессианского либидо.
Однако как раз этого больше никогда не произойдёт. То, что произойдёт, уже никогда не будет взрывом, а только имплозией. Больше никогда не будет энергии в её зрелищно-патетичной форме — всей романтики взрыва, в которой было столько шарма и которая вместе с тем была романтикой революции, а будет только холодная энергия симулякра и его перегонка гомеопатическими дозами в холодных системах информации.
О чём ещё мечтают СМИ, как не о том, чтобы вызвать событие одним лишь своим присутствием? Все порицают это, однако втайне заворожены подобной возможностью. Такова логика симулякров, это уже не божественное предопределение, это прецессия моделей, однако она столь же неумолима. И именно поэтому события уже не имеют собственного смысла: не потому, что они незначительные сами по себе, а потому, что им предшествовала модель, с которой их ход лишь совпадает. Было бы изумительно, если бы сценарий «Китайского синдрома» повторился в Фесенхайме во время экскурсии, организованной для журналистов компанией EDF{96}, если бы по этому случаю снова произошёл инцидент, связанный с магическим оком, с провокационным присутствием СМИ. Увы, ничего подобного не произошло. А впрочем, произошло! — столь сильна логика симулякров: неделю спустя были обнаружены трещины в электроцентрали. Чудо процесса заражения, чудо аналогичных цепных реакций!
Итак, главное в фильме — отнюдь не эффект Уотергейта в применении к персонажу Джейн Фонды, отнюдь не в телевидении, разоблачающем изъяны ядерного, а, наоборот, в том, что телевидение находится на парной орбите с цепной реакцией — оно двойник ядерного. Впрочем, в самом конце фильма — и здесь фильм безжалостен к собственной аргументации, — когда Джейн Фонда заставляет взорваться истину в прямом эфире (максимальный эффект Уотергейта), её изображение сливается с тем, которое расположено рядом и неизбежно затмевает её на экране: со случайным рекламным роликом. Эффект Телесети существенно превосходит эффект Уотергейта и загадочно растворяется в эффекте Гаррисберга, то есть не в ядерной угрозе, а в симуляции ядерной катастрофы.
Итак, эффективна именно симуляция, а отнюдь не реальное. Симуляция ядерной катастрофы является стратегической движущей силой этой обезличенной и универсальной кампании по апотропии: выдрессировать людей в духе идеологии и дисциплины абсолютной безопасности — выдрессировать их в духе метафизики расщепления и трещины. Для этого необходимо, чтобы трещина была фикцией. Реальная катастрофа задержала бы развитие событий, она была бы ретроградным инцидентом эксплозивного типа (ничего не меняя в порядке вещей, разве Хиросима хоть как-то задержала, предотвратила универсальный процесс апотропии?).
Реальный ядерный синтез был бы плохим аргументом и в фильме: он опустился бы до уровня фильма-катастрофы — слабого по определению, ведь всё свелось бы к простому происшествию. «Китайский синдром» как таковой берёт свою силу в фильтрации катастрофы, в перегонке ядерной идеи фикс через вездесущие телеретрансляторы информации. Он учит нас (опять-таки невольно), что ядерная катастрофа не имеет места, не предназначена, чтобы произойти в реальности, так же как атомное столкновение на заре холодной войны. Равновесие страха основывается на вечном ожидании ядерного столкновения. Атом и ядерное предназначены для распространения апотропии, мощь катастрофы вместо бесполезного взрыва должна рассеяться гомеопатическими, молекулярными дозами в бесконечных сетях информации. Именно в этом истинное заражение — оно не биологическое или радиоактивное, оно в ментальной деструктуризации посредством психологической стратегии катастрофы.
Если хорошо присмотреться, то фильм нас к этому подводит и даже идёт дальше, преподнося нам урок, диаметрально противоположный уроку Уотергейта: если вся стратегия сегодня заключается в психологическом терроре и в апотропии, которые связаны с тревожным ожиданием и вечной симуляцией катастрофы, тогда единственным способом как-то исправить этот сценарий было бы заставить катастрофу произойти, произвести или воспроизвести реальную катастрофу. Ведь именно это время от времени удаётся Природе: в минуты своего вдохновения Бог посредством катаклизмов разрушает равновесие страха, в которое погружено человечество. В плане, более близком к нам, именно этим и занят терроризм, противопоставляя реальное, ощутимое насилие незримому насилию безопасности. Впрочем, именно в этом его неоднозначность.
«Апокалипсис сегодня»
Коппола снимает свой фильм так, как американцы вели войну, в этом смысле «Апокалипсис сегодня» лучшее из возможных свидетельств — с такой же чрезмерностью, с такой же избыточностью средств, с такой же ужасной откровенностью… и с таким же успехом. Война как трип, война как технологическая и психоделическая фантазия, война как череда спецэффектов, война, ставшая кинофильмом прежде, чем он был снят. Война исчезает в технологическом тесте, и для американцев она является в первую очередь именно этим: полигоном, гигантской площадкой для тестирования своего вооружения, своих методов, своей мощи.
Коппола занимается тем же: он тестирует интервенционную мощь кинематографа, тестирует влияние кинематографа, который стал раздутым сверх меры аппаратом спецэффектов. В этом смысле его фильм является как бы продолжением войны другими средствами, завершением этой незавершённой войны, её апофеозом. Война стала фильмом, фильм стал войной, и то и другое соединилось в своём общем кровосмешении с технологией.
Настоящую войну ведёт Коппола, который подобен в этом Вестморленду{97} (за исключением гениальной иронии с филиппинскими лесами и деревнями, залитыми напалмом для изображения южновьетнамского ада); кино впитывает в себя всё, и всё начинается снова: ликование Молоха от процесса съёмки, жертвенная радость от такого количества потраченных миллиардов, от такого холокоста средств, от такого количества перипетий и очевидной паранойи. Изначально этот фильм был задуман как глобальное, историческое событие, в котором, по замыслу автора, война во Вьетнаме должна была предстать лишь тем, чем она и являлась, — в сущности не существовавшей, и мы должны поверить в то, что война во Вьетнаме «сама по себе», возможно, действительно никогда не имела места, это фантазия, причудливая фантазия о напалме и тропиках, психотропный бред, целью которого было не достижение победы или какой-то политической цели, а скорее жертвенное и чрезмерное развёртывание мощи, которая уже фиксировала себя на плёнку, не ожидая, возможно, ничего другого, кроме освящения себя суперфильмом, который довершит массовый зрелищный эффект этой войны.
Никакой реальной дистанции, никакого критического осмысления, никакого «осознания» войны, и в этом грубое качество этого фильма, не повреждённого морально-психологической атмосферой войны. Коппола, конечно, имеет право вырядить командира вертолёта в шляпу лёгкой кавалерии и заставить его уничтожать вьетнамскую деревню под музыку Вагнера, но это не критические, тусклые знаки, они погружены в машинерию, они — часть спецэффектов, и он сам снимает кино таким же образом, с такой же ретроспективной манией величия, с такой же незначащей яростью, с таким же перегруженным шутовским эффектом. Но результат лишь вызывает недоумение, и задаёшься вопросом: как возможен такой ужас (не ужас войны, ужас от фильма, строго говоря)? Но нет ответа, нет даже возможного решения, и можно даже порадоваться этой ужасной шутке (точно как шутке с Вагнером), однако можно всё же обнаружить одну совсем незначительную идею, не такую уж и плохую, которая не является оценочным суждением, но которая подсказывает нам, что война во Вьетнаме и этот фильм сделаны из одного теста, что их ничто не разделяет, что этот фильм является частью войны, и если американцы проиграли (якобы) ту войну, они, безусловно, выиграли эту. «Апокалипсис сегодня» — это победа в мировом масштабе. Кинематографическая мощь равна или даже превышает мощь промышленных и военных комплексов, равна или даже превышает мощь Пентагона и всего правительства.
И вдруг выясняется, что фильм небезынтересен: он ретроспективно освещает то (даже не ретроспективно, потому что фильм — одна из фаз этой войны без развязки), что в этой войне уже было от трипового, от иррационального в политическом плане: американцы и вьетнамцы уже примирились; сразу после окончания военных действий американцы уже предлагали им свою экономическую помощь; они уничтожали джунгли и города точно так же, как сегодня они снимают своё кино. Нельзя ничего понять ни в войне, ни в кино (по крайней мере, в последнем), если не заметить не только эту неразличимость между идеологией и этикой, между добром и злом, но и ту реверсивность между разрушением и созиданием, имманентность всего этого в самой его обратимости, органический метаболизм всех технологий — от ковровых бомбардировок до киносъёмок…
Эффект Бобура: имплозия и апотропия
Бобур{98} — эффект, Бобур — махина, Бобур — что-то с чем-то? Как всё-таки назвать его? Тайна этой конструкции из потоков и знаков, из сетей и схем — последняя робкая попытка найти выражение для структуры, которая больше не имеет собственного названия, структуры общественных отношений, отданных во власть внешнего распределения (организация коллективного досуга, самоуправление, информация, медиа) и необратимой глубинной имплозии. Памятник массовой игры симуляции, Центр Помпиду функционирует как мусоросжигатель, который вбирает в себя всю культурную энергию и пожирает её — примерно так, как это делает чёрный монолит из фильма «Космическая одиссея»: лишённая смысла конвекция любого контента, который материализуется здесь, поглощается и аннигилирует.
Всё, что есть в окрестностях Бобура, не что иное, как защитная зона — чистка фасадов, обрезка деревьев, дезинфекция, снобистский гигиенический дизайн, — но главным образом в ментальном плане: он — машина для производства пустоты. Что-то вроде атомных электростанций: реальная опасность, которую они представляют, состоит не в угрозе взрыва и загрязнения окружающей среды, а в системе максимальной безопасности, которую они излучают во всех направлениях, в защитной зоне контроля и апотропии, которая постепенно распространяется на всю территорию, в технологическом, экологическом, экономическом, геополитическом гласисе{99}. Вот что важно в ядерном: атомная электроцентраль — это та матрица, где производится модель абсолютной безопасности, которая распространяется на всю социальную сферу и которая, по сути, является моделью апотропии (это та самая модель, которая управляет нами в мировом масштабе под знаком мирного сосуществования и симуляции ядерной угрозы).
Такая же модель, с соблюдением всех пропорций, производится в этом Центре: культурное расщепление, политическая апотропия.
Но при этом циркуляция потоков здесь неравномерна. Вентиляция, охлаждение, электропроводка — «традиционные» потоки циркулируют здесь очень хорошо. Но уже с циркуляцией человеческого потока не всё так гладко (архаичное решение эскалаторов в пластиковых рукавах, тогда как люди должны были бы как-то всасываться и выталкиваться, с тем чтобы эта подвижность отвечала причудливой театральности труб и балок, придающей конструкции оригинальность). Что касается материала — картин, скульптур, книг, — а также так называемого «поливалентного»{100} внутреннего пространства, так здесь движение вообще отсутствует. Чем глубже мы проникаем внутрь, тем меньше циркуляция. В противоположность аэропорту Руасси, где после футуристического центра с «космическим» дизайном, от которого расходятся «сателлиты» и т. д., вы совершенно банальным образом оказываетесь перед… обычными самолётами. Но непоследовательность такая же. (А как насчёт денег — ещё одного потока, что происходит с его способом циркуляции, эмульсии, его осаждением в Бобуре?)
То же противоречие и в поведении персонала, прикреплённого к «поливалентному» пространству и лишённого личного пространства для работы. Когда они в движении, то выглядят солидно, стильно, всё их поведение очень функционально, полностью приспособлено к «структуре» «современного» пространства. Когда они сидят в своём углу, который, собственно, таковым и не является, они всячески пытаются укрыться искусственным одиночеством, восстановить свой «колпак». И в этом тоже даёт о себе знать вездесущая тактика апотропии: людей обрекают на то, чтобы они тратили всю свою энергию на эту индивидуальную оборону. Любопытно, что при этом мы снова встречаем то же противоречие, присущее всему Бобуру: мобильный, коммуникативный экстерьер, стильный и модерновый, и интерьер, судорожно цепляющийся за старые ценности.
Это пространство апотропии, организованное исходя из идеологии обозримости, транспарентности, поливалентности, консенсуса и контакта, санкционированное шантажом безопасности, является сегодня фактически пространством всех общественных отношений. Здесь присутствует весь социальный дискурс, и в этом плане, как и в плане подхода к культуре, Бобур в полном противоречии с провозглашёнными целями — это гениальный памятник нашей современности. Приятно осознавать, что идея Центра рождена не революционным духом, а логикой установленного порядка, лишённой всякого критического духа, а значит, более близкой к истине, способной в своём упорстве создать машину, по сути, не подвластную контролю, которая ускользает от неё в самом своём успехе и которая является наиболее точным отражением, вплоть до мельчайших противоречий, современного положения вещей.
Конечно, всё культурное содержание Бобура анахронично, потому что этой архитектурной оболочке могла соответствовать лишь внутренняя пустота. Общее впечатление такое, что всё здесь в необратимой коме, что всё пытается быть живым, а является лишь реанимированным, и это действительно так, ибо культура мертва, и Бобур это прекрасно отражает, но как нечто постыдное, тогда как следовало бы принять эту смерть и торжественно возвести памятник или антипамятник, эквивалентный фаллической пустоте Эйфелевой башни в своё время. Памятник тотальному разъединению, гиперреальности и имплозии культуры — доступной сегодня нам на самом деле лишь благодаря полупроводниковым схемам, которые постоянно подстерегает страшное короткое замыкание.
На самом деле Бобур — это компрессия а-ля Сезар{101}, символ культуры, раздавленной своим собственным весом, будто движущиеся автомобили, внезапно застывшие как геометрическое тело. Эдакие «развалюхи» Сезара, уцелевшие после идеальной автокатастрофы, но не внешней, а внутренней относительно их металлической и механической структуры, катастрофы, которая должна была превратить их в тонны металлолома с хаосом из труб, рычагов, рам, железа и человеческой плоти внутри, с учётом геометрических размеров, рассчитанных на наименьшее возможное пространство. Вот так и культура Бобура искорёжена, скручена, иссечена и сжата в её наименьшие простые элементы — пучок бесполезных трансмиссий, метаболизм умершего, застывший, как механоид из научной фантастики.
И, вместо того чтобы деформировать и спрессовать всю культуру здесь, в этой конструкции, которая в любом случае выглядит как компрессия, вместо этого в Бобуре выставляют Сезара. В нём выставляют Дюбюффе{102} и контркультуру, обратная симуляция которой выступает референтом несуществующей культуры. В этой конструкции, которая могла бы служить мавзолеем для бесполезной операциональности знаков, под лозунгом вечности культуры снова выставляют эфемерные и саморазрушительные машины Тэнгли{103}. Таким образом достигают общего равновесия: Тэнгли превращается в забальзамированный музейный экспонат, Бобур наполняется кажущимся художественным содержанием.
К счастью, весь этот симулякр культурных ценностей заранее аннулирован внешней архитектурой.[11] Ведь эта архитектура с её сетями трубопроводов, отчего здание напоминает павильон для проведения выставок или международных ярмарок, с её (рассчитанной?) хрупкостью, противоречащей любой традиционной ментальности или монументальности, открыто провозглашает, что наше время уже никогда не будет определяться протяжённостью, что наша единственная темпоральность — это темпоральность ускоренного цикла и рециркуляции, темпоральность циркуляции и транзита потоков. Наша единственная культура, в сущности, это культура углеводородов, культура очистки, крекинга, расщепления культурных молекул и их повторного соединения в синтетических продуктах. Бобур-музей стремится это скрыть, а Бобур-конструкция заявляет об этом в полный голос. И именно в этом кроется глубинная причина красоты конструкции и посредственности внутреннего пространства. В любом случае сама идеология «культурного производства» является антитезой всей культуре, точно так же как идеология обозримости и поливалентного пространства: культура — это место таинства, соблазна, инициации, символического обмена, ограниченное по размеру и в высшей степени ритуализированное. И здесь ничего не попишешь. Тем хуже для масс, тем хуже для Бобура.
Так что же надо было разместить в Бобуре? Ничего. Пустоту, которая означала бы исчезновение любой культуры смысла и эстетического чувства. Однако это выглядело бы всё ещё слишком романтичным и волнительным, и подобная пустота всё ещё представляла бы определённую ценность, как шедевр антикультуры.
Или, может быть, стоило установить там гиро- и стробоскопы, вращающиеся лучи которых рассекали бы пространство, основным движущимся элементом которого была бы человеческая толпа?
На самом деле Бобур прекрасно иллюстрирует тот факт, что один порядок симулякров удерживается лишь благодаря алиби предыдущего порядка. В нашем случае конструкция с вывернутыми наружу трубопроводами и арматурой выдаёт себя за вместилище традиционной культуры, простирающейся вглубь. Порядок предыдущих симулякров (порядок смысла) производит пустую субстанцию следующего порядка, который уже даже не подозревает о различении между означающим и означаемым, между формой и содержанием.
Поэтому вопрос «Что надо было разместить в Бобуре?» абсурден. На него нельзя ответить, потому что топическое различение между внутренним и внешним больше не устанавливается. Именно в этом заключается наша истина, истина ленты Мёбиуса — безусловно, несбыточная утопия, но к которой Бобур всё же приближается, поскольку всё его содержание заключается в контрсмысле и заранее аннигилируется содержащим.
Но, однако, всё же… если что-то должно было быть в Бобуре — так это нечто похожее на лабиринт, библиотеку бесконечных комбинаций, случайное перераспределение предопределения через игру или лотерею — словом, вселенная Борхеса, его «Кругов руин»: разрастающаяся цепь субъектов, пригрезившихся друг другу (не сказочный Диснейленд, а лаборатория практической фантастики). Экспериментирование со всеми процессами, отличными от репрезентации: дифракцией, имплозией, демультипликацией, случайными сцеплениями и расцеплениями — почти так, как в Эксплораториуме{104} в Сан-Франциско или как в романах Филиппа Дика, — словом, культуру симуляции и фасцинации, а уже не сотворения и смысла — вот что можно было бы предложить из того, что не принадлежит к убогой антикультуре. Возможно ли это? Но явно не здесь. Всё же эта культура создаётся в другом месте — везде и нигде. Сегодняшней единственно подлинной культурной практикой, практикой масс, нашей практикой (различие преодолено), является манипулятивная, алеаторная практика лабиринта знаков, которые более не имеют смысла.
Однако, с другой стороны, было бы неправильно утверждать, что в Бобуре существует противоречие между формой и содержанием. Это было бы верно, если бы мы могли хоть немного положиться на официальную версию культурного проекта. Но здесь всё происходит с точностью до наоборот. Бобур — это лишь огромная работа по трансмутации этой знаменитой традиционной культуры смысла в случайный порядок знаков, в порядок симулякров (третий), который вполне согласуется с этими вывернутыми наружу балками и трубопроводами фасада. И именно для того, чтобы подготовить массы к этому новому семиургическому{105} порядку, их призывают сюда — под противоположным предлогом приобщения к культуре смысла, простирающейся вглубь.
Поэтому следует исходить именно из этой аксиомы: Бобур — это памятник культурной апотропии. За кулисами музейного сценария, который служит лишь для сохранения фикции гуманистической культуры, производится настоящая работа по омертвлению культуры, и именно для оплакивания культуры радостно приглашаются массы. И они ринулись туда. Именно в этом кроется наивысшая ирония Бобура: массы ринулись туда не потому, что они жаждут культуры, которой они были якобы лишены на протяжении веков, а потому, что у них впервые появилась возможность принять массовое участие в этом грандиозном оплакивании культуры, которую они в глубине души всегда ненавидели.
Когда Бобур разоблачают как культурно-массовую мистификацию, это полное недоразумение. Массы устремляются туда, чтобы насладиться этой казнью, этим четвертованием, этим операциональным проституированием культуры, которая наконец действительно ликвидирована, включая контркультуру, являющуюся лишь её апофеозом. Массы спешат в Бобур так же, как они спешат к месту катастрофы, в таком же непреодолимом порыве. Мало того, они и есть катастрофа Бобура. Их количество, их топот, их увлечение, их желание всё увидеть и всё пощупать объективно является поведением смертельным и катастрофическим для любого начинания. Не только их масса является угрозой для здания, а и их вовлечённость, их любопытство аннигилируют само содержание этой же культуры коллективного досуга. Этот массовый наплыв уже не имеет ничего общего с тем, что предлагалось в качестве культурной цели, это её радикальное отрицание, во всей её избыточности и успешности. Таким образом, именно массы выполняют функцию катастрофического агента в этой структуре катастрофы, и сами же массы кладут конец массовой культуре.
Циркулируя в пространстве транспарентности, массы, конечно, сами превращаются в поток, но вместе с тем их мутность и инертность влекут за собой гибель «поливалентного» пространства. Их приглашают принять участие, посимулировать, поиграть с моделями — они же идут дальше: участвуют и манипулируют настолько удачно, что стирают любой смысл, который организаторы хотели придать действу, и создают угрозу самой инфраструктуре здания. Вот так своего рода пародия, гиперсимулирование в ответ на культурную симуляцию, превращает массы, которые должны были быть лишь живым инвентарём культуры, в исполнительный механизм для умерщвления той культуры, лишь позорным воплощением которой является Бобур.
Надо аплодировать этому успеху культурной апотропии. Все антихудожники, леваки и хулители культуры никогда не приближались к апотропической эффективности этой монументальной чёрной дыры, которой является Бобур. Это поистине революционная операция, и именно потому, что она непроизвольная, бессмысленная и неконтролируемая, тогда как любая сознательная операция, призванная покончить с культурой, ведёт, как известно, лишь к её возрождению.
Сказать по правде, единственным содержанием Бобура являются сами массы, которые здание перерабатывает как конвертер, как камера-обскура или, в терминах ввода-вывода, точно так, как нефтеперерабатывающий завод перерабатывает нефтепродукты или необработанный поток сырья. Ещё никогда не было так очевидно, что содержание — в данном случае культура, а в других — информация или предметы потребления — выступает лишь призрачной опорой действия самого медиума, функция которого всегда заключалась в том, чтобы индуцировать массу, создавать однородный человеческий и ментальный поток. Бесконечное возвратно-поступательное движение, подобное движению постоянных пользователей пригородным транспортом, которые в определённые часы поглощаются и выбрасываются обратно своим местом работы. И здесь тоже речь идёт о работе — тестирование, зондаж, направленный опрос: люди приходят, чтобы выбрать здесь предметы-ответы на все вопросы, которые они могут поставить себе, или скорее они сами приходят в ответ на функциональный и направленный вопрос, который представляют собой предметы. Поэтому больше, чем о рабочем процессе, речь здесь идёт о запрограммированной дисциплине, требования которой скрыты под налётом толерантности. В большей степени, чем традиционные институты капитала, гипермаркет, или «гипермаркет культуры», Бобур уже стал моделью любой будущей формы контролируемой социализации: скопление в одном гомогенном пространстве-времени всех разрозненных функций социального тела и жизни (работа, досуг, медиа, культура), переписывание всех противоречивых тенденций в терминах интегрированных торговых сетей, пространство-время целой операциональной симуляции социальной жизни.
Для этого необходимо, чтобы потребительская масса была эквивалентна или гомологична массе продуктов. Именно противоборство и слияние этих двух масс происходит в гипермаркете такого уровня, как Бобур, представляющем собой нечто совершенно отличное от традиционных культурных сооружений (монументальных музеев, галерей, библиотек, домов культуры и т. д.). Именно здесь вырабатывается та критическая масса, сверх которой товар становится гипертоваром, а культура — гиперкультурой, то есть связанной более не с различными обменами или определёнными потребностями, но с неким универсумом тотальной сигнальной системы, или интегральной схемой, по которой пробегает импульс от отрезка к отрезку, — непрерывный транзит возможностей выбора, прочтений, референций, брендов, расшифровок. Здесь культурные объекты, так же как в другом месте предметы потребления, не имеют иной цели, кроме как поддерживать вас в состоянии массовой интеграции, управляемого транзисторного потока, намагниченной частицы. Вот что являет нам гипермаркет — гиперреальность товара, и то же являет нам Бобур — гиперреальность культуры.
Уже в традиционном музее начинается это распределение, эта перегруппировка, эта интерференция{106} всех культур, эта безоговорочная эстетизация, которая составляет гиперреальность культуры, но музей — это всё ещё память. Ни в каком другом месте культура не потеряла в такой степени своей памяти в пользу накопления и функционального перераспределения, как в Бобуре. И это является выражением более общего факта: дело в том, что во всём «цивилизованном» мире создание запасов предметов обусловило дополнительный процесс образования человеческих запасов — очередей, простоев, «пробок», накопителей, лагерей. Вот что на самом деле является «массовым производством» — не производство в больших количествах или для потребления масс, а производство самих масс. Массы как конечный продукт любого социального и в то же время положившие конец социальному, ведь эти массы, относительно которых нас хотят заставить поверить, что они являются социальным, наоборот, являются местом имплозии социального. Массы становятся всё более плотной сферой, в которую направляется всё социальное, чтобы испытать имплозию и раствориться в непрерывном процессе симуляции.
Отсюда это вогнутое зеркало: именно наблюдая массы внутри, массы захотят ринуться туда же. Типичный для маркетинга ход: в нём находит своё обоснование вся идеология прозрачности. Или ещё: выставляя на сцену уменьшенную идеальную модель, надеются получить ускоренное притяжение, автоматическую агглютинацию{107} культуры, подобную автоматической агломерации масс. Тот же процесс: ядерное действие цепной реакции или зеркальное действие белой магии.
Таким образом, Бобур в масштабе культуры впервые является тем, чем гипермаркет является в масштабе товара: совершенным циркуляционным оператором, демонстрацией чего угодно (товара, культуры, толпы, сжатого воздуха) посредством собственной ускоренной циркуляции.
Но если запасы предметов обусловливают образование человеческих запасов, то латентное насилие в запасе предметов обусловливает обратное насилие в отношении людей.
Любой запас насильственный по своему характеру, и в любой массе людей также присутствует специфическое насилие, которое вытекает из факта её имплозии, — насилие, присущее её собственной гравитации, её уплотнению вокруг собственного центра инертности. Масса является центром инертности и, следовательно, центром совершенно нового, необъяснимого насилия, отличного от эксплозивного насилия, направленного вовне.
Критическая масса — имплозивная масса. После отметки 30 000 она угрожает «искорёжить» структуру Бобура. Массы, намагниченные структурой, становятся разрушительной переменной величиной самой структуры — если разработчики проекта стремились к этому (но как на такое надеяться?), если они запрограммировали возможность одним махом покончить и с архитектурой и с культурой, — тогда Бобур представляет собой самый дерзкий проект и самый успешный хеппенинг{108} века.
Заставьте Бобур искорёжиться! Новый революционный лозунг. Нет нужды ни поджигать его, ни протестовать против него. Идите к нему! Это лучший способ разрушить его. Успех Бобура больше не тайна: люди идут туда ради этого, они штурмуют это здание, хрупкость которого уже дышит катастрофой, с единственной целью — заставить его искорёжиться под тяжестью их веса.
Конечно, они подчиняются императиву апотропии: им дают объект для потребления, культуру для поглощения, сооружение для ощупывания. Но вместе с тем они отчётливо, хоть и не осознавая этого, нацелены на это разрушение. Нашествие — это единственный акт, на который массы способны как таковые, штурмующие массы, которые бросают вызов зданию массовой культуры, которые своим весом, то есть аспектом, более всего лишённым смысла, глупейшим и наинекультурнейшим, противостоят культурному вызову, брошенному Бобуром. На вызов массового привлечения к стерилизованной культуре массы отвечают разрушительным нашествием, которое находит своё продолжение в грубом ощупывании. На ментальную апотропию массы отвечают прямой физической апотропией. Вот их вызов.
И их коварство, которое заключается в том, что они дают ответ именно в тех терминах, в которых от них добиваются, но помимо этого на симуляцию, в которую их погружают, они отвечают полным энтузиазма социальным процессом, который выходит за пределы этой симуляции и действует как разрушительная гиперсимуляция.[12]
Люди полны желания всё забрать, всё опустошить, всё поглотить, всё ощупать руками. Наблюдение, расшифровка, познание — это их не устраивает. Единственная массовая страсть — это страсть ощупывать руками. Организаторы (и художники, и интеллектуалы) напуганы этими бесконтрольными поползновениями, ведь они рассчитывали лишь на то, что массы будут учиться, созерцая культуру. Они отнюдь не рассчитывали на это активное и деструктивное непреодолимое влечение, грубый и оригинальный ответ на дар непонятной культуры, увлечение, которое имеет все черты взлома и осквернения святилища.
Бобур мог бы или должен был исчезнуть на следующий день после открытия, разобранный и растащенный толпой, со стороны которой это было бы единственным возможным ответом на абсурдный вызов прозрачности и демократичности культуры, — каждый забрал бы фетишизированный кусочек этой культуры, которая сама уже стала фетишем.
Люди приходят, чтобы притронуться, они и смотрят так, будто касаются, и их взгляд — это лишь аспект тактильной манипуляции. Речь идёт о мире, который познаётся на ощупь, мире, который уже не является ни визуальным, ни дискурсивным, и люди непосредственно вовлечены в этот процесс: манипулировать/быть объектом манипуляции, распределять/быть объектом распределения, циркулировать/ быть объектом циркуляции, который уже не принадлежит ни к порядку репрезентации, ни к порядку дистанции, ни к порядку рефлексии. Это часть паники, перешедшей от панического мира.
Тихая паника, лишённая внешних причин. Внутреннее насилие перенасыщенной системы. Имплозия.
Бобур не может даже сгореть — всё предусмотрено. Пожар, взрыв, разрушение уже не выступают воображаемой альтернативой для постройки такого рода. Лишь имплозия — та форма, которая способна разрушить «четвёртый» мир, кибернетический и комбинаторный.
Ниспровержение, насильственное разрушение — это то, что соответствует режиму производства. Миру сетей, комбинаторики и потоков соответствуют реверсия и имплозия.
То же происходит и с институциями, государством, властью и т. д. Мечта узреть, как всё это взрывается вследствие противоречий, не более чем мечта. Что происходит в действительности — так это то, что институции испытывают имплозию сами по себе, вследствие разветвления, обратной связи, чрезмерно развитой системы контроля. Власть имплозирует — это и есть её нынешний способ исчезновения.
То же происходит и с городом. Пожары, войны, эпидемии, революции, маргинальная преступность, катастрофы — вся проблематика антигорода, негативизма города внутреннего или внешнего характера, содержит в себе нечто архаичное сравнительно с настоящим способом его уничтожения.
Даже сценарий подземного города — китайская версия захоронения структуры — выглядит наивным. Город уже не повторяется по схеме воспроизводства, ещё зависимой от общей схемы производства, или по схеме подобия (как восстанавливали города после Второй мировой войны), ещё зависимой от схемы репрезентации. Город уже не возрождается, даже уходя под землю, — он заново создаётся на основе чего-то подобного генетическому коду, который даёт возможность повторять его неограниченное количество раз на основе накопленной кибернетической памяти. Настал конец даже утопии Борхеса, утопии с картой, которая совпадает с территорией и полностью повторяет её: сегодня симулякр уже не проходит через этап копии и копирования, он создаётся генетической миниатюризацией. Конец репрезентации и опять же имплозия всего пространства в инфинитезимальной памяти{109}, которая ничего не забывает и никому не принадлежит. Симуляция необратимого, имманентного порядка, всё более плотного, потенциально насыщенного, который никогда больше не испытает освободительного взрыва.
Мы были культурой освободительного насилия (рациональности). Будь то культура капитала, высвобождение производительных сил, необратимое расширение сферы разума и сферы ценности, пространства, завоёванного и колонизированного, вплоть до космических пределов, будь то культура революции, которая предвосхищает будущие формы социального и энергии социального, схема остаётся той же: расширяющаяся сфера, проходящая медленные или бурные фазы, схема высвобожденной энергии — имажинерия излучения, распространения влияния.
Насилие, которое сопровождает её, это насилие расширяющегося мира, насилие производства. По своей природе оно диалектическое, энергетическое, катарсическое. Это то насилие, которое мы научились анализировать и которое знакомо нам: насилие, которое прокладывает пути социального и которое ведёт к насыщению всего поля социального. Это насилие детерминированное, аналитическое, высвобождающее.
Сегодня появляется совершенно иной тип насилия, который мы больше не можем проанализировать, поскольку он выпадает из традиционной схемы эксплозивного насилия: имплозивное насилие, которое является не результатом расширения системы, но её перенасыщения и сжатия, как это происходит в звёздных системах. Насилие, которое является результатом чрезмерного уплотнения социального, сверхрегулированной системы, чрезмерной перегруженности сети (знаниями, информацией, мощью) и гипертрофированного контроля, блокирующего все интерстициальные{110} нервные импульсы.
Мы не способны постичь это насилие, потому что вся наша имажинерия сфокусирована на логике расширяющихся систем. Оно не поддаётся расшифровке из-за своей недетерминированности. Возможно, оно даже не принадлежит и к схеме недетерминированности. Ведь алеаторные модели пришли на смену классическим моделям детерминации и каузальности и отличаются непринципиально. Они отражают переход от систем, определяющихся расширением, систем производства и распространения во всех направлениях — неважно, в виде звезды или ризомы{111}, — так или иначе все философские положения о высвобождении энергии, интенсивности излучения и молекуляризации желания движутся в том же направлении — в сторону насыщения интерстициальных и бесконечных сетей. Различие между глобальным и молекулярным кроется лишь в модуляции — возможно, последней в фундаментальном энергетическом процессе расширяющихся систем.
Другое дело, если мы переходим от старой фазы высвобождения и распространения энергии к фазе имплозии после своего рода максимального излучения (следует пересмотреть концепции потери и расхода Батая{112} в этом смысле, а также солнечный миф о неисчерпаемости излучения, на котором он основывает свою антропологию растраты: это последний эксплозивный миф нашей философии, по сути, последний фейерверк общей экономики, однако это уже не имеет для нас значения), к фазе реверсии социального — гигантской реверсии поля в момент достижения точки насыщения. Звёздные системы также не прекращают своё существование после рассеивания своей энергии излучения: они испытывают имплозию, процесс которой протекает сначала медленно, а затем постепенно ускоряется, — они сжимаются с невероятной скоростью и превращаются в инволютивные системы, поглощающие всю окружающую энергию, пока не становятся чёрными дырами, где мир, каким мы его знаем, то есть как излучение и неопределённый энергетический потенциал, перестаёт существовать.
Возможно, что крупные города — если эта гипотеза верна — превратились в этом смысле в очаги имплозии, места абсорбции и резорбции самого социального, золотой век которого, совпавший с двойным концептом капитала и революции, несомненно, остался в прошлом. Социальное медленно, а иногда резко инволюционирует в поле инертности, которое уже охватило политическое. (Противоположная энергия?) Следует воздерживаться от того, чтобы воспринимать имплозию как негативный, инертный и регрессивный процесс, к чему нас побуждает язык, противопоставляя эволюцию и революцию. Имплозия — специфический процесс с непредсказуемыми последствиями.
Май 68-го года{113} был, без сомнения, первым имплозивным эпизодом, то есть вопреки своей трактовке в терминах революционной просопопеи{114} первой бурной реакцией на насыщение социального, ретракцией, вызовом гегемонии социального вопреки идеологии самих участников, которые думали, что углубляются в социальное, — такова уж природа воображаемого, которое всё ещё доминирует над нами, а впрочем, значительная часть событий 68-го ещё смогла стать частью этой революционной динамики и взрывного насилия, но одновременно с этим тогда началось и другое: бурная инволюция социального в определённый момент и, как следствие, имплозия власти, внезапная и на коротком промежутке времени, которая, однако, с тех пор никогда не прекращалась, потому что происходит в глубине: имплозия социального, имплозия институций, имплозия власти, а вовсе не какая-то неуловимая революционная динамика. Напротив, сама революция, идея революции также испытывает имплозию, и эта имплозия способна вызвать наиболее тяжёлые последствия, чем сама революция.
Конечно, после 68-го года и благодаря 68-му социальное, подобно пустыне, разрастается — участие в управлении, управление, общее самоуправление и т. д., — но вместе с тем становится ближе, гораздо ближе, чем в 68-м, к своей неудовлетворённости и своей полной реверсии. Еле различимые подземные толчки, воспринимаемые только историческим разумом.
Гипермаркет и гипертовар
Повсюду в окрестности тридцати километров стрелки будут направлять вас к этим крупным сортировочным центрам, которыми являются гипермаркеты, к этому гиперпространству товара, где производится во многих отношениях новая социальность. Стоит посмотреть, как гипермаркет централизует и перераспределяет целый район вместе с его населением, как он концентрирует и рационализирует расписание дня, маршруты движения, поведение людей, создавая бесконечное возвратно-поступательное движение, подобное движению постоянных пользователей пригородным транспортом, которые в определённые часы поглощаются и выбрасываются обратно своим местом работы.
По сути, речь здесь идёт о совсем другом виде работы — о работе, построенной на аккультурации, конфронтации, экспертизе, социальной кодификации и общественном вердикте: люди приходят, чтобы выбрать здесь предметы-ответы на все вопросы, которые они могут поставить себе, или скорее они сами приходят в ответ на функциональный и направленный опрос, который представляют собой предметы. Предметы перестают быть товаром; они уже даже не знаки, смысл и месседж которых можно было бы расшифровать и усвоить, они — тесты, это они спрашивают нас, а мы должны им отвечать, и ответ уже содержится в вопросе. Подобным образом функционируют все сообщения СМИ: ни информации, ни коммуникации, лишь референдум, бесконечный тест, циркулярная реакция, проверка кода.
Нет ни рельефа, ни перспективы, ни линии схождения, где мог бы затеряться взгляд, лишь всеобъемлющий экран, на котором рекламные щиты и сами продукты выступают в своей непрерывной экспозиции как эквивалентные знаки, последовательно сменяющие друг друга. Присутствует только персонал, который занимается исключительно тем, что восстанавливает авансцену — первые ряды выставленных товаров там, где изъятие их потребителями могло создать небольшую брешь. Самообслуживание ещё больше подчёркивает это отсутствие глубины: одно и то же однородное пространство объединяет, без посредничества, людей с вещами — пространство непосредственной манипуляции. Но кто манипулирует кем?
Даже репрессия интегрируется как знак в этом мире симуляции. Репрессия, которая превратилась в разубеждение, становится лишь ещё одним знаком в мире убеждения. Системы камер наблюдения сами являются частью антуража симулякров. Полное наблюдение за всеми точками потребовало бы более сложного и технически совершенного оборудования, чем сам магазин. Это было бы нерентабельно. Зато введена аллюзия на репрессию, внедрён механизм для «подачи знака» этого порядка; и этот знак может сосуществовать со всеми другими, даже с императивом противоположного содержания, например с таким, какой выражают гигантские рекламные щиты, приглашающие вас расслабиться и в полном спокойствии выбирать товар. В действительности же эти билборды преследуют вас и надзирают за вами в той же степени, как и «телеполицай». Они смотрят на вас, вы смотрите на себя в них, в толпе среди других людей, это зеркало потребительской активности, прозрачное зеркало без амальгамы, игра с разделением пополам и удвоением, которая замыкает этот мир на самом себе.
Гипермаркет неотделим от шоссе, которые окружают и питают его, от стоянок, усыпанных автомобилями, от компьютерных терминалов и далее — в виде концентрических кругов — всего города, который выступает как тотальный функциональный экран, на котором демонстрируют все виды деятельности. Гипермаркет похож на большой монтажный завод, за единственным исключением: вместо того чтобы объединяться в производственную линию под действием постоянного рационального закона, агенты (или пациенты), подвижные и децентрализованные, переходят из одной точки линии к другой, как представляется, по алеаторной схеме. График, выбор, покупка также алеаторные, в отличие от поведения на рабочем месте. Но речь идёт всё же о производственной линии, о запрограммированной дисциплине, требования которой скрыты под налётом толерантности, удобства и гиперреальности. В большей степени, чем завод и традиционные институты капитала, гипермаркет уже стал моделью любой будущей формы контролируемой социализации: скопление в одном гомогенном пространстве-времени всех разрозненных функций социального тела и жизни (работа, досуг, питание, средства гигиены, транспорт, медиа, культура), переписывание всех противоречивых тенденций в терминах интегрированных торговых сетей, пространство-время целой операциональной симуляции социальной жизни, всей жилой и транспортной структуры.
Модель управляемой антиципации, гипермаркет (особенно в Соединённых Штатах) предшествует агломерации; он, собственно, и обуславливает агломерацию, тогда как традиционный рынок [маркет] размещался в центре поселения и был местом, где город и село встречались для общения и ведения дел. Гипермаркет — выражение целого образа жизни, из которого исчезло не только село, но и город, уступив место «агломерации» — чётко функционально обозначенному урбанистическому зонированию, — эквивалентом, микромоделью которой он является в плане потребления. Но роль гипермаркета выходит далеко за рамки «потребления», и предметы теряют в нём свою специфическую реальность. Что имеет значение — так это их серийная, циркулирующая, спектакулярная внутренняя организация — будущая модель социальных взаимоотношений.
«Модель» гипермаркета может, таким образом, помочь в понимании того, что подразумевается под концом модерности. Крупные города были свидетелями возникновения в течение приблизительно столетия (1850–1950), поколения «современных» универсамов (многие из них так или иначе имели в названии слово «модерн»), но эта коренная модернизация, связанная с модернизацией транспорта, не нарушала структуру города. Города оставались городами, тогда как новые города превращаются в сателлиты гипермаркета или торгового центра, которые обслуживаются запрограммированной транспортной сетью и перестают быть городами, чтобы стать агломерациями. Появился новый морфогенез, который принадлежит к кибернетическому типу (то есть воспроизводящий на уровне территории, жилой зоны, зоны движения сценарии молекулярного управления, вытекающие из генетического кода) и по своей форме является ядерным и сателлитным. Гипермаркет выступает в качестве ядра. Город, даже современный, уже не поглощает его. Именно гипермаркет определяет ту орбиту, по которой движется агломерация. Он служит имплантатом для выполнения новых функций, как это иногда бывает ещё с университетом или заводом, но не с заводом XIX века или заводом, вынесенным из центра, который, не нарушая орбиту города, размещается в пригороде, а со сборочным автоматизированным заводом, с электронным управлением, то есть с заводом, полностью соответствующим детерриториализированному производственному процессу. В случае с этим заводом, так же как с гипермаркетом или новым университетом, мы больше не имеем дела с функциями (торговлей, работой, получением знаний, досугом), которые автономизируются и перемещаются в другое место (что характерно ещё для «современного» развёртывания города), но с моделью дезинтеграции функций, индетерминации функций и дезинтеграцией самого города, который переносится за пределы города и представляется как гиперреальная модель, как ядро синтезированной агломерации, которая уже не имеет ничего общего с городом. Эта негативная сателлитизация города обозначает его конец, даже города современного, как детерминированного, выраженного в качественной форме пространства, как оригинального синтеза общества.
Можно было бы считать, что эта имплантация отвечает рационализации разных функций. Но на самом деле с того момента, когда функция гиперспециализируется в такой степени, что её можно спроектировать на местности с нуля и сдать сразу «под ключ», она теряет свою собственную целесообразность и становится чем-то другим: полифункциональным ядром, совокупностью «чёрных ящиков» со сложной системой ввода-вывода, средоточием конвекции{115} и деструктурации{116}. Эти заводы и эти университеты больше не являются ни заводами, ни университетами, и гипермаркеты уже не имеют ничего общего с рынком. Они чужеродные новые объекты (совершенной моделью которых, несомненно, является атомная электростанция), которые излучают своего рода нейтрализацию территории, мощь апотропии, которая, скрываясь за внешней функцией этих объектов, безусловно, является их фундаментальной функцией: гиперреальность функциональных ядер, которые больше не являются таковыми. Эти новые объекты являются полюсами симуляции, вокруг которых производится, в отличие от прежних станций, заводов или традиционных транспортных сетей, нечто иное, чем «модерность»: гиперреальность, одновременность всех функций, без прошлого и без будущего, операциональность, направленная во все стороны. А также, несомненно, кризис или даже новые катастрофы: события мая 68-го года начинаются в Нантере, а не в Сорбонне, то есть в том месте, где впервые во Франции гиперфункционализация центра получения знаний «за городскими стенами», детерриториализация, способствовала потере интереса, потере функциональности и целесообразности этих знаний в программируемом неофункциональном целом. Именно здесь взяло своё начало новое оригинальное насилие, ставшее ответом на орбитальную сателлитизацию модели (знания, культуры), чей референт утрачен.
Имплозия смысла в средствах информации
Мы находимся в мире, в котором становится всё больше и больше информации и всё меньше и меньше смысла. В связи с этим возможны три гипотезы.
• Либо информация продуцирует смысл (негэнтропийный{117} фактор), но оказывается неспособной компенсировать резкую потерю смысла во всех областях. Попытки повторно его инъецировать через возрастающую интенсивность и число медиа, месседжей и контентов оказываются тщетными: потеря, поглощение смысла происходит быстрее, чем его повторная инъекция. В этом случае следует обратиться к производственному базису, чтобы заменить терпящие неудачу медиа. То есть к целой идеологии свободы слова, средств информации, разделённых на бесчисленные отдельные единицы вещания, или к идеологии «антимедиа» (радиопираты и т. д.).
• Либо информация вообще ничего общего не имеет с сигнификацией{118}. Это нечто совершенно иное, операциональная модель другого порядка, не относящаяся, строго говоря, к смыслу и его циркуляции. Такова, в частности, гипотеза К. Шеннона{119}: сфера информации — сугубо инструментальная, техническая среда, которая не включает в себя никакого конечного смысла и поэтому также не должна участвовать в оценочном суждении. Это разновидность кода, такого как генетический: он является тем, что он есть, он функционирует так, как функционирует, а смысл — это что-то иное, что появляется, так сказать, постфактум, как у Моно{120} в работе «Случайность и необходимость». В этом случае просто не было бы никакой существенной взаимосвязи между инфляцией информации и дефляцией смысла.
• Либо, напротив, между этими двумя явлениями существует строгая и безусловная корреляция в той мере, в какой информация непосредственно разрушает или нейтрализует смысл и сигнификацию. Тем самым оказывается, что потеря смысла напрямую связана с разлагающим, разубеждающим действием информации, медиа и массмедиа.
Это наиболее интересная гипотеза, однако она идёт вразрез с общепринятым мнением. Социализацию повсеместно измеряют через восприимчивость к сообщениям СМИ. Десоциализированным, а фактически асоциальным является тот, кто недостаточно восприимчив к медиа. Информация везде, как полагают, способствует ускоренному обращению смысла и создаёт прибавочную стоимость смысла, аналогичную той, которая имеет место в экономике и получается в результате ускоренного обращения капитала. Информацию рассматривают как создательницу коммуникации, и, несмотря даже на огромные непроизводственные затраты, существует общий консенсус относительно того, что мы имеем дело всё же с избытком смысла, который перераспределяется во всех промежутках социального — точно так же, как существует консенсус относительно того, что материальное производство, несмотря на свою дисфункциональность и иррациональность, всё же ведёт к росту благосостояния и социальной гармонии. Мы все причастны к этому устойчивому мифу. Это альфа и омега нашей современности, без которых рухнул бы авторитет нашей социальной организации. И, однако, факт состоит в том, что он таки рушится, причём именно по этой самой причине: там, где, как мы полагаем, информация производит смысл, происходит обратное.
Информация пожирает свой собственный контент. Она пожирает коммуникацию и социальное. И это происходит по двум причинам.
1. Вместо того чтобы быть верхом коммуникации, информация исчерпывает свои силы в инсценировке коммуникации. Вместо того чтобы производить смысл, она исчерпывает свои силы в инсценировке смысла. Перед нами очень знакомый гигантский процесс симуляции. Ненаправленные интервью, телефонные звонки аудитории, всевозможная интерактивность, словесный шантаж: «Это касается вас, событие — это вы и т. д.». Во всё большее количество информации вторгается этот вид призрачного контента, этого гомеопатического прививания, эта мечта пробудить коммуникацию. Круговая схема, в которой на сцене разыгрывают то, чего желает аудитория, антитеатр коммуникации, который, как известно, всегда является лишь повторным использованием через отрицание традиционного института, интегрированной отрицательной схемой. Огромная энергия, направленная на удержание симулякра на расстоянии, чтобы избежать внезапной десимуляции, которая поставила бы нас перед очевидной реальностью радикальной потери смысла.
Бесполезно выяснять, потеря ли коммуникации ведёт к этой эскалации в пределах симулякра или это симулякр, который первым появляется здесь с целью апотропии, с целью заранее воспрепятствовать любой возможности коммуникации (прецессия модели, которая кладёт конец реальному). Бесполезно выяснять, что первоначально — ни то и ни другое, потому что это циклический процесс — процесс симуляции, процесс гиперреального. Гиперреальность коммуникации и смысла. Более реальное, чем само реальное, — вот так реальное и упраздняется.
Таким образом, не только коммуникация, но и социальное функционирует в замкнутом цикле в качестве обманки, к которой приложена сила мифа. Доверие, вера в информацию присоединяется к этому тавтологическому доказательству, которое система предоставляет о самой себе, дублируя в знаках отсутствующую реальность.
Однако можно предположить, что эта вера столь же неоднозначна, как и вера, сопровождающая мифы в архаичных обществах. В это верят и не верят. Никто не терзается сомнениями: «Я знаю точно, но вопреки всему…» Этот вид обратной симуляции возникает в массах, в каждом из нас в ответ на симуляцию смысла и коммуникации, в которой нас замыкает эта система. В ответ на тавтологичность системы возникает амбивалентность масс, в ответ на апотропию — потеря интереса или до сих пор загадочное верование. Миф продолжает существовать, однако не стоит думать, что люди верят в него: именно в этом кроется ловушка для критической мысли, которая может работать, лишь исходя из предположения о наивности и глупости масс.
2. За этой инсценировкой интенсификации коммуникации, массмедиа, информации усиленными темпами продолжается непреодолимая деструктуризация социального.
Тем самым информация разлагает смысл, разлагает социальное, превращает их в некую туманность, обречённую вовсе не на прирост нового, а, наоборот, на тотальную энтропию.[13]
Таким образом, медиа — это исполнительные механизмы не социализации, а как раз наоборот — имплозии социального в массах. И это лишь макроскопическое расширение имплозии смысла на микроскопическом уровне знака. Эту имплозию следует проанализировать, исходя из формулы Маклюэна: «medium is message», возможные выводы из которой ещё далеко не исчерпаны.
Она означает, что всё смысловое содержание поглощается единственной доминирующей формой медиума. Один лишь медиум является событием — безотносительно содержания, конформистского или субверсивного. Серьёзная проблема для любой контринформации, радиопиратов, антимедиа и т. д. Однако существует ещё более серьёзная проблема, которую сам Маклюэн не обнаружил. Ведь за пределами этой нейтрализации всякого контента можно было бы надеяться на то, что медиум ещё будет функционировать в своей форме и что реальное можно будет трансформировать под влиянием медиума как формы. Если весь контент будет упразднён, останется, возможно, ещё революционная и субверсивная ценность использования медиума как такового. Однако — и это то, к чему в своём предельном значении ведёт формула Маклюэна, — происходит не только лишь имплозия месседжа в медиуме, но в том же самом движении происходит и имплозия самого медиума в реальном, имплозия медиума и реального в некий род гиперреальной туманности, в которой дефиниция и собственное действие медиума больше не идентифицируются.
Даже «традиционный» статус самих медиа, что характерно для современности, поставлен под сомнение. Формула Маклюэна: «medium is message», являющаяся ключевой формулой эры симуляции (медиум является сообщением — отправитель является адресатом, эмиттер является рецептором — замкнутость всех полюсов — конец перспективного и паноптического пространства — таковы альфа и омега нашей современности), и сама эта формула должна рассматриваться в своём предельном выражении, то есть: после того как все контенты и месседжи испарятся в медиуме, сам медиум исчезнет как таковой. В сущности, это ещё благодаря месседжу медиум приобретает признаки существования, это сообщение предоставляет медиуму его отчётливый, детерминированный статус посредника коммуникации. Без месседжа медиум сам попадает в неопределённость, характерную для всех наших основных систем суждения и оценки. Лишь модель, действие которой непосредственно, порождает сразу месседж, медиум и «реальное».
Наконец, «medium is message», означает не только конец месседжа, но и конец медиума. Больше нет медиа в буквальном смысле слова (я имею в виду прежде всего электронные средства массовой информации), то есть инстанции, которая была бы посредником между одной реальностью и другой, между одним состоянием реального и другим. Ни по содержанию, ни по форме. Собственно, это то, что и означает имплозия. Взаимопоглощение полюсов, короткое замыкание между полюсами любой дифференциальной системы смысла, стирание чётких границ и оппозиций, включая оппозицию и границу между медиумом и реальным, — следовательно, невозможность любого опосредствованного выражения одного другим или диалектической зависимости одного от другого. Циркулярность всех эффектов медиа. Следовательно, невозможность смысла в буквальном смысле как одностороннего вектора, идущего от одного полюса к другому. Необходимо до конца проанализировать эту критическую, но оригинальную ситуацию: это единственное, что остаётся нам. Бесполезно мечтать о революции через содержание, тщетно мечтать о революции через форму, потому что медиум и реальное составляют отныне единую туманность, истина которой не поддаётся расшифровке.
Констатация этой имплозии контента, поглощения смысла, исчезновения самого медиума, резорбции любой диалектики коммуникации в тотальной циркуляции модели, имплозии социального в массах может показаться катастрофической и безнадёжной. Однако это выглядит так лишь с точки зрения идеализма, который полностью доминирует в нашем представлении об информации. Мы все пребываем в безумном идеализме смысла и коммуникации, в идеализме коммуникации посредством смысла, и в этой перспективе нас как раз и подстерегает катастрофа смысла.
Однако следует понимать, что термин «катастрофа» имеет «катастрофическое» значение конца и уничтожения лишь при линейном видении накопления, финальности производства, которое навязывает нам система. Сам термин этимологически означает всего-навсего «заворот», «сворачивание цикла», которое приводит к тому, что можно было бы назвать «горизонтом событий», к горизонту смысла, за пределы которого невозможно выйти: по ту сторону нет ничего, что имело бы для нас значение, — однако достаточно выйти из этого ультиматума смысла, чтобы сама катастрофа уже больше не казалась последним днём расплаты, в качестве которой она функционирует в нашем современном воображаемом.
За горизонтом смысла — фасцинация, являющаяся результатом нейтрализации и имплозии смысла. За горизонтом социального — массы, представляющие собой результат нейтрализации и имплозии социального.
Главное сегодня — оценить этот двойной вызов — вызов для смысла, брошенный массами и их молчанием (которое вовсе не является пассивным сопротивлением), — вызов для смысла, который исходит от медиа и их фасцинации. Все попытки, маргинальные и альтернативные, воскресить какую-то частицу смысла выглядят по сравнению с этим как второстепенные.
Совершенно очевидно, что в этой безнадёжно запутанной конъюнкции масс и медиа кроется некий парадокс: или это медиа нейтрализуют смысл и продуцируют «бесформенную» [informe] (или информированную [informée]) массу, или это массы удачно сопротивляются медиа, отвергая или поглощая без ответа все месседжи, которые те продуцируют? Ранее, в «Реквиеме по массмедиа», я проанализировал (и осудил) медиа как институт ирреверсивной модели коммуникации без ответа. А что сегодня? Это отсутствие ответа можно понять уже не как стратегию власти, а как контрстратегию самих масс, направленную против самой власти. Что в таком случае?
Находятся ли СМИ на стороне власти, манипулируя массами, или они на стороне масс и занимаются ликвидацией смысла посредством насилия над ним и посредством фасцинации? Вызывают ли медиа в массах фасцинацию или это массы отвергают медиа, заставляя превращаться их в бессмысленное зрелище? Могадишо-Штаммхайм{121}: медиа сами себя превращают в средство морального осуждения терроризма и эксплуатации страха в политических целях, но одновременно с этим в совершеннейшей двусмысленности они распространяют бесчеловечную фасцинацию теракта, они сами и есть террористы, поскольку сами подвержены этой фасцинации (вечная моральная дилемма, см. Умберто Эко{122}: как избежать темы терроризма, как найти правильный способ использования медиа, если его не существует). Медиа несут смысл и контрсмысл, они манипулируют во всех направлениях сразу, этот процесс никто не может контролировать, они — средства внутренней по отношению к системе симуляции и симуляции, которая разрушает систему, что в полной мере соответствует зацикленной логике ленты Мёбиуса, — они в точности с ней совпадают. Этому не существует ни альтернативы, ни логического решения. Лишь логическое обострение и катастрофическое разрешение.
С одной поправкой. По отношению к этой системе мы находимся в раздвоенном и неразрешимом положении double bind{123} — точно так, как дети перед требованиями взрослого мира. От них требуют становиться самостоятельными, ответственными, свободными и сознательными субъектами и одновременно быть безропотными, инертными, послушными, конформными, что соответствует объекту. Ребёнок сопротивляется по всем направлениям и на противоречивые требования также отвечает двойной стратегией. Требованию быть объектом он противопоставляет все возможные варианты неповиновения, бунта, эмансипации — словом, самые настоящие претензии субъекта. Требованию быть субъектом он так же упорно и эффективно противопоставляет сопротивление, присущее объекту, то есть совсем противоположное: инфантилизм, гиперконформизм, полную зависимость, пассивность, идиотство. Ни одна из двух стратегий не имеет большей объективной ценности, чем другая. Сопротивление субъекта сегодня однобоко ценится выше и рассматривается как положительное — так же, как в политической сфере лишь поведение, направленное на освобождение, эмансипацию, самовыражение, становление в качестве политического субъекта, считается достойным и субверсивным. Это означает игнорирование влияния, такого же и, безусловно, гораздо более значительного, поведения объекта, отказ от позиции субъекта и отказ от смысла — но именно таково поведение масс, — которое мы предаём забвению под пренебрежительным термином отчуждения и пассивности.
Поведение, направленное на освобождение, отвечает одному из аспектов системы, постоянному ультиматуму, который выдвигается нам с тем, чтобы представить нас в качестве объектов в чистом виде, но оно отнюдь не отвечает другому требованию, которое заключается в том, чтобы мы становились субъектами, чтобы мы освобождались, чтобы мы самовыражались любой ценой, чтобы мы голосовали, вырабатывали, принимали решение, говорили, принимали участие, участвовали в игре, — этот вид шантажа и ультиматума, используемый против нас, так же серьёзен, как первый, ещё более серьёзен, без сомнения, в наше время. В отношении системы, чьим аргументом является угнетение и репрессия, стратегическое сопротивление представляет собой освободительные притязания субъекта. Но это отражает скорее предшествующую фазу системы, и даже если мы всё ещё выступаем против, то это уже не является стратегической позицией: актуальным аргументом системы является максимизация слова, максимизация производства смысла. А значит, и стратегическое сопротивление — это отказ от смысла и от слова — или же гиперконформистская симуляция самих механизмов системы, также представляющая собой форму отказа и неприятия. Это стратегия масс, и она равнозначна тому, чтобы вернуть системе её собственную логику через её удвоение, и смысл, словно отражение в зеркале, — не поглощая его. Эта стратегия (если ещё можно говорить о стратегии) преобладает отныне, ведь она вытекает именно из той фазы системы, которая сложилась на сегодня.
Ошибиться с выбором стратегии — это серьёзно. Все те движения, которые делают ставку лишь на освобождение, эмансипацию, возрождение субъекта истории, группы, слова, на сознательность или даже на «извлечение бессознательного» субъектов и масс, не видят того, что они находятся в русле системы, чьим императивом сегодня является как раз перепроизводство и регенерация смысла и слова.
Абсолютная реклама — отсутствие рекламы
То, что мы сейчас переживаем, так это — абсорбция всех возможных способов выражения в том способе выражения, которым является реклама. Все оригинальные культурные формы, все детерминированные разновидности языка поглощаются этим, потому что он лишён глубины, мимолётен и тут же забывается. Триумф поверхностной формы, наименьшего общего знаменателя всех значений, нулевой степени смысла, триумф энтропии над всеми возможными тропами{124}. Низшая форма энергии знака. Эта форма, невнятная, мгновенная, без прошлого, без будущего, без шанса на метаморфозу, потому является конечной формой, имеет власть над всеми другими. Все современные виды деятельности тяготеют к рекламе, и большинство из них исчерпываются в ней. Необязательно именно в номинальной рекламе, производимой как таковая, но в рекламной форме, упрощённом операциональном способе, немного седуктивном{125}, немного консенсуальном (в нём смешаны все качества, но в вялой, лишённой силы форме). В более общем плане, рекламная форма — это та форма, в которой все уникальные контенты аннулируются в тот самый момент, когда они получают возможность транскрибироваться друг в друга, тогда как особенностью «сложных» высказываний, имеющих форму и смысл (или стиль), является то, что они не могут выражаться друг через друга, не в большей степени, чем это требуют правила игры.
Этот долгий путь к переводимости и таким образом к полной комбинаторике, которая представляет собой комбинаторику поверхностной прозрачности всех вещей на свете, путь к абсолютной рекламе (в отношении которой профессиональная реклама является лишь ещё одной эпизодической формой), можно проследить через перипетии пропаганды.
Реклама и пропаганда приобретают свой полный размах начиная со времён Октябрьской революции и мирового кризиса 1929 года. Обе являются языком масс, порождённые массовым производством идей или товаров, поэтому их регистры, сначала раздельные, тяготеют к постепенному сближению. Пропаганда превращается в маркетинг и мерчандайзинг идей-сил, политических деятелей и партий с их «брендами» и «имиджами». Она становится похожа на рекламу автомобильных моделей, товар и бренд — вот единственная значительная и настоящая идея-сила этого общества конкуренции. Эта конвергенция определяет природу общества, нашего общества, в котором больше не существует различия между экономическим и политическим, ведь там повсюду господствует один и тот же язык, такого общества, в котором политическая экономия в буквальном смысле реализовалась наконец в полной мере. То есть растворилась как специфическая инстанция (как историческая форма социального противоречия), нашла своё решение, абсорбировалась в языке без противоречий, как во сне, потому что испытала лишь внешнюю напряжённость.
Следующий период начинается тогда, когда сам язык социального, после того как это сделал язык политического, начинает совпадать с этим гипнотическим и навязчивым языком агитации, когда социальное начинает рекламировать себя, начинает добиваться широкого признания, пытаясь навязать свой имидж и бренд. С уровня исторического выбора, каким оно было, социальное само опустилось на уровень «совместного предприятия», которое обеспечивает свою всестороннюю рекламу. Только посмотрите, какой прирост социального пытается создать любая его реклама: werben werben{126} — настоятельный призыв социального присутствует повсюду на стенах, в тёплых и безжизненных голосах дикторш, в низких и высоких звуках фонограмм и в многокрасочных видеоизображениях, которые всюду прокручиваются перед нами. Всюду сущая социальность, абсолютная социальность, реализованная, наконец, в абсолютной рекламе, то есть так же полностью аннулированная, галлюцинация социальности, которая осталась на всех стенах в упрощённой форме требования социального, и на которую немедленно откликается рекламное эхо. Социальное как инсценировка, недоуменной аудиторией которой являемся мы.
Таким образом, рекламная форма навязала себя и развилась за счёт всех других разновидностей языка, как риторика, которая становилась всё более нейтральной, более ровной, бесстрастной, как «асинтаксическая туманность», по выражению Ива Стурдзе{127}, которая окутывает нас со всех сторон (и устраняет заодно такую дискуссионную проблему «убеждения» и эффективности: она не предлагает привлечения означаемых, она предлагает упрощённую эквивалентность всех ранее различительных знаков и разубеждает самой этой эквивалентностью). Этим определяются границы нынешней власти рекламы и условия её исчезновения, ведь реклама уже не самоцель, потому что когда она «вошла в привычку», то сразу же вышла из той социально-нравственной драматургии, какой она представлялась ещё двадцать лет назад.
Дело не в том, что люди больше не верят ей или воспринимают её как рутину. Дело в том, что если до сих пор она завораживала этой силой упрощения всех разновидностей языка, то эта сила у неё сегодня отобрана другим типом языка, ещё более упрощённым, а следовательно, более операциональным: языком программирования. Модель секвенции, аудио- и видеоплёнки, та модель, которую предлагает нам реклама вместе с другими основными медиа, — модель комбинаторного выравнивания всех предлагаемых рекламой дискурсов — этот ещё до сих пор риторический континуум звуков, знаков, сигналов, слоганов, из которого она выстраивает общую инсталляцию, намного опережают, именно в плане симулятивной функции, магнитные носители и электронный континуум, который возникает в конце этого столетия. Микропроцессоры, цифровое выражение, кибернетические языки идут гораздо дальше в том же направлении к абсолютному упрощению процессов, чем это делала реклама на своём скромном уровне, ещё не лишённом воображаемого и спектакулярного. И именно потому, что эти системы идут дальше, они притягивают сегодня ту фасцинацию, которая когда-то выпадала на долю рекламы. Именно информация в том смысле, в котором этот термин употребляется в информатике, положит конец, собственно, уже кладёт конец господству рекламы. Вот что наводит ужас, вот что восхищает. Рекламная «страсть» переместилась в сторону компьютеров и компьютерной миниатюризации повседневной жизни.
Предвосхищающей иллюстрацией этой трансформации была папула Ф. К. Дика, этот полупроводниковый рекламный имплантат, некий передатчик-прилипала, электронный паразит, который цепляется к телу и от которого очень трудно избавиться. Но папула лишь промежуточная форма: хоть это уже и нечто похожее на инкорпорируемый протез, но он ещё на все лады повторяет рекламные сообщения. Поэтому это гибрид, а также прообраз психотропных и информационных систем автоматического управления индивидуумами, рядом с которым «психологическая обработка» рекламой выглядит как изысканное приключение.
Наиболее интересным на сегодня аспектом рекламы является её исчезновение, её растворение как специфической формы или просто как медиума. Она уже не является (и была ли когда-нибудь?) средством коммуникации или информации. То есть её охватило это специфическое для чрезмерно развитых систем неистовство ежесекундно добиваться всеобщего признания и, следовательно, превращаться в пародию на самих себя. Если в определённый момент товар был своей собственной рекламой (другой не было), то сегодня реклама стала своим собственным товаром. Она смешивается сама с собой (и эротизм, который она себе избрала в качестве формы, является только показателем аутоэротизма системы, которая занимается лишь тем, что обращается к себе самой, откуда и абсурдность видеть в нём «отчуждение» женского тела).
Как медиум, который стал своим собственным месседжем (вследствие чего отныне существует спрос на рекламу для неё самой, а значит, вопрос о том, «верить» ей или нет, уже даже не стоит), реклама полностью согласуется с социальным, историческая необходимость которого оказалась поглощённой просто лишь спросом на социальное — спросом на функционирование социального как предприятия, как комплекса услуг, как образа жизни или выживания (необходимо спасать социальное так же, как необходимо беречь природу: социальное — это наше место обитания), — тогда как раньше оно в самом своём проекте имело революционный характер. Всё это утрачено: социальное потеряло саму эту возможность создавать иллюзии, опустившись в регистр предложения и спроса, так же как работа перешла из категории силы, антагонистической капиталу, в простую категорию занятости, то есть стала благом (в определённых случаях редчайшим) или услугой, такой, как другие. Поэтому можно организовать рекламу работы, радости от найденной работы, так же как можно организовать рекламу социального. Именно здесь присутствует сегодня настоящая реклама: в конструировании социального, в экзальтации социального во всех его формах, в настойчивом, упрямом призыве к социальному, потребность в котором остро даёт о себе знать.
Фольклорные танцы в метро, бесчисленные кампании по повышению уровня безопасности, слоган «Завтра я буду работать!», сопровождающийся улыбкой, которая раньше предназначалась для досуга, и реклама выборов комиссий по трудовым спорам: «Я никому не позволю выбирать за меня» — гротескный слоган, звучащий столь выразительно фальшиво в поддержку смехотворной свободы, свободы реализовывать социальное в самом его отрицании. Это неслучайно, что реклама, после того как она долгое время была носителем скрытого ультиматума экономического типа, по сути, провозглашая и повторяя без усталости: «Я покупаю, я потребляю, я обладаю», повторяется сегодня в других формах: «Я голосую, я участвую, я присутствую, я проявляю заинтересованность», — зеркало парадоксального глумления, зеркало индифферентности всякой общественной значимости.
Паника наоборот: известно, что социальное может раствориться в панической реакции, неконтролируемой цепной реакции. Но оно может раствориться также в обратной реакции, цепной реакции инертности, когда каждый микромир достигает состояния насыщения, саморегулирующийся, информатизированный, изолированный в своём автоматическом управлении. Реклама является прообразом этого процесса: первым проявлением непрерывного потока знаков, подобного телетайпной ленте, — каждый изолирован в своей инертности. Форма — провозвестник перенасыщенного мира. Пока ещё целого, но уже переполненного. Сохраняющего форму, но готового лопнуть по швам. Именно вот в таком мире набирает силу то, что Вирильо{128} называет эстетикой исчезновения. И тут начинают появляться фрактальные{129} объекты, фрактальные формы, зоны разломов, обусловленные перенасыщением, а следовательно, процессом массового отторжения, абреакции или оцепенения общества, прозрачного лишь для самого себя. Подобно знакам в рекламе, мы делимся, становимся невидимыми и неисчислимыми, полупрозрачными или ризомообразными, чтобы только избежать точки инерции, — выходим на орбиту, разветвляемся, превращаемся в спутники, в архивный фонд — треки перекрещиваются и переплетаются: существует трек с записью фонограммы, трек с записью изображения, так же как в жизни существует трек с записью работы, трек с записью досуга, трек с записью транспорта и т. д., и всё это завёрнуто в трек с записью рекламы. Всюду существует три или четыре трека, и мы стоим на распутье. Поверхностное насыщение и фасцинация.
Ведь есть ещё фасцинация. Стоит лишь взглянуть на Лас-Вегас, город абсолютной рекламы (пятидесятые годы — безумное время рекламы, и Лас-Вегас ещё сохранил шарм той эпохи, хотя сегодня это и выглядит в стиле ретро, ведь реклама втайне обречена на то, что на смену ей придёт программная логика, которая приведёт к городам совсем другого типа). Когда видишь, как весь Лас-Вегас в сиянии рекламы поднимается из пустыни на закате и возвращается в пустыню на рассвете, становится ясно, что реклама — это не то, что оживляет или украшает стены, это то, что стирает стены, стирает улицы, фасады и остальную архитектуру, стирает любую основу и любую глубину, и именно это уничтожение, эта резорбция всего, что есть на поверхности (безразлично, какие знаки там циркулируют), погружает нас в эту ошеломляющую, гиперреальную эйфорию, которую мы не променяли бы ни на что другое и которая представляет собой пустую и безапелляционную форму соблазна.
И тогда язык подвергается своему копированию и вкладывает всё наилучшее и всё наихудшее в призрак рациональности, чьей формулой является: «Все должны верить этому». Вот тот месседж, который нас объединяет.
Ж. Л. Бут. «Разрушитель интенсивности».Итак, реклама, так же как и информация, разрушает интенсивность, ускоряет инертность. Только посмотрите, как все ухищрения смысла и бессмыслицы повторяются в ней до изнеможения, как все процессы, все диспозитивы языка коммуникации (функция контакта: Вы слышите меня? Вы видите меня? Говорите! — референциальная функция, даже поэтическая аллюзия, ирония, игра слов, бессознательное), как всё это выставляется напоказ точно так, как секс в порнографии, то есть без веры в происходящее, с той самой утомлённой непристойностью. Вот почему отныне бесполезно рассматривать рекламу как язык, потому что это нечто иное: дублирование языка (равно как и образов), которому не соответствуют ни лингвистика, ни семиотика, потому что они имеют дело с реальным функционированием смысла, совершенно не вникая в эту карикатурную чрезмерность всех функций языка, в эту открывшуюся сферу глумления над знаками, как говорят, «пущенными в расход» во время глумления, ради глумления и коллективного созерцания их бесцельной игры, так же как порнография является гипертрофированной фикцией секса, пущенного в расход при глумлении над ним, ради глумления, коллективным созерцанием бесцельности секса в его барочном исполнении (именно барокко изобрело это триумфальное глумление в орнаменте, фиксируя угасание религиозности в оргазме статуй).
На какое время приходится «золотой век» рекламного проекта? На время экзальтации объекта посредством образа, экзальтации процесса приобретения и потребления посредством чрезмерных рекламных расходов? Какой бы ни была степень подчинённости рекламы капиталу (но этот аспект — вопрос социально-экономического воздействия рекламы — всегда оставался без решения и является, в сущности, неразрешимым), она всегда была больше, чем подчинённой функцией, она была зеркалом, обращённым миру политической экономии и товаров, она была некоторое время его славным воображаемым, воображаемым мира, трещащего по швам, но расширяющегося. Но мир товара больше таковым не является: это мир перенасыщения и инволюции. Поэтому он потерял своё триумфальное воображаемое и из зеркальной стадии перешёл, так сказать, в траурную стадию.
Не существует более сцены товара: от неё осталась только обсценная{130} и пустая форма. И реклама как раз и является иллюстрацией этой формы, перенасыщенной и пустой.
Именно поэтому у рекламы больше нет зоны обитания. Её идентифицируемые формы больше не сигнификативны. Так, например, подземный коммерческий центр Форум-дез-Аль{131} в Париже — это гигантский рекламный комплекс и операция по рекламности. Это не реклама конкретного человека или фирмы, и по статусу это даже не настоящий торговый центр или архитектурный ансамбль, как и Бобур, не являющийся по своей сути культурным центром: эти странные объекты, эти супергаджеты демонстрируют лишь то, что наша социальная монументальность превратилась в рекламную. И именно такие вещи, как Форум, лучше всего иллюстрируют то, во что превратилась реклама, во что превратилось общественное достояние.
Товар похоронен, как информация в архивах, как архивы в бункерах, как ракеты с ядерными зарядами в своих пусковых шахтах.
Конец желанному товару, выставляющему себя напоказ, — отныне он прячется от солнечного света, отчего становится похожим на человека, потерявшего свою тень. И Форум-дез-Аль напоминает похоронное бюро — мрачная роскошь погребённого товара, сквозь которую пробивается чёрное солнце. Саркофаг товара.
Здесь всё отдаёт склепом, всё в мраморе — белом, чёрном, светло-розовом. Бункер-ларец, насыщенные оттенки чёрного, снобистского, матового, пространство ископаемого андеграунда. Полное отсутствие жидкой среды, нет даже чего-то подобного водному занавесу в Парли-2{132}, здесь нет ни одной забавной обманки, которая, по крайней мере, отвлекала бы глаз, один лишь претенциозный траур царит на сцене. (Единственная занятная идея комплекса касается как раз человека и его тени, которая будто движется по вертикальной бетонной плите: гигантское полотно красивого серого света, идущего с улицы, выступающее в качестве фона и обрамления для оптической иллюзии, эта стена выглядит живой против собственной воли, контрастируя с семейным склепом высокой моды и прет-а-порте{133}, которым является Форум. Эта тень превосходна, потому что она является контрастной аллюзией на расположенный ниже мир, который потерял свою тень.)
Всё, что можно было бы пожелать, — чтобы публика получила доступ к этому сакральному месту (вспомните бушующую массу в экспресс-метро, проходящем под Форумом), а затем, опасаясь, как бы загрязнение не испортило его безвозвратно, закрыли бы доступ к Форуму, как к гротам Ласко, и укрыли бы непроницаемым саваном, чтобы сохранить нетронутым это свидетельство о цивилизации, которая достигла, пройдя стадию апогея, стадии гипогея{134} товара. Это было бы что-то вроде фрески, которая воссоздаёт долгий путь, пройденный от первобытного человека, минуя Маркса и Эйнштейна, к Дороти Бис{135}… Почему бы не сохранить эту фреску нетленной? Потом спелеологи обнаружат её вместе с культурой, которая решила похоронить себя, чтобы окончательно избавиться от своей тени, похоронить свои соблазны и своё искусство так, будто они уже были предназначены для иного мира.
История клонов
Из всех протезов, которыми обозначена история тела, двойник, пожалуй, самый древний. Но двойник в строгом смысле как раз и не протез: это воображаемая фигура, которая, будучи душой, тенью, отражением в зеркале, преследует субъект как своего другого, так что тот одновременно остаётся самим собой и уже не походит на себя, преследует в образе неуловимой и всегда предотвращаемой смерти. Впрочем, эту смерть не всегда можно предотвратить: если двойник материализуется и становится видимым, это означает неминуемую гибель.
Иначе говоря, власть и воображаемое великолепие двойника, то, что заставляет подчинённого субъекта ощущать одновременно и отстранённость, и близость к самому себе (потаённую/тревожную), основывается на его нематериальности, на том, что двойник был и остаётся фантазмом. Каждый из нас волен мечтать и, вероятно, мечтал всю жизнь о дублировании или идеальном размножении своего существа, но это остаётся всего лишь мечтой, которая рушится, как только пытается воплотиться в реальность. То же самое можно наблюдать и в сцене (обычного) обольщения: оно возможно лишь тогда, когда воплощается в фантазмы, в смутные воспоминания, не обретая при этом формы реального. Предназначением нашей эпохи было желание изгнать этот фантазм, как и все другие, то есть желание реализовать, материализовать его в плоть и кровь и, что является уже полным искажением смысла, изменить взаимодействие с двойником посредством подмены неуловимой смерти вместе с Другим вечностью Того же Самого.
Клоны. Клонирование. Черенкование людей до бесконечности, когда каждая клетка индивидуального организма может стать матрицей для идентичного индивидуума. В Соединённых Штатах несколько месяцев назад будто родился ребёнок таким же образом, как размножают герань, — черенкованием. Первый ребёнок-клон (порождение индивидуума посредством вегетативного размножения). Первый человек, который родился из одной клетки одного индивидуума, своего «отца», единственного родителя, относительно которого он должен стать точным слепком, абсолютным двойником, копией.[14]
Мечта о вечном полном подобии, которое подменило бы половое размножение, связанное само по себе со смертью. Мечта о размножении путём деления клеток — чистейшая форма родства, ведь она позволяет, наконец, обойтись без другого и двигаться от того же к тому же (необходимо ещё пройти через матку женщины и через очищенную яйцеклетку, но это средство передачи эфемерно и, во всяком случае, анонимно: его мог бы заменить и женский протез). Одноклеточная утопия, которая с помощью генетики открывает сложным существам доступ к судьбе, предназначенной для простейших.
Не влечение ли к смерти толкает разнополые существа регрессировать к форме размножения, предшествующей половой (впрочем, именно форма размножения делением, эта репродукция и пролиферация{136} через непорочное зачатие, не является ли для нас, в самой глубине нашего воображаемого, смертью и влечением к смерти — тем, что отрицает нашу сексуальность и стремится уничтожить её, поскольку сексуальность является носителем жизни, то есть критической и смертельной формой воспроизведения?), — не это ли влечение в то же время в метафизическом плане противится любому различию, любому изменению Того же Самого и стремится лишь к сохранению идентичности, к прозрачности генетической записи, пусть даже более подверженной перипетиям порождения?
Но отвлечёмся от влечения к смерти. Может быть, речь идёт о фантазме порождения самого себя? Нет, ибо порождение всегда проходит через образы матери и отца, образы родителей, наделённых половыми признаками, которые субъект может мечтать стереть, подменяя их самим собой, но он не в силах опровергнуть символическую структуру прокреации{137}: стать своим собственным ребёнком, а это значит, оставаться ребёнком кого-то другого. Клонирование же радикально устраняет Мать, а также и Отца, сочетание их генов, смешение их различий, но главным образом дуалистический акт, которым является порождение. Клонируемый не порождает самого себя; он пускает почки от каждого своего сегмента. Можно спекулировать относительно великолепия этих вегетативных ответвлений, которые действительно решают проблему эдиповой сексуальности в пользу «нечеловеческого» секса, секса, состоящего в простом соприкосновении и в незамедлительном делении, но в итоге о фантазме порождения самого себя речи идти не может. Отец и мать исчезли, но не в пользу алеаторной свободы субъекта, а в пользу матрицы, именуемой кодом. Нет более ни матери, ни отца, есть только матрица. И именно она, матрица генетического кода, отныне и навек занимается «деторождением» операциональным способом, очищенным от какой бы то ни было алеаторной сексуальности.
Нет более и самого субъекта, так как идентичная редупликация кладёт конец его раздвоенности. Стадия зеркала исчезла в клонировании или скорее осталась там в качестве чудовищной пародии. Точно так же клонирование не оставляет ничего и от извечной нарциссической мечты субъекта осуществить проекцию в своё идеальное alter ego, так как эта проекция по-прежнему проходит через ещё одно отображение: отображение в зеркале, глядя на которое субъект испытывает отчуждение от самого себя, чтобы вновь обрести себя, или другого — обольстительного и смертоносного, в котором субъект видит себя, — и умереть. Ничего подобного нет при клонировании. Нет ни медиума, ни отображения — не более чем отображение одним промышленным товаром серийного производства другого, который произведён вслед за первым. Одно никогда не становится идеальным или смертельным миражом другого, они могут лишь добавляться друг к другу, а если они не способны ни на что, кроме взаимного добавления, то это потому, что были рождены неполовым путём и смерть им неведома.
Речь идёт даже не о близнецах, астрологических или природных, ибо у тех имеются свои особые свойства, особое священное очарование того, что существует Вдвоём, что изначально было двойней и никогда единицей. Тогда как клонирование посвящено повторению Того же Самого: 1+1+1+1+ и т. д.
Не будучи ни ребёнком, ни близнецом, ни нарциссическим отражением, клон — это материализация двойника генетическим путём, иначе говоря — уничтожение любого различия и любого воображаемого. Материализация, которую ошибочно принимают за экономию сексуальности. Бредовый апофеоз производственной технологии.
Сегмент нуждается в воображаемом посредничестве для самовоспроизводства не более, чем дождевой червь: каждый сегмент червя непосредственно воспроизводит целого червя, так же как каждая клетка американского гендиректора может дать нового гендиректора; так же как каждый фрагмент голограммы может снова стать матрицей целой голограммы: в каждом отдельном фрагменте голограммы информация остаётся полной, может быть лишь с поправкой на меньшее разрешение.
Таким образом приходит конец совокупности. Если вся информация содержится в каждой из частей, то их целое теряет свой смысл. Это также и конец тела, этой сингулярности, именуемой телом, чей секрет как раз в том, что оно не может быть разделено на взаимно дополняющие клетки, в том, что оно представляет собой неделимую конфигурацию, о чём свидетельствуют его половые признаки (парадокс: клонирование до бесконечности будет производить существа, имеющие половые признаки, ведь они будут подобны своим моделям, в то время как пол становится благодаря клонированию бесполезной функцией, но пол как раз и не функция — это то, что делает тело телом, то, что превалирует над всеми сегментами и другими функциями тела). Пол (или смерть: в этом смысле это одно и то же) — это то, что превосходит любую информацию, которую можно получить о теле. Но где вся эта информация хранится? В генетической формуле. Вот почему она неизбежно должна проложить себе путь к автономному воспроизводству, независимому от сексуальности и смерти.
Наука путём биофизиоанатомических исследований органов и функций уже приступила к процессу аналитического расчленения тела, и молекулярная генетика, вокруг которой и разворачивается вся эта фантасмагория, есть лишь логическое следствие этого, но на более высоком уровне абстракции и симуляции, на уровне управления ядром клетки, на уровне непосредственно генетического кода.
С функционально-механистической точки зрения каждый орган есть не что иное, как парциальный и дифференцированный протез: это уже симуляция, но пока ещё «традиционная». С кибернетически-информационной точки зрения наименьший недифференцированный элемент — это каждая клетка тела, она и становится его «эмбриональным» протезом. Именно генетическая формула, записанная в каждой клетке, становится истинным современным протезом всякого тела. Если в общепринятом понимании протез представляет собой артефакт, дополняющий неполноценный орган, то молекула ДНК, содержащая в себе всю информацию относительно тела, — протез в высшей степени, позволяющий дополнять тело до бесконечности за счёт его самого, при этом само тело будет лишь бесконечной серией своих протезов.
Кибернетический протез бесконечно более изощрённый и более искусственный, чем любой механический. Ведь генетический код не является «естественным»: коль скоро всякая абстрактная часть целого, став автономной, превращается в искусственный протез, который подделывает это целое, подменяя его собой (pro-thesis — «для замещения»: такова этимология этого слова), то можно сказать, что генетический код, в котором целое существо содержится как бы в сжатом виде, ибо именно в нём, как полагают, содержится вся «информация» об этом существе (и в этом невероятное насилие генетической симуляции), представляет собой артефакт, операциональный протез, абстрактную матрицу, которая в состоянии производить даже не посредством воспроизводства, а путём простого возобновления идентичные существа, предназначенные для одной и той же участи.
Мой генотип был зафиксирован раз и навсегда в тот момент, когда определённый сперматозоид встретился с определённой яйцеклеткой. Этот генотип включает в себя описание всех биохимических процессов, благодаря которым я был создан, и которые обеспечивают моё функционирование. Копия этого описания записана в каждой из десятков миллиардов клеток, составляющих меня сегодня. Каждая из них знает, как создать меня; прежде чем стать клеткой моей печени или моей крови, она является клеткой меня самого. Поэтому теоретически возможно создать идентичного мне индивидуума на основе одной из них.
Профессор А. Жакар.Таким образом, клонирование является последней стадией в истории моделирования тела, стадией, на которой индивидуум, сведённый к своей абстрактно-генетической формуле, обречён на серийную демультипликацию. Здесь следовало бы повторить то, что Вальтер Беньямин{138} говорил о произведении искусства в эпоху его технической воспроизводимости. То, что теряет серийно повторяемое произведение, так это свою ауру, то уникальное качество, которое проявляется при непосредственном созерцании подлинника, свою эстетическую форму (оно уже потеряло ранее в своём эстетическом качестве свою ритуальную форму). И тогда произведение, которое постигает неизбежная судьба репродукции, принимает, по словам Беньямина, политическую форму. То, что утрачено, — так это оригинал, и одна лишь история, ностальгически ретроспективная, в состоянии восстановить его «аутентичность». Наиболее передовые, наиболее современные формы этой эволюции, описанной Беньямином, — это фото- и киноискусство, массмедиа, ибо эти формы таковы, что оригинал в них более не имеет места, потому что всё задумано изначально с учётом неограниченной репродукции.
При клонировании нечто подобное происходит уже не только на уровне месседжей, но и на уровне индивидуумов. В сущности, именно это и происходит с телом, когда оно мыслится лишь как некий месседж, как носитель информации и сообщений, как информационная субстанция. И тогда ничто не мешает его серийному воспроизводству, о котором можно говорить в той же терминологии, которую использует Беньямин, рассуждая о промышленных товарах серийного производства и о продуктах массмедиа. Происходит прецессия воспроизводства относительно производства, прецессия генетической модели над всеми возможными телами. Этот переворот обусловлен вторжением технологии, той самой, которую Беньямин описывает в её крайнем проявлении как всеобщий медиум и гигантский протез индустриальной эпохи, управляющий производством идентичных предметов и образов, отличить которые друг от друга уже невозможно никаким способом, ещё не представляя себе уровень современного развития этой технологии, которая, производя идентичные существа, делает невозможным возврат к оригиналу. Протезы индустриальной эры всё ещё внешние, экзотехнические, те же, которые нам известны сегодня, превратились во внутренние разветвлённые протезы — в протезы эзотехнические. Мы живём в эпоху софт-технологий, в век генетического и ментального программного обеспечения [software].
До тех пор, пока протезы прежнего индустриального «золотого века» оставались механическими, они ещё обращались к телу и, изменяя его образ, сами были при этом обратимо задействованы в метаболизме воображаемого, так что этот технологический метаболизм был составной частью образа тела. Но когда в симуляции достигается точки невозврата (dead-line), то есть когда протез углубляется, интериоризируется, проникает внутрь безликой микромолекулярной сердцевины тела, когда он вынуждает тело признать себя «оригинальной» моделью, выжигая при этом все возможные символические окольные пути, которые могут возникнуть впоследствии, так что любое тело становится не чем иным, как неизменным повторением протеза, тогда приходит конец телу, его истории, его перипетиям. Индивидуум теперь являет собой некий раковый метастаз формулы, лежащей в его основе. И разве не все индивидуумы, полученные в результате клонирования индивидуума X, представляют собой что-либо иное, нежели раковый метастаз — пролиферацию одной и той же клетки, наблюдаемую при раке? Существует тесная связь между направляющей идеей генетического кода и патологией рака: код указывает на наименьший простой элемент, минимальную формулу, к которой можно свести всего индивидуума и по которой организм может воспроизводить себя, создавая идентичные копии. Рак означает неограниченное деление базовой клетки, игнорирующее органические законы организма в целом. То же самое происходит и при клонировании: ничто больше не препятствует возобновлению Того же Самого, безудержному размножению из одной-единственной матрицы. Прежде размножение половым путём ещё создавало препятствие, сегодня можно наконец выделить генетическую матрицу идентичности, так что можно будет избежать отличительных нюансов, составлявших алеаторный шарм индивидуумов.
Если все клетки задуманы прежде всего как вместилище одной и той же генетической формулы — и это относится как к идентичным индивидуумам, так и ко всем клеткам одного и того же индивидуума, — то что же они представляют собой, как не раковое распространение этой базовой формулы? Метастаз, начавшийся с серийного производства товаров, заканчивается на уровне клеточной организации. Бесполезно спрашивать себя, является ли рак болезнью капиталистической эпохи. На самом деле эта болезнь стоит во главе всей современной патологии, потому что она — сама форма вирулентности кода: чрезмерная избыточность одних и тех же знаков, одних и тех же клеток.
Вместе с необратимым технологическим «прогрессом» меняется картина тела: когда мы переходим от загара на солнце, что уже соответствует искусственному использованию естественной среды, то есть превращению этой среды в телесный протез (само тело становится симулированным, но где его истина?), к загару в домашних условиях с помощью йодной лампы (это ещё старая добрая механическая техника), далее к загару с помощью таблеток и гормональных препаратов (химический протез, который проглатывается) и в заключение к загару, полученному в результате вмешательства в генетическую формулу (стадия несравненно более продвинутая, но речь идёт всё же о протезе: просто он окончательно интегрирован, и при этом не задействованы ни поверхность, ни отверстия тела), мы имеем дело с различными типами тела. Метаморфозе подвергается сама схема единого организма. Традиционный протез, служащий для восстановления функций повреждённого органа, ничего не меняет в общей модели тела. Ничего не изменяет и трансплантация органов. Но что можно сказать о моделировании на ментальном уровне посредством психотропных препаратов и наркотиков? Здесь уже меняется картина тела. Тело, испытывающее воздействие психотропных средств, — это тело, смоделированное «изнутри», оно уже не проходит более через перспективное пространство репрезентации, зеркала и дискурса. Это тело молчаливое, ментальное, уже молекулярное (но больше не зеркальное), тело, метаболизирующееся напрямую, без участия действия или взгляда; тело имманентное, без отличий, без мизансцены и трансцендентности, тело, обречённое на имплозивный метаболизм продуктов деятельности мозга и эндокринной системы, тело, обладающее чувствительностью, но не способное к восприятию, ибо оно связано лишь с внутренними нервными окончаниями, но не с объектами перцепции окружающего мира (поэтому оно может быть низведено до самого ничтожного, нулевого, «чистого уровня» чувствительности; для этого достаточно «отключить» его от его собственных сенсорных окончаний, не затрагивая окружающий мир), тело уже однородное и находящееся на стадии осязательной пластичности, ментальной гибкости и насыщенности психотропными средствами, стадии уже близкой к ядерной и генетической манипуляции, т. е. к полной утрате образа; тело, репрезентация которого невозможна ни для других, ни для него самого, тело, лишённое своей сути и своего смысла вследствие преобразования генетической формулы или биохимической зависимости: точка невозврата, апофеоз технологии, которая сама по себе стала интерстициальной и молекулярной.
Ремарка
Следует отметить, что пролиферация раковых клеток — это также молчаливое неповиновение предписаниям генетического кода. Рак, если его рассматривать с точки зрения логики, свойственной информационно-ядерному видению живых существ, также является чудовищным разрастанием и негацией, ведь он ведёт к полной дезинформации и дезинтеграции. «Революционная» патология органического рассоединения, сказал бы Ричард Пинхас в «Фикциях» («Синоптические заметки о загадочной болезни»). Энтропийная исступлённость организмов, резистентная негэнтропия информационных систем. (Это такая же ситуация, как и с массами по отношению к структурированным социальным образованиям: массы — это также раковые метастазы вне пределов всякой социальной органичности.)
Такая же двусмысленность имеет место и в случае с клонированием: оно является одновременно триумфом ведущей гипотезы, гипотезы кода и генетической информации, и эксцентричным искажением, которое разрушает её когерентность. Впрочем, существует вероятность (предоставим это дальнейшей истории), что даже клон-близнец никогда не будет идентичен своему прототипу, никогда не будет тем же хотя бы потому, что до него был ещё один. Он никогда не будет «таким, каким сделает его генетический код сам по себе». Тысячи интерференций сделают его вопреки всему другим существом, у которого будут лишь такие же голубые глаза, как у его отца, но ведь это не новость. И эксперименты с клонированием будут иметь, по крайней мере, ту пользу, что продемонстрируют радикальную невозможность контролировать процесс лишь посредством управления информацией и кодом.
Голограммы
Это фантазм — схватить реальность на лету, но попытки продолжаются ещё со времён Нарцисса, склонившегося над ручьём. Уловить реальное, чтобы остановить его, уловить реальное, задержав его навсегда в его копии. Вы склоняетесь над голограммой, словно Бог над своим творением: лишь Бог имеет эту власть — проходить сквозь стены, сквозь предметы и оказываться по ту сторону в бестелесном состоянии. Мы мечтаем проходить сквозь самих себя и оказываться по ту сторону; когда ваш голографический двойник появится в пространстве, возможно, двигаясь и разговаривая, вы осуществите это чудо. Конечно, это уже не будет мечтой, и её шарм будет утрачен.
Телевизионная студия превращает вас в голографические фигуры, возникает впечатление, что вы материализуетесь в пространстве с помощью света прожекторов, как те полупрозрачные фигуры, которые проходят сквозь массы (из миллионов телезрителей), точно так, как ваша реальная рука проходит сквозь нереальную голограмму, без сопротивления, но не без последствий: пройдя сквозь голограмму, она также становится нереальной.
Иллюзия полная и по-настоящему завораживает, когда голограмма проецируется на пластине, и вас ничто не отделяет от неё (иначе это остаётся фото- или киноэффектом). Это та характерная оптическая иллюзия, которая отличает голограмму от картины: вместо перспективной точки зрения вы оказываетесь в обратной глубине, которая превращает вас самих в точку схода… Здесь необходимо, чтобы рельеф и объём воспринимались так же, как обычный трамвайный вагон или фигуры на шахматной доске. Исходя из этого, остаётся выяснить, какого типа объекты или формы будут собственно гологеничными, ведь голограмма не более предназначалась для производства трёхмерного кино, чем кино предназначалось для воссоздания театра или фотография — для повторения содержания живописи.
В голограмме, как и в истории с клонами, предметом безжалостной травли является именно воображаемая аура двойника. Подобие — это мечта, и она должна оставаться ею, чтобы могли существовать минимальная иллюзия и сцена воображаемого. Подобие не должно сливаться с реальным, стремиться к точному сходству мира с самим собой, субъекта с самим собой. Потому что тогда исчезает образ. Подобие не должно сливаться с двойником, потому что тогда исчезает дуалистическая связь и вместе с ней вся седуктивность. А в случае с голограммой, как и с клоном, мы имеем дело с обратным соблазном и с обратной фасцинацией, обусловленными концом иллюзии, сцены, тайны, который наступает вследствие материализованной проекции всей имеющейся относительно предмета информации вследствие материализованной транспарентности.
После фантазма видеть себя (зеркало, фотография), наступает очередь фантазма, сосредоточенного на том, чтобы окинуть взглядом себя со всех сторон, пройти сквозь собственное призрачное тело, и любой голографический объект становится прежде всего светящейся эктоплазмой вашего собственного тела. Однако это означает в определённом смысле конец эстетики и торжество медиума, точно так, как это происходит со стереофонией, которая в своей крайней изощрённости, в общем-то, кладёт конец шарму и восприятию музыки.
Голограмма просто не способна создать ту оптическую иллюзию, которая является одним из способов обольщения, всегда действующего в соответствии с правилами отображения посредством наличия аллюзии и эллипсиса. Вместо этого её охватывает непреодолимое влечение полностью слиться с двойником. Если мир, согласно Маху{139}, — это то, у чего нет двойника, нет зеркального эквивалента, тогда в случае с голограммой мы уже находимся практически в другом мире — в том, который является лишь зеркальным эквивалентом этого мира. Но чем же является этот мир?
Голограмма, та, о которой мы всегда мечтали (голограммы, которые мы имеем на сегодняшний день, — это лишь жалкие поделки), волнует, вызывает головокружение возможностью перейти на другую сторону нашего собственного тела, на сторону двойника, светящегося клона или мёртвого близнеца, который никогда не рождался за нас и который наблюдает за нами посредством антиципации.
Голограмма — совершенный образ, а также конец воображаемого. Или скорее это не образ вообще — реальный медиум-лазер, концентрированный, квинтэссенциальный свет, свет, который больше не является зримым или отражённым светом, а является абстрактным светом симуляции. Лазер/скальпель. Хирургия светом, направленная в данном случае на оперирование двойника: вас оперируют с целью удаления двойника, как если бы вас оперировали с целью удаления опухоли. Двойника, который был спрятан глубоко внутри вас (вашего тела, вашего бессознательного?) и тайная форма которого как раз и питала ваше воображаемое при условии, что она останется тайной, этого двойника извлекают с помощью лазера, синтезируют и материализуют перед вами так, чтобы вы могли пройти сквозь него и попасть по ту сторону. Исторический момент: отныне голограмма выступает составной частью того «подсознательного комфорта», который является нашим назначением, этого счастья, которое торжественно посвящается отныне ментальному симулякру и феерии спецэффектов, наполняющих всё вокруг. (Социальное, социальная фантасмагория сама уже не более чем спецэффект, призрачный образ коллективного счастья, полученный в условиях вакуума из конвергентных пучков причастности.)
Трёхмерность симулякра — почему трёхмерный симулякр должен быть ближе к реальному, чем симулякр двумерный? Он на это претендует, однако его эффект, как это ни парадоксально, противоположен и указывает нам на четвёртое измерение как на скрытую истину, тайное измерение, присущее всем вещам, которое внезапно обретает силу очевидного. Чем ближе мы к совершенству симулякра (и это справедливо относительно не только предметов, но и произведений искусства или моделей социальных или психологических отношений), тем очевиднее для нас (или скорее для злого духа скептицизма, который живёт внутри нас, ещё более злого, чем злой дух симуляции) становится то, посредством чего все вещи избегают репрезентации, избегают своей собственной копии и своего подобия. Словом, реальное не существует: третье измерение является лишь воображаемым двухмерного мира, четвёртое — воображаемым трёхмерного мира… Эскалация производства реального, которое становится реальнее реального благодаря последовательному добавлению измерений. Но рикошетом возрастает и обратное действие: единственно реальным и по-настоящему седуктивным является то, в чём задействовано на одно измерение меньше.
В любом случае эта погоня за реальным и за реалистичностью галлюцинации ведёт в тупик, ведь, когда один предмет точно подобен другому, он не похож на него точно, он подобен ему немного точнее. При большей точности уже нет полного сходства. То, что точно, уже слишком точно, точное лишь то, что приближается к истине, не претендуя на неё. Это немного напоминает ту парадоксальную формулу, которая утверждает, что когда два бильярдных шара катятся друг к другу, то первый касается другого на мгновение раньше или же один касается другого прежде, чем касаются его самого. И это означает, что не существует даже какой-то возможной синхронности на уровне времени, так же как не существует какого-то возможного сходства на уровне тел. Ничто не подобно себе же, и голографическое воспроизведение, так же как любая попытка синтеза или точного воспроизведения реального (это касается также и научных экспериментов), уже больше не реальное, оно гиперреальное. Следовательно, оно никогда не имеет ценности репродукции (истины), но всегда уже является симуляцией. Не точное воспроизведение, а с чрезмерной подлинностью, то есть уже по ту сторону подлинности.
Что же происходит по ту сторону истины не с тем, что ложное, а с тем, что подлинней подлинного, реальнее реального? Конечно же вещи небывалые и кощунственные, намного более разрушительные для порядка истины, чем её чистое отрицание. Исключительная и убийственная сила, которая кроется в потенциализации истинного, в потенциализации реального. Возможно, именно поэтому близнецы обожествлялись и приносились в жертву во многих дикарских культах: гиперподобие приравнивалось к убийству оригинала, а значит, чистому нонсенсу. Любую классификацию или сигнификацию, любую модальность смысла можно, таким образом, разрушить простым логическим возведением в энную степень — доведением до предела, как если бы истина поглотила свой собственный критерий истины, «поглотила бы своё собственное свидетельство о рождении»{140} и потеряла бы всякий смысл: так, при определённых условиях можно точно вычислить вес Земли или Вселенной, но эта цифра сразу же покажется абсурдной, потому что она больше не будет иметь референции, зеркала, в котором она отражалась бы, — это суммирование, которое довольно-таки точно соответствует суммированию всех измерений реального в его гиперреальной копии или суммированию всей информации об индивидууме в его генетическом двойнике (клоне), сразу придаёт ему характер чего-то патафизического{141}. Вселенная сама по себе, взятая целиком, является тем, что не может иметь ни какой-то репрезентации, ни какого-то зеркального дополнения, ни смысловой эквивалентности (приписывать ей какой-то смысл, какой-то смысл её весу так же абсурдно, как определять её вес вообще). Смысл, истина, реальное могут проявляться лишь локально, в ограниченном кругозоре, — это парциальные объекты, парциальные результаты зеркального отображения и эквивалентности. Любое удвоение, любая генерализация, любое доведение до предела, любое голографическое расширение (попытка представить исчерпывающий отчёт о Вселенной) выставляет их в своей смехотворности.
Если смотреть на них под этим углом зрения, то даже точные науки находятся в опасной близости к патафизике. Ведь в них есть что-то от голограммы и объективистской попытки деконструкции, а затем реконструкции мира с соблюдением точности в мельчайших подробностях, попытки, основанной на упрямой и наивной вере в соглашение, по которому вещи подобны самим себе. Реальное, как полагают, реальный объект должен быть равен самому себе, похож на себя так, как отражение в зеркале, — и это предполагаемое сходство является на самом деле единственной дефиницией реального. И любой эксперимент, включая голографию, опирающийся на это сходство, лишь будет расходиться со своим объектом, ведь он не принимает во внимание его тень (то, почему объект не похож на самое себя), эту скрытую грань, где объект исчезает, его тайну. Голограмма буквально перепрыгивает через его тень и погружается в транспарентность, чтобы самой потеряться там.
«Автокатастрофа»
С классической (даже кибернетической) точки зрения технология — это продолжение тела. Она — функциональное усовершенствование человеческого организма, то, что позволяет людям сравняться по возможностям с природой и победоносно приступить к её освоению. От Маркса до Маклюэна — те же формулировки и то же инструменталистское видение машин: это промежуточные звенья, расширения, медиапосредники природы, в идеале предназначенные для того, чтобы стать органическим телом человека. В этом «рациональном» видении само тело лишь посредник.
Напротив, в барочной и апокалипсической версии «Автокатастрофы»[15] Балларда техника выступает как смертельная деконструкция тела — не как функциональный медиум, а как расширение смерти — разделение на отдельные члены и части, но не в уничижительной иллюзии утраченной целостности субъекта (которая ещё находится на уровне психоанализа), а в эксплозивном видении тела, выставленного для «символических ран», тела, перемешенного с технологией в её извращённом и насильственном измерении, в той дикой и непрерывной хирургии, к которой она прибегает: вырезание, иссечение, шрамирование, вскрытие тела, относительно которого рубец от раны и связанное с ним «сексуальное» удовольствие является лишь частным случаем (а рабская зависимость от машин в процессе труда — пацифистской карикатурой), — тела без органов и без наслаждения от них, полностью выставленного для маркировки, резки, технического рубцевания — под сверкающим знаком безреферентной и безграничной сексуальности.
Изуродовав и убив её, технологии тем самым короновали её, освятили неповторимые конечности, черты лица, жесты и оттенки кожи… Каждый из свидетелей унёс с места аварии образ насильственной трансформации этой женщины. В комплексе ран её сексуальность сплавилась с жёсткой автомобильной технологией. Каждый из зрителей объединит в своём воображении нежную ткань своих слизистых оболочек, свои эрогенные зоны с ранами этой женщины, прочувствовав всё — посредством автомобиля — через последовательность стилизованных поз. Каждый мысленно прикоснётся губами к этим кровоточащим отверстиям, прижмётся переносицей к ранам на её левой руке, веком — к обнажённому сухожилию её пальца, кожей возбуждённого члена к изорванному ущелью её половых губ. Автокатастрофа сделала возможным это финальное и долгожданное единение телезнаменитости с её аудиторией.
Постичь всю технологию можно лишь в случае аварии (автомобильной), то есть в случае насилия, совершённого в отношении неё, и насилия, совершённого в отношении тела. Это одно и то же насилие: любой удар, любой толчок, любое столкновение, вся металлургия аварии прочитывается в семиургии тела — не в анатомии или физиологии, а в семиургии ушибов, шрамов, увечий, ран, которые становятся будто новыми многочисленными половыми органами, обнаруженными на теле. Таким образом, компиляции тела как рабочей силы в плане производства противостоит дисперсия тела как анаграммы в плане увечья. Нет больше «эрогенных зон»: теперь всё превращается в дыру, чтобы предложить себя для рефлекторной эякуляции. Но самое главное — то (первобытные пытки, сопровождавшие инициацию, — это не наш случай), что всё тело становится знаком, чтобы предложить себя для обмена на телесные знаки. Тело и технология, дифрагировавшие свои обезумевшие знаки друг в друге. Телесная абстракция и современная функциональная форма.
За всем этим нет ни чувства, ни психологии, ни наваждения или желания, ни либидо или влечения к смерти. Смерть, конечно, вовлечена в безграничный процесс исследования возможных форм насилия, которое творится относительно тела, но не так, как в садизме или мазохизме, с их выраженным и перверсивным стремлением к насилию, искажению смысла или сексуального влечения (искажению относительно чего?). Никакого подавляемого бессознательного (эмоций или репрезентаций), разве что во вторую очередь, которое всё ещё способствовало бы появлению надуманного смысла, основанного на психоаналитической модели. Нонсенс и дикость этого смешения тела и технологии имманентна, здесь непосредственная реверсия одного в другое, в результате чего возникает сексуальность без антецедента{142} — что-то похожее на потенциальное головокружение, обусловленное простой регистрацией пустых знаков этого образования. Символический обряд с насечкой и маркировкой, как в случае с граффити в нью-йоркском метрополитене.
Ещё один общий момент: в «Автокатастрофе» мы не встречаем акцидентные знаки, которые могли бы появиться разве что на периферии системы. Несчастный Случай — это уже больше не тот интерстициальный бриколаж{143}, которым он ещё выступает во время ДТП: это остаточный бриколаж подсознательного влечения к смерти, новая форма досуга. Автомобиль — это не приложение к недвижимому домашнему миру, потому что домашнего и частного мира больше не существует, существуют лишь непрерывные показатели циркуляции, и всюду мы встречаем Несчастный Случай — элементарный, ирреверсивный показатель банальности аномальной смерти. Он уже не на периферии, он в центре. Он больше не исключение из торжествующей рациональности, он поглотил Правило и сам стал Правилом. Он даже уже не «проклятая доля»{144}, неизбежность которой признаётся самой системой и включается в её общий подсчёт. Всё поменялось местами. Теперь Несчастный Случай придаёт форму жизни, он, в своём безумии, является формой сексуальной жизни. И автомобиль, магнетическая сфера автомобиля, который, в конце концов, опутал весь мир своими тоннелями, магистралями, пандусами, транспортными развязками, его мобильная среда обитания как универсальный прототип — не что иное, как грандиозная метафора.
Никакая дисфункция{145} больше невозможна в мире Несчастного Случая, поэтому невозможно больше никакое извращение. Несчастный Случай, как и смерть, больше не принадлежит к порядку невротического, подавляемого, остаточного или трансгрессивного, он инициирует новый способ бесперверсивного наслаждения (вопреки самому автору, который говорит во введении о новой извращённой логике, следует сопротивляться моральному искушению читать «Автокатастрофу» как что-то извращённое), стратегическую реорганизацию жизни на основе смерти. Смерть, раны, увечья — уже не метафоры кастрации, а как раз обратное, даже в преобладающей степени противоположное. Извращённой является лишь фетишистская метафора, соблазн через модель, через вмешательство фетиша, или через посредство языка. Здесь смерть и секс считываются непосредственно на уровне тела, без фантазма, без метафоры, без слов — в отличие от аппарата из «Исправительной колонии», где тело вместе со своими ранами по-прежнему поддерживает лишь текстуальную запись. Вот почему аппарат Кафки ещё остаётся пуританским, репрессивным «означающим аппаратом», как сказал бы Делез, тогда как технология «Автокатастрофы» кажется яркой, соблазнительной или же тусклой и невинной. Соблазнительной, потому что лишена смысла и является только зеркалом для разорванных тел. И тело Воана, в свою очередь, тоже зеркало для искорёженных хромированных деталей, смятых бамперов, железных простыней, запятнанных спермой. Тело и технология смешаны вместе, прельщены друг другом, нераздельны.
Когда Воан свернул на площадку заправочной станции, алый неровный свет её неоновой вывески упал на зернистые фотографии отвратительных ран: груди девочек-подростков, деформированные передней панелью; силиконовая грудь пожилой домохозяйки, снесённая хромированной стойкой окна; соски, рассечённые фирменным знаком; травмы мужских и женских половых органов, причинённые корпусами рулевых колонок, осколками лобового стекла в момент, когда тела были выброшены из машины… Ряд снимков изуродованных членов, рассечённых вульв, смятых яичек вырвал из темноты мигающий свет. На некоторых снимках ранения были проиллюстрированы ещё и теми частями автомобиля, которые их причинили: возле фотографии рассечённого члена был изображён фрагмент тормозного механизма; над снимком сильно раздавленной вульвы крупным планом был представлен автомобильный клаксон с фирменным знаком. Это соединение изорванных половых органов с частями автомобиля создавало ряд волнующих сочетаний, вызывающих новый поток боли и страсти.
Каждая отметина, каждый след, каждый шрам, оставленные на теле, — это как искусственная инвагинация, как шрамирование у дикарей, которые всегда являются страстным ответом на отсутствие тела. Лишь израненное тело существует символически — для себя и для других, — «сексуальное влечение» — это всего лишь возможность тел перемешивать и обменивать свои знаки. Поэтому те несколько естественных отверстий, с которыми по привычке связывают секс и сексуальные действия, являются ничем по сравнению со всеми возможными ранами, всеми искусственными отверстиями (но почему «искусственными»?), со всеми разрывами, через которые тело становится реверсивным и, как это происходит с некоторыми видами топологического пространства, теряет признаки деления на внутреннюю и внешнюю стороны. Секс, такой, каким мы его понимаем, является лишь ничтожной специализированной дефиницией всех тех символических жертвенных обрядов, через которые тело может открыть себя более не через естество, но через искусственный приём, через симулякр, через несчастный случай. Секс — это лишь ограниченное побуждение, вызываемое влечением к заранее обозначенным зонам. Его значительно превосходит то разнообразие символических ран, которым является, так сказать, анаграммирование секса на всей протяжённости тела, — но тогда, если точно, это уже больше не секс, это нечто иное, относительно чего секс — лишь запись основного означающего и нескольких вторичных знаков, ничто по сравнению с обменом всех тех знаков и ран, на которые способно тело. Дикари умели использовать с этой целью всё тело, когда делали татуировки, прибегали к пыткам или проводили инициацию, — сексуальность была лишь одной из возможных метафор символического обмена, ни наиболее значимой, ни наиболее привлекательной, какой она стала для нас в своём натуралистическом и навязчивом значении в силу органического и функционального восприятия (включая и наслаждение).
Когда мы поехали со скоростью двадцать миль в час, Воан вынул палец из влагалища девушки, развернул бёдра и ввёл туда член. Над нами замигали фары — это поток машин, направляющихся вверх по эстакаде развязки. В зеркало я всё ещё наблюдал за Воаном и девушкой. Их тела, освещённые фарами задних машин, отражались в сотне блестящих точек отделки «линкольна». В хромированной крышке пепельницы я видел левую грудь девушки с торчащим соском. На блестящих полосках рамы окна я видел деформированные фрагменты бёдер Воана и её живота, складывающиеся в причудливой комбинации. Воан немного изменил позу девушки, и снова его член вошёл ей во влагалище. В триптихе образов, отражённых в спидометре, часах и топливном индикаторе, казалось, что их половой акт происходит под навесами гротов этих люминесцентных циферблатов и регулируется покачивающейся стрелкой спидометра… Я погнал машину со скоростью пятьдесят миль в час по пустому мосту развязки. Воан выгнул спину и поднял женщину, подставляя её свету следующих за нами машин. Её острые груди вспыхнули в хромированной клети ускоряющейся машины. Сильные движения таза Воана совпадали с моментами, когда мы проезжали мимо фонарей, расположенных вдоль моста через каждую сотню ярдов. При приближении каждого из них его бёдра толкали девушку, вонзая член во влагалище, руки разводили её ягодицы, открывая анус жёлтому свету, заполнявшему машину.
Здесь все эротические термины имеют технический характер. Отсутствуют такие слова, как «задница, конец, дыра», вместо них употреблены: «анус, прямая кишка, влагалище, член, половой акт». Отсутствует арго, то есть отсутствует интимность сексуального насилия, вместо того имеем функциональный язык: адекватность хрома и слизистых оболочек как полное соответствие одной формы другой. Так же происходит со смертью и сексом: они переплетены друг с другом скорее в соответствии с неким техническим супердизайном, нежели с наслаждением. Впрочем, речь идёт не о получении наслаждения, а всего лишь о простой эякуляции. И совокупления, и сперма, проходящие через всю книгу, имеют не более чувственной ценности, чем филигранность ран насильственного смысла, даже метафорически. Это лишь сигнатуры: неслучайно в финальной сцене X помечает своей спермой то, что осталось от автомобиля после катастрофы.
Наслаждение (перверсивное или нет) всегда было опосредовано с помощью технического устройства, механизма, реальных объектов, но чаще при помощи фантазмов, оно всегда предполагает посредническую манипуляцию позами или гаджетами. Здесь же наслаждение — лишь оргазм, то есть оно перемешано, оно на одной волне с насилием технического устройства и гомогенизируется лишь с техникой, которую можно свести к единственному объекту — автомобилю.
Мы попали в огромную пробку. От пересечения автострады с Западным проспектом до въезда на эстакаду все полосы были забиты машинами, лобовые стёкла источали переплавленные лучи солнца, зависшего над западными окраинами Лондона. В вечернем воздухе мерцали габаритные огни, озаряя колоссальный водоём лакированных тел. Воан сидел, выставив руку из пассажирского окна. Он нетерпеливо щёлкал дверной ручкой, постукивал по кузову кулаком. Справа от нас нависала обрывом человеческих лиц высокая стена двухэтажного автобуса, ехавшего из аэропорта. Пассажиры в окнах напоминали ряды мертвецов, уставившихся на нас из галереи колумбария. Колоссальная энергия двадцатого века, достаточная для того, чтобы переместить планету на новую орбиту вокруг более счастливой звезды, была направлена на поддержание этой грандиозной неподвижной паузы.
Вокруг меня, вдоль всего Западного проспекта, по всей проезжей части развязки тянулась, пока хватало глаз, огромная пробка, спровоцированная аварией. И я, стоя в центре этого застывшего циклона, чувствовал себя абсолютно беззаботным, будто меня наконец освободили от всех моих навязчивых идей относительно этих машин, число которых увеличивалось без конца.
Впрочем, ещё одно измерение неотрывно связано в «Автокатастрофе» с тесно переплетёнными измерениями технологии и секса (объединёнными в работе смерти, которая никогда не является работой траура): измерение фото- и кинематографическое. Яркая и насыщенная поверхность дорожного движения и аварии лишена глубины, однако она всё время удваивается в объективе камеры Воана. Он накапливает и хранит фотографии аварий, словно собирает досье. Генеральная репетиция центрального события, которое он готовит (его смерть в автокатастрофе и одновременно смерть телезвезды в столкновении с Элизабет Тейлор, столкновении, которое педантично моделировалось и оттачивалось в течение месяцев), происходит во время съёмок. Этот мир был бы ничем без этого гиперреального раздвоения. Только редупликация, только развёртывание визуального медиума на втором уровне способно обеспечить слияние технологии, секса и смерти. Но на самом деле фотография здесь не медиум и не принадлежит к порядку репрезентации. Речь идёт не о «дополнительном» абстрагировании образа, не о непреодолимом влечении к спектакулярному, и позиция Воана — это отнюдь не позиция вуайериста или извращенца. Фотоплёнка (так же как музыка, которая несётся из приёмников салонов автомобилей и квартир) является частью той универсальной, гиперреальной плёнки, которую образует воплощённый в металл и тела транспорт и его потоки. Фотография не в большей степени медиум, чем технология или тело, — всё это симультанно в мире, где антиципация события совпадает с его воспроизведением и даже с его «реальным» развёртыванием. Нет больше и глубины времени — так же как прошлое, в свою очередь, перестаёт существовать и будущее. Фактически это глаз камеры субституирует время, так же как и любую другую глубину — чувства, пространства, языка. Это не какое-то иное измерение, это всего лишь означает, что данный мир остался без тайн.
Позади стоял хорошо экипированный манекен с подбородком, задранным потоком воздуха. Его руки крепко держали руль, как руки камикадзе, а торс был увешан измерительными приборами. В машине напротив сидели четыре манекена, представляющие семью. Их тела были покрыты эзотерическими знаками.
Хлопанье кнута резануло наши уши: кабели измерительных приборов извивались, скользили по траве вокруг рельсов. С резким металлическим скрежетом мотоцикл врезался в переднюю часть автомобиля. Оба механизма отнесло к застывшим зрителям из первого ряда. Мотоцикл и его водитель пролетели над капотом машины и ударились в лобовое стекло, затем по крыше косо прогрохотала чёрная масса обломков, машину отнесло футов на десять назад, вдоль направляющих, где она и застыла, перевернувшись крышей на рельсы. Капот, лобовое стекло и крыша были смяты ударом. Члены семьи в кабине завалились друг на друга, обезглавленный торс женщины на переднем сиденье впечатался в растрескавшееся лобовое стекло… Ковёр из щепок вокруг автомобиля был усеян стружкой из стекловолокна, вырванной из лиц и плеч манекенов и напоминавшей серебристый снег или какое-то жуткое конфетти. Элен взяла меня за руку, поощрительно кивая, словно помогая ребёнку преодолеть какое-то психологическое замешательство: «Мы можем ещё раз взглянуть на экране на всё, что произошло. Они показывают всё в замедленной съёмке».
В «Автокатастрофе» всё гиперфункционально, потому что и дорожное движение, и авария, и технология и смерть, и секс, и симуляция являются как бы одним большим и синхронным механизмом. Это тот самый мир, что и в гипермаркете, где товар становится «гипертоваром», то есть навсегда включённым вместе со всем своим окружением в систему непрерывной циркуляции. Но вместе с тем функционализм «Автокатастрофы» поглощает свою собственную рациональность, ведь ему больше неизвестно такое явление, как дисфункция. Это радикальный функционализм, который достигает своих парадоксальных границ и стирает их. Он вдруг вновь становится неопределимым, а следовательно, и захватывающим. Не хорошим и не плохим — амбивалентным. Подобно смерти или моде, он вдруг снова становится траверсивным, тогда как старый добрый функционализм, пусть и спорный, отнюдь не является таковым, то есть он становится более коротким путём, чем основная дорога, или путём, ведущим туда, куда не ведёт главная дорога, или ещё лучше — здесь мы спародируем Литтре на патафизический лад — «дорогой, которая не ведёт никуда, но ведёт туда быстрее, чем другие».
Именно это отличает «Автокатастрофу» от всей или почти всей научной фантастики, которая большей частью всё ещё вращается вокруг старой пары функция/дисфункция, перенося её в будущее согласно тем же силовым линиям и тем же целям, которые существуют в обычном мире. Фантастика превосходит в ней реальность (или наоборот), но по тем же правилам игры. В «Автокатастрофе» больше нет ни фантастики, ни реальности, и то и другое отменяет гиперреальность. И даже критическая регрессия невозможна. Этот мир мутирующей и коммутирующей симуляции и смерти, этот мир неистовой сексуальности, но сексуальности без желания, переполненный насилующими и изнасилованными, но как бы нейтрализованными телами, этот мир хроматической и металлической напряжённости, но лишённый чувственности, мир гипертехнологии без финальности — он хороший или плохой? Мы никогда не узнаем об этом. Он просто завораживающий, и эта фасцинация не подразумевает какой-либо оценки. Вот в чём чудо «Автокатастрофы». Нигде на поверхности не выныривает этот поучительный взгляд, это критическое суждение, которое всё ещё является неотъемлемой составляющей функциональности старого мира. «Автокатастрофа» гиперкритична (и это также вопреки автору, который во введении говорит о «предупредительной функции, о предостережении против этого жестокого мира с его крикливыми огнями, который всё докучливее добивается вас на обочине технологического пейзажа»). Мало какие книги, мало какие фильмы достигают этого уровня разрыва со всякой финальностью или с критическим отрицанием, этого тусклого великолепия банальности и насилия. Может быть «Нэшвилл», «Заводной апельсин»{146}.
После Борхеса, но в другом регистре «Автокатастрофа» является первым большим романом о мире симуляции, том мире, с которым мы отныне повсюду будем иметь дело, — асимволический мир, который, однако, через своего рода преобразование массмедиатизированной субстанцией (неон, бетон, автомобили, эротическая механика) выглядит так, будто пронизан интенсивной силой инициации.
Последняя машина «скорой помощи» отъехала под вой сирен. Люди вернулись к своим автомобилям. Впереди нас прошла девушка в джинсах. Парень, который сопровождал её, обвил одной рукой её талию, а другой ласкал её правую грудь, касаясь пальцами соска. Они сели в двухместный кабриолет, украшенный флажками и жёлтыми разводами… Эта всеобъемлющая сексуальность наполнила воздух, словно мы были членами общины, покидающими проповедь, которая призывала восславить нашу сексуальность с друзьями и незнакомцами, и мы уезжали в ночь, чтобы сымитировать с самыми неожиданными партнёрами кровавое причастие, которое мы только что созерцали.
Симулякры и научная фантастика
Есть три порядка симулякров:
• симулякры естественные, натуралистические, основанные на образе, имитации и подделке, гармоничные, оптимистичные и направленные на реституцию или идеальную институцию природы по образу и подобию Божию;
• симулякры продуктивные, направленные на повышение производительности, основанные на энергии, силе, её материальном воплощении в машине и всей системе производства, — Прометеево стремление к глобализации и непрерывной экспансии, к высвобождению безграничной энергии (это желание является частью утопий, связанных с данным порядком симулякров);
• симулякры симуляции, основанные на информации, моделировании, кибернетической игре, — полнейшая операциональность, гиперреалистичность, нацеленная на тотальный контроль.
Первому порядку соответствует воображаемое утопии. Второму соответствует научная фантастика, собственно говоря. Третьему порядку соответствует… есть ли ещё какое-то воображаемое, которое соответствовало бы этому порядку? Вероятный ответ таков, что старое доброе воображаемое научной фантастики умерло и что сейчас на поверхность всплывает что-то другое (и не только в художественной литературе, но и в теории). Та же обречённость на флотацию и индетерминацию кладёт конец научной фантастике, но вместе с ней и теории как двум специфическим жанрам.
И реальное, и воображаемое существуют лишь на определённой дистанции. Что происходит, когда эта дистанция, включая дистанцию между реальным и воображаемым, начинает исчезать, поглощаться исключительно в пользу модели? Примечательно, что, переходя от одного порядка симулякров к другому, мы наблюдаем всё ту же тенденцию исчезновения этой дистанции, этого промежутка, который оставляет место для проекции идеального или критического характера.
• Эта дистанция максимальна в утопии, которая отражает сферу трансцендентного, коренным образом иной мир (романтическая мечта ещё остаётся его индивидуализированной формой, в которой трансцендентность отражается в глубине, в структурах бессознательного, но в любом случае отрыв от реального мира максимальный, и перед нами остров утопии, который противостоит континенту реального).
• Эта дистанция значительно сокращается в научной фантастике: последняя зачастую является лишь диспропорциональной, но качественно не отличимой от реального мира производства проекцией. Происходит наращивание механических или энергетических возможностей, скорости и мощности достигают энной степени, но схемы и сценарии остаются такими же, как и в механике, металлургии и т. д. Это проективные ипостаси робота. (Ограниченному миру доиндустриальной эпохи утопия противопоставляла идеальный альтернативный мир. К потенциально бесконечному миру производства научная фантастика добавляет прирост своих собственных возможностей.)
• Эта дистанция полностью исчезает в имплозивную эру моделей. Модели больше не являются трансцендентностью или проекцией, они больше не являются воображаемым относительно реального, они сами антиципация реального и, следовательно, не оставляют места для какой-либо фантастической антиципации — они имманентны, следовательно, не оставляют места для какой-либо воображаемой трансцендентности. Поле, которое приоткрывается, — это поле симуляции в кибернетическом смысле, то есть поле всесторонней манипуляции моделями (сценарии, создание смоделированных ситуаций и т. д.), но тогда ничто не отличает этот процесс управления от самого процесса реального: фантастики больше не существует.
Реальность могла бы превзойти фантастику: это было бы верным признаком возможной эскалации воображаемого. Но реальное не может превзойти модель, алиби которой оно всего лишь является.
Воображаемое было алиби реального в мире, в котором господствовал принцип реальности. Сегодня само реальное стало алиби модели в мире, которым управляет принцип симуляции. И, как это ни парадоксально, именно реальное становится нашей подлинной утопией, но той утопией, осуществить которую уже невозможно, о которой можно лишь мечтать как о потерянном безвозвратно.
Возможно, в кибернетическую и гиперреальную эру научная фантастика может лишь исчерпать себя, искусственно возрождая «исторические» миры, в попытках реконструировать «в пробирке» вплоть до малейших деталей перипетии предшествующего мира, события, действующих лиц, идеологии прошлого, лишённые смысла и подлинного звучания, но создающие иллюзии своей ретроспективной правдоподобностью. Так происходит в «Симулякрах» Ф. Дика с Гражданской войной в США. Гигантская трёхмерная голограмма, в которой фантастике больше никогда не суждено быть зеркалом, обращённым в будущее, но лишь безнадёжно повторной галлюцинацией прошлого.
Мы больше не способны представить себе какой-либо иной мир, благодать трансцендентности покинула нас так же. Классическая научная фантастика была фантастикой расширяющегося мира, она черпала свои силы из рассказов об исследовании космического пространства, которые перекликались с более земными формами исследования и освоения, присущими XIX и XX столетиям. В этом нет чёткой причинно-следственной связи: мировой рынок — рынок не только товаров, но и ценностей, знаков, моделей — не оставляет никакого места воображаемому; примерно из-за этого и исследовательский (технический, психический, космический) мир научной фантастики также прекратил своё существование, но совсем не потому, что земное пространство сегодня виртуально выражено с помощью кода, нанесено на карты, переписано, насыщено и таким образом будто замкнуто в себе вследствие глобализации. Однако оба этих явления чётко связаны между собой и являются двумя сторонами одного и того же общего процесса имплозии, пришедшего на смену гигантскому процессу эксплозии и экспансии, характерному для прошлых веков. Когда система достигает своих собственных границ и полностью насыщается, происходит реверсия — возникает нечто иное, в том числе и в воображаемом.
До сих пор у нас всегда был резерв воображаемого, то есть коэффициент реальности пропорционален резерву воображаемого, которое и делает реальное полновесным. Это также верно относительно географических и космических исследований: когда не остаётся девственной территории, а значит, территории, доступной для воображаемого, когда карта покрывает всю территорию, такие вещи, как принцип реальности, исчезают. Освоение космоса представляет в этом плане ту черту, после которой потеря земного референтного становится необратимой. Когда границы мира отступают в бесконечность, происходит утечка реальности как внутренней связности ограниченного мира. Освоение космоса, которое состоялось после освоения планеты, эквивалентно дереализации человеческого пространства и его переходу в гиперреальность симуляции. Как свидетельство — эта двухкомнатная квартира с кухней и душем, выведенная на орбиту, так сказать, возведённая в космическую степень, вместе с последним лунным модулем. Сам повседневный характер этого земного жилья, возведённого в ранг космической ценности, гипостазирование{147} его в космическом пространстве, сателлитизация реального в трансцендентности космоса — это конец метафизики, конец фантазма, конец научной фантастики и начало эры гиперреальности.
С этого момента что-то должно измениться: прогноз, экстраполяция, эта разновидность пантографической чрезмерности — всё, что придавало шарм научной фантастике, становится невозможным. Теперь невозможно выстроить нереальное на основе реального, воображаемое на основе данных о реальном. Процесс будет протекать скорее в обратном направлении: он будет состоять в децентрации ситуаций и моделей симуляции, в изобретательных попытках прибавить им красок реального, повседневного, пережитого, в переосмыслении реального как фантастического, и именно потому, что оно исчезло из нашей жизни. Иллюзия реального, пережитого, повседневного, но воспроизведённого иногда с такими странными деталями, что они начинают смущать, воспроизведённого как животный или растительный заповедник, выставленного на обзор в своей прозрачной точности, но лишённого сущности, заранее дереализованного, гиперреализованного.
Пожалуй, научная фантастика в этом случае уже не будет чем-то романическим, раздающимся вширь со всей той свободой и «наивностью», которую даёт ей очарование открытия, скорее наоборот — она будет развиваться имплозивно, так же как развивается нынешняя концепция Вселенной, пытаясь возродить, перевоссоздать, оповседневить фрагменты симуляции, фрагменты той общей симуляции, которая стала для нас миром, именуемым «реальный».
Так где же те произведения, которые отныне должны соответствовать этой инверсии, этой реверсии ситуации? Очевидно, что новеллы Филипа Дика «гравитируют», если можно так сказать (но сказать так уже не очень-то и можно, и именно потому, что этот новый мир «антигравитационный», или если он и гравитирует, то вокруг дыры реального, дыры воображаемого) в этом новом пространстве. Дик не изображает альтернативную вселенную, у него нет космической экзотики, фольклора или галактических подвигов, потому что у него мы сразу же попадаем в тотальную симуляцию, имманентную, без происхождения, без прошлого, без будущего, во флотацию всех координат (ментальных, временных, пространственных, знаковых) — речь идёт не о параллельном мире, дублированном мире или даже о потенциальном мире, — не о возможном, не о невозможном, не о реальном, не о нереальном — о гиперреальном — мире симуляции, являющемся чем-то совершенно иным. И не потому, что Дик говорит конкретно о симулякрах. Научная фантастика всегда делала это, но она обыгрывала двойника, искусственное или воображаемое дублирование или раздвоение, тогда как здесь двойник исчез, двойника больше не существует, мы навсегда попали в иной мир, который больше не другой мир, который является миром без зеркала, без проекции или утопии, способных отразить его, — симуляция такова, что её невозможно преодолеть, невозможно выйти за её пределы, она ничего не отражает и не имеет внешнего проявления, — мы даже не сможем больше перейти «по ту сторону зеркала», как это было возможно в «золотой век» трансцендентности.
Другим примером, возможно, ещё более убедительным, мог бы быть пример Балларда и его эволюции, начиная с первых новелл, очень «фантасмагорических», поэтических, экзотических и грезоподобных, к «Автокатастрофе», которая, безусловно (больше, чем «Высотка» или «Бетонный остров»), является современным образцом той научной фантастики, которая перестала таковой быть. «Автокатастрофа» — это наш мир, в нём ничего не выдумано, в нём всё гиперфункционально — дорожное движение и авария, технология и смерть, секс и фотообъектив, — в нём всё будто какая-то большая, синхроническая и симулированная машина, то есть акселерация наших собственных моделей, всех моделей, которые окружают нас, перемешанных и гипероперационализированных в пустоте. Это то, что отличает «Автокатастрофу» почти от всей научной фантастики, которая в основном всё ещё вращается вокруг старой (механической и механистической) пары — функция/дисфункция, перенося её в будущее, согласно с теми же силовыми линиями и теми же целями, которые существуют и в «обычном» мире. Фантастика превосходит в ней реальность (или наоборот: это более тонко), но по тем же правилам игры. В «Автокатастрофе» больше нет ни фантастики, ни реальности, их отменяет гиперреальность. Это и есть, если она всё же существует, наша современная научная фантастика. Может, ещё «Жук Джек Бэррон»{148}, некоторые отрывки из «Всем стоять на Занзибаре!».
Фактически научная фантастика в прямом смысле нигде больше не существует, и вместе с тем она повсюду — в циркуляции моделей, здесь и сейчас, в самой аксиоматике окружающей симуляции. Она может внезапно возникнуть в грубом виде вследствие самой инерции этого операционального мира. Какой фантаст мог бы «выдумать» (как раз такое уже больше не «выдумывается») эту «реальность» западногерманских заводов-симулякров, заводов, которые повторно нанимают безработных, чтобы те изображали производственный процесс, но которые не производят ничего и вся деятельность которых сводится к игре в заказ, конкуренцию, бухгалтерский учёт, обмен документами между этими заводами внутри одной большой общей сети? Всё материальное производство удваивается в пустоте (один из этих заводов-симулякров даже «реально» обанкротился, во второй раз оставив без работы своих безработных). Это и есть симуляция: не потому, что эти заводы фальшивые, а именно потому, что они реальны, гиперреальны, и поэтому они отсылают «истинное» производство, производство «серьёзных» заводов, к той же гиперреальности. И самое интересное здесь не оппозиция между настоящими и фальшивыми заводами, а, наоборот, отсутствие чёткого различия между ними, тот факт, что остальные предприятия имеют не более референтной основы или фундаментальной цели, чем эти «симулякры» бизнеса. Именно в этой гиперреальной индифферентности и заключается истинное «научно-фантастическое» свойство этого казуса с заводами. И становится очевидным, что выдумывать его нет нужды: он здесь, он вынырнул на поверхность мира без тайн, без глубины.
Без сомнения, самым трудным сегодня в сложном мире научной фантастики является распознать то, что ещё соответствует (а это значительная часть) воображаемому второго порядка, порядка продуктивного/проективного, и то, что уже принадлежит к этой неразличимости воображаемого, к этой флотации, характерной для третьего порядка симуляции. Так, можно чётко провести различие между механическими машинами-роботами, характерными для второго порядка, и кибернетическими машинами, компьютерами и т. д., принадлежащими по своей аксиоматике к третьему порядку. Но один порядок вполне может смешиваться с другим, и компьютер вполне может функционировать как механическая супермашина, некий суперробот, сверхмощная машина, демонстрируя продуктивный дух симулякров второго порядка — в таком случае он не втягивается в процесс симуляции и по-прежнему является отражением мира, наделённого целью (включая амбивалентность и способность восставать, как компьютер в «Космической одиссее» или Салманассар во «Всем стоять на Занзибаре!»).
Между оперным (театральный статус, статус фантастической театральности машин, «Гранд-опера» техники), что соответствует первому порядку, операционным (индустриальный, продуктивный статус, исполнительный механизм энергии и мощности), что соответствует второму порядку, и операциональным (кибернетический, алеаторный, флотационный статус «метатехники»), что соответствует третьему порядку, на уровне научной фантастики сегодня ещё могут иметь место любые случаи взаимодействия. Однако лишь последний порядок ещё может заинтересовать нас по-настоящему.
Животные: территория и метаморфозы
К чему стремились палачи инквизиции? К признанию Зла, принципа Зла. Нужно было заставить обвиняемых сказать, что их вина лишь случайная, что она — следствие вмешательства принципа Зла в божественный порядок. Таким образом, признание восстанавливало вызывающую доверие каузальность, и пытки, уничтожение Зла через пытки, были лишь триумфальным (не садистским и не искупительным) завершением действия, порождённого Злом как первопричиной. В противном случае малейшая ересь ставила бы под сомнение всё божественное творение. Так же и мы, когда используем и наносим вред животным в лабораториях, в космических ракетах, прибегая во имя науки к этой экспериментальной жестокости, — какое признание мы хотим вырвать у них под скальпелем и электродами?
Определённо признание принципа объективности, в котором наука никогда не была уверена и в который она втайне и вовсе теряет веру. Нужно заставить животных сказать, что они не животные, что зверство, дикость со всем тем непонятным, радикально несовместимым с умом, что они содержат в себе, не существует и что, наоборот, самое зверское, самое исключительное, самое анормальное поведение находит своё объяснение в науке, превращаясь в физиологические механизмы, мозговые соединения и т. д. Нужно убить в животных зверство и его принцип неопределённости.
Экспериментирование, следовательно, не средство для достижения цели — это современный вызов и современные пытки. Оно не ищет ясности, оно вырывает признание науки, как когда-то вырывали признание веры. Признание того, что очевидные отклонения в виде болезни, безумия, зверства являются лишь временными расстройствами в прозрачности каузальности. Это доказательство, как когда-то доказательство божественного разума, должно постоянно и повсеместно возобновляться — в этом смысле мы все животные, причём животные лабораторные, которых постоянно подвергают тестированию, чтобы вырвать из нас рефлекторные реакции в знак признания рациональности в последней инстанции. Повсюду зверство должно уступить место рефлекторному анимализму, изгоняющему порядок необъяснимого, дикого, воплощением которого для нас, через своё молчание, как раз и остались животные.
Животные, следовательно, были нашими предшественниками на пути либерального уничтожения. Все аспекты современного обращения с животными напоминают особенности манипулирования людьми — от экспериментов до ускорения темпов индустриального разведения.
Европейские ветеринары, собравшиеся на конгресс в Лионе, выразили озабоченность по поводу болезней и психических расстройств, которые распространяются в индустриальном животноводстве.
«Наука и будущее», июль 1973 г.Среди кроликов распространяется болезненная тревожность, они становятся копрофагами и теряют способность к размножению. Уже от рождения кролик кажется «тревожным», «дезадаптивным». Наблюдается большая уязвимость к инфекциям и различным паразитам. Антитела теряют свою эффективность, самки становятся стерильными. Спонтанно, если можно так сказать, увеличивается смертность.
Истерия цыплят распространяется на всю группу, коллективное «психическое» напряжение может достигать критического предела, тогда все животные поднимают крик и хаотично мечутся. После окончания кризиса наступает подавленность, всеобщий страх, животные прячутся по углам, безголосые и будто парализованные. После первого же потрясения кризис возобновляется. Так может продолжаться несколько недель подряд. Были попытки давать им транквилизаторы…
У свиней проявляется каннибализм. Животные ранят сами себя. Телята начинают вылизывать всё, что их окружает, иногда вплоть до смерти.
Следует констатировать, что сельскохозяйственные животные страдают психически… Возникает потребность в зоопсихиатрии… Фрустрационные психические состояния препятствуют нормальному развитию.
Темнота, красный свет, различные приспособления, транквилизаторы — ничего не помогает. У домашних птиц существует иерархия доступа к пище, субординация. В условиях перенаселения последним в этом порядке вообще не удаётся питаться. Люди пытались сломать субординацию и демократизировать доступ к пище с помощью другой системы распределения. Неудача — разрушение этого символического порядка приводит к полному замешательству среди птицы и к хронической нестабильности. Замечательный пример абсурдности — всем известны аналогичные плачевные последствия благих демократических намерений в племенных обществах.
Животные испытывают соматические изменения вследствие психических переживаний! Экстраординарное открытие! Раковые заболевания, желудочные язвы, инфаркты миокарда у мышей, свиней, цыплят!
В заключение автор предполагает, что, по-видимому, единственным лекарством является пространство — «немного больше пространства, и многие из тех расстройств, которые мы наблюдаем, исчезли бы». Во всяком случае, «судьба этих животных стала бы менее плачевной». Поэтому он удовлетворён конгрессом: «Современная обеспокоенность участью сельскохозяйственных животных свидетельствует в очередной раз, что союз этики и разума — правильно осознанный интерес»; «С природой нельзя поступать как попало». Поскольку проблемы стали настолько серьёзными, что начали вредить рентабельности предприятий, это снижение прибыли может заставить производителей создать животным более нормальные условия существования. «Чтобы разведение было здоровым, отныне необходимо будет заботиться также о психическом равновесии животных». И автор предсказывает то время, когда животных, как людей, будут отправлять в сельскую местность для восстановления этого психического равновесия.
Ещё никогда не было так хорошо сказано, в какой мере «гуманизм», «нормальность», «качество жизни» являются всего лишь превратностями рентабельности. Какая чёткая параллель между этими животными, больными от прибавочной стоимости, и людьми, больными от промышленной концентрации, научной организации труда и конвейерных заводов! И здесь также капиталистические «скотоводы» были принуждены к решительному пересмотру методов эксплуатации, к внедрению инноваций и постоянных усовершенствований в виде «качества труда», «усложнения заданий», к открытию «гуманитарных» дисциплин и «психосоциологического» измерения завода. Лишь неизбежная смерть делает пример животных более ярким, чем пример людей, приставленных к конвейеру.
Против индустриальной организации смерти животные не имеют иного ресурса и не могут бросить другого вызова, кроме самоубийства. Все описанные выше аномалии являются суицидальными. Это сопротивление означает неудачу индустриального подхода (снижение прибыли), и особенно ощущается то, что оно находится в противоречии с логическими рассуждениями специалистов. Если исходить из логики рефлекторного поведения и взаимосвязи, животное — машина, а если с позиции рациональной логики, эти аномалии необъяснимы. Значит, животных следует наделить психикой, иррациональной и расстроенной психикой, обречённой на либерально-гуманистическую терапию, хотя конечная цель будет оставаться при этом неизменной: смерть.
Таким образом, мы изобретательно открываем психику животных как новую, неисследованную область науки, когда те обнаруживают дезадаптацию к смерти, которую для них готовят. Так же как мы вновь открываем психологию, социологию, сексуальность заключённых, когда всё это становится невозможным просто потому, что они уже сидят в тюрьме.[16] Становится очевидным, что заключённый нуждается в свободе, сексуальности, «нормальности», чтобы выдержать тюрьму, так же как индустриальные животные нуждаются в определённом «качестве жизни», чтобы нормально умереть. И в этом нет ничего противоречивого. Рабочий также нуждается в самоуправлении и в чувстве собственной значимости, чтобы более полно соответствовать императиву производства. Каждый человек нуждается в определённой психической жизни для своей адаптации. Другой причины для пришествия психического, сознательного или бессознательного не существует. И его «золотой век», который длится до сих пор, совпадает с невозможностью рациональной социализации во всех сферах. Ни гуманитарные науки, ни психоанализ никогда не появились бы, если бы каким-то чудом было возможно свести человека к «рациональному» поведению. Всё это открытие психологического, сложность которого может расти до бесконечности, вызвано невозможностью эксплуатировать до смерти (рабочих), держать под стражей до смерти (заключённых), откармливать до смерти (животных), согласно строгому закону эквивалентностей:
столько-то времени и калорий энергии = столько-то рабочей силы;
такое-то преступление = такое-то соответствующее наказание;
столько-то пищи = оптимальный вес и индустриальная смерть.
Все эти вещи пробуксовывают, и тогда возникает психическое, ментальное, невротическое, психосоциальное и т. д., и не для того, чтобы порвать с этим бредовым уравнением, но для того, чтобы восстановить скомпрометированный принцип эквивалентности.
В итоге, как вьючные [somme] животные, они должны были работать на человека. Как подопытные [sommation] животные, они должны отвечать на вопросы науки. Как животные, предназначенные для потребления [consommation], они стали индустриальным мясом. Как соматизированные животные, они обязаны сегодня разговаривать на языке «психического», отвечать за свою психику и за проступки своего бессознательного. С ними случилось всё то, что происходит и с нами. Наша судьба никогда не расходилась с их судьбой, и в этом своего рода горький реванш над человеческим разумом, который исчерпал свои силы, утверждая абсолютное преимущество человеческого над животным.
Впрочем, животные получили свой статус бесчеловечности лишь в ходе прогресса рациональности и гуманизма. Логика, параллельная логике расизма. Как таковое «царство» животных существует лишь, поскольку существует человек. Повторение генеалогии их статусов относительно друг друга заняло бы слишком много времени, но пропасть, разделяющая нас сегодня, пропасть, которая позволяет посылать животных вместо нас в эти страшные миры внеземного пространства и лабораторий, пропасть, которая позволяет уничтожать виды, отправляя как в архив отдельные экземпляры животных в африканские заповедники или в ад зоопарков, потому что в нашей культуре место для них появляется, лишь когда они мертвы, — и всё это прикрыто расистской сентиментальностью (малыши тюлени Брижит Бардо), эта пропасть, разделяющая нас, стала следствием одомашнивания диких животных, так же как истинный расизм стал следствием введения рабства.
Некогда животным был свойствен более священный, более божественный характер, чем людям. В первобытных обществах нет даже «царства» людей, и долгое время порядок животных оставался порядком референции. Лишь животное достойно быть принесённым в жертву как божество, и только потом, в нисходящем порядке, идёт человеческая жертва. Люди классифицируют себя по происхождению от животного: так, индейцы бороро «являются» попугаями ара. Это явление не принадлежит ни к дологическому или психоаналитическому порядку, ни к ментальному порядку классификации, к которой свёл характер животных Леви-Стросс{149} (хотя то, что животные могли использовать язык, уже фантастическое допущение, это также было составляющей их божественности), — нет, оно означает, что бороро и ара являются частью одного цикла и что цикличность исключает любое разделение на виды и все те отличительные оппозиции, которыми мы мыслим. Структурная оппозиция — дьявольская, она выделяет и сталкивает различные тождественности: таково выделение человеческого, которое отбрасывает животных в нечеловеческое, — а цикл символичен: он отменяет позиции в обратимой последовательности — в этом смысле бороро «являются» ара, так же, как по утверждениям канаков{150}, мёртвые прогуливаются среди живых. (Или к чему-то похожему стремится Делез со своим «становлением-животным», когда призывал: «Станьте розовой пантерой!»?)
Так или иначе, но животным всегда было присуще, до настоящего времени, божественное или жертвенное благородство, описания которого находим во всех мифологиях. Даже убийство во время охоты ещё остаётся символическим взаимоотношением в отличие от экспериментального препарирования. Даже приручение ещё остаётся символическим взаимоотношением в отличие от индустриального разведения. Достаточно обратить внимание на статус животных в крестьянском обществе. При этом не следует путать статус доместикации, которая предполагает наличие участка земли, клана, системы родства, в которую входят и животные со статусом домашних питомцев — единственного типа животных, оставшегося нам вне границ заповедников и мест разведения, — собак, кошек, птичек, хомячков, переполненных любовью своих хозяев. Путь, который прошли животные от божественной жертвы к собачьему кладбищу, над которым льётся тихая музыка, от сакрального вызова к экологической сентиментальности, многое говорит о вульгаризации статуса самого человека, и это ещё раз подтверждает неожиданную взаимосвязь между нами и животными.
Именно наша сентиментальность по отношению к животным является верным знаком нашего к ним презрения. Она пропорциональна этому презрению. Именно по мере своего отнесения к сфере безответственности, бесчеловечности животное становится достойным человеческого ритуала любви и заботы точно так же, как ребёнок по мере своего отнесения к статусу наивности и инфантильности. Сентиментальность — это лишь бесконечно выродившаяся форма зверства, расистского сочувствия: нам надо унизить животных, чтобы вызвать сентиментальность по отношению к ним.
Те, кто когда-то приносил животных в жертву, не держали их за безмозглый скот. И даже люди Средневековья, которые осуждали и наказывали их по всем правилам, были в этом гораздо ближе к ним, чем мы, которых такая практика шокирует. Тогда считали животных виновными, и это была форма их почтения. Мы же не считаем их ни за что, и именно на этом основании мы «гуманны» с ними. Мы больше не приносим их в жертву, мы не наказываем их, и мы гордимся этим, но это лишь потому, что мы приручили их, или даже хуже того — потому, что мы сделали их расово неполноценными, которые даже не заслуживают нашего правосудия, разве что нашу привязанность и социальное милосердие; которые даже не заслуживают наказания и смерти, разве что экспериментирования и забоя на мясо на скотобойнях.
Именно из резорбции всех форм насилия, которое творится относительно них, сегодня и проистекает монструозность животных. На смену насилию жертвоприношений, которое выступает насилием «близости», «интимности» (Батай), пришло сентиментальное или экспериментальное насилие, которое является насилием отдаления друг от друга.
Монструозность приобрела другое значение. Изначальную монструозность животных как предмет ужаса и фасцинации, но вовсе не негативных, лишь амбивалентных, монструозность как предмет обмена и метафоры — во время жертвоприношений, в мифологии, в геральдическом бестиарии и даже в наших грёзах и наших фантазмах, — эту монструозность, переполненную всевозможными угрозами и всевозможными метаморфозами, монструозность, которая втайне находит своё решение в живой культуре людей и является одной из форм альянса, мы обменяли на спектакулярную монструозность, монструозность Кинг-Конга{151}, вырванного из джунглей и превращённого в звезду мюзик-холла. В результате культурный сценарий инвертируется. Прежде культурный герой уничтожал зверя, дракона, чудовище, и из пролитой крови возникали растения, люди, культура; сегодня же животное Кинг-Конг приходит, чтобы опустошить индустриальные метрополии, приходит, чтобы освободить нас от нашей мёртвой культуры, ставшей такой после того, как она вычеркнула из себя любую реальную монструозность и разорвала заключённый с ней пакт (что выражается в фильме через примитивное подношение женщины). Глубинный соблазн фильма обусловлен именно этой инверсией смысла: вся бесчеловечность переходит на сторону людей, весь гуманизм переходит на сторону пленённого зверя и на сторону взаимного соблазна женщины и животного, монструозного соблазна одного порядка другим, порядка человеческого и животного. Конг погибает потому, что ему удалось восстановить связь через соблазн, с этой возможностью метаморфозы одного царства в другое, с этим кровосмесительным промискуитетом между животными и людьми, так никогда и не реализованным, разве что символически-ритуальным образом.
В сущности, путь, который прошли животные, не отличается от пути сумасшедших и детей, секса или негритюда{152}. Логика исключения, заключения, дискриминации и, неизбежно взамен этого, логика реверсии, обратимого насилия, которое приводит к тому, что целое общество начинает равняться на аксиомы безумия, инфантильности, сексуальности и низших рас (очищенных, следует сказать, от тех радикальных вопросов, которые возникают в связи с самим фактом их исключения). Конвергенция цивилизационного процесса поражает. Животные, подобно мёртвым и многому другому, прошли через этот непрерывный процесс приобщения путём исключения, который заключается в том, чтобы ликвидировать, а затем заставить говорить исчезнувшие виды и признать их через их исчезновение. Заставить говорить животных, как заставляли говорить сумасшедших, детей, секс (Фуко). Это тем более невероятно в отношении животных, чей принцип неопределённости, удручающий человека с момента разрыва их альянса, основывается на том, что они не говорят.
Историческим ответом на вызов безумия стала гипотеза бессознательного. Бессознательное — это логистическая система, позволяющая осмысливать безумие (и вообще любое странное или аномальное образование) в системе смысла, расширенной до пределов бессмысленного [non-sens], замещённого ужасами безумия [insensé] и отныне понятного благодаря использованию определённого дискурса: психика, неосознанное побуждение, подавление и т. д. Это сумасшедшие принудили нас к гипотезе бессознательного, но взамен мы устроили им ловушку. Ведь если поначалу бессознательное, казалось бы, оборачивается против разума и несёт радикальную субверсию, если оно, казалось бы, лишь потенциально заряжено на разрыв с безумием, то со временем оно оборачивается против последнего, потому что оно — это то, что позволяет присоединить безумие к разуму более универсальному, чем классический.
Сумасшедшие, некогда немые, сегодня услышаны всеми, благодаря тому, что нашли способ расшифровки их посланий, которые воспринимались раньше как абсурдные и непонятные. Дети также обрели голос, они уже больше не те странные и одновременно незначительные существа в мире взрослых — дети имеют значение, они превратились в означающее не вследствие какого-то «освобождения» их «говорения», а потому, что разум взрослых получил более тонкие средства, чтобы предотвратить угрозу их молчания. Были услышаны также первобытные люди, к ним обращаются, прислушиваются, они больше не животные, и Леви-Стросс был прав, когда говорил, что их ментальная организация была такой же, как наша, психоанализ связал их с эдиповым комплексом и либидо — сработали все наши коды, и они ответили на них. Они были погребены в молчании, теперь погребены в «говорении», «ином» конечно же, но под лозунгом «различия», как когда-то под лозунгом единства Разума, — не следует впадать в заблуждение — это тот же порядок превосходства: империализм разума, неоимпериализм различия. Главное при этом то, что ничто не избегает верховенства смысла, наделения смыслом. Конечно, при всём этом никто с нами не разговаривает — ни сумасшедшие, ни мёртвые, ни дети, ни дикари, — и, по сути, мы ничего не знаем о них, но важно то, что разум спас свою репутацию и что всё это избежало молчания.
Но животные — они по-прежнему не говорят. В мире всё возрастающего «говорения», в мире принуждённого исповедания и изъяснения только они хранят молчание, и вследствие этого нам кажется, что они отступили далеко от нас, за горизонт истины. Но это то, что сближает нас с ними. Важна не экологическая проблема их выживания. Важной всегда была и до сих пор остаётся проблема их молчания. В мире, который стремится к тотальному высказыванию, в мире, собранном под гегемонией знаков и дискурса, их молчание приобретает всё большее значение для нашей организации смысла.
Конечно, их заставляют говорить, всевозможными способами, один безвиннее другого. Они были носителями морального дискурса о человеке в баснях. Они поддерживали структурный дискурс в теории тотемизма. Они ежедневно передают своё «объективное» сообщение — анатомическое, физиологическое, генетическое — в исследовательских лабораториях. Они поочерёдно служили в качестве метафор для добродетелей и пороков, в качестве экологической и энергетической модели, механической и формальной моделью в бионике{153}, фантазматическим регистром в бессознательном и, наконец, моделью полной детерриториализации желания в «становлении-животном» Делеза (парадоксальная вещь: избрать животное моделью детерриториализации, тогда как оно является в высшей степени существом, связанным с территорией).
Во всех этих случаях — в качестве метафоры, подопытного кролика, модели, аллегории (не забывая об их пищевой «потребительской стоимости») — животных обязывают поддерживать дискурс. Они нигде не говорят по-настоящему, потому что лишь предоставляют те ответы, которые от них требуют. Это их способ возвращать человеческое к его циркулярным кодам, после чего мы становимся объектом анализа со стороны их молчания.
Невозможно избежать реверсии, которая является следствием всякого исключения. Если отказать сумасшедшим в разуме, то это рано или поздно ведёт к разрушению принципов разумности — сумасшедшие, так сказать, берут отмщение. Если отказать животным в бессознательном, в подавлении желаний, в символическом (которое путают с криками животных), то это рано или поздно, можно надеяться, приведёт к тому, что в результате чего-то подобного разъединению между безумием и бессознательным под сомнение будет поставлена обоснованность этих понятий — в том виде, в каком они определяют и различают нас сегодня. Ведь если прежде преимущество человека основывалось на монополии сознания, то сегодня оно основывается на монополии бессознательного.
У животных нет никакого бессознательного — это общеизвестная вещь. Они, вероятно, видят сны, но это предположение биоэлектрического порядка, и им не хватает языка, который только и придаёт смысл грёзам, вписывая их в символический порядок. Мы можем находиться во власти фантазий относительно животных, проецировать на них свои фантазмы и верить, что находимся вместе с ними в этой мизансцене. Но это лишь потому, что нам так удобно, — в действительности животные непостижимы для нас: и в режиме сознательного, и в режиме бессознательного. Следовательно, речь идёт не о том, чтобы силой преодолеть их непостижимость, а как раз наоборот, чтобы увидеть, каким образом они ставят под сомнение саму эту гипотезу бессознательного и к какой другой гипотезе они нас принуждают. Вот в чём смысл или отсутствие смысла их молчания.
Вот в чём заключалось молчание безумных, которое привело нас к гипотезе о бессознательном, — вот в чём состоит сопротивление животных, которое заставляет нас менять гипотезу. Ведь, если они непостижимы для нас и будут оставаться такими, мы всё же живём с ними определённым образом во взаимопонимании. И если мы живём таким образом, то конечно же не под знаком общей экологии, в некой планетарной нише, являющейся лишь увеличенной копией платоновской пещеры, где призраки животных и природные элементы общаются с тенями людей, спасшихся от политической экономии, — нет, наше глубокое взаимопонимание с животными, даже с теми, которые исчезают, находится под объединяющим, хотя с виду будто противоположным, знаком метаморфозы и территории.
Кажется, нет ничего более стабильного в плане сохранения вида, чем животные, и всё же они являются для нас символом метаморфозы, всех возможных метаморфоз. Нет ничего более мигрирующего, более кочевого с виду, чем животные, и всё же их закон — это закон территории.[17] Следует, однако, отделить от этого понятия территории все контрсмыслы. Речь идёт вовсе не о расширенном отношении отдельного субъекта или группы к собственному пространству, своего рода организационно оформленном праве на частную собственность со стороны индивида, клана или вида, — именно таков фантазм психологии и социологии, расширенной до пределов общей экологии, — ни о разновидности жизненно важной функции, экологического пузыря, в котором в сжатом виде представлена вся система потребностей.[18] Территория — это и ни пространство в том значении вольного простора и апроприации{154}, которое этот термин несёт для нас, ни инстинкт, ни потребность, ни структура (будь то «культурная» или «поведенческая»), понятие территории определённым образом противопоставляется также понятию бессознательного. Бессознательное — это «погребённая», подавленная и бесконечно разветвлённая структура. Территория открыта и ограничена. Бессознательное — это место бесконечного повторения подавления и фантазмов субъекта. Территория же — это место завершённого цикла сродства и обменов без субъекта, но и без исключения: цикл животный и растительный, цикл блага и изобилия, цикл сродства и продолжения вида, цикл женский и ритуальный, — субъект отсутствует, и всё находится здесь в постоянном обмене. Обязательства имеют здесь абсолютный характер, реверсивность тотальная, но здесь никто не испытывает смерти, потому что испытывает метаморфозы. Ни субъекта, ни смерти, ни бессознательного, ни подавления, потому что нет ничего, что препятствовало бы последовательному развитию форм.
У животных нет бессознательного, потому что у них есть территория. У людей бессознательное появилось лишь после того, как они потеряли территорию. У них были отобраны одновременно территория и метаморфозы — бессознательное является той индивидуальной траурной структурой, где беспрестанно и без надежды переигрывается эта потеря, — и животные вызывают ностальгию по ней. Поэтому вопрос, который они ставят перед нами, мог бы звучать так: не живём ли мы уже сейчас за пределами линейности и аккумуляции разума, за пределами влияния сознательного и бессознательного, в этом нестандартном, символическом режиме цикличности и бесконечной реверсии в рамках ограниченного пространства? И, идя дальше, за идеальную схему, которая является схемой нашей культуры и, возможно, любой культуры вообще, схему накопления энергии и её конечного высвобождения, не мечтаем ли мы скорее об имплозии, чем о взрыве, о метаморфозе, скорее, чем об энергии, об обязательствах и ритуальном вызове, скорее, чем о свободе, о территориальном цикле, скорее, чем о… Но животные не задают вопросов. Они молчат.
Остатки
Когда вычитают всё, не остаётся ничего.
Это неверно.
Уравнение всего и ничего, вычитание остатка{155}, ошибочно с начала и до конца.
И не потому, что остатка нет. Однако последний не располагает ни автономной реальностью, ни собственным местом: это то, что отделено, отграничено, исключено и означает… что именно? Именно благодаря вычитанию остаток фундируется, приобретает силу реального и становится… чем именно?
Странно то, что для него не существует противоположного члена бинарной оппозиции: можно сказать правые/левые, идентичное/другое, большинство/меньшинство, безумное/нормальное и т. д., но остаток/… ? По ту сторону черты не стоит ничего. «Сумма и остаток», счёт к оплате и сдача, процесс и отходы — это не отличительные оппозиции.
И всё же то, что стоит по ту сторону остатка, существует и даже является эксплицитным{156} элементом, сильной долей такта, ключевым компонентом в этой странно асимметричной оппозиции, в этой структуре, которая не является таковой. Но этот эксплицитный элемент не имеет названия. Он анонимен, нестабилен, не имеет определения. Позитивный сам по себе, только через негацию он приобретает силу реального. Строго говоря, его можно было бы определить лишь как остаток остатка.
Таким образом, в намного большей степени, чем к чёткому отделению двух локализованных элементов, остаток отсылает к обратимой и реверсивной структуре, структуре с неизбежным возвратом, в которой никогда не известно, что является остатком чего. Ни в какой другой структуре невозможно выполнить эту реверсию, это mise en abyme{157}: мужской род не является женским родом женского рода, нормальное не является сумасшествием сумасшествия, правые не являются левыми относительно левых и т. д. Пожалуй, лишь относительно зеркала этот вопрос будет иметь смысл: что является отражением другого — реальное или его отображение? В этом смысле можно говорить об остатке как о зеркале или о зеркале остатка. Дело в том, что в обоих случаях структурная демаркационная линия, линия разделения смысла, стала подвижной, а значит, смысла (более буквально: возможность двигаться от одного пункта к другому вдоль вектора, определённого путём взаимного позиционирования элементов) больше не существует. Взаимного позиционирования больше нет, ведь реальное исчезает, чтобы уступить место отображению, более реальному, чем реальное, и наоборот — остаток исчезает с лицевой стороны, чтобы вновь возникнуть на изнанке, в том, остатком чего он был, и т. д.
Так же и с социальным. Кто может сказать, является ли остаток социального остатком несоциализированного или само социальное не является ли остатком, гигантскими отходами… чего именно? Процесса, который, даже если социальное полностью исчезнет и перестанет называться социальным, всё равно будет его остатком. Остаток может соответствовать всему реальному. Когда система всё поглотила, когда всё прибавлено и ничего не осталось, вся сумма делает полный оборот и становится остатком.
Обратите внимание на рубрику «Общество» газеты Le Monde, в которой парадоксальным образом появляются лишь иммигранты, преступники, феминистки и т. д. — всё, что не социализировалось, «социальные» казусы, аналогичные казусам патологическим. Сектора, которые необходимо поглотить, сегменты, которые изолируются «социальным» по мере его расширения. Определяемые как «остаточные» на горизонте социального, они тем самым попадают под его юрисдикцию и неизбежно находят своё место в расширенной социальности. Именно благодаря этому остатку социальная машина перезаряжается, получает новый заряд энергии. Но что происходит, когда всё подчищено, когда всё социализировано? Тогда машина останавливается, динамика становится обратной, и вся социальная система сама становится остатком. По мере того как социальное, распространяясь, устраняет все остатки, оно само становится остаточным. Отводя роль «Общества» остаточным категориям, социальное как раз отводит себе роль остатка.
Невозможность определить, что же является остатком другого, характеризует фазу симуляции и агонии различительных систем, фазу, в которой всё становится остатком и остаточным. И наоборот, исчезновение фатальной и структурной черты, отделяющей остаток от «???», что отныне позволяет любому элементу быть остатком другого, характеризует фазу реверсивности, в которой фактически остатка больше нет. Оба суждения одновременно «истинные» и не исключают друг друга. Они сами по себе реверсивные.
Другой аспект так же необычен, как отсутствие оппозиции: остаток вызывает смех. Любая дискуссия на эту тему провоцирует ту же игру слов, ту же двусмысленность и скабрёзность, что и дискуссии о сексе и смерти. Секс и смерть — это те две основные темы, за которыми признаётся способность провоцировать двусмысленность и смех. Но остаток является третьей, а возможно, и единственной, так как две другие сводятся к ней как к самому символу реверсивности. Ведь почему мы смеёмся? Мы смеёмся лишь из-за реверсивности вещей, а секс и смерть в высшей степени реверсивные вещи. Именно потому, что ставка в игре между мужским и женским, между живым и мёртвым имеет постоянный реверсивный характер, мы и смеёмся по поводу секса и смерти. И насколько же это справедливее относительно остатка, который не имеет даже противоположности, который сам проходит через весь цикл и постоянно гонится за собственной второй половиной, за собственным двойником, как Петер Шлемиль{158} за своей тенью?[19] Остаток непристоен, потому что он реверсивен и обменивается сам на себя. Он непристоен и вызывает смех, как вызывает смех, грудной смех, одно лишь отсутствие различия между мужским и женским, между живым и мёртвым.
Остаток стал сегодня значительным элементом. Именно на остатке базируется новая понятийность. Настал конец уверенной логике отличительных оппозиций, где слабый элемент играл роль остаточного элемента. Сегодня всё инвертируется. Психоанализ сам по себе является первой крупной теоретизацией остатков (оговорки, сны и т. д.). Нами руководит уже не политическая экономия производства, а экономическая политика воспроизводства, переработки — всё, что связано с экологией и загрязнением окружающей среды, — политическая экономия отходов. Всё нормальное пересматривается сегодня в свете безумия, которое было лишь его незначительным остатком. Приоритет всего остаточного во всех сферах, приоритет невысказанного, феминного, безумного, маргинального, приоритет экскрементов и отходов в искусстве и т. д. Но это и есть не что иное, как своего рода инверсия структуры, возвращение вытесненного как сильной доли такта, возвращение остатка как прироста смысла, как излишка (но излишек формально не отличается от остатка, а проблема траты излишка, по Батаю, ничем не отличается от проблемы резорбции остатков в политической экономии расчёта и дефицита, различаются лишь философские подходы), гипертрофии смысла, когда за основу берётся остаток. Тайна всех «либерализаций», которые разыгрываются благодаря энергии, скрытой по ту сторону черты.
Но в данный момент мы сталкиваемся с гораздо более оригинальной ситуацией: не ситуацией простой инверсии и выдвижения на первый план остатков, а ситуацией нестабильности любой структуры, любой оппозиции, которая приводит к тому, что больше не остаётся даже остатка, потому что он повсюду и, играя отграничивающей его чертой, он самоуничтожается как таковой.
Ничего не остаётся не тогда, когда всё взято, а скорее тогда, когда всё непрерывно реверсируется и даже добавление больше не имеет смысла.
Рождение остаточное, если оно символически не повторено в инициации.
Смерть остаточная, если она не разрешена в трауре, коллективной траурной церемонии.
Смысл остаточный, если он не поглощён и рассеивается в цикле обменов.
Сексуальность остаточная, когда она превращается в производство сексуальных отношений.
Само социальное остаточно, когда оно превращается в производство «социальных отношений».
Всё реальное остаточное, а всё то, что остаточное, обречено бесконечно повторяться в фантазмах.
Любое накопление является лишь остатком и накоплением остатков в том смысле, что оно является разрывом единства и компенсирует в линейной бесконечности накопления и расчёта, в линейной бесконечности производства, энергии и ценностей то, что раньше осуществлялось в едином цикле. То, что проходит цикл, завершается полностью, тогда как в измерении бесконечности всё то, что находится по ту сторону разделительной черты с бесконечным, по ту сторону вечности (этого резерва времени, который, как и любой резерв, также является разрывом единства), всё это не что иное, как остаток.
Накопление является лишь остатком, и вытеснение является лишь его инвертированной и симметричной формой. Именно на резерве подавленных эмоций и репрезентаций — вот на чём базируется наше новое единство.
Однако когда всё вытеснено, то уже нечего вытеснять. Мы не так уж и далеки от этой абсолютной точки вытеснения, в которой резервы сами начинают разрушаться, где рушатся запасы фантазмов. Все запасы воображаемого, энергии и то, что от них остаётся, возникают благодаря вытеснению. Когда последнее достигнет критической точки насыщения, где его очевидность ставится под сомнение, тогда энергию невозможно будет ни высвобождать, ни тратить, ни экономить, ни вырабатывать, даже понятие энергии исчезнет само по себе.
Сегодня остаток, энергоресурсы, которые остаются у нас, переработка и консервация отходов являются ключевой проблемой человечества. Как таковая она не имеет решения. Любая новая энергия, высвобожденная или израсходованная, будет образовывать новый остаток. Любое желание, любая либидинальная энергия будет вызывать новое вытеснение. Что же тут удивительного, ведь сама энергия немыслима без циркуляции, в ходе которой она накапливается и высвобождается, вытесняется и «продуцируется», то есть немыслима без этой структуры остатка и его второй части?
Чтобы искоренить концепт энергии, необходимо довести её потребление до абсурда. Чтобы искоренить концепт вытеснения, необходимо довести его до максимума. Когда последний литр энергии будет потреблён (последним экологом), когда последний дикарь будет изучен (последним этнологом), когда последний товар будет произведён последней «рабочей силой», когда последний фантазм будет истолкован последним аналитиком, когда всё будет высвобождено и потреблено «из последних сил», тогда станет заметно, что эта гигантская спираль энергии и производства, вытеснения и бессознательного, то, благодаря чему удалось вместить всё в одно энтропически-катастрофическое уравнение, что всё это в действительности не что иное, как метафизика остатка, и это уравнение вдруг найдёт своё решение во всей своей полноте.
Растущий труп
Университет деградирует: он нефункционален на социальных аренах рынка и занятости, лишён культурной сущности или конечной цели познания.
Даже власти, строго говоря, больше не существует как таковой: она также деградирует. Отсюда невозможность возвращения пожара 68-го года: обращения проблемы знания против самой власти — эксплозивного противоречия знания и власти (или разоблачения их сговора, что одно и то же) в Университете и, внезапно, через символическое (более чем политическое) распространение пожара во всём институционально-социальном порядке. Прокламация «Почему социологи?»{159} отметила этот сдвиг: глухой тупик знания, головокружение от незнания (то есть одновременно абсурдность и невозможность прироста смысла в процессе познания) оборачивается абсолютным оружием против самой власти, чтобы демонтировать её согласно тому же умопомрачительному сценарию разгосударствления. Именно в этом состоит эффект мая 68-го. Он невозможен сегодня, когда сама власть, вслед за знанием, пошла куда подальше, стала неуловимой — самоустранилась. Наступательный прорыв невозможен, так как сами институты находятся в состоянии флотации, без познавательного контента, без структуры власти (разве что этой структурой является некий архаичный феодализм, приводящий в действие симулятивный механизм, назначение которого ему непонятно и чьё сохранение такое же искусственное, как сохранение казарм и театров). Смысл имеет лишь то, что ускоряет разложение, акцентируясь на пародийной, симулятивной стороне той игры, которую ведут агонизирующее знание и агонизирующая власть.
Забастовка имеет как раз обратный эффект. Она снова восстанавливает идеал Университета, насколько это возможно, фикцию всеобщего доступа к культуре (не поддающейся обнаружению и больше не имеющей смысла), она субституирует функционирование Университета как его критическая альтернатива, как его терапия. Она всё ещё грезит содержательностью и демократизмом знания. Причём сегодня повсюду эту роль выполняют левые: именно праведность левых снова внушает идею справедливости, потребность в логике и социальной этике прогнившему аппарату, который распадается, теряет всякую сознательность и легитимность и почти добровольно отказывается функционировать. Именно левые секретируют и отчаянно репродуцируют власть, ведь они стремятся к ней, а значит, верят в неё и возрождают её именно там, где система её уничтожила. Система уже положила конец одной за другой всем аксиомам, всем институтам власти и реализует одну за другой все исторические и революционные цели левых. Сами левые вынуждены восстанавливать все механизмы капитала, чтобы иметь возможность получить власть в один прекрасный день: от частной собственности до малого бизнеса, от армии до национального величия, от пуританской морали до мелкобуржуазной культуры, от правосудия до Университета — всё то, что исчезает, то, что сама система ликвидировала в своей жестокости, но и, безусловно, в своём необратимом порыве, должно быть сохранено.
Отсюда парадоксальная, но и необходимая инверсия всех методов политического анализа.
Власть (или то, что подменяет её) больше не верит в Университет. В конечном счёте она знает, что он — это лишь зона размещения и надзора за целой возрастной категорией, поэтому ей нет дела до отбора — свою элиту она отыщет в другом месте или же иным способом. Дипломы ничего не значат: почему бы вообще не отказаться выдавать их? Но власть готова выдавать их всем; для чего бы эта провокационная политика, если не для того, чтобы кристаллизовать энергию на фиктивной цели (отбор, занятия, экзамены и т. д.), на уже мёртвый и разлагающийся референт?
Загнивающий Университет может нанести ещё много вреда (загнивание является процессом символическим — не политическим, а символическим, поэтому субверсивным). Но в таком случае следовало бы исходить из этого загнивания, а не грезить воскрешением. Следовало бы трансформировать это загнивание в насильственный процесс, в насильственную смерть посредством осмеяния и вызова, посредством умножающейся симуляции, которая представила бы ритуальную смерть Университета как модель разложения всего общества, контагиозную модель отчуждения всей социальной структуры, которую смерть наконец разрушила бы. Как раз это отчаянно старается предотвратить забастовка, находясь в тайном сговоре с системой, но преуспевает при этом лишь в превращении смерти в медленную смерть, в отсрочку, которая перестаёт даже служить возможным поводом для субверсии, для агрессивной реверсии.
Именно это удалось в мае 68-го. В момент, когда духовный упадок Университета и культуры зашёл ещё не слишком далеко, студенты, далёкие от желания спасать устои (восстанавливать утраченный объект — в идеале), выступили против власти, бросая ей вызов тотальной, немедленной смерти институций, вызов детерриториализации, ещё более интенсивной, чем та, которую осуществляла система, настаивая, чтобы власть ответила на это полное крушение института знания, на это полное отсутствие потребности концентрации в определённом месте, на эту смерть, к которой, в конце концов, стремились, — речь шла не о кризисе Университета, потому что кризис — не вызов, а, наоборот, уловка системы, а о смерти Университета — вот на это власть и не сумела ответить, разве что самораспустившись вместо ответа (быть может, на мгновение, но мы видели это).
Баррикады 10 мая, казалось, были оборонительными и защищали территорию: Латинский квартал, Сорбонну. Однако это не так: за этим фасадом скрывался мёртвый Университет, мёртвая культура, которые бросали вызов власти и, возможно, их собственной смерти одновременно, — вызов превращением в жертву немедленно, что было лишь долговременной целью самой системы: ликвидация культуры и знания. Баррикады предназначались не для того, чтобы спасти Сорбонну, а для того, чтобы поднять на флаг её труп и демонстративно размахивать им, так же как негры Уоттса и Детройта поднимают на флаг руины своих кварталов, которые они сами перед тем подожгли.
Что можно поднять на флаг сегодня? Больше нет даже руин знания или культуры — руины сами канули в Лету. Мы пережили это, мы в течение семи лет носили траур по Нантеру{160}. 68-й год умер, и его можно повторить лишь как траурный фантазм. То, что могло бы быть его эквивалентом в плане символического насилия (то есть за пределами политического), так это та же операция, которая заставила незнание, загнивание знания обернуться против власти, — нужно отыскать эту невероятную энергию, но никак не на том же уровне, а на высшем витке спирали; заставить не-власть, загнивание власти обернуться против… против чего именно? Вот в чём проблема. Возможно, она не имеет решения. Власть теряется, власть уже пропала. Вокруг нас лишь манекены власти, однако иллюзия власти машинально ещё руководит социальным порядком, иллюзия, за которой возрастает абстинентный, неразборчивый террор контроля, террор дефинитивного кода, ничтожными терминалами которого являемся мы.
Надеяться на репрезентацию также не имеет большого смысла. Совершенно очевидно, что все студенческие конфликты (равно как, более широко, конфликты на уровне всего общества), которые сосредоточены вокруг репрезентации, делегирования полномочий, по той же причине являются лишь призрачными перипетиями, впрочем, ещё достаточными для того, чтобы от отчаяния быть в центре внимания. Вследствие непонятно уж какого эффекта ленты Мёбиуса репрезентация также обернулась против себя самой, и вся универсальная логика политического разрушается, уступая место трансфинитному миру симуляции, где изначально никто не имеет своего представительства и не представляет больше ничего, где всё то, что накапливается, одновременно и растрачивается, где даже исчез аксиологический, директивный, всегда приходящий ей на помощь фантазм власти. Этот мир для нас всё ещё непостижим, неизведан, полон зловещих искажений, которым яростно сопротивляется наша ментальная система координат, ортогональная и направленная в линейную бесконечность критики и истории. Но именно здесь и нужно сражаться, если это ещё имеет какой-то смысл.
Мы — симулянты, мы — симулякры (но не в классическом значении «подобия»), мы — вогнутые зеркала, попавшие под излучение социального, излучение без источника света, под власть без истока, без дистанции, и именно в этом тактическом мире симулякра и нужно будет сражаться без надежды, ибо надежда — удел слабых, но с вызовом и в фасцинации. Ведь не следует отвергать непреодолимое влечение, исходящее от этого разжижения всех инстанций, всех осей ценности, всей аксиологии, в том числе и политической. Этот спектакль, который является одновременно спектаклем агонии и апогея капитала, безусловно, превосходит спектакль товара, описанный ситуационистами. В этом спектакле наша главная сила. Баланс наших сил в противостоянии с капиталом уже нельзя назвать шатким или победным, но и политическим, и в этом фантазм революции. Мы находимся в отношениях вызова, соблазна и смерти с этим универсумом, который уже не является универсумом именно потому, что избавлен от всяких осей координат. На вызов, который в своём бреду бросает нам капитал, бесстыдно ликвидируя закон прибыли, прибавочной стоимости, производственные цели, структуры власти и возвращаясь по завершении этого процесса к полной аморальности (но также и седуктивности) примитивных ритуалов деструкции, вот на этот вызов и нужно ответить с безумной эскалацией.
Капитал как ценность{161}, безответственный, необратимый, неизбежный. Только ценность способна представить капиталу фантастическое зрелище его разложения — только призрак ценности парит ещё над пустыней классических структур капитала, так же как призрак религии парит над миром, уже давно десакрализированном, как призрак знания парит над Университетом. Нам предстоит снова стать кочевниками в этой пустыне, но уже свободными от машинальной иллюзии ценности. Мы будем жить в этом мире, который сохраняет для нас всю сверхъестественность пустыни и симулякра, со всем правдоподобием живых призраков, бродячих животных и симулянтов, в которых нас превратил капитал, смерть капитала, ведь пустыня городов аналогична пустыне из песков, джунгли знаков аналогичны джунглям из деревьев, головокружение от симулякров аналогично головокружению от природы — единственный оставшийся головокружительный соблазн агонизирующей системы, в которой труд хоронит труд, а ценность хоронит ценность, оставляя пустое пространство, пугающе невозмутимое, непрерывное, как того хотел Батай, пространство, где лишь ветер вздымает песок, где лишь ветер бодрствует среди песков.
Что всё это означает в политическом плане? Почти ничего.
Однако мы должны бороться ещё и с глубокой фасцинацией, которую вызывает в нас агония капитала, против инсценировки капиталом своей собственной агонии, в которой реально умирающими являемся мы. Оставить ему инициативу его собственной смерти означает оставить ему все привилегии революции. В окружении симулякра ценности и призрака капитала и власти мы намного беззащитней и беспомощней, чем в окружении закона стоимости и товара, поскольку система оказалась способной включить в себя свою собственную смерть, освободив нас от ответственности за неё, а следовательно, и от смысла нашей собственной жизни. Этому наивысшему коварству системы, заключающемуся в симулякре её смерти, благодаря чему она поддерживает в нас жизнь, ликвидировав путём абсорбции любую возможность возражения, может помешать лишь ещё большее коварство. Вызов или имажинерия науки, только патафизика симулякров может вывести нас из стратегии симуляции системы и тупика смерти, в который она нас загоняет.
Май 1976
Последнее танго ценности
Там, где ничего нет на своём месте, царит беспорядок.
Там, где в нужном месте нет ничего, царит порядок.
БрехтПри мысли, что дипломы будут выдавать без учёта «реальной» научной деятельности без эквивалентности знаниям, администрацию Университета охватывает паника. Эта паника не связана с политической субверсией, эта паника от очевидности того, что ценность отделяется от своего содержания и функционирует сама по себе, в своей чистой форме. Университетские ценности (дипломы и т. д.) будут множиться и продолжат циркулировать подобно «блуждающему капиталу» или евродолларам, они будут вращаться по кругу, лишённые всякого критерия референтности, пока полностью не обесценятся, однако это не имеет значения: одного лишь их обращения достаточно для того, чтобы создать социальный горизонт ценности, и присутствие призрачной ценности от этого только возрастает, даже если её референтная основа (её потребительская стоимость, её меновая стоимость, академическая «рабочая сила», которую она охватывает) теряется. Это страх перед ценностью, лишённой эквивалентности.
Данная ситуация лишь кажется новой. Она нова для тех, кто всё ещё думает, что в Университете происходит реальный научный процесс, и вкладывает в это свой жизненный опыт, свои нервы, смысл своего существования. Обмен знаками (знания, культуры) в Университете между «теми, кто учит» и «теми, кого обучают» с определённого времени всего лишь сговор, сопровождающийся горечью безразличия (индифферентность — признак того, что влечёт за собой отчуждение в общественных и человеческих отношениях), сопровождающийся симулякром психодрамы (с постыдной потребностью в тепле, в присутствии, с эдипальным обменом, с педагогическим инцестом, который стремится подменить собой утраченный обмен научной деятельности и знаний). В этом смысле Университет остаётся местом безнадёжной инициации, приобщения к пустой форме ценности, и тот, кто находится в нём на протяжении нескольких лет, знаком с этим странным процессом, с настоящей безнадёжностью «нетруда» и «незнания». Ведь нынешние поколения ещё мечтают читать, изучать, состязаться в знаниях, однако уже не готовы вкладывать в это всю душу — одним словом, аскетическая культурная ментальность исчезла вместе с телесной и имущественной аскезой. Вот почему забастовка больше ничего не значит.[20]
И вот ещё почему мы попали в ловушку, мы сами загнали себя в ловушку после 68-го, когда начали выдавать дипломы всем подряд. Субверсия? Отнюдь. Мы в очередной раз стали инициаторами передовой формы, формы ценности в чистом виде: дипломов без научного труда. Системе они уже не нужны, ей нужны операциональные ценности, обращающиеся в пустоте, — и мы были теми, кто положил этому начало, с иллюзией, что выполняем противоположное.
Дистресс студентов от того, что им вручают незаслуженные дипломы, равен дистрессу преподавателей и дополняет его. Он более скрыт и более коварен, чем традиционное опасение провалиться на экзамене или получить бесполезное образование. Страхование диплома с ответственностью за все риски лишает смысла все перипетии познания и отбора и переносится тяжело. Поэтому необходимо усложнить всё это либо предоставлением алиби в виде симулякра научной деятельности, который обменивается на симулякр диплома (преподаватель, «выдающий» обязательный минимум, трактуется как некий торговый автомат), либо некой формой агрессии или раздражения, с тем чтобы, по крайней мере, могло происходить ещё хоть что-то напоминавшее «реальные» отношения. Но ничто не помогает. Даже «семейные сцены» между преподавателями и студентами, из которых теперь в основном и состоят их реальные взаимоотношения, являются лишь напоминанием и своего рода ностальгией по насилию или соучастию, тому, что когда-то сталкивало или объединяло их вокруг научной цели, или же цели политической.
«Жёсткий закон стоимости [ценности]», «железный закон» — когда он прекращает своё действие, какое же уныние охватывает нас, какая паника! Вот почему для фашистских и авторитарных режимов ещё настанут хорошие времена, ведь они воскрешают что-то вроде насилия, необходимого для жизни, перенесённого или нанесённого — неважно. Насилие ритуала, насилие труда, насилие знания, насилие крови, насилие власти и политического — всё годится! Баланс сил, противоречия, эксплуатация, наказание — с этим всё понятно, всё ясно! Сегодня этого не хватает, и потребность в этом даёт о себе знать. Когда преподаватель пытается реинвестировать свою власть через «свободу слова», самоуправление группы и другую современную чушь, это всего лишь игра на уровне Университета (однако таким же образом организовывается вся политическая сфера). И этим никого не обманешь. Просто для того, чтобы избежать глубокого разочарования, катастрофы, к которой влечёт потеря роли, статуса, ответственности и невероятная, всевозрастающая демагогия, необходимо воссоздать в лице преподавателя хотя бы манекен власти и знания или наделить его хотя бы частицей легитимности, исходящей от крайне левых, иначе ситуация станет невыносимой для всех. Именно благодаря этому компромиссу — искусственность фигуры преподавателя, двусмысленное соучастие студента, именно по такому призрачному педагогическому сценарию всё и продолжается, и на сей раз может продолжаться бесконечно долго. Ведь конец наступил для ценности [стоимости] и для труда, но не для симулякра ценности и симулякра труда. Мир симуляции трансреален и трансфинитен: никакое испытание реальностью уже не сможет положить ему конец, разве что полный коллапс и обвал, который остаётся нашей самой несбыточной надеждой.
Май 1977
О нигилизме
C нигилизма исчезли мрачные краски в стиле Вагнера и Шпенглера, чёрные, как копоть, цвета конца XIX века. Он больше не берёт своего начала ни в Weltanschauung [мировоззрении] декаданса, ни в метафизическом радикализме, порождённом смертью Бога и всеми теми последствиями, которые из неё вытекают. Сегодняшний нигилизм — это нигилизм транспарентности, и в определённой степени он более радикальный и решительный, чем его предыдущие исторические формы, ведь эта прозрачность, это пребывание в подвешенном состоянии — неотъемлемые признаки системы и любой теории, претендующей на её анализ. Когда Бог умер, ещё был Ницше, чтобы провозгласить об этом, — великий нигилист перед лицом Вечного и перед трупом Вечного. Но перед симулятивной транспарентностью всего на свете, перед симулякром материалистической или идеалистической завершённости мира в гиперреальности (Бог не умер, Он стал гиперреальным) уже больше нет теоретического и критического Бога, чтобы распознать своих.
Мир и мы все живьём попали в симуляцию, в губительную, даже не губительную, а индифферентную сферу апотропии: нигилизм и тот необычным образом полностью реализовался не через деструкцию, а через симуляцию и апотропию. Из активного, насильственного фантазма, из мифа и сцены, которыми он был исторически, он превратился в процесс транспарентности, в фальшиво-прозрачное нечто. Так что же остаётся от теоретически возможного нигилизма? Какая новая сцена может открыться, чтобы на ней вновь могли бы появиться Ничто и Смерть как вызов, как цель, как ставка в игре?
Мы находимся в новой и, без сомнения, неразрешимой ситуации относительно предыдущих форм нигилизма:
Его первым крупным проявлением стал романтизм: вместе с революцией Просвещения он соответствует деструкции порядка очевидного.
Сюрреализм, дадаизм, абсурдизм, политический нигилизм являются его вторым серьёзным проявлением и соответствуют деструкции порядка смысла.
И если первое проявление ещё является эстетической формой нигилизма (дендизм), второе — его политическая форма, историческая и метафизическая (терроризм).
Обе эти формы касаются нас лишь отчасти или вовсе не касаются. Нигилизм транспарентности уже не эстетический и не политический, он уже не проистекает ни из процесса уничтожения очевидного, ни из процесса уничтожения последних проблесков смысла или последних нюансов Апокалипсиса. Впрочем, нет больше и Апокалипсиса (лишь алеаторный терроризм ещё пытается быть его отражением, однако он уже утратил признаки политического, и у него остался только один способ проявления, который одновременно является способом исчезновения: медиа; но СМИ — это не та сцена, где нечто разыгрывается, это лента, трек, перфокарта, относительно которых мы уже даже не зрители и очевидцы, а просто получатели информации, рецепторы). Апокалипсис закончился, и сегодня мы имеем дело с прецессией нейтрального, форм нейтрального и индифферентности. Я оставляю открытым вопрос, есть ли здесь некий романтизм, некая эстетика нейтрального. На мой взгляд, нет: всё, что остаётся, это заворожённость пустыми и индифферентными формами, самим действием той системы, которая нас уничтожает. А ведь заворожённость (в отличие от соблазна, связанного с очевидным, и диалектического мышления, связанного со смыслом) представляет собой в высшей степени нигилистическую страсть, страсть, присущую способу исчезновения. Мы заворожены всеми формами исчезновения, нашего исчезновения. Мы меланхоличны и заворожены — таково наше общее состояние в эпоху непроизвольной транспарентности.
Я нигилист.
Я констатирую, я соглашаюсь, я принимаю тотальный процесс деструкции очевидного (и соблазна очевидности) в пользу смысла (репрезентации, истории, критики и т. д.), деструкции, являющейся основополагающим фактом XIX века. Истинная революция XIX века, революция модерна, заключается в радикальной деструкции очевидного, в разволшебствлении его и погружении в насилие интерпретации и истории.
Я констатирую, я соглашаюсь, я принимаю, я анализирую вторую революцию, революцию XX века, революцию постмодерна, которая является тотальным процессом деструкции смысла, равным предыдущей деструкции очевидного. То, что поражает смысл, от смысла и погибает.
Диалектическая сцена, сцена критическая опустели. Сцены больше нет. Как нет и терапии смысла или терапии смыслом: терапия сама является частью общего процесса распространения индифферентности.
Сцена самого анализа стала неопределённой, алеаторной, теории стали плавающими (фактически невозможен и нигилизм, так как он всё же хоть и отчаянная, но детерминированная теория, имажинерия конца, Weltanschauung [мировоззрение] катастрофы).[21]
Сам анализ является, возможно, решающим фактором гигантского процесса обледенения смысла. Тот прирост смысла, который вносят теории, их конкуренция на уровне смысла абсолютно вторичны, сравнительно с их коалицией в обледеняющей, четырёхуровневой операции по диссекции{162} и транспарентности. Нужно чётко осознавать, что, каким бы образом ни шёл анализ, он движется в одном направлении — к обледенению смысла, он способствует прецессии симулякров и индифферентных форм. Пустыня разрастается.
Имплозия смысла в медиа. Имплозия социального в массах. Бесконечное разрастание масс по мере ускорения системы. Энергетический тупик. Точка инерции.
Перенасыщенный мир обречён на инерцию. Проявление инерции ускоряется (если можно так сказать). Застывшие формы разрастаются как опухоль, и их разрастание останавливает, подменяет собой настоящий рост. В этом, кстати, секрет гипертелии{163}, того, что идёт дальше, чем его собственный финал. Это могло бы стать нашим собственным способом отмены финальности: идти дальше и дальше в том же направлении — к разрушению смысла через симуляцию, гиперсимуляцию, гипертелию. Отрицать собственный финал через гиперфинальность (как ракообразные, как статуи острова Пасхи) — не в этом ли мерзкая тайна раковой опухоли? Разрастание взамен роста, а взамен скорости — инерция.
И массы также вовлечены в этот гигантский процесс инерции, обусловленной ускорением. Они и составляют этот процесс разрастания и пожирания, который сводит на нет любой рост и любой прирост смысла. Они и составляют эту цепь, в которой чудовищная финальность привела к короткому замыканию.
Именно эта точка инерции и то, что происходит в её окрестностях сегодня, как раз и завораживают, вызывают интерес (поэтому улетучился скромный шарм диалектики). Если быть нигилистом — это отдавать приоритет этой точке инерции и анализу этой ирреверсивности (вплоть до порога необратимости) системы, тогда я нигилист.
И если быть нигилистом значит быть одержимым способом исчезновения, а не способом порождения, тогда я — нигилист. Исчезновение, афаниз{164}, имплозия, Furie des Verschwindens [ярость исчезновения]. Трансполитика является элективной сферой способа исчезновения (реального, смысла, сцены, истории, социального, индивидуального). Строго говоря, это уже даже и не вполне нигилизм: в исчезновении, в пустой, алеаторной и индифферентной форме уже нет даже пафоса, патетики нигилизма — той мифической энергии, которая до сих пор составляла силу нигилизма, его радикализм, его мифическое отрицание, его драматическую антиципацию. Нигилизм — уже даже не освобождение от чар в восторженной тональности соблазна и ностальгии по разочарованию. Это просто исчезновение.
Признаки этого радикального способа исчезновения (вместе с ностальгическим использованием диалектики) заметны уже у Адорно{165} и Беньямина. Именно потому, что у них присутствует ностальгия по диалектике, а самая проницательная диалектика изначально является ностальгической. Но на более глубоком уровне у Беньямина и Адорно слышится другая тональность — тональность меланхолии, связанной с самой системой, меланхолии неизлечимой и за пределами всякой диалектики. Именно эта меланхолия системы берёт сегодня верх посредством, по иронии судьбы, форм транспарентности, которые окружают нас. Именно она становится нашей фундаментальной страстью.
Это уже не сплин или смутные душевные порывы конца столетия. Это уже и не нигилизм, так как он через деструкцию, через страстный ресентимент{166} в определённом смысле стремится всё упорядочить. Нет, меланхолия — это основная тональность функциональных систем, нынешних систем симуляции, программирования и информации. Меланхолия — неотъемлемая черта способа исчезновения смысла, испарения смысла в операциональных системах. И все мы погружены в меланхолию.
Меланхолия — это та жестокая неудовлетворённость, которая характеризует нашу перенасыщенную систему. Однажды надежда уравновесить добро и зло, истинное и ложное и даже противопоставить друг другу некоторые ценности одного и того же порядка, как и более общая надежда на какое-то соотношение сил и какую-то цель, исчезла без следа. Система слишком сильна. Она и властвует. Везде и всегда.
Чтобы противостоять этой гегемонии системы, можно прославлять ухищрения желания, создавать революционную микрологию повседневности, прославлять молекулярный дрейф или даже создавать апологию кухни. Но это не решает насущной необходимости нанести вполне определённое поражение системе.
Это может сделать лишь терроризм.
Это та черта реверсии, которая перечёркивает всё остальное, так же как одна ироническая ухмылка перечёркивает весь дискурс, а одна вспышка неповиновения раба перечёркивает всю власть и всё право господина.
Чем более гегемонистской является система, тем более поражают воображение малейшие её поражения и промахи. Вызов, пусть даже самый ничтожный, — это как обрыв в цепи. Только эта ни с чем не сравнимая реверсивность является сегодня событием на нигилистической и заброшенной сцене политики. Только это мобилизует воображаемое.
Если быть нигилистом — это означает переносить, вплоть до границы непереносимости гегемонистской системы, эту радикальную черту насмешки и насилия, этот вызов, на который система вынуждена ответить своей собственной смертью, тогда я террорист и нигилист теории, как иные террористы и нигилисты с оружием в руках. Теоретическое насилие, а не истина является тем единственным оружием, которое у нас осталось.
Однако в этом кроется утопия. Потому что путь нигилиста был бы прекрасен, если бы ещё существовал радикализм, так же как путь террориста был бы привлекателен, если бы смерть, включая смерть террориста, ещё имела какой-то смысл.
Но именно здесь ситуация становится неразрешимой. Потому что этому активному нигилизму радикальности, система противопоставляет собственный — нигилизм нейтрализации. Система сама нигилистична в том смысле, что она обладает силой обращать всё, в том числе и то, что её отрицает, в индифферентность.
В этой системе сама смерть поражает своим отсутствием. Вспомните крупные теракты последних лет: смерть аннулирована индифферентностью, и в этом терроризм является невольным соучастником системы — не в политическом плане, а в том, что он способствует насаждению безразличия ускоренными темпами. Для смерти — ни ритуальной, ни насильственной — уже не осталось сцены — ни фантазматической, ни политической, — где она могла бы проявить себя, сыграть свою роль. И в этом победа другого нигилизма, другого терроризма — нигилизма и терроризма системы.
Сцены больше нет, нет даже той минимальной иллюзии, благодаря которой события могут приобретать признаки реальности, — нет больше ни сцены, ни духовной или политической солидарности: что нам до Чили, республики Биафра, беженцев, до терактов в Болонье или польского вопроса? Всё, что происходит, аннигилируется на телевизионном экране. Мы живём в эпоху событий, которые не имеют последствий (и теорий, которые не имеют выводов).
Нет больше надежды для смысла. И, наверное, это правильно: смысл смертен. Но всё то, чему он навязывал своё эфемерное господство, то, что он полагал ликвидировать, чтобы навязать господство Просвещения, то есть очевидное, — всё это бессмертно, неуязвимо даже для самого нигилизма смысла или бессмыслицы.
И вот где начинается соблазн.
Примечания
1
См.: Baudrillard J. L'échange symbolique et la mort, L'ordre des simulacres. Paris, Gallimard, 1975.
(обратно)2
И который не поддаётся разрешению через трансференцию. Именно смешение этих двух дискурсов и делает психоанализ бесконечным.
(обратно)3
См.: Perniola M. Icônes, visions, simulacres. Р. 39.
(обратно)4
Это не обязательно приводит к безнадёжности для смысла, но также к импровизации смыслом, к отсутствию смысла, одновременной множественности смыслов, разрушающих друг друга.
(обратно)5
Энергетический кризис, экологические сценарии в своей совокупности сами по себе являются фильмом-катастрофой, в том же стиле (и такого же достоинства), что и фильмы, которые сейчас составляют славу Голливуда. Напрасно тщательно интерпретировать эти фильмы в их связи с «объективным» социальным кризисом или даже с «объективным» фантазмом катастрофы. Говорить следует о другом — о том, что именно само социальное, в современном дискурсе, организуется по сценарию фильма-катастрофы. (См.: Makarius М. La stratégie de la catastrophe. Р. 115.)
(обратно)6
Этому снижению заинтересованности в труде соответствует параллельное снижение заинтересованности в потреблении. Конец потребительской стоимости или престижности автомобиля, конец излюбленному дискурсу, который чётко противопоставлял объект потехи объекту труда. На смену приходит другой дискурс, дискурс труда как объекта потребления, который ориентирован на активно принудительную, пуританскую заинтересованность — используйте меньше горючего, следите за своей безопасностью, не превышайте скорость и т. д., — так эта тенденция проявляется даже в характеристиках автомобиля. Так через инверсию полюсов обнаруживается новая цель. Труд становится объектом потребления, автомобиль становится объектом труда. Нет лучшего доказательства индифференциации всех целей. Именно через такое смещение от «права» голоса к избирательным «обязанностям» даёт о себе знать потеря заинтересованности в политической сфере.
(обратно)7
Смешение медиум/месседж, конечно, коррелирует со смешением отправителя и получателя, подтверждая таким образом исчезновение любых дуальных полярных структур, которые определяли дискурсивную организацию языка, любой детерминированной артикуляции смысла, которая отсылала к знаменитой таблице функций языка Якобсона. То, что дискурс «циркулирует», следует понимать буквально: то есть так, что он больше не перемещается от одной точки к другой, но проходит цикл, который без различия включает в себя позиции отправителя и получателя, отныне не поддающиеся обнаружению как таковые. Таким образом, больше не существует инстанции власти, инстанции отправителя, — власть становится чем-то таким, что циркулирует и чей источник больше не определяется, циклом, в котором доминирующая и подчинённая позиции меняются местами в бесконечной реверсии, что является также концом власти в её классическом определении. Циркуляризация власти, знания, дискурса означает конец всякой локализации инстанций и полюсов. В свою очередь, и в психоаналитической интерпретации интерпретатор получает свою «власть» не от какой-то внешней инстанции, но от самого интерпретируемого. Это меняет всё, ведь у традиционных власть имущих всегда можно спросить, откуда они получили власть. Кто сделал тебя герцогом? Король. Кто сделал тебя королём? Бог. Только Бог не даёт ответа. Но на вопрос, кто сделал тебя психоаналитиком, аналитик с лёгкостью отвечает: «Ты». Так через обратную симуляцию выражается переход от «объекта анализа» к «субъекту анализа», из пассива в актив, который лишь иллюстрирует эффект вращательной подвижности полюсов, эффект циркуляции, в которой власть теряется, растворяется, сводится к совершенной манипуляции (она принадлежит уже не к порядку директивной и контролирующей инстанции, а к порядку тактильности и коммутации). См. также о циркуляции государства/семьи, которую обеспечивают колебание и метастатическое регулирование образов социального и частного (Donzelot J. La Police des Familles).
Отныне невозможно задать пресловутые вопросы: «От имени кого вы говорите?», «Откуда вы это знаете?», «От кого вы получили вашу власть?», не услышав сразу в ответ: «Но именно о вас (от вас) я говорю», то есть это вы говорите, это вы знаете, это вы власть. Невообразимая околичность, околесица речи, которая тождественна безвыходному шантажу, безоговорочному разубеждению субъекта, который призван говорить, но оставаться без ответа, потому что на вопросы, которые субъект ставит, ему неизбежно отвечают: но это вы ответ, или: ваш вопрос уже является ответом, и т. д. — вся удушающая софистика загнанной в ловушку речи, принудительного признания под прикрытием свободы слова, наложение субъекта на его собственный вопрос, прецессия ответа относительно вопроса (вся безудержность интерпретации присутствует здесь, как и безудержность сознательного или бессознательного самоуправления «речи»). В этой инверсии симулякра или инволюции полюсов, в этом хитром трюке кроется тайна всего дискурса манипуляции, а следовательно, отныне во всех сферах тайна любой новой власти кроется в уничтожении сцены власти, в присвоении себе всякой речи, результатом чего является это невероятное молчаливое большинство, характерное для нашего времени, — всё это началось, без сомнения, в политической сфере с симулякра демократии, то есть с субституции божественной инстанции инстанцией народа как источника власти и власти как эманации властью, как репрезентацией. Антикоперниковская революция: больше нет ни трансцендентальной инстанции, ни солнца, ни источника света, власти и знания — всё исходит от народа и всё возвращается к нему. Именно с этой потрясающей рециркуляции и начинает реализовываться, от сценария всеобщего избирательного права и до сегодняшних химер опросов общественного мнения, универсальный симулякр манипуляции.
(обратно)8
Парадокс: все бомбы чистые — единственное загрязнение, обусловленное ими, — это система безопасности и контроля, которую они излучают, когда не взрываются.
(обратно)9
Сам фашизм, тайна его появления и его коллективной энергии, ни одна интерпретация которого не является удачной (ни марксистская с её политической манипуляцией со стороны господствующих классов, ни теории Райха с его сексуальным подавлением масс и Делеза с деспотической паранойей), может интерпретироваться теперь как «иррациональная» эскалация мифических и политических референтов, безумная интенсификация коллективных ценностей (крови, расы, нации и т. д.), повторная инъекция смерти, «политической эстетики смерти», которая происходит в момент, когда на Западе уже сильно даёт о себе знать процесс разочарования в ценности и коллективных ценностях, рациональной секуляризации и одномеризации всего бытия, операционализации всей общественной и индивидуальной жизни. И опять-таки всё годится, чтобы избежать этой катастрофы ценности, этой нейтрализации и умиротворения жизни. Фашизм является сопротивлением этому, сопротивлением беспредельным, иррациональным, дементным — неважно; он не привлёк бы этой массовой энергии, если бы не был сопротивлением чему-то ещё более худшему. Его жестокость, его ужас соотносится с ещё большим ужасом, происходящим из смешения реального и рационального, которое углубилось на Западе, и фашизм является ответом на это.
(обратно)10
Инцидент на атомной электростанции Три-Майл-Айленд, произошедший едва ли не сразу после выхода фильма.
(обратно)11
Ещё одна вещь уничтожает культурный проект Бобура: сами массы, ринувшиеся туда за наслаждением (мы вернёмся к этому ниже).
(обратно)12
По сравнению с этой критической массой, с её радикальным постижением Бобура, насколько смехотворной выглядит манифестация студентов из Венсена в вечер торжественного открытия!
(обратно)13
Мы говорили здесь об информации лишь в социальном регистре коммуникации. Однако было бы очень интересно распространить эту гипотезу на кибернетическую теорию информации. Здесь также фундаментальный тезис состоит в том, что она синонимична негэнтропии, резистентности энтропии, разрастанию смысла и его организации. Однако стоит выдвинуть противоположную гипотезу: ИНФОРМАЦИЯ = ЭНТРОПИЯ. Например: информация или знание, которое можно получить о какой-то системе или каком-то событии, уже является формой нейтрализации и энтропии этой системы (это можно распространить на науку вообще и на гуманитарные и общественные науки в частности). Информация, которая отражает событие или посредством которой транслируется событие, уже является искажённой формой этого события. Не колеблясь, проанализируем в этом плане участие СМИ в событиях мая 68-го. Студенческая акция получила развитие, что сделало возможным всеобщую забастовку, но последняя как раз и стала чёрным ящиком нейтрализации первоначальной вирулентности движения. Раздувание со стороны СМИ стало как раз смертельной ловушкой, а не положительным развитием событий. Следует с осторожностью относиться к универсализации борьбы с помощью информации. Следует с осторожностью относиться к кампаниям солидарности по всем направлениям, солидарности, одновременно электронной и внутримирской. Любая стратегия универсализации различий является энтропийной стратегией системы.
(обратно)14
См.: Rorvik D. A son image: la copie d'une homme. Paris, Grasset, 1978.
(обратно)15
См.: Ballard J. G. Crash. Paris, Calmarm-Lévy, 1974. Текст цитируется по русскому изданию: Баллард Д. Автокатастрофа. М., 2002.
(обратно)16
Так, в Техасе на четырёхстах мужчинах и ста женщинах апробируют самое мягкое в мире исправительное учреждение. В июне прошлого года там родился ребёнок, и за последние два года произошло лишь три побега. Мужчины и женщины едят вместе и встречаются в группах во время психологических сеансов. У каждого заключённого единственный ключ от его индивидуальной камеры. Некоторым парам удаётся уединяться в пустующих камерах. За всё время сбежали тридцать пять заключённых, но большинство из них вернулись по собственной воле.
(обратно)17
Блуждание животных — это миф, и современное представление бессознательного и желания как чего-то блуждающего и кочующего, принадлежит к тому же порядку. Животные никогда не блуждали и никогда не были детерриториализированными. Целая освободительная фантасмагория вырисовывается при противопоставлении ограничений, которые накладывает современное общество, и представления о природе и животных как о диком состоянии, как свободы «удовлетворять все свои потребности», а ныне «реализовывать все свои желания», ведь сегодняшний руссоизм принял форму неопределённости влечения, блуждания желания и номадизма тревоги, но это та же мистика высвобожденных, незакодированных сил, без каких-либо иных целей, кроме собственного фонтанирования.
Однако свободная, нетронутая природа, природа без ограничений и территории, где каждый блуждает, как ему заблагорассудится, никогда не существовала, разве что в воображении господствующего порядка, эквивалентным зеркалом которого она является. Мы проецируем как идеальное дикое состояние (природа, желание, животное состояние, ризома…) именно ту схему детерриториализации, которая является схемой экономической системы и капитала. Свободу нигде нельзя найти, кроме как в капитале, именно он создал её, именно он её углубляет. Следовательно, существует чёткая корреляция между социальным законодательством ценностей (урбанистических, индустриальных, властных и т. д.), и воображаемым диким состоянием, которое ему противопоставляют: и то и другое «детерриториализировано», и одно является отображением другого. Более того, радикальность «желания», это заметно в современных теориях, возрастает в той же мере, что и цивилизационная абстракция, вовсе не как антагонистическое явление, а абсолютно в том же направлении, направлении к той же форме, которая становится всё более декодированной, более децентрализованной, более «свободной» и охватывает одновременно и наше реальное, и наше воображаемое. Природа, свобода, желание и т. д. даже не выражают мечты, которая была бы противоположностью капиталу, они непосредственно отражают прогресс или разрушительное действие этой культуры, они даже предвосхищают его, ведь они грезят о полной детериториализации там, где система навязывает её лишь частично: требование «свободы» — это всегда только требование идти дальше системы, но в том же направлении.
Ни животные, ни дикари не знакомы с «природой» в нашем понимании, им известны лишь ограниченные и обозначенные территории, пространство непреодолимого взаимодействия.
(обратно)18
Так, Анри Лабори отвергает интерпретацию территории с точки зрения инстинкта или частной собственности: «Ни в гипоталамусе, ни где-либо ещё до сих пор не выявлена группа клеток или дифференцированные нервные пути, которые были бы связаны с понятием территории… Не похоже, что существует центр территории… Нет необходимости обращаться к некоему особому инстинкту», — а лучше обратиться к функциональным потребностям, расширенным до культурных стереотипов, которые являются сегодня обычными, общими для любой экономики, психологии, социологии и т. д.: «Территория становится, таким образом, пространством, необходимым для реализации акта удовлетворения, жизненным пространством… Колпак, территория представляет таким образом участок пространства, находящегося в непосредственном контакте с организмом, где тот „приоткрывается“ для термодинамических обменов с целью поддержания собственной структуры. Вследствие роста взаимозависимости человеческих индивидуумов, вследствие скученности, характерной для крупных современных городов, индивидуальный колпак значительным образом уменьшился…» Это пространственная, функциональная, гомеостатическая концепция. Так, будто целью группы, или человека, или даже животного является равновесие их колпака и гомеостаз их обменных процессов, внутренних и внешних!
(обратно)19
Аллюзия с Петером Шлемилем — человеком, который потерял свою тень, не случайна. Ведь тень, так же как отражение в зеркале (в фильме «Студент из Праги»), является остатком в высшей степени, чем-то таким, что может «отпасть» от тела, точно так, как волосы, экскременты или кончики ногтей, к которым тень с отражением и приравнивались во всей архаичной магии. Но они, как известно, ещё и «метафоры» души, духа Сущего, сущности, того, что придаёт субъекту глубокий смысл. Без отражения или без тени тело превращается в прозрачное ничто, оно само становится лишь остатком, светопроницаемой субстанцией, оставшейся после исчезновения тени. Оно более нереально: всю реальность забрала с собой тень (так, в «Студенте из Праги» отражение, которое разлетается вместе с зеркалом, вызывает немедленную смерть героя — классический мотив мистических историй, см. также «Тень» Ганса Христиана Андерсена). Таким образом, тело может быть лишь остатком своего собственного остатка, отходами своих собственных отходов. Лишь порядок, называемый реальным, позволяет отдавать предпочтение телу как референту. Однако ничто в символическом порядке не позволяет утверждать о приоритете того или другого (тела или тени). И именно эта реверсия тени относительно тела, это выпадение существенного, по определению существенного, под видом незначительного, это постоянное поражение смысла от того, что от него осталось, будь то кончики ногтей или лакановский «объект а», именно всё это и составляет шарм, красоту и сверхъестественность подобных историй.
(обратно)20
Более того, нынешняя забастовка неизбежно приобретает те же аспекты, что и труд: та же отрешённость, та же невесомость, то же отсутствие целей, та же аллергия на решение, то же брожение по инстанциям, та же потеря энергии, та же бесконечная повторяемость в забастовке сегодня, как и в труде вчера, та же ситуация в контринституции, что и в институции: заражение распространяется, круг замкнут, после этого нужно будет начинать атаку где-то в другом месте. Вернее, не так: взять этот самый тупик за исходную ситуацию, обратить нерешительность и отсутствие цели в наступательную позицию, в наступательную стратегию. Стремясь любой ценой вырваться из этого смертельного положения, из этой ментальной университетской анорексии, студенты лишь повторно вдыхают энергию в институт, находящийся в необратимой коме, и это принудительное выживание, эта терапия безысходности, которая применяется сегодня к учреждениям, как и к отдельным людям, и которая повсюду является знаком той же неспособности смело смотреть в лицо смерти. «Что падает, то нужно ещё подтолкнуть!» — говорил Ницше.
(обратно)21
Есть культуры, в которых существует лишь имажинерия их истока, и нет никакой имажинерии их конца. Есть культуры, одержимые и тем и другим… Возможны два других примера… Иметь лишь имажинерию конца (наша культура, нигилистическая). И не иметь вообще никакой имажинерии, ни истока, ни конца (та, что грядёт, алеаторная).
(обратно) (обратно)Пояснения
1
Референция — соотнесение знака с объектами внеязыковой действительности, реального мира — референтами. В тексте встречается много производных данных слов.
(обратно)2
Прецессия — предварение (или смещение), у Бодрийяра — предшествование подобий-объектов, симулирующих, передающих, изображающих или представляющих реальность.
(обратно)3
Имажинерия — хотя в русской традиции утвердился перевод «воображаемое», в некоторых случаях более уместно именно слово «имажинерия», то есть сам процесс воображения, продуцирования образов.
(обратно)4
Репрезентация — представленность, представление. Поскольку русский аналог многозначен, в тех случаях, когда речь идёт о представлении одного объекта посредством другого, используется слово латинского происхождения с более конкретным значением.
(обратно)5
Субституция («ставлю вместо») — замещение одного другим, подстановка, подмена.
(обратно)6
Апотропия — поскольку точного аналога часто употребляемого Бодрийяром термина dissuasion («разубеждение, разуверение, отговаривание» и одновременно «устрашение, отпугивание», а также «сдерживание, удержание, предотвращение») в русском языке нет, пришлось обратиться к греческому. Точный аналог, вмещающий все смыслы, — апотропей. Чтобы дистанцироваться от того смысла, которое апотропей приобрёл в русском языке (оберег, амулет), данное слово употребляется в женском роде: апотропия.
(обратно)7
Дескриптивный — описательный, представленный в виде точного описания характера и последовательности каких-либо событий, явлений.
(обратно)8
Литтре, Эмиль (1801–1881) — французский философ-позитивист, историк, филолог и лексикограф, автор «Истории французского языка» и «Словаря французского языка».
(обратно)9
Психосоматика — направление в медицине и психологии, изучающее влияние психологических факторов на возникновение и течение соматических (телесных) заболеваний.
(обратно)10
Дискурс (рассуждение, беседа, довод) — понятие современной лингвистики, семиотики и философии. В самом общем смысле: высказывание кем-то, кому-то и в определённой обстановке. У Бодрийяра под этим словом часто подразумевается набор понятий, которым оперирует определённая социальная группа, наука и т. д.
(обратно)11
Субверсия — этот термин Бодрийяр употребляет несколько шире, чем просто подрывная деятельность: не только в военном, но и политическом и идеологическом смыслах. В некоторых случаях как подрыв устоев, ниспровержение.
(обратно)12
Здесь и далее Бодрийяр играет на многозначности слова «симулякр», которым в Античности обозначали статуи и прочие изображения богов.
(обратно)13
Фасцинация — хотя термин давно присутствует в русском языке, его стремятся перевести как «очарование», «обворожительность», «заворожённость». Последний вариант наиболее точен, но Бодрийяр употребляет термин ещё шире — как гипноз, ослепление, даже зомбирование.
(обратно)14
Эпифания — в античности явление божества в человеческом или ином облике.
(обратно)15
Внутримирской — соотнесённый с материальным миром.
(обратно)16
Трансцендентность — запредельность, недоступность опыту, познанию; непостижимость для разума.
(обратно)17
Негация — отрицание, сам процесс отрицания.
(обратно)18
Реверсия, реверсивность — возврат в исходное состояние, обратимость, перемена направления, отдача, отмена. В тексте встречается много производных данных слов.
(обратно)19
В 1971 году мир облетела сенсационная новость: в филиппинских джунглях найдено племя тасадаи, не имевшее контактов с другими людьми на протяжении тысяч лет и жившее фактически в каменном веке. Власти Филиппин тут же объявили территорию охраняемой, чтобы сохранить уникальное племя для интересов науки. Но в 1986 году незаконно проникшая на эту территорию группа журналистов заявила, что в пещерах никого нет и всё это было большой мистификацией: первобытное племя «сыграли» крестьяне из деревни неподалёку. Ещё через несколько лет вышло новое опровержение: те же «крестьяне» рассказали, что именно во второй раз их подкупили и заставили сказать неправду, а истина оказалась ни тем, ни другим: племя тасадаи на самом деле вело примитивный образ жизни и находилось в изоляции, но совсем не тысячи лет.
(обратно)20
Крезо — город в Бургундии, главной достопримечательностью которого является крупный экологический музей, расположенный на огромной территории и чья обширная коллекция посвящена чёрной металлургии.
(обратно)21
Диспозитив — в широком смысле порядок, расположение, диспозиция, устройство, механизм. В узком — отсылка к Фуко, для которого диспозитив — гетерогенная совокупность элементов, к числу которых относятся дискурсы, политические и общественные установления, административные решения и мероприятия, а также научные, философские и моральные высказывания в той мере, в какой они носят регламентирующий характер.
(обратно)22
Гроты Ласко — один из важнейших палеолитических памятников по количеству, качеству и сохранности наскальных изображений, расположенный на юго-востоке Франции. Наскальная роспись сохранилась лишь в одной из пещер региона, которую случайно открыли в 1940 году. В 1948 году вход в пещеру был оборудован для туристических посещений, которых становилось с каждым днём всё больше, и со временем они стали угрожать сохранности наскальных изображений. В 1955 году были замечены первые признаки повреждения изображений. Они возникли из-за избытка углекислого газа, появившегося от дыхания посетителей. К 1963 году возникла угроза полностью лишиться уникального памятника, и было принято решение запретить доступ в Ласко для широкой публики. В начале 1970-х годов началось создание репродукции части пещеры. Она была открыта в 1983 году и получила название Ласко II.
(обратно)23
Клойстерс (Монастыри) — филиал Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Экспозиция в Клойстерсе посвящена исключительно искусству Средневековья. Название же своё музей получил в честь пяти французских монастырей, остовы которых, в 1930-х годах разобранные на кирпичи и переправленные в Америку, послужили основой для постройки комплекса.
(обратно)24
Иши (ок. 1860–1916) — последний американский индеец в Северной Калифорнии, прожил большую часть своей жизни полностью вне «европейско-американской» культуры, не общался с белыми людьми и не знал английского языка. В 1911 году был доставлен антропологами в Калифорнийский университет в Беркли, в котором его изучали и даже наняли в качестве научного сотрудника. Прожив пять лет в здании университета в Сан-Франциско, он передал учёным множество слов из языка яхи, познакомил с традиционными ремёслами и научил одного из них стрелять из лука. Умер от туберкулёза.
(обратно)25
Парки развлечений и аттракционы в окрестностях Лос-Анджелеса.
(обратно)26
Маршалл Салинз — американский антрополог. Критиковал идею «человека экономического» и считал культуры «дикарей» равноценными европейским. В ряде работ отстаивал идею «первобытного изобилия».
(обратно)27
Эзотерический — тайный, скрытый, понятный только посвящённым. Экзотерический — внешний, открытый, профанический.
(обратно)28
Имплозия и противопоставляемая ей эксплозия — два основных понятия данной работы Бодрийяра. Если эксплозия — взрыв, расширение, распространение, экспансия (у Бодрийяра часто аналог Большого взрыва, расширения Вселенной), то имплозия — взрыв, направленный внутрь, быстрое разрушение под влиянием внутренних факторов, схлопывание, сжатие (аналог чёрной дыры, или сокращения Вселенной).
(обратно)29
Инволюция (свёртывание, сворачивание, завиток) — обратное развитие, переход к прежнему состоянию. Однако Бодрийяр предупреждает, что не следует резко противопоставлять инволюцию как эволюции, так и революции. Это совершенно новый процесс, сопровождающий имплозию.
(обратно)30
Уотергейт — политический скандал во время подготовки к президентским выборам 1972 года, вызванный раскрытием попытки незаконно установить представителями правящей республиканской партии США подслушивающую аппаратуру в отеле «Уотергейт», где располагалась штаб-квартира демократической партии. Закончился отставкой президента страны Ричарда Никсона. Первый и пока единственный за историю США случай, когда президент прижизненно досрочно прекратил исполнение обязанностей. Слово «Уотергейт» вошло в политический словарь многих языков мира в значении скандала, ведущего к краху карьеры главы государства. Последний слог в названии отеля — «-гейт» — стал суффиксом, используемым для названия новых скандалов.
(обратно)31
Бурдье, Пьер (1930–2002) — французский социолог и философ, представитель постструктуралистского направления социальной теории, создатель теории социального поля и теории габитуса.
(обратно)32
Детерминизм (определение, ограничение) — учение о взаимосвязи и взаимообусловленности происходящих процессов и явлений, доктрина о всеобщей причинности.
(обратно)33
Индифферентный, индифферентность — в большинстве случаев Бодрийяр употребляет эти понятия в буквальном смысле как «отсутствие различий». Иногда как «не оказывающий влияния, воздействия, не вступающий в контакт» и лишь в третью очередь в общепринятом значении «не проявляющий интереса, равнодушный, безучастный, безразличный».
(обратно)34
Речь идёт о фильме 1976 года «Вся президентская рать». Глубокая Глотка — псевдоним Марка Фелта, заместителя начальника ФБР, выбранный для него как для информатора прессы по делу «Уотергейта». Инкогнито осведомителя было раскрыто только в 2005 году.
(обратно)35
Каузальность — причинность, причинная обусловленность, необходимая связь причины и следствия.
(обратно)36
Антиципация — предвосхищение, предугадывание, представление о предметах или событиях, возникающее до их реального проявления.
(обратно)37
Берлингуэр, Энрико (1922–1984) — итальянский политик, секретарь Итальянской коммунистической партии с 1972 года и до смерти. При нём произошёл постепенный переход ИКП с позиций марксизма-ленинизма на позиции социал-демократии и мирного сосуществования с представителями иных политических взглядов. Берлингуэру не удалось достичь главной цели — формирования коммунистического правительства или хотя бы ввода коммунистов в правительство, но при нём резко возросло представительство коммунистов в местных органах власти Италии.
(обратно)38
Бургосский процесс состоялся в декабре 1968 года. За убийство комиссара Гонсалеса были осуждены 19 боевиков ЭТА (террористическая организация баскских сепаратистов), шесть из которых — на смертную казнь (позже заменена тюрьмой).
(обратно)39
Конъюнкция («союз, связь») — Бодрийяр использует в значении «соединение несоединимого в единое целое».
(обратно)40
Лиотар, Жан-Франсуа (1924–1998) — французский философ-постмодернист и теоретик литературы. Определил понятие «постмодерн» как кризис метасценариев (великих проектов). В этом смысле Лиотар близок к позитивизму.
(обратно)41
Делез, Жиль (1925–1995) — французский философ-постмодернист, который совместно с психоаналитиком Феликсом Гваттари написал знаменитый трактат «Анти-Эдип» (1972). Ввёл в философский лексикон термины «ризома», «шизоанализ», «тело без органов». Разрабатывал концепцию различия как «истинного начала философии». Бодрийяр активно использует ряд понятий Делеза, в частности различие и различение.
(обратно)42
Означающее и означаемое — основные понятия современной лингвистики для описания знака, были обоснованы классиком этой науки Ф. де Соссюром. По определению учёного, означающее/означаемое являются двумя сторонами знака, как лицевая и оборотная сторона бумажного листа. Означающее — то, что в знаке доступно восприятию (зрению, слуху). Означаемое — смысловое содержание в знаке, переданное означающим как посредником. Бодрийяр использует термины в более широком смысле, выводя за пределы лингвистики.
(обратно)43
Контагиозный — заразный, заразительный, в основном при контакте.
(обратно)44
Деструкция (разрушение) — нарушение структуры, разорение, упадок, опустошение.
(обратно)45
Детерриториализация — понятие номадологии, введённое Делезом и Гваттари для обозначения процедуры снятия — применительно к пространственным средам — жёстко фиксированных бинарных оппозиций глубины и поверхности, внешнего и внутреннего, центра и периферии и т. д. Однако Бодрийяр часто использует термин в буквальном смысле — как лишение территории, отсутствие локализации, вынос за пределы, перемещение с одной территории на другую.
(обратно)46
Кластр, Пьер (1934–1977) — французский антрополог, этнолог, анархо-примитивистский философ. Известен благодаря своим работам по политической антропологии, антиавторитарным убеждениям и монографии о парагвайских индейцах гуаяки (аче).
(обратно)47
Обезьяны власти — аллюзия с выражением «Дьявол — обезьяна Бога».
(обратно)48
Флотация (плавание, колебание) — помимо основного значения «нахождение во взвешенном состоянии», у Бодрийяра явная аллюзия с экономическими терминами «колебание курса валют», «плавающий капитал» и т. д.
(обратно)49
Контроверза — противоречие, разногласие, расхождение, спорный вопрос.
(обратно)50
Перверсия — Бодрийяр часто использует слово «извращение» без полового подтекста, просто как отклонение от нормы, искажение.
(обратно)51
Транспарентность — перевод как «прозрачность» уместен далеко не всегда. У Бодрийяра в первую очередь это — отсутствие тайн, рассекреченность, полная открытость информации.
(обратно)52
Медиум (посредник, середина, среда) — хотя из контекста ясно, что речь идёт в основном о медиа, средствах информации, Бодрийяр в большинстве случаев употребляет именно слово «медиум», подразумевая под ним посредника и носителя информации, всю среду её распространения в самом широком смысле. Всё, так или иначе опосредованное, произведённое и полученное не живым опытом и не непосредственным контактом, — относится к медиуму.
(обратно)53
Паноптизм (всеподнадзорность) — концепция самоконтроля общества, сформулированная Мишелем Фуко в известном труде «Надзор и наказание» (1975). Саму идею Фуко позаимствовал у Иеремии Бентама, предложившего в конце XVIII века архитектурный проект тюрьмы «Паноптикон», где внутри расположенных по кругу камер находится центральная башня, откуда ведётся постоянное наблюдение. В этих условиях никто из заключённых не мог быть уверен, что за ним не наблюдают, в результате заключённые стали постоянно сами контролировать своё собственное поведение. Впоследствии этот принцип «паноптизма» был распространён на школы, казармы и больницы, были выработаны правила составления персональных досье, системы классификации и аттестации — всё, что способствовало установлению перманентного надзора, «мониторинга» над учениками, больными и т. д. Другая параллель обнаруживается между Паноптиконом и компьютерным мониторингом над индивидами в условиях развитого капитализма. Фуко намекает, что новая техника власти была необходима для того, чтобы справиться с ростом населения и обеспечить надёжное средство управления и контроля.
(обратно)54
Фуко, Мишель (1926–1984) — французский философ, теоретик культуры и историк. Книги Фуко о социальных науках, медицине, тюрьмах, проблеме безумия и сексуальности сделали его одним из самых влиятельных мыслителей XX века. Однако Бодрийяр часто полемизировал с ним.
(обратно)55
Вирулентность — ядовитость, вредность, болезнетворность, патогенность. Бодрийяр использует однокоренность со словом «вирус».
(обратно)56
Спектакулярный (потрясающий, сенсационный) — перевод как «зрелищный» уместен весьма редко, так как во французском слово очень многозначно: впечатляющий, драматичный, яркий, демонстративный, наглядный, показной, эффектный. Кроме того, у Бодрийяра прослеживается аллюзия слова с «обществом спектакля».
(обратно)57
Ситуационизм — направление в западном марксизме, возникшее в послевоенный период. Активно проявило себя во время майских событий 1968 г. во Франции. Критика капитализма и партийной бюрократии привела к сближению ситуационистов с анархистами. Существенной предпосылкой социальной революции объявлялась революция сознания. Поскольку индивидуальное сознание детерминировалось общественной и культурной ситуацией, ситуационисты развили маоистскую идею культурной революции до продуцирования контркультуры и контркультурных ситуаций (отсюда название). Базовый труд этого течения — книга «Общество спектакля» французского философа, писателя, художника-авангардиста, режиссёра Ги Дебора (1931–1994). Посвящена анализу современного западного общества с леворадикальных позиций. Суть современного состояния Ги Дебор определяет как утрату непосредственности: «Всё, что раньше переживалось непосредственно, отныне оттеснено в представление». Термин «спектакль» означает «самостоятельное движение неживого» или «общественные отношения, опосредованные образами». Важную роль в становлении общества спектакля сыграли средства массовой информации. «Это новшество обернулось настоящим троянским конём», — пишет Ги Дебор.
(обратно)58
Маклюэн, Маршалл (1911–1980) — канадский философ, филолог, литературный критик, теоретик воздействия артефактов как средств коммуникации. Получил известность как исследователь воздействия электрических и электронных средств коммуникации на человека и общество. Наиболее известны его концепции «глобальная деревня» и «the medium is the message» («средство коммуникации является сообщением»). Последнюю формулу Бодрийяр подробно рассматривает далее по тексту.
(обратно)59
Контракция — деформация, сжатие, стягивание. Ретракция — укорочение, сокращение.
(обратно)60
Алеаторный — у Бодрийяра вовсе не точный аналог слова «случайный», а именно «жеребьёвочный», некий игровой момент, как в спортивных и прочих играх.
(обратно)61
Дифференциальный (различествовать) — отличительный, различный, разностный, способствующий различию.
(обратно)62
Флуктуация — колебания обменного курса.
(обратно)63
Сателлитизация — вывод на орбиту, подчинение, превращение в сателлит.
(обратно)64
Имманентность (пребывание внутри) — понятие, обозначающее свойство, внутренне присущее предмету, процессу или явлению; то, что пребывает в самом себе, не переходя в нечто иное. Противоположное понятие — «трансцендентность».
(обратно)65
Ядерные последствия — в оригинале дословно «ядерные осадки».
(обратно)66
Социализация — процесс усвоения индивидом образцов поведения, психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно функционировать в обществе.
(обратно)67
Акциденция — Бодрийяр использует слово в прямом смысле — случайность, случай, в том числе несчастный. Трансверсальность — побочность, поперечность.
(обратно)68
Финальность — законченность, окончательность, конечная цель. Противоположность бесконечности.
(обратно)69
Конвергенция (схождение) — процесс сближения, подразумевающий появление у сходящихся сторон сходных признаков. Сглаживание различий.
(обратно)70
Резорбция — повторное поглощение, всасывание.
(обратно)71
Modus vivendi — образ жизни, способ существования. Также дипломатический термин, применяемый для обозначения временных или предварительных соглашений, которые впоследствии предполагается заменить другими, более постоянного характера или более подробными.
(обратно)72
Речь идёт о лозунге из романа Оруэлла «1984».
(обратно)73
Рециркуляция — естественный или искусственный процесс распада и восстановления веществ. Многократное полное или частичное возвращение.
(обратно)74
Нефтяной кризис 1973 года был первым энергетическим кризисом и до сих пор считается крупнейшим. ОПЕК снизила объёмы добычи нефти не только для того, чтобы повлиять на мировые цены в свою пользу. Главная задача этой акции состояла в создании политического давления на мировое сообщество с целью уменьшения поддержки Израиля западными странами.
(обратно)75
Арто, Антонен (1896–1948) — французский писатель, поэт, драматург, актёр театра и кино, художник, киносценарист, режиссёр и теоретик театра, новатор театрального языка, посвятивший жизнь и творчество вопросу о новом обосновании искусства, его месте в мире и прав на существование. Арто разработал собственную театральную концепцию, называемую «театр жестокости». Основание системы Арто — отрицание театра в привычном понимании этого явления. Театра, удовлетворяющего традиционные запросы публики. Сверхзадача — обнаружить истинный смысл человеческого существования через разрушение случайных форм.
(обратно)76
Контент — не только содержание, но и содержимое, информационное наполнение, которое не всегда бывает содержательным.
(обратно)77
Прекрасная эпоха — условное обозначение периода европейской истории между 1890 и 1914 годами.
(обратно)78
Неофигуративизм — одно из течений поп-арта.
(обратно)79
Инвокация — взывание, вызывание, в частности духов.
(обратно)80
«Барри Линдон» — кинофильм американского режиссёра Стэнли Кубрика, широко признанный одной из вершин исторического («костюмного») кинематографа. В киноведческих публикациях принято определять фильм как «величественный и трудоёмкий эксперимент», который имеет самостоятельную искусствоведческую ценность в качестве полномасштабной реконструкции исторической эпохи, отделённой от нашего времени многими поколениями. Кубрик дал съёмочной группе установку на создание «документального фильма» о нравах и манерах аристократии позапрошлого столетия.
(обратно)81
Эвокация — устойчивый термин французского литературно-критического языка; обозначает литературные приёмы, имеющие целью не воспроизвести тот или иной объект, а передать читателю ощущение от этого объекта.
(обратно)82
Висконти, Лукино (1906–1976) — итальянский режиссёр оперного и драматического театра и кино.
(обратно)83
Леоне, Серджо (1929–1989) — итальянский режиссёр, сценарист, продюсер. Известен как один из основателей жанра спагетти-вестерн.
(обратно)84
Функционализм — один из основных методологических подходов в культурологии и социальной антропологии, заключающийся в рассмотрении общества как системы, состоящей из структурных элементов, функционально связанных друг с другом и выполняющих определённые функции по отношению к обществу как целому.
(обратно)85
Дефиниция (определение) — краткое высказывание, относящее какой-либо объект к какой-либо категории и описывающее важнейшие отличительные признаки этого объекта.
(обратно)86
Промискуитет — беспорядочная, ничем и никем не ограниченная половая связь со многими партнёрами. Термин применяется в двух различных значениях: для описания половых отношений в первобытном человеческом обществе до образования семей и для описания беспорядочной половой жизни индивида.
(обратно)87
Речь идёт о бельгийско-французском фильме 1975 года «Жанна Дильман, набережная коммерции 23, Брюссель 1080».
(обратно)88
Рестадирование — повторное обследование.
(обратно)89
Месседж — слово активно входит в русский, поскольку имеет значение одновременно сообщения, послания и обращения. Бодрийяр использует эту многозначность.
(обратно)90
«Китайский синдром» — фильм об инциденте на атомной станции. Вышел в прокат в США 16 марта 1979 года, всего за несколько дней до реальных событий на АЭС Три-Майл-Айленд в Пенсильвании. Так же «китайский синдром» — ироническое выражение, первоначально обозначавшее, что при тяжёлой аварии на АЭС ядерное топливо способно прожечь всю Землю насквозь и дойти до Китая.
(обратно)91
Телерасщепление — неологизм Бодрийяра. Аллюзия с телевидением и ядерным расщеплением.
(обратно)92
Рене, Том (1923–2002) — французский математик. Ввёл термины «катастрофа» и «теория катастроф» («катастрофа» в данном контексте означает резкое качественное изменение объекта при плавном количественном изменении параметров, от которых он зависит). Теория катастроф нашла многочисленные применения в различных областях прикладной математики, физики, а также в экономике.
(обратно)93
«Телесеть» — американский кинофильм, снятый Сидни Люметом в 1976 году, едкая сатира на американское телевидение.
(обратно)94
Констелляция — в широком смысле это взаимное расположение и взаимодействие различных факторов, стечение обстоятельств.
(обратно)95
Парусия (присутствие, пришествие) — в христианской эсхатологии Второе Пришествие Христа, Судный день.
(обратно)96
EDF (Électricité de France) — крупнейшая энергогенерирующая компания Франции. Управляет 59 АЭС, обеспечивая электроснабжение 25 млн домов.
(обратно)97
Вестморленд, Уильям (1914–2005) — американский военачальник, в разное время занимавший посты главнокомандующего американскими войсками во Вьетнаме и начальника штаба армии США. Получил известность как один из главных военных деятелей США периода вьетнамской войны.
(обратно)98
Бобур — Национальный центр искусства и культуры имени Жоржа Помпиду, в просторечии Центр Помпиду, или Бобур (по названию квартала Парижа, где он расположен). Открыт с 1977 года, создан по инициативе французского президента Жоржа Помпиду. Деятельность центра посвящена изучению и поддержке современного искусства и искусства XX века в различных его проявлениях (изобразительное искусство, танец, музыка и пр.). Центр является третьей по посещаемости культурной достопримечательностью во Франции после Лувра и Эйфелевой башни. Включает в себя парижский Музей современного искусства, большую библиотеку, концертные и выставочные залы, Институт исследования и координации акустики и музыки. Здание современной постройки и очень больших для центра Парижа размеров. Оригинальная идея архитекторов была в расположении всех технических конструкций (арматурные соединения, все трубопроводы, лифты и эскалаторы) снаружи здания, что позволило высвободить максимум полезной площади в 40 тыс. м2.
(обратно)99
Гласис (скат, откос) — пологая земляная насыпь перед наружным рвом крепости. Возводили с целью улучшения условий обстрела впереди лежащей местности, маскировки и защиты укрепления. В переносном смысле — защитная зона, прикрытие.
(обратно)100
Поливалентный — смешанный, сочетающий в себе несколько разных или один многоцелевой.
(обратно)101
Сезар Бальдаччини (1921–1998) — французский скульптор. Наибольшую известность Сезару принесли произведения из металлолома, в 1960-х он получил мировое признание благодаря скульптурам из остовов разбитых машин. Художник использовал своё имя в качестве творческого псевдонима. В честь Сезара Бальдаччини была названа французская кинопремия «Сезар».
(обратно)102
Дюбюффе, Жан (1901–1985) — французский художник и скульптор. Основоположник ар брют — «грубого», или «сырого», искусства, принципиально близкого к любительской живописи детей, самоучек, душевнобольных, не признающего общепринятых эстетических норм и использующего любые подручные материалы.
(обратно)103
Тэнгли, Жан (1925–1991) — швейцарский скульптор, представитель кинетического искусства, вдохновлённого дадаизмом. Его фантастические машины и гигантские саморазрушающиеся конструкции иногда называют метамеханикой.
(обратно)104
Эксплораториум — музей в Сан-Франциско, вмещает более 1000 экспонатов, дающих представление обо всём на свете. Здесь с удивительной изобретательностью и простотой демонстрируются физические явления и процессы.
(обратно)105
Семиургия (знакотворчество) — деятельность по созданию новых знаков и введению их в язык. Бодрийяр использует слово в прямом смысле.
(обратно)106
Интерференция (наложение) — взаимодействие и последствие влияния одного на другое.
(обратно)107
Агглютинация (склеивание) — сливание в одно целое.
(обратно)108
Хеппенинг — форма современного искусства, представляющая собой действия, события или ситуации, происходящие при участии художника, но не контролируемые им полностью.
(обратно)109
Инфинитезимальная память — запоминание бесконечно малых деталей.
(обратно)110
Интерстициальный (междоузлие) — промежуточный, находящийся между.
(обратно)111
Ризома (корневище) — понятие философии постмодерна, фиксирующее принципиально внеструктурный и нелинейный способ организации целостности. Согласно Делезу, у ризомы нельзя выделить ни начала, ни конца, ни центра, ни генетической оси, ни единого кода.
(обратно)112
Батай, Жорж (1897–1962) — французский философ, поэт, прозаик, эссеист, экономист, мистик, во многом определивший пути развития французской мысли и словесности второй половины XX века. Ввёл понятие «симулякр», «проклятая доля».
(обратно)113
Май 68-го года (Красный май) — социальный кризис во Франции, вылившийся в демонстрации, массовые беспорядки и всеобщую забастовку. Привёл в конечном счёте к смене правительства, отставке президента Шарля де Голля и в более широком смысле к огромным изменениям во французском обществе.
(обратно)114
Просопопея (приписывание) — стилистический оборот, заключающийся в том, что предмету (большей частью неодушевлённому) приписывается действие или состояние, в реальной действительности ему не свойственное.
(обратно)115
Конвекция (перенесение, смешивание) — передача тепла текучими средами согласно кинетической теории. Конвекция представляет собой организованное круговое движение потока воды или воздуха на основе тепловых изменений в плотности и гравитационном притяжении. Бодрийяр использует слово в прямом смысле.
(обратно)116
Деструктурация — разрушение исходной целостности объекта.
(обратно)117
Негэнтропия — философский термин, образованный добавлением отрицательной приставки нег-(от negative) к слову «энтропия». В простом понимании, энтропия — хаос, саморазрушение и саморазложение. Соответственно, негэнтропия — движение к упорядочиванию, к организации системы.
(обратно)118
Сигнификация — создание и употребление знаков, придание им определённых значений и смыслов.
(обратно)119
Шеннон, Клод (1916–2001) — американский инженер и математик, его работы являются синтезом математических идей с конкретным анализом чрезвычайно сложных проблем их технической реализации. Является основателем теории информации, нашедшей применение в современных высокотехнологических системах связи. Ввёл слово «бит» для обозначения наименьшей единицы информации.
(обратно)120
Моно, Жак (1910–1976) — французский биохимик и микробиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1965 году «за открытия, касающиеся генетического контроля синтеза ферментов и вирусов». В своей книге «Случайность и необходимость» (1971) высказывает мысли о случайности возникновения жизни и эволюции, а также о роли человека и его ответственности за происходящие на Земле процессы.
(обратно)121
Могадишо-Штаммхайм. В 1977 году интернациональная команда террористов захватила самолёт с немецкими туристами и угнала его в столицу Сомали, город Могадишо. В обмен на жизнь пассажиров боевики требовали освобождения лидеров РАФ (Фракция красной армии — немецкая леворадикальная террористическая организация). Переговоры длились пять дней. После этого элитный спецназ взял самолёт штурмом. Всего несколько часов спустя охранники тюрьмы Штаммхайм («Самой жуткой тюрьмы Германии») обнаружили, что все содержавшиеся там рафовцы мертвы. Официальная версия гласила: «самоубийство». По неофициальной — все были расстреляны. Коллективное самоубийство объясняли тем, что якобы рафовцы узнали о провале захвата самолёта по радиоприёмнику и осознали, что теперь у них нет никаких шансов когда-либо выйти из тюрьмы.
(обратно)122
Эко, Умберто — итальянский учёный-философ, историк-медиевист, специалист по семиотике, литературный критик, писатель.
(обратно)123
Double bind (двойное послание) — концепция, описывающая коммуникативную ситуацию, в которой субъект получает взаимно противоречащие указания, принадлежащие к разным уровням коммуникации.
(обратно)124
Троп (оборот) — риторическая фигура, слово или выражение, используемое в переносном значении с целью усилить образность языка, художественную выразительность речи. Тропы широко используются в литературных произведениях, ораторском искусстве и в повседневной речи.
(обратно)125
Седуктивный — так же как и в случае с фасцинацией, русские аналоги этого слова «соблазнительный» и «обольстительный» не всегда уместны в контексте.
(обратно)126
Werben werben — многозначное немецкое слово, от которого происходит русское «вербовать». В немецком также имеет значения: «агитировать, рекламировать, добиваться, домогаться».
(обратно)127
Стурдзе, Ив (1947–1986) — французский социолог. Изучал влияние информатизации и прочих инноваций на общество.
(обратно)128
Вирильо, Поль — французский философ, социальный теоретик, специалист по урбанистике и архитектурный критик. В частности, Вирильо утверждает, что кино и войну объединяет один эстетический принцип — эстетика исчезновения. Актуальный объект и непосредственное видение исчезают в тени технологического продуцирования образов.
(обратно)129
Фрактал («дроблёный, сломанный, разбитый») — геометрическая фигура, обладающая свойством самоподобия, то есть составленная из нескольких частей, каждая из которых подобна всей фигуре целиком.
(обратно)130
Обсценный (непристойный, нецензурный) — кроме основного значения Бодрийяр обыгрывает в этом термине ещё и слово «сцена», то есть отсутствие сцены, неуместность.
(обратно)131
Форум-дез-Аль (Форум крытых рынков) — подземный многоуровневый коммерческий центр. Расположен на том самом месте, где несколько веков находился крупнейший продовольственный рынок Парижа. Ещё ниже под землёй находится железнодорожная станция RER — самый большой подземный вокзал в мире, позволяющий быстро добраться до центра города из любой точки парижского региона, с пассажиропотоком 800 000 человек в день.
(обратно)132
Парли-2 — самый крупный торговый центр Европы, который был построен в 1970-х на окраине Парижа.
(обратно)133
Прет-а-порте (готовое платье) — модели готовой одежды, которые производятся большими партиями и в стандартных размерах. Могут быть созданы вне салонов мод, для массового производства, но также в более эксклюзивном порядке по дизайну ведущих модельеров.
(обратно)134
Гипогей — подземное помещение, в особенности могила, катакомба.
(обратно)135
Дороти Бис — парижский бренд модной одежды, основанный в 1962 году Жаклин и Эли Джекобсон.
(обратно)136
Пролиферация — разрастание ткани организма путём размножения клеток делением.
(обратно)137
Прокреация (рождение, произведение на свет) — воспроизведение потомства.
(обратно)138
Беньямин, Вальтер (1892–1940) — немецкий философ еврейского происхождения, теоретик истории, эстетик, историк фотографии, литературный критик, писатель и переводчик. Самая известная в России работа — «Произведение искусства в эпоху технической воспроизводимости»; ему принадлежит ставшая в наше время общераспространённой идея об ауре, которую теряет тиражируемый шедевр.
(обратно)139
Мах, Эрнст (1838–1916) — австрийский физик, механик и философ-позитивист. По его имени названо целое направление в философии и методологии науки конца XIX — начала XX в. — махизм.
(обратно)140
«Поглотить своё собственное свидетельство о рождении» (avale son bulletin de naissance) — аналог русского выражения «Мама, роди меня обратно» в значении умереть, как будто и не рождавшись.
(обратно)141
Патафизика — точного определения термина не существует. В самых общих чертах патафизика — наука, посвящённая изучению того, что лежит за пределами области метафизики. Название происходит от профессии главного героя романа Альфреда Жарри (1873–1907) «Деяния и мнения доктора Фаустролля, патафизика». Существует Колледж патафизики — интернациональное сообщество писателей, переводчиков, историков словесности, художников, музыкантов, режиссёров театра и кино, созданное в 1948 году в Париже как пародия на научное общество со своими секциями, комиссиями, подкомиссиями, церемониями приёма, корпоративными торжествами и т. д. Бодрийяр был членом этого колледжа.
(обратно)142
Антецедент (предшествующее) — в общем смысле предшествующие события, помогающие уяснению настоящего.
(обратно)143
Бриколаж (самоделка, халтура, тяп-ляп) — термин, использующийся в различных дисциплинах, в том числе в изобразительном искусстве и литературе, и означающий создание предмета или объекта из подручных материалов, а также сам этот предмет или объект.
(обратно)144
«Проклятая доля» — важнейший образ философии Ж. Батая. «Батай, — отмечает С. Л. Фокин, — указывает на то, что принцип полезности не может быть единственным принципом в объяснении человеческого существования. Некая часть человеческого существования регулируется не исканием пользы, накопления, сохранения энергии (богатств), но прямо противоположным принципом непроизводительной траты. Необходимость траты… напрочь отвергается капиталистическим строем, в котором всё поставлено на накопление и почти ничего на трату. Доля человека, движимая соприродным ему наваждением траты, не просто отвергается моралью капитализма, она подвергается проклятию; это и есть „проклятая доля“ современного человека».
(обратно)145
Дисфункция — нарушение, расстройство функций некоего органа, системы и прочего, преимущественно качественного характера.
(обратно)146
«Нэшвилл» — многофигурная кинофреска Роберта Олтмана (1975), один из ключевых фильмов его карьеры и Нового Голливуда в целом. Переплетения жизней 24 персонажей на фоне 27 музыкальных номеров образуют многослойную панораму столицы музыки кантри, города Нэшвилл, а заодно диагностируют социально-политические проблемы Америки, уставшей от уотергейтских разоблачений начала 1970-х и готовой с головой нырнуть в омут развлечений эпохи диско. «Заводной апельсин» — культовый фильм-антиутопия 1971 года режиссёра Стэнли Кубрика по мотивам одноимённого романа Энтони Бёрджесса, вышедшего в 1962 году.
(обратно)147
Гипостазирование — наделение самостоятельным существованием в пространстве и времени абстрактных сущностей.
(обратно)148
«Жук Джек Бэррон» (1969) — роман американского писателя-фантаста Нормана Спинрада. «Всем стоять на Занзибаре!» (1968) — роман английского писателя-фантаста Джона Браннера.
(обратно)149
Леви-Стросс Клод (1908–2009) — французский этнограф, социолог и культуролог, создатель школы структурализма в этнологии (т. н. структурной антропологии), теории «инцеста» (одной из теорий происхождения права и государства), исследователь систем родства, мифологии и фольклора.
(обратно)150
Канаки — коренные народы Меланезии, проживающие в Новой Каледонии, где составляют 40 % населения.
(обратно)151
Кинг-Конг — один из самых популярных персонажей массовой культуры XX века, гигантская горилла. Речь идёт о ремейке фильма «Кинг-Конг» 1976 года.
(обратно)152
Негритюд — принадлежность к чёрной расе. Также теория, утверждающая идею об особом самостоятельном духовном, культурном и политическом развитии африканских народов.
(обратно)153
Бионика — прикладная наука о применении в технических устройствах и системах принципов организации, свойств, функций и структур живой природы, то есть формы живого в природе и их промышленные аналоги.
(обратно)154
Апроприация — завладение, присвоение преимущественно недвижимого имущества.
(обратно)155
Остаток (reste) — во французском очень многозначное слово. Кроме основного значения «остаток», так же и осадок, пережиток, останки, сдача, отходы. Бодрийяр играет всеми значениями слова.
(обратно)156
Эксплицитный — ярко выраженный, явный.
(обратно)157
Mise en abyme (принцип матрёшки) — рекурсивная художественная техника, известная в просторечии как «сон во сне», «рассказ в рассказе», «спектакль в спектакле», «фильм в фильме» или «картина в картине». Термин пришёл из средневековой геральдики, где французским словом abyme обозначался миниатюрный герб в центре герба. Mise en abyme означало «поместить геральдический элемент в центр герба». В современном значении метонимического воспроизведения фигуры внутри себя самой этот геральдический термин впервые употребил в начале XX века писатель Андре Жид.
(обратно)158
Петер Шлемиль — герой наиболее известного художественного произведения Адельберта Шамиссо (1781–1838) — повести «Необычайная история Петера Шлемиля» (1814). В рассказе о человеке, потерявшем свою тень, автор вскрывает психологическую ситуацию своего современника, искушаемого богатством, опасность утраты личности.
(обратно)159
«Почему социологи?» — прокламация на четырёх листах, выпущенная в марте 1968 года четырьмя студентами-анархистами университета Нантер. Среди авторов будущий лидер «Красного мая» Даниэль Кон-Бендит. Явилась идеологическим толчком для майских событий.
(обратно)160
Нантер (Университет Париж X) — один из тринадцати парижских университетов, расположен в департаменте О-де-Сен, недалеко от Дефанс — делового центра Парижа. Является вторым по величине кампусом Франции после Нантского университета. Известен тем, что был центром майских событий 1968 года, в результате которых получил прозвище «Красный Нантер». Одним из самых известных преподавателей вуза был Бодрийяр.
(обратно)161
Ценность (valeur) — во французском очень многозначное слово. Кроме основного значения «ценность», также и «стоимость», «цена», «значение», «доблесть». Бодрийяр играет всеми значениями слова.
(обратно)162
Диссекция — рассечение, анатомирование, но также и анализ, разбор.
(обратно)163
Гипертелия («сверх окончания») — Бодрийяр употребляет слово в прямом смысле: то, что идёт дальше, чем его собственный финал.
(обратно)164
Афаниз — крайняя степень страха.
(обратно)165
Адорно, Теодор (1903–1969) — немецкий философ, социолог, композитор и теоретик музыки. Представитель Франкфуртской критической школы.
(обратно)166
Ресентимент («озлобление, враждебность») — французское слово, которому Ницше придал особый смысл: чувство враждебности к тому, что субъект считает причиной своих неудач («врагу»), бессильная зависть. Чувство слабости или неполноценности, а также зависти по отношению к «врагу» приводит к формированию системы ценностей, которая отрицает систему ценностей «врага». Субъект создаёт образ «врага», чтобы избавиться от чувства вины за собственные неудачи. Ресентимент, по Ницше, деятельно проявляет себя в «восстании рабов»: «Восстание рабов в морали начинается с того, что ressentiment сам становится творческим и порождает ценности…»
(обратно) (обратно)





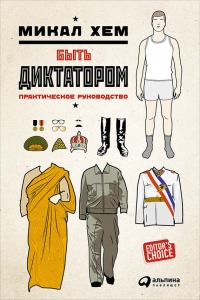
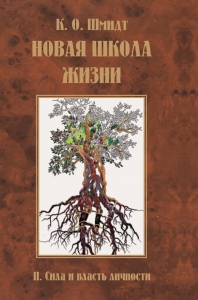


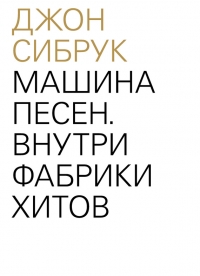

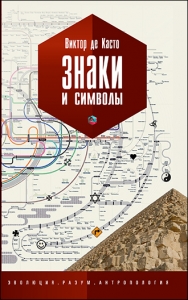

Комментарии к книге «Симулякры и симуляция», Жан Бодрийяр
Всего 0 комментариев