Соломон Воложин Беспощадный Пушкин
Дельвиг звал однажды Рылеева к девкам. «Я женат», — отвечал Рылеев. — ”Так что же, — сказал Д<ельвиг>, — разве ты не можешь отобедать в ресторации, потому только, что у тебя дома есть кухня?»
А. С. ПушкинКощунство — пытаться простому человеку объяснить гения. Но… если это позволяют себе литературные критики, тоже простые люди, то можно и мне. Прости, пожалуйста, Пушкин!
ПРЕДИСЛОВИЕ
Данное предисловие призвано объяснить название книги: почему «беспощадный»? А еще — хоть чуть смягчить ту реакцию, которую, без сомнения, вызовет первый ее раздел (оказавшийся в его шокирующей части неожиданным и для самого автора).
Так получилось, что критики, разбирая «Моцарта и Сальери», — в подавляющем большинстве своем, — не исходили из музыки, которая звучала в памяти Пушкина при сочинении им своего шедевра и которую он хоть и обозначил, но достаточно темно — особенно для людей, далеких от истории музыки. И уж совсем, похоже, никто не исходил из идеалов, вдохновлявших композиторов описываемого времени и постигнутых — через музыку — Пушкиным. Такое постижение музыки — особенно адекватное — и случается–то само по себе редко среди литературоведов. А уж чтоб как–то выразить его словами!.. — Нет; считается профанацией.
Ясно, что ответственные перед своей карьерой специалисты не рисковали на такой зыбкой почве строить свою версию художественного смысла пушкинской трагедии. Решиться на то, что вы прочтете, мог лишь человек вне корпорации: я — посол варваров в стране культуры. И пусть такое самоназвание вас не пугает. Как метко заметил Выготский: «Поэзия для поэтов… К счастью, потенциально — мы все поэты. И только потому возможна литература». Да и любое искусство. И потому даже элитарное — оно предназначено для всех. А именно элитраное и для всех творил Пушкин.
Он был из родовитых дворян, каких оставалось мало (в том числе и из–за поражения декабризма и последующих ссылок и т. п.). Их не любили ни царь (за их гордость и независимость), ни чиновная знать (получившая, в предках, само дворянство за верную службу и впредь пресмыкающаяся за чины и ордена). К ним с демократической ненавистью относилось верноподданное мещанство. Отсюда — «воинственный аристократизм творческой позиции Пушкина» (Купреянова), особенно развившийся после того, как «критика конца 1820‑х гг. перестала понимать поэта» (Фомичев). Яркий пример такого аристократизма — «Моцарт и Сальери». Пушкин сам был талантливым слушателем серьезной музыки и от нас чего–то подобного захотел. Да и вообще — сотворцами с ним надо нам быть, может, более чуткими, чем с иным. Потому он и беспощадный.
Но это беспощадность не злая, а требовательная: не я опущусь до тебя, а ты подымись до меня! Такова была и его общественно–политическая позиция: его возмущало унижение родового дворянства царизмом, зато он хвалил царизм за то, что были введены «способы освобождения людей крепостного состояния», что открыт был «для прочих сословий путь к достижению должностей и почестей государственных», что «существование народа не отделилось вечною чертою от существования дворян». Вот откуда этот пушкинский парадокс слияния аристократизма и народности.
Будем же и мы — хоть в тенденции — верны такому слиянию.
Во исполнение этого неподготовленному читателю предлагается данная книга. Она предполагалась состоящей из двух разделов. Первый — обоснование и изложение повидимому нового взгляда на «Моцарта и Сальери» Пушкина да и на весь цикл его маленьких трагедий. Второй раздел — сравнение этого взгляда с другими, известными автору, причем с такими, какие могли бы утвердить его правоту потому, что сами опираются на текст трагедии. Третий раздел — непредвиденный; в нем Пушкин — опять неожиданно для автора — предстал вдруг в конце работы над книгой не только беспощадным, но и снисходительным.
Но так как доля пушкинской снисходительности к читателю представилась небольшой — это не привело к изменению назвавния книги.
Раздел 1 ГИПОТЕЗА
Вступление
Однажды я слушал доклад о «Моцарте и Сальери» Пушкина и при его обсуждении услышал слова, заставившие меня насторожиться. Был задан вопрос докладчику: «А почему Пушкин избрал драматическую форму для этой вещи? А не счел ли Пушкин — пусть они, Моцарт и Сальери, поговорят?»
И стало мне ясно: Пушкин не за Сальери, что очевидно, но и не за Моцарта.
А затем председательствующий рассказал о мнении Гуковского, что Сальери у Пушкина это представитель классицизма, а Моцарт — романтизма. И всем присутствующим, наверно, стало понятно, что дистанцирование Пушкина от Сальери и Моцарта есть проявление реализма.
Однако, для меня реализм бывает разный. И передо мной сразу встал вопрос: а какого же реализма придерживался Пушкин в «Моцарте и Сальери», да и вообще в маленьких трагедиях.
Это был 1830‑й год. Я для себя доказал когда–то, что той же болдинской осенью «Повестями Белкина» Пушкин ступил на путь романтического реализма. Упование на «чувства добрые», проявляемые в массовом порядке, упование на совестливость, на консенсус в обществе, хоть и разделенном на сословия, определили весь строй «Повестей Белкина», их — по Берковскому — эпический момент, а по Бочарову — «коллективную субъективность».
Не мог Пушкин, создавая той же осенью и «Повести Белкина» и маленькие трагедии, исповедовать разные идеалы.
Что такое, по Гуковскому, реализм Пушкина в маленьких трагедиях? Это историзм конфликта на стыке эпох: рыцарский и денежный век в «Скупом рыцаре», классицизм и романтизм в «Моцарте и Сальери», Ренессанс и средние века в «Каменном госте» и Ренессанс и пуританизм в «Пире во время чумы». (Так резюмировал Гуковского Лотман.)
А что такое указанный историзм по Гуковскому? Это формула: характеры производны от среды. Это бестенденциозность. Это «всемирная отзывчивость», как сказал о Пушкине Достоевский. Или по Белинскому: «В Пушкине… увидите художника… любящего все и потому терпимого ко всему».
Вот, казалось бы, откуда эти мощные оправдания Скупому, Сальери, Дон Гуану, чуме и воспевающему ее Вальсингаму. Вот, казалось бы, откуда мощные оправдания их антагонистам. Но я не оговорился, сказав «казалось бы».
Уже Лотман не согласился с Гуковским, утверждая:
«Еще в 1826 г. в черновиках 6‑й главы «Евгения Онегина» мелькнула формула: «Герой, будь прежде человек». А в 1830 г. она уже обрела законченность и афористичность формулировки:
Оставь герою сердце! Что же Он будет без него? Тиран…»Лотман «Повести Белкина» считал началом нового творческого этапа Пушкина, говоря о предшествующем этапе:
«Зависимость от внешней среды — это лишь обязательный низший уровень человеческой личности».
«Повестями Белкина» начинался утопизм Пушкина, упование на общественный консенсус, «коллективную субъективность». И это–то и нужно найти в маленьких трагедиях и в «Моцарте и Сальери» в частности.
И я вспомнил слова из книги Выготского «Психология искусства» о басне Крылова «Стрекоза и муравей», что детям всегда кажется очень черствой и непривлекательной мораль муравья и все их сочувствие на стороне стрекозы, хотя мораль басни обратная. Налицо противочувствие. Универсальный психологический принцип художественности, открытый Выготским. Подумалось: уж не против ли Пушкин моцартовского романтизма, раз сделал Моцарта таким достойным сочувствия?
Глава 1 Из музыковедения
Само утверждение, что Моцарт романтик, является спорным, как спорно и многое относительно Моцарта. В доказательство этого для людей далеких от музыковедения достаточно упомянуть названия некоторых исследовательских работ о его музыке: «Неведомый Моцарт», «Непризнанный Моцарт». Игорь Бэлза написал примечательные слова о разброде в понимании Моцарта:
«…каждый, кто хоть немного знакомился с творчеством Бетховена и его личностью, тотчас же узнавал его как человека. С Моцартом дело обстоит совсем иначе; он…
[для публики, для музыкального окружения своего]
…не был артистом, ни даже человеком, а чем–то вроде ребенка из волшебных сказок, случайно упавшего с неба и ни о чем не помышляющего, кроме того, чтобы напевать услышанные там сладостные песни».
Это Бэлза цитирует де Визева и тут же делает сноску:
Как некий херувим, Он несколько занес нам песен райских…— приравнивая ко взгляду на Моцарта пушкинского Сальери взгляды многих и многих. И Бэлза продолжает уже сам, называя такие взгляды очень непочтительно:
«Де Визева имел все основания для такой убийственной иронии, которая не потеряла остроты вплоть до нашего времени. Поныне еще можно встретиться с салонной, «сладостной» трактовкой музыки Моцарта, а в высказываниях даже авторитетнейших музыковедов еще недавно можно было найти [слова о] «галантности» Моцарта».
Однако, было бы проще всего, ссылаясь на недопустимость литературной критики затрагивать музыковедение, напрочь отказаться от заглядывания в эту terra incognita. Ведь Пушкин–то наверняка был слушателем каких–то музыкальных произведений, и что–то могло его живо трогать. Наконец, он мог из разговоров о музыке кое–что для себя усвоить и притом бесспорное.
И вот доказательство.
Во второй половине XVIII века (как раз во время жизни Моцарта) сложилась такая форма инструментальной музыки как сонатный цикл. В этой форме сочиняют музыку для одного, двух инструментов и более — вплоть до оркестра. И форма эта, — сонатный цикл, — впервые за историю музыки свободна от какой бы то ни было утилитарности — она ни при церкви, ни при танце, ни при армии, — это музыка, для которой все позволено. Вот как ее описал Асафьев:
«Диссонанс вызывает за собою… консонанс и обратно. Или — в более общем смысле — за неустоем следует устой… за подъемом линии мелоса — ее спуск или, наоборот, за растяжением — сокращение или стягивание, за цельным проведением напева или темы — фрагментарное изложение, за нарастанием — разряд, за насыщенной тканью — прозрачная и подвижная, за быстрым движением — медленное и т. д. и т. д. Но каждая из этих «парных» интонаций, противополагаясь соседней в последовании, после своего обнаружения составляет с ней единый комплекс, который в свою очередь определяется через новое противопоставление (через свое отрицание)».
И с чем уж все специалисты соглашаются, в том числе и непонятливый, по бэлзовскому Пушкину, Сальери (потому непонятливый, что назвал Моцарта райским херувимом, как и многие и по сей день не понимающие Моцарта), — с чем все соглашаются, так это с тем, что Моцарт впервые с такой потрясающей силой показал неисчерпаемые возможности сонатного цикла в раскрытии эмоционального многообразия жизни человека.
И вот как Пушкин верно отразил этот принцип конфликтности, контрастности, характерный для сонатного цикла:
М о ц а р т (за фортепиано) Представь себе… кого бы? Ну, хоть меня — немного помоложе; Влюбленного — не слишком, а слегка, — С красоткой, или с другом — хоть с тобой, — Я весел… Вдруг: виденье гробовое, Незапный мрак, иль что–нибудь такое…Как видим, полное соответствие сонатному циклу.
Но, может, это случайность?
Так вот еще факт, вполне постижимый для музыкально необразованного человека. Сонатный цикл изобретен чешскими мастерами яромержицкой школы и немецкими музыкантами мангеймской школы. Но своего становления он достиг у Гайдна. И вот имя Гайдна Пушкин в монологе Сальери два раза вводит в свою трагедию.
Можно ли считать, что пушкинский Сальери следует в своем творчестве за Гайдном? Прямого признания нет, как это имеет место с Глюком. И это не зря. К Гайдну мы еще вернемся.
А теперь — Глюк.
Когда великий Глюк Явился и открыл нам новы тайны (Глубокие, пленительные тайны), Не бросил ли я все, что прежде знал, Что так любил, чему так жарко верил, И не пошел ли бодро вслед за ним…И т. д. И еще:
Нет! Никогда я зависти не знал, О, никогда!.. … … … … … … … … …. Ниже, когда услышал в первый раз Я Ифигении начальны звуки.Имеется в виду, наверное, глюковские или «Ифигения в Авлиде» или «Ифигения в Тавриде», одна из опер, сделавших революцию в оперном искусстве.
И эту революцию надо рассмотреть, чтоб понять пушкинского Сальери (раз уж Пушкин опять так точно указывает на вехи истории музыки).
До Глюка у всех народов в опере господствовал стиль итальянского bel canto, где все — для виртуозного певца; остальная музыка, кроме пения, — легкий аккомпанемент пению. А Глюк открыл оперу как естественно и логически развивающуюся музыкальную драму. У него в каждой части, эпизоде, арии, речитативе — слово, сценическое действие и музыка сливаются в нерасторжимом единстве.
Оперы Глюка написаны на античные сюжеты. Но он трактует их совсем иначе, нежели авторы предшествовавших мифологических опер. Глюк создает образы и характеры, полные благородства, высоких морально–этических качеств, прославляет героев, способных к самопожертвованию ради всеобщего блага. Глюк внедрил в оперу то, что в литературе называется вторичным просветительским классицизмом, предвестником Великой Французской революции.
И если по Пушкину Сальери стал последователем такого классицизма и предвестия революции, — а там и там преобладал атеизм, — то ясно, почему эта маленькая трагедия начинается совсем нерелигиозной сентенцией:
С а л ь е р и Все говорят: нет правды на земле. Но правды нет — и выше.Теперь обратимся к Пиччини, еще одному композитору, введенному Пушкиным в монолог Сальери.
Нет! никогда я зависти не знал. О, никогда! — ниже, когда Пиччини Пленить умел слух диких парижан…В 1778 году в Париже действительно шумный отклик имел «Роланд» Пиччини. Но в истории музыки Пиччини прославился в так называемой войне глюкистов и пиччинистов.
Здесь я позволю себе микроотступление от музыки.
Триумфального успеха и широкой известности Пиччини добился до этой войны, оперой–буффа «Чекина, или Добрая дочка» по роману «Памелла, или награжденная добродетель» Ричардсона. Пушкин очень плохо относился к Ричардсону за его рационализм в морали. О другом, не менее ригористическом нравоучительном романе «Кларисса Гарлоу» Пушкин раз написал:
«Читаю Клариссу, мочи нет какая скучная дура!»
А Байрон, кстати, демонстративно заявлял, что не смог ее дочитать до конца. В России же после XVIII века Ричардсона даже не издавали.
Кто такой Ричардсон? Его иные называют (а зря) сентименталистом. Наверно за страстное восстание против безнравственности мира, организованного не столько на расчете разума, сколько на расчете эгоизма. Да вот только ставил–то Ричардсон все равно на разум. Не смотря ни на что. Идеологически он примыкал к так называемому первичному просветительскому классицизму. И разочаровавшихся в разуме сентименталистов Ричардсон не переносил. Незадолго до смерти он ознакомился с «Новой Элоизой» и отнесся к роману Руссо с крайним неодобрением. А ведь «Новая Элоиза» породила, условно говоря, гетевского «Вертера», все течение «бури и натиска», те — моцартовского «Дон Жуана». Впрочем, об этом — впереди.
Вернемся к Пушкину, Ричардсону и Пиччини.
Могло ли плохое отношение Пушкина к Ричардсону повлиять на мнение его и о Пиччини? Я не отвечу. Но вероятность есть и вот почему.
Своей оперой Пиччини наметил новое направление в оперебуффа — усилил роль нежной, чувствительной мелодии, нарастил общее напряжение и особенно в финале и тем сблизил оперу–буффа с буржуазной сентименталистской «серьезной комедией», «слезной комедией», так хорошо поработавшей для ранней подготовки Французской революции. Мы же знаем, как к революции в 1830‑м году относился Пушкин. Так что один слух об этом историческом триумфе Пиччини, озвучившего ненавистного Ричардсона, мог настроить Пушкина против Пиччини и отдать его имя сальериевской стороне в трагедии.
А то, что Пиччини проиграл в музыкально–идейной «войне» Глюку (они одновременно работали над сюжетом «Ифигении в Тавриде»), для Пушкина могло мало что значить (если Пушкин что–то слышал об этой «войне» и ее исходе, а наверно слышал, раз вспомнил о Пиччини и Ифигении). Почему мало? Потому что, во–первых, Пиччини и сам–то работал над подчинением музыки драме (только он акцентировал мягкость, а Глюк — суровость), во- вторых, Пиччини после проигрыша заметно подпал под влияние глюковского драматизма. И потому, может, у пушкинскго Сальери не поймешь, о чьей опере «Ифигения» у него речь.
Нет! никогда я зависти не знал, О, никогда! — ниже, когда Пиччини Пленить умел слух диких парижан, Ниже, когда услышал в первый раз Я Ифигении начальны звуки.Тут важно одно: смешивание Глюка и Пиччини очень соответствует победе в музыке того стиля, который в литературе называется просветительским классицизмом второй волны.
А что же такое в отношении этого просветительского классицизма Глюка и, можно приставить, Пиччини был Сальери? Оказывается, Сальери был их, можно сказать, единомышленником.
Для французской сцены Сальери сочинил оперу «Тарар» (либретто Бомарше). Проникнутая тираноборческой идеей и прославляющая народного героя опера «Тарар» стала значительным общественным событием (поставлена за два года до взятия Бастилии). Исследователи усматривают в ней черты, предвещающие героический стиль опер Французской революции. Опера была поставлена во многих городах. В Петербурге — в 1789‑м.
Мог ли Пушкин 41 год спустя что–то об этом знать? Что–то — безусловно. Смотрите текст трагедии:
М о ц а р т Да! Бомарше ведь был тебе приятель; Ты для него Тарара сочинил…Похоже, что Пушкин совсем не случайно поместил Глюка, Пиччини и Сальери в один лагерь.
Моцарт же, можно сказать, принадлежал в чем–то к противоположному музыкальному лагерю, так сказать, индивидуалистическому. Моцарт не был согласен С Глюком, требовавшим подчинения музыки драме. Музыка, по Моцарту, должна первенствовать и — выражать человека, как неповторимую, никогда не повторяющуюся игру душевных сил. Моцарт симфонизировал оперу. (А симфония — это упоминавшийся сонатный цикл для оркестра.)
Так что в противопоставлении: Глюк, Пиччини, Сальери — с одной стороны и — с другой стороны — Моцарт и (сошлюсь на последующее) Гайдн — Пушкин опять оказался в согласии с историей музыки.
Теперь надо вернуться к Гайдну. Гайдн, как помните, утвердил в музыке яромержицкое и мангеймское изобретение, сонатный цикл. И если противоположный (по Пушкину, да и не только) музыкально–идеологический лагерь тяготел в литературе к просветительскому классицизму второй волны, коллективистскому, высоконравственному, аскетическому (вспомните признания пушкинского Сальери: «мало жизнь люблю», «отверг я рано праздные забавы»), — то гайдновско–моцартовский лагерь, как он виделся Пушкину, тяготел в литературе к — по логике, получается, предшественнику вторичного классицизма — к тому воинствующему индивидуалистскому сентиментализму, который представлен «Новой Элоизой» Руссо, «Вертером» Гете и течением «буря и натиск».
Так получается, если вдуматься в пушкинский расклад имен.
Каков же был мой восторг, когда я наткнулся на подтверждение такого расклада в описании «Прощальной симфонии» Гайдна. Цитирую.
«Поводом к созданию «Прощальной симфонии»… послужил острый, хотя и скрытый конфликт между музыкантами капеллы и их властительным хозяином. Летнее время и часть осени князь Эстергази проводил в роскошном загородном доме «Эстерхаз»… Но музыканты капеллы жили при дворце на казарменном положении, в тесном, неутепленном летнем помещении. Многие (в том числе и Гайдн) постоянно болели, ибо в болотистых окрестностях поместья свирепствовала тяжелая форма малярии. И только перемена местожительства сулила надежду на выздоровление. К тому же по распоряжению князя музыканты на все летнее время лишены были возможности видеться со своими семьями… А между тем в 1772 году князь не на шутку увлекся охотой, и его пребывание в поместье затянулось дольше обычного. Стояла ненастная сырая осень. И еще одно происшествие глубоко взволновало в ту осень музыкантов — безвременная смерть даровитой 15-летней солистки балетной труппы. Юная Дельфина блестяще выступила на сцене только что отстроенного в «Эстерхазе» театра, но вскоре умерла от злокачественной лихорадки, схваченной ею в поместье. При таких обстоятельствах и была сочинена знаменитая «Прощальная симфония» Гайдна. Ее последняя медленная часть сопровождалась своего рода инсценировкой или пантомимой. На 31‑м такте финала первый гобоист и второй валторнист встают, гасят свечи возле своих пультов и — неслыханная дерзость — тихонько удаляются. Увидев это, Эстергази, возможно, стал раздумывать, как построже наказать нарушителей дисциплины. Но не прошло и двух минут, как их примеру следует и фаготист. Спустя семь тактов исчезают первый валторнист и второй гобоист, а еще немного погодя — контрабасист. Один за другим музыканты гасят свечи, забирают инструменты и потихоньку уходят. Нежная медленная музыка концовки исполняется первым скрипачом капеллы… и самим Гайдном. Но вот уходят и они…
[Эстергази все понял и разрешил музыкантам вернуться к семьям.]
Симфония начинается быстрой, драматически–экспрессивной музыкой, исполненной смятения и тревоги. Главная тема — широкая и размашистая — своей возбужденностью напоминает гневную, патетическую речь. Ярким контрастом звучит задушевная лирическая музыка второй медленной части. Легок и воздушен менуэт (построенный на той же нежной, певучей теме, что и вторая часть). Без всякого перерыва переходит он в драматическую музыку стремительно быстрой четвертой части. Это пламенное Престо продолжает развивать тревожно–порывистые настроения первой части, его главная тема складывается из суровых, мужественных интонаций. Властно звучат энергичные и решительные концовки музыкальных фраз. Вся четвертая часть проникнута мятежным и страстным чувством протеста. Тем внезапней и контрастней переход к медленной заключительной, пятой части». «Музыка Adagio безмятежна, в ней лишь временами мелькают легкие сумрачные тени… Завершается симфония тихо, просветленно…»
И автор дает сноску о родстве «Прощальной симфонии» с немецким литературным направлением «бури и натиска», направлением, выдвинувшим на первый план переживания, нашедшие свое отражение в гетевских «Страданиях юного Вертера», написанных двумя годами позже «Прощальной симфонии» Гайдна.
Глава 2 Необходимое отвлечение, почти лирическое
«Новая Элоиза» впервые мне в руки попала в томике Руссо, изданном для школьников. Я стал читать и насторожился: это были избранные места. Тогда я прочел полное издание и понял, почему для советских школьников издатели этот роман урезали. Во–первых, он во многих местах прямо эротический. Во–вторых, он производит очень сильное впечатление. Я рыдал, когда дошел до смерти Юлии. А я ведь мальчиком в чем–то так и остался, хотя дожил до седин. И мальчиком я воспитывался очень советским, в смысле нравственным. Руссо же написал нечто противоположное. Если свести к нескольким словам идейный смысл «Новой Элоизы», то можно его выразить так: если нельзя, но очень хочется, то можно; а если все–таки не удается, как хочется, то выход — смерть.
Ну, пусть жизнь расшатала во мне верность нравственному кодексу строителя коммунизма, и я расчувствовался. Но Руссо, выходец из 3‑го сословия, в свое время своим романом довел до слез очень многих аристократов. И очень много друзей имел среди аристократов этот предтеча Великой Французской революции. В чем дело?
А в том, что в «Новой Элоизе» Руссо дал бой второму сословию, дворянству, на территории искусства, обыгрывающему нравственный кодекс, так сказать, защитника феодализма, на поле чести. И Руссо выиграл этот бой. Для героя его романа, простолюдина учителя Сен Пре, личная честь значит не меньше, чем для родового дворянина. И честь Сен Пре говорила, что нельзя отдаваться чувству любви к Юлии, девушке из благородного семейства, ибо ее отец не отдаст ее ему в жены. И Юлия, соответственно, слишком опасным для своей чести считала признание даже самой себе в том, что она полюбила Сен Пре. А кончилось — прелюбодеянием. И если любовникам так и не случилось пожениться, то, в итоге, роман кончается трагически — Юлия заболела и умерла. Умирала она долго и очень радовалась смерти. По сюжету ее болезнь — случайность. Но каждый, кто может доходить до художественного смысла, понимает: закономерно. Ибо любовь это, по роману, — превыше всего.
Французская аристократия того времени уже подустала от «высокого» идеала классицизма. В моде был идейно «низкий» стиль рококо с его идеалом индивидуализма и вседозволенности. Характерный пример. Еще в советское время на лекции одного московского вояжера искусствоведа был продемонстрирован слайд с портрета знатной дамы работы знаменитого Ватто. Красавица с вычурной высокой прической не считала стыдным позировать и быть изображенной голой, на роскошной кровати, в позе лягушки. — Вседозволенность!
Но если чувствам все позволено, то очень быстро докатываются до пошлости и скуки. Поэтична–то — борьба, преодоление или даже поражение.
Вот Руссо и положил аристократов на лопатки, возродив всю силу чувства чести, но возродив для того, чтоб та играла роль перца, очень сильного препятствия — в данном случае — перца для половой любви. При этом максимальную ставку при поражении Руссо назначил такую — жизнь.
В Англии того времени, уже век освободившейся от феодализма, тоже испытывала кризис мораль вседозволенности. Здесь до пошлости докатился эгоизм победителей в конкурентной войне всех против всех. И, например, Голдсмит в «Векфилдском священнике» всего лишь не удостаивает юмора, а просто холодно описывает английского донжуана эпохи сентиментализма Неда Торнхилла, когда тот, раз за разом, чтоб лично избежать очередной дуэли из–за очередной женщины, высылает на дуэль вместо себя заместителей. Все — для чувственности. И это непоэтично.
Так уж если есть социальный заказ сентиментальных тигров–предпринимателей на поэзию, то является Макферсон со своими «Поэмами Оссиана» и выводит чувствительных героев–смертников и их подруг–смертниц. Герои, эти Кухулины, Фингалы, Страно, представлены безбожниками удельными князьями–богатырями, живущими в четвертом веке новой эры лишь ради победы своего оружия, а их дамы — лишь ради своей мгновенно вспыхнувшей к ним любви. И если — на войне, как на войне (а в XVIII веке — на войне предпринимательской, и неважно, что «Поэмы» возникли как эстетический противовес победившей прозаически–буржуазной Англии со стороны побежденной реакционной Шотландии) — так если на войне героям случится проиграть, то герои выбирают самоубийство, если их не настигла смерть в бою, а их возлюбленные — не в силах перенести потерю — тоже умирают, ибо их любовь для них есть превыше всего. Вот такие чувствительные хищники, мужчины и женщины. Кто хочет — стремитесь к стародавнему идеалу сверхчеловеков. Называется он «радость скорби». И этот идеал универсален. Ибо во все времена даже для победителей жизнь — не вечна. А вечна лишь память об их победах, воспетая бардами.
Так опошлялись во вседозволенной чувственности сильные мира того, а середняки, мещане по происхождению и образу жизни, возмущаясь верхами и своей (внутренне не признаваемой) второсортностью, давали себе возможность стать аристократами духа, а верхам — возродиться во дворянстве способом «бегство вперед» — в сверхчувственность, т. е. в чувственность, обостряющуюся от соседства со смертью.
И в Германии, во всем отсталой, пошли все–таки те же процессы. И Гете создал «Вертера», соединив в своем тогдашнем идеале радость смерти из «Новой Элоизы» с радостью скорби из «Поэм Оссиана». Сверхиндивидуалистического и сверхчувствительного к своим переживаниям героя выбрал Гете. «Часто стараюсь я убаюкать свою мятежную кровь, — пишет его Вертер в письме товарищу, — недаром ты не встречал ничего переменчивей, непостоянней моего сердца! Милый друг, тебя ли мне убеждать в том, когда тебе столько раз приходилось терпеть переходы моего настроения от уныния к необузданным мечтаниям, от нежной грусти к пагубной пылкости! Потому–то я и лелею свое бедное сердце, как больное дитя, ему ни в чем нет отказа». А полюбившаяся Вертеру Лотта предпочла ему рассудительного и делового Альберта. Ну так — смерть. Вертер почитал ей «Оссиана» при последнем свидании, а уйдя, застрелился.
Пишут, что после выхода в свет «Страданий юного Вертера» в Европе стали модны самоубийства. Как же! Судьба обижала расплодившихся сверхценящих себя сверхчеловеков. Призрак бродил по Европе — призрак ущемленного индивидуализма.
И за два года до выхода «Вертера» Гайдн вместе с капеллой, обиженные князем Эстергази, своим исполнением «Прощальной симфонии» воспели смерть–освобождение.
Я прослушал «Прощальную симфонию» и могу засвидетельствовать, что обслуживать ТАКИЕ «переменчивые, непостоянные сердца», которым «ни в чем нет отказа», как у индивидуалиста Вертера, — сонатный цикл, утвержденный в музыке Гайдном, был чрезвычайно приспособлен.
Конечно, о Гайдне в целом нельзя судить по одной симфонии, как нельзя о Гете в целом судить по одному «Вертеру». Да и форма сонатного цикла, пережившая два века и которую Пушкин застал спустя более полувека после ее возникновения, приспособлена, конечно, выражать больше, чем только переживания чувствительного индивидуалиста–экстремиста. Это как и с глубиной психологизма, открытой сентиментализмом. Выразительные средства сонатного цикла и сентиментализма живут века и используются не только для обслуживания тех идеалов, которые их породили. Но породил–то их крайний индивидуализм. И это могло быть замечено Пушкиным и отражено в трагедии.
И тогда, так сказать, индивидуалист Гайдн оказался бы антагонистом, так сказать, коллективисту Сальери. Однако, есть ли отражение этого у Пушкина? Есть. Но это нужно суметь увидеть.
Глава 3 Погружение в текст
Почему суметь? Потому что пушкинский Сальери раздвоен в отношении к своим музыкальным антагонистам, тоже раздвоенным. Гайдн — то веселый бюргер, то обидчивый Вертер. И Сальери ведет себя то как обиженный своей судьбой и готовящийся убить себя Вертер, то — как обиженный вывихнутым веком и потому нарывающийся на смерть Гамлет.
Вот яд, последний дар моей Изоры, Осьмнадцать лет ношу его с собою — И часто жизнь казалась мне с тех пор Несносной раной, и сидел я часто С врагом беспечным за одной трапезой, И никогда на шопот искушенья [убить себя] Не преклонился я, хоть я не трус, Хотя обиду чувствую глубоко…Чем это похоже на Вертера? — Вероятным родством душ Сальери с его Изорой.
Умирая, подарить любимому яд могла только женщина вертеровского типа. Она в Сальери видела Вертера, который умрет, коль судьба у него отнимет любимую. И была не очень далека от истины: ему жизнь с тех пор часто казалась несносной раной, и хотелось отравиться. Он потерял вкус к жизни, а те, кто ее любил, любил поесть, попить, кто был беспечен относительно будущего, — неизбежной смерти, — те стали его, Сальери, врагами. И в желании усилить шопот искушенья отравиться он приглашал этих врагов на трапезу. Это все равно, как поставить себя на место мотылька, которого тянет влететь в пламя свечи. Это все равно, как Вертер, вернувшийся к поженившимся Альберту и Лотте и греющийся в лучах их к нему приязни, особенно — Лотты: все горячее, все жарче и — сгорел.
И как Вертер, оттягивая смерть и ее предвкушая, переводил песни Оссиана, впивающего (гетевская цитата) «мучительно–жгучие радости», так и Сальери:
Все медлил я. Как жажда смерти мучила меня; Что умирать? я мнил: быть может, жизнь Мне принесет незапные дары; Быть может, посетит меня восторг И творческая ночь и вдохновенье… [чем не Вертер и перевод Оссиана?] Быть может, новый Гайден сотворит Великое — и наслажуся им…Гайдн–смертник, предвестник «Вертера», был слишком эпизодичен. Лишь «1772 год приносит значительное количество сочинений Гайдна, написанных в минорных тональностях (тогда как обычный удельный вес минора в музыке Гайдна невелик)». Так что уповать на наслаждение вертер в Сальери мог только от какого–то нового Гайдна. И, может, не–нового–пока–еще Гайдна, когда тот бывал в Вене, и приглашал Сальери на трапезу, чтоб усилить шопот искушенья отравиться:
Как пировал я с гостем ненавистным…И опять отложил самоубийство. Почему? — Не в расчете ли на встречу с еще большим жизнелюбом, с качественно иным, ценящим отчаянную жизнь, близко соседствующую со смертью?
Быть может, мнил я, злейшего врага Найду; быть может, злейшая обида В меня с надменной грянет высоты — Тогда не пропадешь ты, дар Изоры.И такой нашелся. Им оказался для пушкинского Сальери пушкинский Моцарт, играющий на музыкальных контрастах еще похлеще Гайдна, а главное, еще крепче сопрягающий эти контрасты с жизнью и смертью, как это видно из того, что Моцарт по ходу 1‑й сцены объяснил, играя на фортепиано, и как это станет еще видно, когда мы подойдем к его опере «Дон — Жуан», фигурирующей тут же, в 1‑й сцене.
И я был прав! и наконец нашел Я моего врага, и новый Гайден [Моцарт] Меня восторгом дивно упоил! Теперь — пора!Отравиться. Но в этот момент вертер в пушкинском Сальери сделал сальто, которого в принципе не чужд был и Вертер собственной персоной, желавший убить Альберта, если б тот как–то угнетал Лотту:
«О, если б мне даровано было счастье умереть за тебя! Пожертвовать собой за тебя, Лотта! Я радостно, я доблестно бы умер, когда бы мог воскресить покой и довольство твоей жизни. Но увы! Лишь немногим славным дано пролить свою кровь за близких и смертью своей вдохнуть в друзей обновленную, стократную жизнь».
Мы видим, как Вертер–индивидуалист на секунду перед смертью превращается в коллективиста. И как это похоже на пушкинского другого Сальери, коллективиста, который сумел–таки увидеть в пушкинском Моцарте общественный вред:
…я избран, чтоб его Остановить, — не то мы все погибли, Мы все, жрецы, служители музыки, Не я один…Однако, такой, преображенный вертер в Сальери, это гамлет в нем. И он все время в нем жил.
Начнем читать снова.
Подозрительное, с провертеровской точки зрения, слово «часто» применено у Пушкина:
И часто жизнь казалась мне с тех пор Несносной раной, и сидел я часто С врагом… и т. д.Похоже, что смерть Изоры оказалась спусковым крючком совсем не личного порядка переживаниям. Не смерть Изоры отвратила его от жизни (ее смерть — постоянно действующий фактор), а встречи с врагами, которые были часты.
Что за враги могли быть у погруженного в музыку Сальери? Музыкальные враги. Причем, не конкуренты. Пушкин биографию Сальери мог знать, а по ней видно, что тот довольно быстро всходил по ступеням музыкальной карьеры и славы. Значит, его враги — идейные. И если Сальери в идеологическо–музыкальной области являлся последователем гражданственного Глюка, то враги их обоих были беспечные жизнеутверждатели (среди, заметим, «несносной» жизни), были в идеологическо–музыкальном отношении индивидуалистами. И если вспомнить, что до победы гражданских идеалов, особенно в Австро — Венгрии, было еще далеко, то ясно, что до неприятия жизни глюкистом Сальери, до аскетизма вообще, доходят не только из–за личных неудач.
Эти аскеты за мир страдают. Отчего мучится Гамлет? Оттого, что короной его обнесли? Нет. Оттого, что прогнило Датское королевство. Гниль это чревоугодие и любострастие, воплощенные в Клавдии и Гертруде, которые решили, что все дозволено для достижения их низких идеалов: предательство, убийство. Гамлету от этого умереть хочется. И он прямо–таки нарывается на смерть. И добивается ее. Он принимает предложение Клавдия сразиться с Лаэртом на турнире, хотя чувствует подвох, и так и оказалось: клинок Лаэрта был и не притуплен, и отравлен. И это совсем не по–вертеровски. Гамлет умирает во имя того, чтоб когда–нибудь восстановилась «связь времен». Аж! Ни много, ни мало. И для того завещает другу, Горацио, немного еще пожить, чтоб поведать миру правду о преступлениях вокруг датского трона. А Вертер умирает во имя каприза своего сердца: не судьба ему быть счастливым с Шарлоттой.
Гамлет притворился сумасшедшим, а Сальери внутренне стал сумасшедшим. Гамлет не сомневаясь уничтожает своих доброжелателей–притворщиков и лжедрузей (Полония, Розенкранца, Гильденстерна), потому что знает, что нравственных людей вокруг нет. А Сальери все время был на грани: отравить — не отравить своих, мол, друзей, а на самом деле — музыкально–идейных врагов, индивидуалистов, хватателей жизни, умельцев жить в этой сваре, и потому беспечных. И потому так двусмысленно построена вот эта фраза.
…и сидел я часто С врагом беспечным за одной трапезой, И никогда на шопот искушенья [отравить того] Не преклонялся я, хоть я не трус, [и наказание — людское или божеское — мне не страшно] Хотя обиду чувствую глубоко, [раз глубоко, то здесь не только возведение врага в Умельца и Довольного (с большой буквы), но и видение в нем идеолога индивидуализма] Хоть мало жизнь люблю.И свою, и чужую. Как факт: он стал–таки отравителем.
Гамлет, правда, лишь в показных своих бредах (в его бредах, впрочем, было много правды–матки, которую он не боялся резать в глаза) дошел до ингуманизма: декларировал всеобщую отмену браков во имя аскезы и начал с себя, отказался от Офелии. Это, конечно, еще не тайное убийство. Но все же, все же… И по ассоциации приходят на ум другие великие моралисты, расправлявшиеся с людьми во имя высших целей, — воспитанники второй волны просветительского классицизма, вожди Великой Французской революции, которых Сальери ублажил своим «Тараром» за год до начала этой революции.
В этом, коллективистском, разрезе совсем иначе читаются и те строки, в которых пушкинский Сальери объясняет и свое промедление с убийством (неважно: себя, или врага, или обоих). 18 лет — срок длинный. За это время «быть может, посетит» (вдохновение), наверно, сменялось посещениями. И в каком же духе он творил? Да в гражданственном, в каком и снискал себе славу:
Слава Мне улыбнулась; я в сердцах людей Нашел созвучия своим созданьям. Я счастлив был.Это не шекспировское было время (финал Ренессанса), когда история была против гамлетов. Это время было предреволюционное. История была за Сальери, каким его вывел Пушкин, коллективистом. Потому Сальери «все медлил» с ядом целых 18 лет, а не как Гамлет — несколько месяцев.
И потому Сальери «великое» ждал от нового Гайдна, а не от старого, индивидуалиста–умельца–жить — как минимум, или индивидуалиста–умельца–умирать — как максимум.
Здесь двузначное прочтение пушкинского Сальери дает в чем–то однозначную оценку старого Гайдна как индивидуалиста. А к этому весь разбор и велся.
Пушкинская трагедия все–таки о музыкантах, а не о счастливом семьянине и несчастном любовнике. Противостояние Моцарта и Сальери у Пушкина это противостояние музыкальных направлений: экстремистского индивидуалистического крыла предромантизма и просветительского классицизма второй волны.
Есть хорошее выражение о художниках, не чуждых общественного: если мир раскалывается надвое — трещина проходит через сердце поэта. Таким у Пушкина оказался Сальери. И в силу этого в приданных тому словах можно усмотреть не только двузначность, но и прямые парадоксы самообмана, недоосознавания, когда черное называется белым и наоборот. И не только на людях произносит это Сальери, но и только для себя.
Глава 4 Парадоксальная
Примем пока на веру, что пушкинский Моцарт для пушкинского Сальери есть крайний индивидуалист.
И я был прав! и наконец нашел Я моего врага… [точнее, самого большего врага из прежних индивидуалистов, что встретились за 18 лет, — самого яркого индивидуалиста] и новый Гайден [это уже второй раз применено словосочетание «новый Гайден», это — Моцарт] Меня восторгом дивно упоил!А ведь есть аура отравления в этом слове «упоил».
Потому–то и страшен Моцарт, что переворачивает душу коллективиста, перворачивает мир, индивидуализм возводит в идеал, а значит — ввысь. И чтоб не отравиться этим дивным упоением и остаться самим собой и таких же спасти, надо ликвидировать самого проникновенного индивидуалиста. Это сформулировано перед описанием 18-летних не очень внятных колебаний. Но не нужно заблуждаться, максимума идейной выношенности и осознанности это решение достигло в последний час, при ожидании Моцарта к обеду. Почему я так говорю? Потому что и в момент максимума осознавания Сальери у Пушкина все еще достаточно путается в понятиях.
Путаница в смыслах одного и того же слова, например, «упоил» привлечена Пушкиным не зря.
Хоть в пушкинское время о демонизме прославленного Байрона (в его «Гяуре», «Корсаре») уже говорили свободно, и уже несколько десятков лет, как Макферсон — в своих «Поэмах Оссиана» — был назван дьяволом поэтичности, а за Бекфордом (в «Ватеке») числилось как достижение его демонизм, — тем не менее потребовалось еще много десятков лет, потребовался Ницше, чтоб красота зла стала такой же обычной для истории искусства парной оппозицией красоте добра, как для географии оппозиционная пара полюсов: северного и южного.
И как оба земных полюса нужны Земле для вращения, так оба нравственных полюса нужны для искусства. Ибо искусство это инструмент непосредственного и непринужденного испытания сокровенного мироотношения человека с целью совершенствования человечества (Натев). Парадокс: человечеству нужны и зло и добро — в искусстве. Еще больший парадокс с прачеловечеством: там они были нужны в самой жизни. Стоит всмотреться. Производительность труда была очень мала. Трудиться приходилось почти все время, кроме сна и еды. И производству очень мешали половые отношения — стадо раскалывалось. Так вот, чтоб выжить, были изобретены племенные производственные половые табу. Но каждая палка имеет второй конец… Племена стали вырождаться. Хорошо, что нашелся злой гений и догадался сказать, что наше табу распространяется только на наше племя. И прамужчины пошли насиловать праженщин соседнего племени. И прачеловечество не выродилось. Гений и злодейство — совместимы.
Пушкин подходит к своему Сальери исторически. В те времена не принято было называть позитивно окрашенным словом идеал крайнего энергичного индивидуалиста. А энергию этих индивидуалистических борцов против общественно принятого добра тогда скоро сумели направить против ЭТОГО, мерзкого общества и во имя ТОГО, лучшего и, мол, тоже общества. Вот характерный стих в стиле «бури и натиска», стих Гете, когда он был так называемым штюрмером:
П р о м е т е й: Взгляни, о, Зевс, На мир мой: он живет! По своему я образу слепил их, Людей, себе подобных, — Чтоб им страдать и плакать, ликовать и наслаждаться, И презирать тебя, Как я!Уже революционер. Уже во имя переустройства общества. А еще недавно Гете уповал только на благо личности, и благом тем, для Вертера, было лишь страдать и плакать. И готовиться к смерти. И Гете сам чуть было не покончил с собой.
А когда индивидуалисты вертеры, не убив себя, объединяются, чтоб низринуть путем революции пошлый мир, как Прометей, они становятся коллективистами и, казалось бы, что им церемониться со своими врагами, индивидуалистами, с собою прежними. Ан нет. Слишком ЧАСТО хорошее–только–для–меня в тысячелетней истории камуфлировалось как хорошее–для–многих, слишком ЧАСТО зло освящалось, дьявольское называлось божественным.
Вот и пушкинский Сальери, хваля Моцарта (не во имя Гамлета в себе, коллективиста) лжет, может, и бессознательно:
Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь; Я знаю, я.А если б по–честному, то гамлету в Сальери надо было б произнести:
Ты, Моцарт, бес и т. д., как и называли общественники Макферсона и Бекфорда — демонами.
Или же в этом стихе Сальери (во имя Вертера в себе) не врет? Ведь Моцарт воспел виденье гробовое, тем большее дьявольское упоение жизнью, чем она эфемернее от соседства со смертью. А идеал всегда субъективно возвышают — и является слово «бог». Моцарт, певец незапного мрака, для вертера в Сальери есть бог умирания. Так что? Сальери врет Моцарту или еще и себе? — Амбивалентность.
И та же амбивалентность должна быть отнесена к другой похвале:
Какая стройность!Если эта музыка — сплошной каприз, сплошная непредсказуемость, то как же ее назвать стройной? Разве за то, что она вся пронизана единым принципом — переменчивостью. И тогда не лицемерен здесь пушкинский Сальери, а трепетно переменчив, как сама музыка Моцарта?..
И когда он ему пеняет:
Ты с этим шел ко мне И мог остановиться у трактира И слушать скрыпача слепого! — Боже! Ты, Моцарт, недостоин сам себя— то Сальери здесь трижды меняет позицию. Как! Смертник Вертер — Моцарт мог остановиться у трактира, центра жизнерадостности!? Как! Добропорядочный бюргер Моцарт мог спокойно слушать, как идеалы, близкие к идее смерти, распространяются в народе?! Как! Исключительный в своем некрофильстве Вертер — Моцарт согласен снизойти, не препятствуя усвоению массами его исключительной идеи!?
Та же амбивалентность с «песнями райскими», с «херувимом», с «падением» и «высотой» искусства.
И слова «наследника нам не оставит он» могут иметь значение, очень далекое от того, что, мол, гениальность не наследуется. Поясню. Я был на концерте рок–новаторов. Вышел на сцену один с гитарой, другой, ударник, и третий, тоже гитарист. Первый, став спиной к залу, принялся настраивать свою гитару. Впрочем, может, это уже было произведение, потому что ударник и второй гитарист не без ритмичности стучали. Потом первый рок–исполнитель повернулся к микрофону и произнес что–то. Потом надолго замолк, продолжая то ли настройку инструмента, то ли разминку пальцев. Потом опять повернулся спиной к залу. Это был конец номера. Так если он этим выразил свою душу, свое презрение к окружающим, то детали этого презрения мне остались неясны. Я тоже способен стоять спиной к микрофону, хаотично бренчать на гитаре и произносить нечленораздельные звуки. Но. Чужая душа — потемки, и мне душа рок–исполнителя не открылась. И преемника в моем лице поэтому он оставить не может. Как нет двух одинаковых людей, так и не может быть преемственности в музыке, выражающей данную — и только ее — душу.
Глава 5 Из музыковедения (продолжение)
Теперь надо поискать, был ли реальный, не пушкинский Моцарт экстремистом–индивидуалистом как человек вообще и в каком–то музыкальном произведении в частности.
Что касается личностного плана — я руководствовался преимущественно работой Риттера, представляющей собою психографический этюд, суммирующий многочисленные источники сведений о Моцарте.
Из этой работы следует, что еще ребенком Моцарт был склонен к хаотичности, необычайной самоинициативе и животворной спонтанности. И его отец, рано заметивший, что его сын вундеркинд, жестко взялся за его воспитание. Он даже пытался контролировать мысли сына. Неустанная работа и нравственное самосовершенствование были главными принципами отца в воспитании. На сыне они сказались своей противоположностью, которую в двух словах можно выразить так: любовь к свободе. В том же направлении влияла чуть не крепостная зависимость от князя–архиепископа, клерикального главы захолустного крошечного Зальцбургского государства, в чьем подданстве находился Моцарт, и вся обстановка там: чванство местной аристократии, косность обывателей, отсутствие оперного театра, открытых концертов, интересных людей, запрет князя писать оперы, требование его же каждое утро дожидаться указаний в передней вместе с другими слугами. А с другой стороны — чувство самоуважения и самодостаточности. Моцарт знал, что он собой представляет. И в Зальцбург доходят драмы и стихи группы «буря и натиск», гетевский «Вертер». Цитата: «В своих юношеских творениях он живо и непосредственно откликается на тревоги и сомнения, волнующие его современников. Это слышится в 4‑х симфониях 17-летнего композитора. Наиболее удачна и своеобразна Симфония N 25. Скорбные, страдальческие переживания сменяются в ней неистовыми взрывами чувства, мятежным и страстным протестом… Есть основания полагать, что симфония эта не была понята зальцбургской публикой». Его не поняло ни аристократическое, ни мещанское болото.
Вырвавшись из Зальцбурга, Моцарт не вырвался из жестокой жизни, слишком часто воздававшей ему, гению (повторяю, он себе цену знал), не по заслугам. Вот почему обо всех его произведениях в целом отзываются так: «В них чувство призрачности и иллюзорности бытия уживаются с могучей чувственной радостью». Сравните с Вертером. Тот потому и умер, что был жизнелюб, а его жизнь его обидела. И вот жизнь, обижающая величайшего немца, Моцарта, не случайно заставила его (и такое бывает) солидаризироваться с Вертером впрямую: «…я привык во всем видеть только худшее. Ведь смерть есть неизбежный финал нашей жизни; с некоторых пор я так часто думаю об этом верном и лучшем друге человека, что образ его не только не страшен мне, но, напротив, успокаивает меня… Ложась спать (как я ни молод), я не забываю, что могу не видеть следующего дня, и это меня нисколько не печалит». И это за 4 года до смерти! Неординарные и свободные мысли.
Однако, этот неординарный гений был одновременно и простым обывателем. Его свободолюбивые мысли были скорее космополитические, чем политические. Французская революция его оставила равнодушным. Он женился, по его словам, чтоб не заболеть дурной болезнью от случайных женщин и чтоб устроить свой быт. К тому же эротические ощущения совпадали для него с понятием любви. А его будущая жена его соблазняла. Они были близки по духу и в их беспечности и в известной легкомысленности. Моцарт нежно любил свою жену, хотя иногда и изменял ей, и брак его нельзя было считать несчастливым. Так что добропорядочные черточки, проскользнувшие у Пушкина, опять соответствуют действительности.
Но дай, схожу домой, сказать Жене, чтобы меня к обедуИли:
…играл я на полу С моим мальчишкой.Его так называемый поведенческий интеллект был, пишут, неярко выражен. Он был прост, мягко выражаясь, и это тоже нашло отражение у Пушкина.
Но в музыке это был совершенно другой человек. Когда он «отключался» от окружения, а это бывало часто, то, как говорили, «нередко распространял сбивающее с толку, какое–то демоническое — не грандиозно–демоническое, а клоунадо–демоническое впечатление». Импульс музыки управлял и его моторикой, что сегодня часто можно наблюдать у рок–певцов и музыкантов.
В общем, свободный, раскованный новатор, знавший себе цену и, в известной мере, игнорировавший окружающих.
Такой мог сочинять индивидуалистическо–экстремистские вещи.
И теперь надо определить, что именно таков художественный смысл тех его сочинений, которые упомянуты Пушкиным в трагедии: две оперы — «Свадьба Фигаро» и «Дон — Жуан» и «Реквием».
«Свадьба Фигаро» введена вот как:
Смешнее от роду ты ничего Не слыхивал… Слепой скрыпач в трактире Разыгрывал voi che sapete.«Voi che sapete» это начальные итальянские слова ариэтты N 11 Керубино:
Что так тревожит, Что мучит вновь? Это, быть может, Шутит любовь…Казалось бы, уже сам факт выбора Моцартом для своей оперы сюжета из Бомарше, который вместе с Сальери создал революционную оперу «Тарар» (о ней уже говорилось), разрушает логику, выводившую пока к индивидуализму и демонизму Моцарта. Но так кажется лишь от невнимательности.
Бомарше прошел 3 фазы в своем творчестве. 1‑я — первичный просветительский классицизм (юношеская поэма «Оптимизм»), 3‑я — вторичный просветительский классицизм («Тарар», 1787 год) и 2‑я — просветительский реализм, прославивший Бомарше навеки.
Как родился во Франции просветительский реализм? Как реакция на две крайности, господствовавшие тогда в театре: на классицистскую трагедию и на комедию рококо. Первая — сверхнравственная, где действующие лица — древние герои. Вторая — по идее неглубокая, развлекательная, чтоб не сказать попросту: сомнительной нравственности. И вот Бомарше соединил несоединимое — в нечто среднее, в драму, где воспевались доблести (т. е. «высокое»), но… людей «низкого» происхождения, всяких пройдох, вроде Фигаро. Я повторяю: это было соединение несоединимого — возвышалось низкое. Изворотливость — превыше всего!
И когда в его «Женитьбе Фигаро» переодевшаяся и изменившая голос Сюзанна, в темноте принимаемая разгневанным Фигаро за графиню, предлагает ему отомстить (прелюбодеянием с собою) его якобы неверной невесте и ее соблазнителю графу (якобы занимающимся сейчас, перед свадьбой, прелюбодеянием в беседке), то Фигаро соглашается и говорит в сторону:
Неплохо было бы еще до свадьбы…
И как–то не верится, что он совсем–совсем разгадал, что перед ним не графиня, а его Сюзанна. Ничто человеческое ему, мол, не чуждо, а человечеству свойственна полигамия. А если он даже Сюзанну разгадал, то все равно есть элемент вызова общепринятому: соблазнить свою невесту до свадьбы. Реалист Бомарше!
И если писал Плеханов, что идеал тут был нравственная проповедь умеренности, то можно согласиться: такой блуд — это совсем не то, что блуд аристократов. Граф Альмавива 12-летнюю Фаншетту не прочь был соблазнить. А главное, граф пользуется своим положением: деньгами, властью. Это возмущает Бомарше. Он — за социальное равенство в любовной гонке. И потому у Бомарше не только — в итоге — бесправный Фигаро побеждает Альмавиву в притязаниях на Сюзанну, но даже пока бесправный (по молодости лет) будущий аристократ, а ныне паж, Керубино побеждает Альмавиву, и Фаншетта (в другой беседке) готова одарить пажа не только сластями. Смотрите.
«Действие пятое. Явление 1.
(Фаншетта одна, держит в одной руке два
бисквита и апельсин…)
Он сказал — в левой беседке. Вот тут… Если он не придет, то моя роль…»
Думайте, что хотите. Но только в первом действии ее роль называется «роль невинной девочки, которую она должна играть на сегодняшнем празднике». В пятом действии, вот сейчас, она удрала с начинающегося праздника на свидание с навсегда изгоняемым из замка Керубино, чтоб провалить свою роль невинной девочки и на праздничной сцене и в жизни, здесь, в беседке.
Ханжи–аристократы не зря упрекали Бомарше в безнравственности. Он был за юридическое равенство в любой конкуренции, в том числе и в любовной. И, мол, побеждает пусть сильнейший от природы и — чтоб не вмешивалось ничего, что от общества. А природно сильнейший на любовном фронте — в комедии у него — Керубино. Он волочится за всеми женщинами сразу: и за Фаншеттой, и за Сюзанной, и за пожилой Марселиной, и за графиней, своей крестной — и ото всех чего–то да добивается: поцелуя, ленты, вздохов и т. д.
И если демократам в комедии Бомарше импонировали социальные шпильки, которые автор — в борьбе за равенство — разбросал по всей пьесе, то Моцарту они были безразличны (да они бы и не прошли цензуру в отсталой Австро — Венгрии). Мало того, Моцарт и его либреттист Да Понте не только опустили (или притупили) социальные шпильки, но усилили крайне индивидуалистический пафос (время в Австро — Венгрии еще не потребовало объединения бесправных индивидуалистов). Нас здесь, в опере, интересует бесправный Керубино.
У Бомарше он сочинил романс о своей любви к крестной (графине), она в романсе названа. А у Да Понте — в обозначенной Пушкиным ариэтте N 11 — адресата любовного томления уже нет. На свой счет может это сочинение пажа принять любая. Он им и пользуется, как универсальным инструментом в заигрывании с каждой юбкой. Мало того, он даже пытается Сюзанну подрядить в зазывалы других женщин:
«К е р у б и н о (бегая вокруг кресла). О, лента, как ты прекрасна и как нежна ты! (Целуя ленту) ленту верну я только вместе с жизнью!
С ю з а н н а (начинает бегать за ним, потом как будто устала) Но, право, что за дерзость?
К е р у б и н о. Ах, успокойся. В долгу я не останусь, эту песню взамен дарю тебе я.
С ю з а н н а. А что мне делать с нею?
К е р у б и н о. Можешь прочесть хозяйке, и Барбарине тоже, и Марселине тоже, и всем прочим; (в порыве радости) женщине каждой, кто б ни повстречался!»
У Бомарше мелодия сочиненного пажом романса обозначена насмешнически: на мотив «Мальбрук в поход собрался». А у Моцарта это вполне проникновенная мелодия. У Бомарше все, что вокруг Керубино имеет оттенок шутки с ребенком, шутки, в которой есть только доля взрослой правды. У Моцарта эта доля возросла.
И если спросить себя, чем — по–взрослому — мог превзойти моцартовского Керубино моцартовский Дон — Жуан, то так и кажется, что вот что имел в виду Пушкин, написав «Старик играет арию из Дон — Жуана»:
Ария N 12 Чтобы кипела Кровь горячее, Ты веселее Праздник устрой! [это он к Лепорелло обращается] Новых ли встретишь, [крестьян и крестьянок, идущих на свадьбу Церлины и Мазетто] Всех их заметишь, Всех их веди к нам [в виллу Дон — Жуана] Пестрой толпой. Пусть будет весело Девушкам этим, Все мы наметим, — Там угощенье, Здесь развлеченье Нашим гостям, Здесь развлеченье Нашим гостям. Там угощенье Нашим гостям, Здесь развлеченье Нашим гостям! Я же в сторонку Тихо направлюсь И позабавлюсь С той и с другой, Да с той и с другой, Да с той и с другой, Да с той и с другой. Больше десятка Их, для порядка, Завтра запишешь В список ты мой. [Лепорелло ведет список побед Дон — Жуана] Больше десятка Завтра запишешь В список ты мой.И это ж больше десятка девушек Дон — Жуан собирается соблазнить чуть не на виду их кавалеров!.. И начал он с Церлины, невесты Мазетто, присутствующего (его же свадьба) тут же!.. Ведь эти ребята могут Дон — Жуана убить! — Тем ему интереснее! Смел Дон — Жуан. Смел Моцарт.
Такие арии (Керубино, Дон — Жуана), а главное, очевидный факт их популярности в народе стали последней каплей терпения Сальери и довели того до решения убить не себя, а врага общественного начала, Моцарта.
Разберемся с «Дон — Жуаном» поподробнее. Цитирую. Берлянд — Черная:
«Инсценировки легенды в профессиональном театре [до Моцарта]… отличались меньшей смелостью и глубиной [чем в народном театре]. Опера [Моцарта] должна была оживить и приблизить к слушателю старинную народную легенду. Однако то равноправие трагических и комедийных ситуаций, которое привлекало Моцарта в народном театре, на оперных подмостках было явлением совершенно необычным, и создать нужную ему литературную основу было делом сложным… Да Понте не сумел до конца проникнуться замыслом композитора».
Тем не менее даже на словесном уровне заметна эта (оппозиционная к пошлому в своей беспроблемной вседозволенности рококо) поэтичность, излучаемая жизнью, чреватой смертью. Смотрите. Сцена седьмая. Дуэт с хором N 5. По полю идет крестьянская свадебная процессия и поет:
Ц е р л и н а Наша молодость к нам не вернется, Она не вернется. Даром время терять нам нельзя, Терять нам нельзя, Терять нам нельзя! Если сердце любовью забьется, Ля, ля, ля, ля, Поступайте вы также, как я! Ля, ля, ля, ля, ля, ля! Для любви наступает пора. К р е с т ь я н е Ля, ля, ля, ле–ра, Ля, ля, ля, ле–ра! М а з е т т о Молодые, вы все так легки на подъем, Не советую время терять Туда–сюда, туда–сюда! Коротка наша молодость, молодость, Коротки дни золотые…И т. д. Откуда такая психологическая сложность в народе? — Вот ответ в виде молниеносно краткого исторического обзора.
Есть такая ветвь теории анклавного развития культуры, как социально–анклавная. То, что рождается в столицах, в верхах, через время доходит до провинций и низов. Индивидуалистический идеал Раннего Возрождения, развиваясь, в инерционном залете «вниз» породил титанов–преступников: Борджиа, Медичи, Ченчи. (Ченчи это особый донжуан, который женщинами овладевал исключительно насильно.) И все это были аристократы. Через века их индивидуалистическая вседозволенность дошла до самых низов 3‑го сословия.
Это для совков возрожденческий гуманизм был доведен только своей благостной, умеренной стороной. И то же — с античностью, которая возродилась в Новое время. Впрочем, и в пушкинские времена было что–то совковое. Цитирую Чаадаева:
«Но чего, мне кажется, мы не знаем, это той общей связи, которая существует между Гомером и нашим временем… для нас Гомер… остается все тем же Тифоном… [в древнегреческой мифологии — чудовище с сотней драконовых голов]…и Ариманом… [древнеиранским олицетворением злого начала]…каким он был в мире, им самим созданном. На наш взгляд, гибельный героизм страстей, грязный идеал красоты, необузданное пристрастие к земле — это все заимствовано нами у него… греки решились идеализировать порок и преступление».
За то христианство боролось с античностью, а рефеодализация, контрреформация, инквизиция — с Возрождением. И именно в такой борьбе монах Тирсо де Молина впервые ввел в литературу Дон Хуана Тенорьо, ввел со знаком минус. В Испании была наибольшая реакция против Возрождения, но монаху было ясно, что мир с естественностью воды стремится в моральный низ, и с каким–то лишь перенапряжением можно ориентировать его вверх. Это было досадно. (Как Шекспиру времен «Гамлета».) И Тирсо де Молина создал трагифарс «Севильский обманщик или Каменный гость», где порицаются все действующие лица — за всепроникающее притворство, но больше всех — главный герой.
Липовость контрвозрождения в Испании поддерживалась, с одной стороны, эйфорией недавних побед абсолютной монархии, путем консолидации испанцев изгнавшей, наконец, мавров с Пиренейского полуострова (так, с опозданием на века, в Испании случилось–таки раннефеодальное объединение государства, характерное для всех народов, а в Испании совпавшее с позднефеодальным объединением). С другой стороны, липовость контрреформации в Испании поддерживалась исторической отсталостью мотива объединения. Мотив здесь был — не общий внутренний рынок, а внешний враг.
Более гармоничная реакция на Возрождение была во Франции (барокко). Во Франции были сильны и города и феодалы. И те и те обращались за помощью к королю, а тот эксплуатировал идею всенародного блага. Строптивых феодалов соблазняли почетным местом в государственной иерархии. И так, в конце концов, родился классицизм. Даже выходцы их 3‑го сословия, — Корнель, Расин, Мольер, — заразились идеей долга (только первые два проставляли его впрямую, трагедиями, а Мольер — методом «от противного», комедиями: вышячивая тот низ, который естественно, как вода, всюду протекает, и в дворянство — тоже). Так явился мольеровский Дон Жуан Тенорьо — тоже отрицательный герой.
И только на следующей, народной, волне усиления индивидуализма, у Моцарта, случился прорыв Дон — Жуана в, так сказать, положительные герои. Своего осторожничающего либреттиста, аббата Да Понте, даже на литературном уровне Моцарту удалось во многом одолеть. Все отрицательное в герое у Тирсо де Молины и Мольера преображается. Особенно это видно в конце 1‑го действия. Дон — Жуан изобличен преследователями и близится возмездие. И Дон — Жуан на миг смутился–таки. И что? — Донна Анна, Донна Эльвира, Дон Оттавио, Церлина, Мазетто многократно повторяют:
Бойся, бойся, ты несчастный…И у Дона Оттавио шпага ведь обнажена. Да и разъяренного Мазетто нельзя сбрасывать со счета. А кончается все такими словами Дон — Жуана:
Но хотя бы мир распался, Страха смерти я не знаю И теперь же вызываю Все и всех на смертный бой!И его слова — последние в 1‑м акте.
Финал сочиненной оперы замутнен необходимым пиететом перед господствующей идеологией (иначе оперу бы не поствили на сцене), однако на фактическом представлении в Вене (об этом записано в клавире) финал был опущен, и оставшееся получалось очень сильно:
К о м а н д о р В гости меня позвал ты, В дом я к тебе явился, Ответь теперь, ответь теперь, Придешь ли так же ко мне? Л е п о р е л л о Синьор, синьор! Времени нет, скажите. Д о н — Ж у а н Меня еще не знали Как труса никогда! К о м а н д о р Решайся ж! Д о н — Ж у а н Уже решил я. К о м а н д о р Придешь ли? Л е п о р е л л о Скажите нет, скажите нет! Д о н — Ж у а н Тебя, угрюмый призрак, Я не боюсь, приду! К о м а н д о р (протягивая руку) Руку в залог мне дай ты! Д о н — Ж у а н (подавая руку) Вот она! А-ах! К о м а н д о р Что с тобой? Д о н — Ж у а н Рука твоя, как лед! К о м а н д о р Кайся в грехах, несчастный, — Конец твой наступает. Д о н — Ж у а н Меня не испугает… Голос зловещий твой! (хочет освободить руку, но напрасно) К о м а н д о р Время твое настало! Д о н — Ж у а н Я не боюсь нимало! К о м а н д о р Кайся же! Д о н — Ж у а н Нет! К о м а н д о р Кайся же! Д о н — Ж у а н Нет! К о м а н д о р Да! Д о н — Ж у а н Нет! К о м а н д о р Да! Д о н — Ж у а н Нет! Л е п о р е л л о Да! Да! К о м а н д о р Да! Д о н — Ж у а н Нет! Нет! К о м а н д о р Последний пробил час! (Удар грома. Командор отпускает руку Дон Жуана и исчезает. Освещенный молниями Дон Жуан, шатаясь направляется к авнсцене.) Д о н — Ж у а н Страх, мне еще неведомый, В сердце проник бесстрашное. Кругом сверкают молнии, (гроза усиливается) Подземный гром гремит! Х о р Так за твое злодейство Небо тебя казнит! Д о н — Ж у а н О, что со мной, не знаю я! Рассудок свой теряю я! Нигде мне нет спасенья. Все гибнет, все горит! Л е п о р е л л о Как он дрожит, бледнея, Помочь ему не смею. И плачет он и стонет! Страшный, ужасный вид! Д о н Ж у а н Ах! (Дон Жуан бездыханный падает на землю. Из–под земли вырывается пламя. Дон Жуан исчезает под землей вместе с пламенем. Лепорелло в ужасе падает на колени.)Если не знать последних слабодушных слов и слушать оперу, исполняемую по–итальянски, то впечатление будет, будто здесь не страх и суета выражаются, а героическая борьба за жизнь, борьба с силами преисподней, как чуть выше — борьба с силами неба.
И тут необходимо дать улыбышевскую характеристику моцартовского «Дон — Жуана», раз мы не можем здесь слышать музыку:
«Желания Дон — Жуана не переступают земных пределов, и его способности соответствуют его желаниям. Только земля ему нужна, но во всем своем объеме! При таком воззрении божественный и нравственный закон исчезал… И Дон — Жуан… чувствуя себя неизмеримо выше других, [хочет] властвовать, но какой род власти изберет Дон — Жуан? Он слишком искренне презирает людей, чтобы добиваться их поклонения. В его глазах знание, занимающее, губящее жизнь, есть смешной обман; слава — пустой звук; власть, доставляемая положением, — напрасная тягость. Нет, у него будет власть более реальная, более личная, более лестная для его титанической гордыни, сосредоточенная в эгоизме и ни в ком не нуждающаяся, в особенности более выгодная и согласная с его логикой. Люди, говорит он себе, гонятся за химерой только потому, что не способны вполне обладать действительностью. Я же способен на это. Они мечтают о каком–то рае и не видят, что рай везде, где солнце жарко, небо сине, волна прозрачна и тепла, где дух благовонен; везде, где зреет лоза; везде, где есть женщины. Женщины! Разве одно это слово не объясняет мне причину моего существования лучше, чем пусторечие мечтателей, удостоенных титула философов! Если цель жизни заключается в удовольствии, то разве все оно не выражено в слове «женщина»? О, прелестные существа, единственные божества, которых я признаю и которым служу!.. Почему не наслаждаться этим веселым благом, как я наслаждаюсь солнцем, зеленью, благоуханием и музыкой, всегда и везде? Но весь мир восстанет на меня. Тем лучше, да, тем лучше, говорю я от всего сердца. Если бы все принадлежало мне по закону, как они говорят, мне нечего было бы желать и оставалось бы только умереть. Но каждый день испытывать силу своих способностей против бесчисленных препятствий, которые общество ставит существу, мне подобному; одолевать все преграды при помощи изобретательности и остроумия; спасаться от всех опасностей при помощи храбрости и ловкости; постоянно быть исполненным радостью и гордостью победы и в награду за каждую получать самые упоительные восторги — вот что я называю жизнью. Глупцы и трусы скажут, что для такой жизни надо сначала свести знакомство с нечистой силой. Я же презирал бы такую помощь, даже если бы верил ей. Я могу без нее справиться с красотками, эта помощь лишала бы меня одного из моих любимых ощущений — ощущения опасности при виде врага. Быть может, дьявол даст мне какого–нибудь напитка своей стряпни. Не нужно мне твоего питья, Сатана или Мефистофель! Пить его — значило бы прибавлять воды в реку или жару в вулкан… Ты ни на что мне не нужен, дьявол, ты даже не можешь испугать меня, если явишься со всеми атрибутами, с серным запахом и в сопровождении легиона рогатых нечистых духов. Я буду очень тебе рад. Таков Дон — Жуан Да Понте и Моцарта».
А цитирующий Улыбышева Нусинов добавляет:
«Дон — Жуан Моцарта — утверждение красы и радости жизни и вместе с тем признание неразрешимости трагедийного конфликта между беспредельным стремлением человека к радости и неизбежным торжеством смерти… Шедевр Моцарта проникнут неизъяснимой скорбью, что существует пропасть между любовью к жизни и фактом… смерти. Но для Моцарта сама эта скорбь… является источником того великого утверждения жизни, которое заключено в самом факте создания таких его шедевров, как «Дон — Жуан» и «Реквием» ".
Как тут не вспомнить богоборческий финал фильма Бондарчука «Овод», где на звуковом фоне моцартовского «Реквиема» прелат, отдавший на смерть своего сына, проклинает себя и Бога–отца, тоже предавшего смерти своего Сына.
Я прослушал несколько раз от начала до конца моцартовский «Реквием». И во всяком случае в семи частях его (из двенадцати) по преимуществу в нем слышишь возмущение, возмущение скукой загробной жизни, муками ее и Страшного суда.
Если Сальери — богоборец на этом свете и возмущен тем, что нет правды в нем, то Моцарт, — такое впечатление от музыки, — стал богоборцем как бы от имени тех, кто на том свете, от имени наказываемых грешников, от имени всего человечества (эти могучие хоры…). В извивающихся, бесконечно повторяющихся пассажах первой части так и видится образ бекфордовских мучеников ада c исстрадавшимися глазами, всегда прижимающих руку к левой части груди, потому что их сердце сжигаемо вечным огнем (совести?). Идет страшный суд поднятых из могил мертвых над жестоким Богом.
И если слышится какое–то умиротворение начиная с восьмой части, то потому, получается, что Бог признал свою неправоту.
Но нет ему прощения за содеянное. В последней части повторяются бесконечные извивающиеся пассажи (вечная память его жертв — всего грешного человечества).
Глава 6 Справочная
Теперь остается удостовериться, как дошел Пушкин до обрисованного теперь достаточно полно идейно–музыкального противостояния Моцарта и Сальери, причем такого противостояния, которое пригодно для претворения его собственного, пушкинского, художественного замысла.
Отмечу сразу: прямых свидетельств (кроме самого текста маленькой трагедии) нет. И здесь я буду опираться на обзорную работу Глумова «Музыкальный мир Пушкина», 1950 года издания. Это будет сплошная раскавыченная цитата.
По всему творческому и эпистолярному наследию Пушкина рассыпаны бесчисленные намеки на его замечательную компетентность и тонкий вкус в музыкальной области. Пушкин был, что называется, талантливым слушателем. В продолжение всей своей жизни он общался почти со всеми композиторами и крупнейшими музыкальными деятелями России. Будучи членом общества «Зеленой лампы», он не мог не общаться с А. Д. Улыбышевым, который потом написал знаменитую биографию Моцарта. В конце второго десятилетия XIX века в петербургском театре исполняли оперы Моцарта «Волшебная флейта», «Похищение из сераля», «Дон — Жуан», «Милосердие Тита». «Дон — Жуан» шел в 1827 году в петербургском немецком оперном театре. В годы пребывания Пушкина в Петербурге в концертах филармонического общества исполнялись оратории Гайдна «Времена года», «Сотворение мира», Моцарта «Davidde pentitente». В период приезда Пушкина в Москву после ссылки там ставились до февраля 1827 г. регулярно спектакли итальянской оперы, главным образом, Моцарта «Свадьба Фигаро» и «Дон — Жуан». Свидетельство Смирновой о 1828–29 годах: «После нового года… концерты участились… в филармонической зале давали всякую субботу концерты: Реквием Моцарта, Creation Гайдна [следует еще перечисление], одним словом, сериозную немецкую музыку. Пушкин всегда их посещал». Виельгорский, после своего переезда из Москвы в Петербург, пропагандировал сочинения Моцарта и Пушкин разделял это увлечение. Посещал Пушкин и концерты в доме Виельгорского. Запись М. Д. Бутурлина об этих концертах:«…не проходило почти ни одного публичного вечера из аматеров, чтобы он [Виельгорский] не поместил в программу чего–нибудь из оперы Дон — Жуан». Запись поэта Д. П. Ознобишина: «Бывая на вечерах этого мецената муз и музыкального искусства [Виельгорского], я заметил, к моему удивлению, что Пушкин не был ни музыкантом, ни любителем музыки, а между прочим бывал на всех вечерах, даже исключительно музыкальных». И Глумов комментирует: «Ознобишин под выражением «любитель музыки» несомненно понимает музыкального дилетанта в специфическом смысле, характерном для той эпохи. Как известно, среди русского дворянства было немало «аматеров», глубоко и серьезно занимавшихся музыкой». Певица Бартенева часто выступала у Виельгорского. Ее репертуар состоял из арий и дуэтов [следует перечисление] и потом — Моцарта, Пиччини. Ария «Астазия–богиня» из оперы Сальери и Бомарше «Тарар» часто исполнялась в концертах в Петербурге. Биография Сальери выпущена Мозелем в 1827 году. Там было указано, что Сальери стал последователем Глюка после того, как успел зарекомендовать себя зрелым музыкантом.
Глава 7 Методическое отвлечение
Всех перечисленных косвенных данных о музыкальной компетентности Пушкина могло и не быть. А их наличие не доказывает, что музыкальная обстановка, связанная с Моцартом и Сальери в 1791 году была такой, как это высветил я: противостояние демонического индивидуализма и безбожного коллективизма. Небольшую (лишь эвристическую) ценность имеет даже то, что выведено это противопоставление из текста трагедии. Мало ли что можно вывести, выдергивая из нее слова или тенденциозно играя на их неоднозначности. Настоящую же ценность имеет лишь та мысль, которая обопрется на весь цикл маленьких трагедий. Если будет показано, зачем, с точки зрения художественного смысла целого, были Пушкиным применены именно эти, указанные мной, элементы по всему циклу, то лишь это будет означать «сходимость», по Гуковскому, анализа и, следовательно, шаг к открытию этого художественного смысла.
Назовем этот шаг «А».
А теперь предположим, что может быть доказано, что объективно Гайдн и Моцарт в целом их творчества были не идеологи индивидуализма, тем более, безбожного. Предположим, может быть доказано, что объективно Пиччини, Глюк и Сальери были не идеологи коллективизма, тем более, тоже безбожного. И, предположим, доказано, что Пушкин именно это и знал. Так можно ли было бы тогда отрешиться от шага «А» и начать искать другой шаг, скажем, «Б», имея в виду знаменитый пушкинский историзм и знаменитую пушкинскую цитату об историзме? (Я приведу эту цитату: «Обременять вымышленными ужасами исторические характеры не мудрено и не великодушно».) И повторю вопрос: можно ли тогда искать шаг «Б», на путях историзма? И отвечу: нельзя.
Потому, хотя бы, нельзя, что касательно исторических характеров было сказано Пушкиным о стихе из «Войнаровского»:
Жену страдальца Кочубея И обольщенную им дочь…То есть сказано об извращении материальных фактов в истории Мазепы. А мировоззрение, тем более, выраженное в музыке, к таким фактам не относится. И тогда, в оправдание себе, я могу сослаться на другую фразу Пушкина же: «Истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах — вот что требует наш ум от драматического писателя». Соотнесение же музыкального выражения идеологии Моцарта и Сальери с двумя враждующими стилями их времени — достаточно правдоподобно.
Глава 8 «Сходимость» анализа
Что же хотел сказать Пушкин «Моцартом и Сальери»? Не «нет» крайнему индивидуализму и крайнему коллективизму. Хотя и это тоже. Важно найти, чему он в своей трагедии сказал «да».
Для этого обратимся ко всему циклу маленьких трагедий. Что в них общего? Конфликт между широко понимаемым индивидуализмом и коллективизмом.
Кто такой Альбер в «Скупом рыцаре»? Он же, внешне, по крайней мере, весь принадлежит установившемуся образу жизни дворян своего времени: турниры, демонстрация геройства, потребного для служения высшему по рангу сеньору, олицетворяющему государство, которое, в свою очередь, декларирует, что оно и существует–то для блага своих подданных. Средства для служения, исполнения долга, должна давать земля, закрепленная, — не без государственного ведома, т. е. не без какого–то согласия высшего сеньора, — за рыцарем, дворянином. И если барон, отец Альбера, уже не в силах исполнять долг, то он обязан материально обеспечивать исполнение долга сыном. Барон же отказался. Значит, уже противопоставил себя некому коллективизму. А то, что это сделал во имя удовлетворения личной страсти к деньгам, лишь подчеркивает его индивидуализм. Итак, на поверхности — противостояние коллективиста Альбера и индивидуалиста Барона.
В чем–то похожая ситуация в «Каменном госте». Опорой общего, государства, является семья и, значит, брак (лучше, если по любви) и верность браку и такой любви. Дон Гуан противопоставил себя браку и верности, т. е. общему. Он тоже индивидуалист. Причем, крайний, потому что противопоставил себя в гипертрофированном качестве: слишком многим женщинам из–за него не суждено вступить в брак.
Немалую угрозу обществу (в последней трагедии) представляет и чума. И не тем, что она способна общество напрочь уничтожить. Нет. Такого никогда не случается. Это и по трагедии видно. Мери поет старинную песню о чуме, а Председатель резюмирует:
В дни прежние чума такая ж, видно, Холмы и долы ваши посетила… И мрачный год, в который пало столько Отважных, добрых и прекрасных жертв, Едва оставил память о себе В какой–нибудь простой пастушьей песне…Так что чума человечеству не до последней крайности опасна. Опасно другое. Чума освобождает анархию, а анархия может пережить саму эпидемию, и тогда обществу конец. Пока же, в трагедии, анархия проявляется, как это ни прозаически звучит, в антисанитарии беспутства (как ныне СПИД, рожденный от богемы и крайнего пристрастия к чувственности). Не зря в пушкинской трагедии противостояние таково. С одной стороны Вальсингам, председатель богемы:
…я здесь удержан… И новостью сих бешеных веселий, И благодатным ядом этой чаши, И ласками (прости меня Господь) Погибшего, но милого созданья…С другой стороны находится практика из предания о чуме:
Ты, кого я так любила, Чья любовь отрада мне, — Я молю: не приближайся К телу Дженни ты своей; Уст умерших не касайся; Следуй издали за мной. И потом оставь селенье! Уходи куда–нибудь, Где б ты мог души мученье Усладить и отдохнуть. И когда зараза минет, Посети мой бедный прах; А Эдмона не покинет Дженни даже в небесах!Это, прозаически говоря, призыв к гигиене, к физическому одиночеству, подкрепляемому духовным единением.
К тому же, если материалистически, призывает пирующих среди чумы и Священник:
Ступайте по своим домам!В общем, как видим, во всех четырех трагедиях противостояние общего и капризно–своего.
А чем — в отношениях этого общего и капризно–своего — трагедии отличаются? — Мерой удаленности сторон от консенсуса.
Ближе всех к консенсусу последняя по времени написания трагедия «Пир во время чумы». Священник пронял–таки Председателя, и тот, хоть и не покинул пира, но призадумался. Да и Священник его в чем–то понял.
С в я щ е н н и к Пойдем, пойдем… П р е д с е д а т е л ь Отец мой, ради Бога, Оставь меня! С в я щ е н н и к Спаси тебя Господь! Прости, мой сын.На этом трагедия кончается, и даже сама оборванность стиха означает чреватость изменением. Ремарка Пушкина подтверждает:
Уходит. Пир продолжается. Председатель остается, погруженный в глубокую задумчивость.Дальше всех от консенсуса Альбер и его отец в «Скупом рыцаре», написанном раньше всех. Почему дальше? Потому что «убивая» друг друга они идеологически поменялись местами. Смотрите.
Общее, государственное, дворянский долг неразрывны с личной честью. Барон, давно наплевавший на общее, а значит, и на честь, мог бы, оболгав сына, не так уж живо реагировать на возмущение того и не вызывать того на дуэль и тем не подвергать себя опасному волнению.
А л ь б е р Вы лжец. Б а р о н И гром еще не грянул, Боже правый, Так подыми ж, и меч нас рассуди! (Бросает перчатку, сын поспешно ее подымает.) А л ь б е р Благодарю. Вот первый дар отца. … … … … … … … … … …. Г е р ц о г Так и впился в нее когтями! — изверг! Подите: на глаза мои не смейте Являться до тех пор, пока я сам Не призову вас. (Альбер выходит) Вы, старик несчастный, Не стыдно ль вам… Б а р о н Простите, государь… Стоять я не могу… мои колени Слабеют… душно!.. душно!..Барон умер жертвой чести, тогда как на самом деле убил его супериндивидуализм, из–за которого сын ополчился на отца.
Альбер понимает себя тоже плохо. Нет, как и отец, он уже тоже догадался, что главное в приходящем в упадок мире (феодальном мире) не долг и честь, а деньги.
А л ь б е р Когда Делорж копьем своим тяжелым Пробил мне шлем и мимо проскакал, А я, с открытой головой, пришпорил Эмира моего, помчался вихрем И бросил графа на двадцать шагов, Как маленького пажа; как все дамы Привстали с мест, когда сама Клотильда, Закрыв лицо, невольно закричала, И славили герольды мой удар; Тогда никто не думал о причине И храбрости моей и силы дивной! Взбесился я за поврежденный шлем; Геройству что виною было? — скупость! — Да! заразиться здесь нетрудно ею Под кровлею одной с моим отцом.И ему бы принять предложение Жида и отравить отца и вступить во владение наследством по закону. Так нет. Он Жида велит выгнать. И даже денег у него не хочет брать взаймы:
Его червонцы будут пахнуть ядом, Как сребренники пращура его…И оскорбляется на лже–, получается, обвинение отца о покушении на убийство. Но кончает–то Альбер совсем не как воплощение носителя высокого идеала, не как рыцарь, а как подсказывает подступающий денежный век — он подымает брошенную отцом перчатку, он готов убить отца.
Отец и сын совершили идеологическую рокировку и дальше других антагонистов из 4‑х трагедий отстоят от консенсуса, который — я упрежу вывод — и является идеалом Пушкина в этом цикле.
В «Каменном госте» Дон Гуан еще лишь внешне не перешел на нравственную позицию Командора.
В «Пире» Вальсингам и внешне (задумался) и внутренне уже двинулся в сторону нравственности:
С в я щ е н н и к Матильды чистый дух тебя зовет! [В смысле — уйти домой с нечистого пира.] П р е д с е д а т е л ь (Встает) Клянись же мне, с поднятой к небесам, Увядшей, бледною рукой, оставить В гробу навек умолкнувшее имя! О если б от очей ее бессмертных Скрыть это зрелище! меня когда–то Она считала чистым, гордым, вольным — И знала рай в объятиях моих… Где я? святое чадо света! вижу Тебя я там, куда мой падший дух Не досягнет уже…Признаться — это уже половина дела.
Дон Гуан не признался. Только последние его слова:
Я гибну — кончено. — О Дона Анна!..— говорят нам, что дело высокой нравственной ценности было явно начато. Дон Гуан полюбил той любовью, которая воспаряет, условно говоря, к небу, когда расцветает на земле.
Пушкин изначально сделал своего героя способным к перерождению. В отличие от всех предшествующих пьес, — где ветреные герои (Дон Хуан, Дон — Жуан) стремились только к плотской любви, — пушкинский чуть не с первых слов дает основание подозревать, что он не совсем такой же:
Л е п о р е л л о Как не узнать: Антоньев монастырь Мне памятен. Езжали вы сюда… …Приятнее здесь время проводили, Чем я, поверьте. Д о н Г у а н (задумчиво) [что уже было немыслимо для литературных предшественников] Бедная Инеза! Ее уж нет! Как я любил ее! Л е п о р е л л о Инезу! — черноглазую… о, помню. Три месяца ухаживали вы За ней; насилу–то помог лукавый. Д о н Г у а н В июле… ночью. Странную приятность Я находил в ее печальном взоре И помертвелых губах. Это странно. Ты, кажется, ее не находил Красавицей. И точно, мало было В ней истинно–прекрасного. Глаза Одни глаза. Да взгляд… Такого взгляда Уж никогда я не встречал.И с Лаурой у пушкинского героя совсем не так, как у предшественников. Обольстителю у тех нужна была только женщина. А пушкинскому — человек. Его Дон Гуан дружит с Лаурой. Она артистка, и он ценит в ней артистизм. И ей он нужен не только как мужчина. Она артистка и ценит Дон Гуана тоже за артистизм (Дон Гуан, в частности ей сочинил ту песню, что она исполняет). И они оба верны этой дружбе и не забывают друг друга не смотря ни на что. У какого автора такое было?
И с Донной Анной у Дон Гуана пошло совсем не так, как у других авторов, и не так, как сказал было Лепорелло:
Л е п о р е л л о Что, какова? Д о н Г у а н Ее совсем не видно Под этим вдовьим черным покрывалом, Чуть узенькую пятку я заметил. Л е п о р е л л о Довольно с вас. У вас воображенье В минуту дорисует остальное; Оно у вас проворней живописца. Вам все равно, с чего бы ни начать, С бровей ли, с ног ли.Третья сцена показывает, что Донна Анна и Дон Гуан давно друг друга видят на кладбище. А еще в первой сцене выясняется, что Донна Анна на кладбище приезжает ежедневно. Это, конечно, остается за кадром — что Дон Гуана опять разбередили глаза. Но все–таки, все–таки… И перед Инезой он не в долгу — она мертва (в тексте есть намек, что она была больна и, может, оттого и умерла, а не от несчастной любви к Дон Гуану). И Лауре Дон Гуан ничем не обязан — та куртизанка. И никого–то по ходу действия Дон Гуан не обманывает с низкими целями. И что, если правду он говорит:
Д о н а А н н а И любите давно уж вы меня? Д о н Г у а н Давно или недавно, сам не знаю, Но с той поры лишь только знаю цену Мгновенной жизни, только с той поры И понял я, что значит слово Счастье.И дальше.
Молва, быть может, не совсем неправа, На совести усталой много зла, Быть может, тяготеет. Так разврата Я долго был покорный ученик, Но с той поры как вас увидел я, Мне кажется, я весь переродился. Вас полюбя, люблю я добродетель И в первый раз смиренно перед ней Дрожащие колена преклоняю. Д о н а А н н а О, Дон Гуан красноречив — я знаю, Слыхала я; он хитрый искуситель. Вы, говорят, безбожный развратитель, Вы сущий демон. Сколько бедных женщин Вы погубили? Д о н Г у а н Ни одной доныне Из них я не любил.Как хотите, а до Пушкина никто такими приникновенными речами Дон Хуана и Дон — Жуана не награждал. И потом — эти его последние слова: «Я гибну — кончено. — О Дона Анна!» — как–то должны же бросать свет на все вышесказанное.
В общем, Вальсингам был ближе к пушкинскому идеалу консенсуса, но и Дон Гуан был уже на том же пути.
Священник изменил поведение и сознание Вальсингама с первого (и единственного) своего появления. Статуя Командора, внешне, не справилась с Дон Гуаном и в два появления, но внутренне Дон Гуан уже был готов для добра. Альбер и Барон от добра лишь удалялись. А индивидуалистский пушкинский Моцарт лишь почуял, что черный человек, заказавший ему «Реквием», есть предвестник свыше. Но за что его судьба собирается наказать, пушкинский Моцарт так и не понял.
Перед нами — через все четыре трагедии — проходит не очень–то и скрытый сверхсюжет об изменении сознания от зла к добру. А в каждой отдельной вещи происходит трагедия неосознавания самого себя. В «Моцарте и Сальери» — более подробная, чем в трех других.
Тема зависти. Вы можете поверить, чтоб достаточно тонкий Сальери не понял сразу, что по отношению к Моцарту его мучает другое чувство? Или. Чувство оскорбленности от профанации искусства народом. Вы верите, что знающий толк в славе Сальери переживал именно оскорбление за искусство, слушая слепого скрипача? Тем не менее Пушкин сделал именно так. Ему, Пушкину, — в той идейной фазе, в какой от тогда находился, важно было показать, что беды мира коренятся не только в обществе, но и в головах людей. И этот гений, пушкинский Моцарт, потому у него так и не понял, что он в музыке не бог, а демон, и за то будет наказан.
По Пушкину того периода выходит, что над людьми висит груз обществом принятых ложных понятий, и верно назвать их по имени, может, труднее, чем что бы то ни было другое. Так, Сальери, осмелившийся убить гения, не посмел вслух назвать его не богом, а демоном. И все, казалось бы, натяжки — в интерпретации из 4‑й, парадоксальной, части настоящего раздела — это не натяжки по сути, а отражение, — вольного или невольного, — изображения Пушкиным того, как двусмысленность слов находит для себя благодатную почву в несвободном сознании.
Заключение
Это все, конечно, не стыкуется с концепцией историчности пушкинских маленьких трагедий. Что ж! Зато я тешу себя мыслью, что у меня восторжествовал исторический принцип в подходе к самому творчеству Пушкина. Если Лотман сказал «А» о Пушкине, что тот перешел к утопизму в своем реализме, то надо же, чтоб кто–то сказал «Б», заметив, что утопизм это уже не вполне историзм. Так если мне, я уверен (см. по списку литературы книгу «Понимаете ли вы Пушкина?»), удалось доказать, что к утопизму о совестливости и консенсусе Пушкин подошел уже в «Повестях Белкина» — в 1830 году (а не, как утверждает Лотман, в «Капитанской дочке» — в 1836‑м), то подтверждение того же вывода на маленьких трагедиях, написанных той же болдинской осенью, что и «Повести Белкина», должно что–то да значить.
Я извиняюсь за еретический характер этого раздела. Я в этом не волен. Так меня ведет анализ произведения и общий взгляд на историю искусства, подтверждающийся уже не первый раз.
Вот вкратце этот взгляд (вы можете теперь перечитать все прочитанное и сверить, а для следующего раздела он просто необходим). Итак.
В науке об искусстве не зря очень распространены теории и гипотезы о кругообразной и синусообразной истории искусства. И круг и синусоида это проекции спирали. А спираль — наглядный образ диалектического развития. Применяя этот образ мною, в общем, сделаны две новые попытки: 1) представить синусоиду как образ исторической изменчивости идеалов, подвигнувших художника на создание ряда произведений (я далее называю это так: «Синусоида идеалов») и 2) ввести для кризисных эпох (в местах перегиба Синусоиды идеалов) наглядный образ для творческого поведения двух типов художников — сумевших и не сумевших приспособиться к существенно новой действительности: сумевшие «двигаются» по следующей за перегибом дуге Синусоиды, не сумевшие — по вылету вон с Синусоиды, как бы продолжающему ту дугу, до перегиба.
Синусоида идеалов во все времена колеблется между двумя одинаковыми ценностными полюсами: коллективизмом и индивидуализмом. Причем с первым коррелируют такие понятия как высокое, порядок, труднодостижимое, ригоризм, исторический оптимизм и т. п. (в вылете вон с Синусоиды идеалов доходящие до степеней сверхвысокого, ингуманизма, аскетизма, сверхистотического оптимизма и т. п.), а со вторым полюсом, с индивидуализмом, коррелируют низкое, свобода, сегодня и сейчас достижимое, естественное, гуманизм и т. д. (в вылете вон вниз с Синусоиды идеалов доходящие до вседозволенности, демонизма, сверхчеловеческого и т. д.). Не на полюсах, в центре восходящих дуг — гармоническое сочетание общественного с личным и т. п.; в центре нисходящих дуг — соединение несоединимого: высокого с низким и т. д.
Такая Синусоида идеалов с успехом приложима ко всем неприкладным, т. е. идеологическим, искусствам, с учетом теории анклавного развития — к искусству всех народов, а также к любым объектам эволюци от истории стилей до творческой истории отдельного художника. И даже — к изменению мировоззрения любого человека.
Осень 1997 года.
Раздел 2 ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ
Вступление
Есть две, казалось бы, взаимоиcключающие идеи. Одна, мельком упоминавшаяся, — Выготского (что ни в одном элементе идея произведения не фигурирует, так как она рождается в душе читателя, слушателя, зрителя — из катарсиса, который сам рождается из противочувствий, возбужденных противоречивыми элементами этого произведения). Вторая — что произведение, как яблоко соком, пропитано идеей его создания, и в талантливых вещах нет ни одного элемента, в котором не отражался бы художественный смысл целого.
Обе идеи можно совместить, если призвать сложность самих элементов. Это как вещество, состоящее из молекул, которые сами состоят из атомов, по отдельности не похожих на молекулу.
В этом разделе будет использоваться преимущественно вторая идея. «Моцарт и Сальери» — трагедия гениальная, и в ней не может быть «молекул» чуждого, непушкинского замысла. Тем не менее толкуют ее очень по–разному. Кто ж прав? А главное — прав ли я? И мыслимо ли дойти до правды? Распространено даже мнение, что в «понимании» искусства и не может быть истины и науки.
А это уже ерунда. Возможно научное приближение к истине. Мало того: оно доступно в принципе всем — как в принципе для всех предназначено искусство.
Сначала вас озаряет и вы полуосознаваемо чувствуете, что «поняли» художника, что, кажется, всякую мелочь вы можете объяснить одним и тем же художественным смыслом целого произведения. Потом, проверяя впечатление на все большем и большем количестве деталей его творения, вы убедитесь… или в своей правоте или в ошибке. Но даже ошибка, будучи осознана, выведет вас к правде, если вы не отступитесь (это труд души, и не многие себе позволяют такую роскошь). Некий небольшой список «атомов» мало ли для создания какой «молекулы» гением был привлечен! Так всмотритесь в другие детали и задайтесь вопросом: «А они зачем?»
Этим я и займусь, сравнивая свою версию с чужими. С теми чужими, что исходят из элементов, мной еще не объясненных. И если их я не смогу включить в опознанное мною «вещество», то я не прав и надо «мое вещество» переопознавать так, чтоб новое — включало чужие объективные наблюдения над текстом. Но если смогу… Тогда более верна моя версия, как бы неожиданна и нова она ни была.
С кем–то я буду больше соглашаться, с кем–то — меньше. Поэтому я разобью процесс проверки на две главы: «СОГЛАШАЮСЬ» и «УПОРСТВУЮ». И… посмотрим, что получится. Я и первый раздел писал, не зная, к чему это приведет. Второй — тем паче. Поток сознания… Трудное чтение. Тем более, что во втором разделе этот поток разветвляется на два русла. Их бы «проходить» параллельно. Но приходится читать одно за другим. Читатель, видно, будет вынужден перечитывать кое–что. Я к нему тоже беспощаден. Но в накладе он не останется.
Чужим версиям я придам форму ответов на вопросы типа «зачем, — с точки зрения предугадываемого или уже открытого художественного смысла целого произведения, — применены автором этого произведения те или иные элементы произведения». Ясно, что из–за такого подравнивания высказываний по форме мне прийдется прибегать к раскавыченному, неточному цитированию. Это, впрочем, не повлияет на суть отрывков — я постараюсь не исказить своих оппонентов.
Расположение версий в основном хронологическое. Нарушается оно, когда жаль разрывать мнения разных авторов почти об одном и том же элементе текста.
Итак.
Глава 1 Соглашаюсь
1.1
ВОПРОС.
Зачем такие черты характера приданы гениальному Моцарту: беспечность, простодушие?
ПРИМЕР.
С а л ь е р и …А озаряет голову безумца, Гуляки праздного?.. О Моцарт, Моцарт! (Входит Моцарт) М о ц а р т Ага! увидел ты! а мне хотелось Тебя нежданной шуткой угостить.Ведь не может быть, чтоб Моцарт, войдя и услышав свое имя, не слышал про гуляку праздного. Почему ж не связал с собой? А если и не слышал, то не мог не слышать сокрушенную интонацию, с которой Сальери произнес его имя. И — он не обратил внимания на интонацию, не придал ей должного значения. Почему это?
ОТВЕЧАЕТ ОВСЯНИКО-КУЛИКОВСКИЙ Д. Н. (Нач. 1900 гг.).
Потому, что гениальность, стягивая большую часть душевных сил и интересов в сферу чистой мысли и высшего творчества, оставляет слишком мало энергии для повседневного, мелочного расхода души, для обыденных чувств и страстей. Это частный случай более общего явления, которое можно сформулировать так: высшая жизнь духа, отвлеченные интересы мысли и творчества, развивая энергию ума и интеллектуальных чувств и эмоций, суживают районы обыденных, «житейских» интересов, со всем аппаратом сопутствующих им чувств, эмоций, страстей. Человек, который «весь ушел» в науку (все равно — теоретическую или прикладную), в философию, в искусство, является тем самым человеком — в известной мере — «не от мира сего» и становится менее восприимчивым [выделено мною] к воздействиям окружающей среды и реагирует не столь отзывчиво, как реагируют на них люди, всецело погруженные в житейскую сутолоку или захваченные жизненной борьбой…
Гений этого, скажем, — «моцартовского» — типа совсем не боится повседневной сутолоки; он охотно и радостно, как ребенок, живет минутой; он беспечен и шаловлив. Это происходит не оттого, чтобы сутолока и пошлость жизни имели большую власть над ним и затягивали его, а наоборот — именно оттого, что жизнь не имеет власти над ним, что он свободен [выделено мною] от гнета ее внушений, и он инстинктивно чувствует, что ему ничего не стоит столкнуть с себя все ее путы и уйти в свой внутренний мир…
…этот жизнерадостный и легко живущий человек, собственно говоря, не умеет жить, как умеет самый заурядный обыватель, — его огромные дарования для его собственного житейского благополучия пропадают даром. Ни в узко–обывательском смысле, ни в более широком смысле в сфере общественного и политического развития он не является «делателем жизни», — он скорее обнаруживается как «делатель промахов, ошибок и наивностей»…
…гениальность лишила его способности быть хорошим социальным животным, испортила в нем обывателя, общественного деятеля, гражданина [выделено мною]. Ибо, наделив его великим и редким даром внутренней свободы, она отняла у него вкус и способность к социальной дисциплине, к общественной нивелировке, к подчинению и командованию [выделено мною].
МОЙ КОММЕНТАРИЙ.
Я не зря делал выделения шрифтом. Они выявляют схожесть с моей мыслью, что пушкинский Моцарт был музыкальным выразителем воинствующего индивидуализма. Правда, по Овсянико — Куликовскому выходит, — если договорить до конца его мысль, — что идеально–типичному образу гения (с именно такой, а не иной натурой) не «к лицу» быть общественником, не характерно быть коллективистом. Я не стану спорить по этому психологическому вопросу. Замечу лишь, что если есть «моцартовский» тип гения, то есть и еще какой–то, в чем–то иной. Но, повторяю, тут я не спорю. Важно, что крайний индивидуализм–свобода — «к лицу» ему, такому, выбранному Пушкиным с какой–то художественной целью. Какой? — Этого Овсянико — Куликовский не касается. Он просто детализирует мысль Белинского, что Пушкин живописал противостояние гения и таланта. Живописал. Бестенденциозно. Бестенденциозно из–за реакции на предыдущую свою (Пушкина да и Белинского) тенденциозность, понимай.
Что Пушкин болдинской осенью 1830 года двинулся дальше по Синусоиде идеалов: от бестенденциозности — к новому утопизму, — я уже, надеюсь, показал. Лишь напомню, что та утопия состояла в неприятии крайностей и индивидуализма, и коллективизма во имя консенсуса противников.
А для этого живописание крайностей (при дистанцировании от них) совсем не помеха, а наоборот, — требование реализма. Утопического реализма.
1.2
ВОПРОС.
Почему название «Зависть» появилось где–то около первого подхода Пушкина к теме Моцарта и Сальери?
ОТВЕЧАЕТ ОВСЯНИКО-КУЛИКОВСКИЙ Д. Н. (Нач. 1900 гг.).
Пушкин хотел показать всю зловещую силу этой злой страсти и взял тот случай, когда она кончается преступлением. Противопоставлением свободы от страстей вообще, от социальных в особенности, которую мы видим в пушкинском Моцарте, является чувство, с которым мы имеем дело в Сальери. Чувство это принадлежит к числу «социальных в тесном смысле». Все чувства, как все вообще явления и функции человеческой психики, социальны, потому что человек искони — животное социальное. В обширном смысле социальны и такие чувства, как, например, половое. Но мы различаем особую группу «чувств социальных в тесном смысле», куда относятся, например, властолюбие, честолюбие, чувство патриотизма, альтруизма и мн. др.
МОЙ КОММЕНТАРИЙ.
Овсянико — Куликовский, наверно, не отказался б включить в «мн. др.» и коллективизм. Уж что, как не он, есть «чувство социальное в тесном смысле». Вот к нему–то, по более глубоком размышлении, Пушкин и пришел, желая в Сальери противопоставить нечто равнозначное по масштабу моцартовской свободной асоциальности. И тут более значимо не то, как где–то в начале Пушкин думал назвать свою вещь, а то, что от названия «Зависть» он отказался.
Но что ингуманистические крайности Сальери именно социальны (в чем бы они не конкретизировались: в честолюбии или в коллективизме) — это точно вывел Овсянико — Куликовский.
*
Похожим образом, — но с еще большим уклоном в социологию, — на вопрос «почему первое название трагедии было — «Зависть»?» -
ОТВЕЧАЕТ А. БЕЛЫЙ (1980‑е гг.).
В первой сцене без труда угадываются такие важные для Франции музыкальные события, как оперная реформа Глюка и война «глюкистов» и «пиччинистов». Эта выводимая прямо из текста пьесы осведомленность Пушкина в музыкальной жизни Франции позволяет предположить, что за знаменитой фразой Сальери «Поверил я алгеброй гармонию» стоит еще одно имя, сыгравшее заметную роль в полемике тех лет, — Рамо. Рамо рассматривал музыку как науку (ср. «в науке искушенный») и заложил теоретические основы современной теории гармонии. Однако музыка его была слишком необычной и рационалистичной, а теория отпугивала перегруженностью математикой. Фраза Сальери об алгебре и гармонии очень точно отвечает теории Рамо. Ведущее значение в музыке он придавал именно гармонии («тайны которой раскрыты лишь посвященным») в противовес мелодии, для которой почти невозможно дать определенного правила. Рассуждения о мелодии Рамо заключает фразой, проясняющей в какой–то мере музыкальные «мучения» Сальери: «Итак, мы оставим счастливым гениям удовольствие отличаться в этом роде (т. е. в мелодии), от чего зависит почти вся сила чувства».
Руссо включился в «благородное соревнование» [Пушкин раз написал: «Зависть — сестра соревнования; стало быть из хорошего роду».] и выступил со своей теорией музыки. Раскритиковавший его Рамо, по мнению Руссо, ему позавидовал.
Однако, возможно, не с этим анекдотом связана «глухая слава» Рамо в России, а с именем Вольтера. Взгляды Рамо пришлись по вкусу Вольтеру, и настолько по вкусу, что он счел возможным писать либретто одной из опер Рамо — «Самсона».
Итак, через «алгебру и гармонию» в друзья пушкинскому Сальери должен был попасть Вольтер, а не Бомарше. Это тем более логично, что Вольтер … да, да, был завистлив. Легенда о зависти Вольтера к своим удачливым соперникам имела в России некоторое распространение и могла быть известна Пушкину.
Почему так настойчиво образ просветителей ассоциируется с завистью?
И как философы, и как люди, они были выразителями и представителями третьего сословия, восходящего класса, боровшегося за власть и получившего ее в результате Великой революции. Современная социология и история морали связывают с этим процессом появление в западноевропейском человеке новой черты — склонности к ревнивому контролю за чужой жизнью, завистливой недоброжелательности. Зависть играла свою роль в формировании морального ригоризма третьего сословия. А моральный ригоризм третьего сословия обязан своим возникновением противопоставлению морали своего слоя гораздо менее строгой аристократической, т. е. того класса, образу жизни которого оно завидовало, считая себя обделенным. Трудолюбивый мещанин ненавидел «гуляку праздного» тем больше, чем больше тому «везло». Наиболее резко моральные образцы борющихся слоев расходились до революции.
И под такую глубокую, социологическую мысль А. Белый нашел несколько подтверждений в окончательной редакции трагедии «Моцарт и Сальери», а не только в первоначальном названии «Зависть»:
ВОПРОС.
Почему в мире Сальери доминирует табель о рангах и каждому рангу соответствует свой эпитет?
ПРИМЕР.
Хорошие музыканты — «жрецы музыки», плохие — «маляры негодные, фигляры презренные».
ПРИМЕР.
Место, достойное самоуважения личности, — только наверху:
Я наконец… Достигнул степени высокой.ВОПРОС.
Почему Сальери часто повторяет слово «слава»?
ПРИМЕР.
«не смея помышлять еще о славе», «слава мне улыбнулась».ВОПРОС.
Зачем применен разделительный союз при перечислении, касающемся себя и других композиторов?
ПРИМЕР.
…я наслаждался мирно Своим трудом, успехом, славой; также Трудами и успехами друзей, Товарищей моих…ОТВЕТЫ.
Как ни странно, Сальери мыслит более социально, чем Моцарт. Для Моцарта критерии успеха или неуспеха лежат в самом творчестве, соотнесены с провидением; он независим от публики и самостоятелен. [Ну ясно: сверхчеловек!] Для Сальери эти критерии находятся вовне, определяются соотнесением с кем–то (выше или ниже кого–то). Слава, высота — вынужденные элементы мира Сальери.
И, подводя это все под юридическое равенство людей третьего сословия, не определяющее равенство достижений, Белый продолжает углублять свой -
ОТВЕТ.
Возрождение открывает тот период европейской истории, на другом конце которого стоит Просвещение. Обе эпохи — блестящие «с лицевой стороны», сделавшие Европу Европой. Бонаротти не сдирал кожу с натурщика, Сальери не убивал Моцарта. Но обе эпохи не в ладу с этикой. Вместо религиозной этики предлагается другая. Вольней, один из авторов «Декларации прав человека и гражданина», писал, что этика — это «физическая и геометрическая наука, подчиняющаяся правилам и расчетам точно так же, как и другие точные науки». Поверка алгеброй гармонии была совсем не случайным заблуждением одинокого ума пушкинского завистника. Не он изобрел и главную норму, управляющую поведением «разумного человека», — справедливость, понимаемую как равновесие между тем, что человек отдает и тем, что получает от других.
МОЙ КОММЕНТАРИЙ.
А справедливость Пушкина 1830‑го года опять стала очень интересовать, как она интересовала осторожных среди декабристов еще до декабрьского выступления: как бы ею, справедливостью, не наломать дров! «Бедняк, по чувству справедливости, может сказать богатому: удели мне часть своего богатства. Но если он, получив отказ, решится, по тому же чувству правды, отнять у него эту часть силою, то своим поступком он нарушит саму идею справедливости, которая в нем возникла при чувстве своей бедности» (Е. П. Оболенский).
Так что — раз Пушкина опять тянуло ко в чем–то декабристским и просветительским идеалам — он не мог в своей пьесе напирать только на зависть, которая, сама по себе, мелка и не тянет на трагедию. Вот он и отказался от названия «Зависть».
И очень приятно, что я не один вижу за противостоянием Сальери и Моцарта противостояние идеалов трудолюбивых мещан и идеалов удачливых гуляк аристократов, а не противостояние завистника и его жертвы.
Другое дело, что Белый не выводит из обнаруженного им глубокого социологизма пушкинский отказ от названия «Зависть», а наоборот — ведет дело так, будто Пушкин это название оставил. Почему? Потому что Белым двигало совсем иное, чем Пушкиным, настроение.
В начале или в конце 1980‑х годов он писал — мне не узнать. Если в конце, то он просто следовал за модой: ругать революцию, начиная ото всех ее первоистоков. Если в начале, то он моду предварял, пуская рукопись по знакомым.
«Склонность к ревнивому контролю за чужой жизнью, завистливая недоброжелательность» это результат перехода от натурального хозяйства к товарному производству, а не результат Возрождения, явления более позднего, чем товарное производство. Не сравнившись в трудоемкости, как запрашивать цену? Понятие «справедливая цена» есть норма средневековых цехов, хоть она и пережила Средневековье. И если Просвещение заимствовало идею социального равенства, то взяло оно ее от средневековых ремесленников, а не от Возрождения. Возрождение движимо авантюристами, рыцарями удачи, а не кропотливыми трудягами. Неэквивалентный обмен с туземцами или просто грабеж (то ли туземцев, то ли европейцев — в колонизации или в пиратстве) вот что началось с Возрождением, а не «ревнивый контроль за чужой жизнью». С другой стороны, именно в эпоху Просвещения на уровень производителей товара вышли, наконец, писатели: стали творить не для меценатов, а для публики и жить — на вырученное от книгопродажи. И их, естественно, интересовало равенство: кто трудолюбивее, кто тоньше освоил свое искусство, тот больше и лучше написал — и тому улыбалась слава.
Причем слава для этих поборников равенства была (как правильно отметил Белый) «вынужденным элементом мира». Просветители застали славу применяемой к художникам. Ввело эту практику действительно Возрождение (Средневековье не оставило имен, скажем, архитекторов таких шедевров, как Кельнский или Страсбургский собор, имен скульпторов и художников, оформивших их интеръеры; авторы, — все без исключения, — удовлетворялись фактом самовыражения). А к чему стремился конкретный художник эпохи Просвещения в первую очередь: к славе или к творческим достижениям — это действительно уже было двойственным и определялось тем, честолюбив имярек в глубине души своей или нет. Но сравниваться в отношении к славе необходимо было всем — хотя бы чтоб не завысить цену на свои произведения.
Ничего не поделаешь: идея равенства людей вообще (хотя бы и практиковалась она лишь внутри третьего сословия) требовала неприятной процедуры сравнивания людей конкретных.
Творческая интеллигенция оказалась продолжательницей этой многовековой традиции. Потому пушкинский Сальери и ведет себя, как будто его класс уже победил — как обладатель и носитель исторической правды (раз победил).
Но в изображаемое Пушкиным время (1791 год), в Австрии, третье сословие политически еще не победило. Да и над Францией веяли враждебные вихри, и было по большому счету еще не ясно, чем все кончится в Европе. Равенство и Справедливость, имеющие–таки в механизмах своего функционирования отрицательные черты, напрягались в борьбе с Привилегиями. И если говорят, что и недостатки бывают продолжением достоинств, то что ж говорить о продолжении самих недостатков? — Они ужасны.
Об этом, похоже, думал Пушкин. А Белый думает о зародышах идеи Равенства и Справедливости как о заведомо нехороших.
*
На тот же вопрос — о названии «Зависть» (и о следующем предварительном названии — «Сальери») иначе -
ОТВЕЧАЕТ В. СОЛОВЬЕВ (1974 г.).
Меняется в процессе работы сам замысел. Измененный замысел сливается с объектом. То есть произведение — такая же объективная данность, как любое явление природы и общества, и потому — неисчерпаемо, а значит, в том числе и таинственно.
Я с осторожностью отношусь к любым биографическим ассоциациям, но… «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы» записаны в Болдине — в то же время, когда Пушкин работал над «Моцартом и Сальери», и, очевидно, предшествовали признанию Моцарта: «Намедни ночью Бессонница меня томила, И в голову пришли мне две, три мысли». Вот эти стихи:
Мне не спится, нет огня; Всюду мрак и сон докучный. Ход часов лишь однозвучный Раздается близ меня, Парки бабье лепетанье, Жизни мышья беготня… Что тревожишь ты меня? Что ты значишь, скучный шепот? Укоризна, или ропот Мной утраченного дня? От меня чего ты хочешь? Ты зовешь или пророчишь? Я понять тебя хочу, Смысла я в тебе ищу…Пушкин был заинтересован характером Сальери, когда задумал и начал писать свою пьесу в 1826 году. Это видно и по количественно большей по сравнению с Моцартом разработке его образа, и по четкому, продуманному, рациональному построению монологов Сальери. В Болдине художественную необходимость равновесия между двумя героями он, по–видимому, ощутил настолько остро, что решился ввести в уже обдуманную и, может быть, даже готовую пьесу сокровенные лирические свои размышления. Совпадение ссылки Моцарта на бессонницу и приведенных «Стихов» — поразительное и в разряд случайных занести невозможно. Характерно и то, что появление подобных мотивов в лирике Пушкина и усиленное к ним внимание приходится на конец 20‑х — начало 30‑х годов; в 1930 году таких стихов Пушкиным написано много, многие — в Болдине.
И Соловьев ставит еще и еще -
ВОПРОСЫ.
Зачем речь Моцарта бессвязна, косноязычна, невнятна, неуверенна? Зачем Моцарт ищет слова, задумывается, бросает начатую мысль и перскакивает к другой?
ПРИМЕР.
вдруг Услышал скрыпку… Нет, мой друг Сальери! Смешнее отроду ты ничего Не слыхивал… Слепой скрыпачПРИМЕР.
Давно, недели три. Но странный случай… Не сказывал тебе я?ПРИМЕР.
Моцарт на помощь себе призывает музыку, которая не аккомпанирует ему, а говорит вместо него — музыкой вместо слов, потому что музыка ближе к неизреченному.
И вот как на эти вопросы -
ОТВЕЧАЕТ В. СОЛОВЬЕВ.
Моцарт, как и Гамлет, удаляется от мира внешнего. У обоих для этого отстранения только ими и видимая причина: Призрак у Гамлета и черный человек у Моцарта. Моцарт и Сальери не просто отстранены, но словно бы находятся по разные стороны черты, отделяющей реальный, дневной мир от ирреального, ночного.
Многими совершалась соблазнительная подмена: Моцарт, казалось им, предчувствует свою гибель от руки Сальери и даже точно на него указывает — «Вот и теперь Мне кажется, он с нами сам–третей сидит». Это не так. Моцарт говорит, что черный человек за ним гонится, как тень, всюду, то есть «сам–третей» он с ним в любой его встрече, с кем угодно, не обязательно с Сальери.
Черный цвет здесь важен, вот его характеристика у Л. С. Выготского, — кстати, в связи с «Гамлетом»: «Что такое чистый черный цвет? Это предел, грань цвета, смесь всех цветов и отсутствие цвета, переход его за грань, провал в потустороннее…»
У Моцарта душевные связи с неизвестным, тайным… Моцарт одновременно в двух мирах, постоянно с ними обоими соприкасается, он на границе жизни и смерти, известного и неведомого, — на жизнь он смотрит как человек, знающий уже тайну смерти, а к смерти он прислушивается из жизни; еще живой, он пишет о смерти свой Requiem.
Моцарт умирает, оставив в мучительном затруднении не только Сальери, но и Пушкина, но и читателя. Свою тайну он унес с собой в могилу, и читатели — да простится мне этот парадокс — вполне в роли Сальери и его товарищей: бескрылое желанье в нас, чадах праха, возмущено райскими песнями, а певец улетел. Нас коснулось предвестие истины, ее смутное, мгновенное прикосновение — и вот мы снова ни с чем и мучительно переживаем невозможность все это выразить словами.
В пьесе у Сальери несравненно больше слов, чем у Моцарта, но ему и надо больше слов, чтобы быть заметным рядом с Моцартом, который, пользуясь словами Цицерона, молчит, но говорит. Только поначалу пьеса задумывалась об одном герое, как и «Скупой рыцарь» и «Каменный гость». Но Пушкин назвал свою пьесу все–таки не «Сальери». Моцартом пьеса переведена в иной пласт, по сравнению с которым тема Сальери — все–таки второстепенная, ибо Моцарт дан на глубине немыслимой.
МОЙ ОТВЕТ.
Все б это прекрасно работало на демонизм Моцарта, если б не привязка всей обнаруженной Соловьевым мистики к «Гамлету».
Соловьев пишет, что «кстати» провел такую аналогию. Но, по–моему, он руководствовался мнением о «Гамлете» юного Выготского, применяя его к пушкинскому шедевру.
В 1916 году, когда юный Выготский написал цитируемый Соловьевым первый трактат (о «Гамлете»), «он, вслед за своим учителем Ю. И. Айхенвальдом, — пишет Ярошевский, — исходил из того, что произведение искусства следует постигать в полной отрешенности от чего бы то ни было внешнего по отношению к нему, как «реакцию на вечность». Он [Выготский] не понимал, что этот взгляд, претендуя на … свободу от любой философской, научной, исторической и иной предвзятости, выражает определенную идейную позицию, рожденную… не вечностью, а смятением в той среде, где он жил в предощущении «неслыханных перемен, невиданных мятежей» (Блок). Ведь всего год отделял его трактат от революции 1917 года».
И Выготский для этого вскрытого Ярошевским настроения очень хороший объект выбрал. Шекспир времени создания «Гамлета» тоже с темным ужасом взирал на этот (как потом оказалось, а сначала было непонятно) победительный низменный первичный капитализм, переродивший гармоничный гуманистический идеал Высокого Возрождения в беззастенчивый эгоизм клавдиев и его подлипал. И Шекспиру, и юному Выготскому, — лучшим, так сказать, представителям уходящего мира, — хотелось верить в сверхбудущее, в восстановление связи времен в вечности, в гиперконечное торжество высокого, как бы пока история — мистически непонятно почему — ни подыгрывала низкому, низам. Оттого у Шекспира в «Гамлете» иррационально и черно, а юный Выготский это прекрасно чувствовал.
Наверно и Соловьев в 1974 году чувствовал, что что–то не так все в нашей стране и выразить это, — может, неосознанно, — решил в интерпретации «Моцарта и Сальери». И пушкинское состояние где–то около 30‑го года в чем–то Соловьева подталкивало. Пушкин, как мы знаем, находился тогда на перевале с нисходящей дуги Синусоиды идеалов на восходящую дугу:
Мой идеал теперь — хозяйка, Мои желания — покой, Да щей горшок, да сам большой…Ему или никуда не нужно было отсюда — из успокоенности — двигаться, или же путь ему был вверх по Синусоиде, или на вылет вниз с Синусоиды. Он был на перепутье, да не таком, как витязь в картине Васнецова: все дороги видны глазом, и что ждет на каждой — написано на камне. Нет: все — не видны, не вполне осознаваемы и что сулят — не понять. И оттого у него рождались такие стихи, какие привел Соловьев. И человек же не машина, что раз повернув, больше на пройденном участке не будет. Или — раз поколебавшись и решив нечто, больше не будет колебаться. Так что тот факт, что и лирического героя стихотворения, и героя трагедии мучает бессонница и т. п. еще мало что дает.
Зато много значит то, что созданный немолодым Шекспиром и понятый юным Выготским Гамлет мучается перед лицом предощущаемой негативною Историей Ближайшего Будущего, а реальному и пушкинскому Моцарту — на любую Историю, на любую огромность плевать. Моцарт творит искусство для искусства и любая негативность для него есть средство для контраста с позитивностью — во имя красоты данного, исчезающего (!) мига, а не какой–то там Истории.
Ну, а тот факт, что Пушкин замысел изменил, ввел мистику и изменил потом и название… Так что из того? Непознаваем окончательный замысел? — Смешно.
1.3
ВОПРОС.
Зачем Пушкин придал Сальери черты некой гениальности: потрясающую чувствительность к музыке, ценимую самим Моцартом как исключительная, огромную требовательность к себе и острую, до желания умереть, неудовлетворенность собою, не достигшим сверхчеловеческого качества, как Моцарт?
ПРИМЕР.
С а л ь е р и Я наконец в искусстве безграничном Достигнул степени высокой.ОТВЕЧАЕТ С. БУЛГАКОВ (1910 годы).
Для Сальери Моцарт есть воплощение творческого гения («священный дар…бессмертный гений… озаряет [Моцарта]). Для Сальери Моцарт то, о чем он [Сальери] тосковал и бессильно мечтал всю свою жизнь («гений — не в награду любви горящей, самоотверженья, трудов, усердия, молений послан»). Для Сальери Моцарт то, что он знал в себе как свою истинную сущность, но бессилен был собою явить. Моцарт есть то высшее художественное я Сальери, в свете которого он судит и ценит самого себя («глухою славой»). Сальери присуще подлинное задание гениальности, ее жажда, непримиримость ни на чем меньшем. Вот отчего Сальери ошибается, клевещет на себя, говоря: «я счастлив был: я наслаждался мирно своим трудом, успехом, славой»; такие люди неспособны ни к счастью, ни к мирному наслаждению («и часто жизнь казалась мне… несносной раной»), такие неспособны к наслаждению, которое явилось бы только признаком упадка и застоя. Гениальность Сальери — чисто отрицательная, она дана ему лишь как стремление. Этот подвижник искусства, ремесло поставивший ему подножием, в действительности хочет только одного — быть Моцартом, тоскует лишь о Моцарте, и он в каком–то смысле есть Моцарт, даже более, нежели сам Моцарт. В Сальери чрезвычайно обострена сознательность и честность мысли: он ясно мыслит, много знает. И он не может не знать, что его восторги, вдохновения, его искусство — только зов, только обетование или намек: душа его любит Моцарта, как цветок солнечный луч: ”когда же мне не до тебя» — этот стон души Сальери есть вопль его художественного самосознания. Вот почему Сальери так хорошо знает и настоящую цену Моцарту. Ведь не из любезности же, но с трагической мукой произносит он свой суд «безделице» Моцарта, после его игры: «Какая глубина! Какая смелость и какая стройность! Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь; я знаю, я». Да, это он знает, и в известном смысле лучше, чем Моцарт, он слышит в нем долго жданного «херувима», приносящего ему «райские песни». О, сколько раз в часы творческого изнеможения он призывал к себе, в себя этого херувима, и теперь он пришел к нему, но в лице друга. Тот, кто так узнает и ценит гения, конечно, и сам причастен этой гениальности, но эта бессильная и бесплодная, безрадостная причастность тяжелым крестом тяготеет на его плечах, жжет его душу. Моцарт для него не Глюк и не Пиччини или иные «друзья, товарищи в искусстве дивном», это — друг единственный, встреча роковая и решительная. В дружбе к Моцарту Сальери надлежало обрести гениальность жизни, но дорогою ценою, ибо единственным путем здесь могло быть только столь навычное ему ранее самоотречение… Но достаточно было враждебно противопоставить себя тому, кого Сальери достоверно знал как свое высшее я…
МОЙ КОММЕНТАРИЙ.
Пушкин для того и сделал своего Сальери гениальным слушателем и ценителем, чтоб спровоцировать его на равновеликое противостояние гениальному композитору. В чем они могли противостоять как действительно равные? В идеологии, выражаемой одним и воспринимаемой другим. В противостоянии равных обнаружились изъяны сознания, мешающие вожделенному пушкинскому идеалу консенсуса исторически укорененных людей. А у Булгакова был, видимо, несколько другой идеал — консенсус не исторически укорененных людей, а внеисторических: «…в пьесе Пушкина мы имеем не историческую драму, но символическую; истинная тема его трагедии не музыка, не искусство и даже не творчество, но сама жизнь творцов, и притом не Моцарта или Сальери, но Моцарта и Сальери; художественному анализу здесь подвергается само это таинственное, вечное, «на небесах написанное» и, соединяющее неразрывным союзом». Поэтому для Булгакова Пушкин толковал об общечеловеческих ценностях на все времена, а именно о дружбе, причем не о ее психологии (психология исторична), а об ее онтологии (метафизическом размышлении о бытии): «Моцарт и Сальери трагедия о дружбе. Пушкин берет ее не в здоровье, но в болезни, ибо в болезненном состоянии нередко яснее проявляется природа вещей».
Если б Булгаков был прав, Пушкину не надо было б брать гениев: нормально или болезненно дружат и простые люди. Но раз Пушкин взял творцов высшего ранга (а это всегда исторически укорененные идеологи), то ясно, что на этот раз ему нужно было столкновение идеологическое, тем более, что такое — определяет столкновение миллионов, которые попроще, но, может, не меньше интересовали Пушкина в 1830‑м году.
Ну, а раз уж Булгакова занесло во внеисторизм, то, надо отдать ему должное, он блестяще обернулся, обнаружив (что оказалось не под силу многим) то, что помимо идеологии обеспечивало равенство в противостоянии Сальери Моцарту — черты гениальности Сальери.
Что удержало Булгакова задержать внимание на взаимоотношениях Сальери, — кроме как с Моцартом, — лишь с Глюком и Пиччини, не знаю. Может, то, что Пушкин вблизи и по разу употребил их имена, может, имея в виду, что Гайдн это «иные «друзья, товарищи в искусстве дивном», а может, интуиция вмешалась. Но Булгаков и тут попал в точку.
Глюк и примкнувший к нему Пиччини это для Пушкина символы близящейся революции и коллективизма, а не близкие Сальери по таланту композиторы. В Сальери гамлет, может, случайно, по молодости сальериевской, победил вертера в нем, когда Сальери встретился с музыкальной революцией Глюка. И тогда Сальери отрекся от себя:
… бросил… я все, что прежде знал, Что так любил, чему так жарко верил, И … пошел… бодро вслед за ним Безропотно, как тот, кто заблуждался И встречным послан в сторону иную…Уже то, что за годы и годы Сальери втянулся в музыкальное выражение героико–коллективистского идеала, одно то (а не только отрицательная гениальность, по Булгакову) могло его спровоцировать на противопоставление гениальному Моцарту (и не спровоцировало бы, — если допусти`м такой мысленный эксперимиент, — не спровоцировало бы Сальери противопоставить себя против тоже гениального — Бетховена, композитора, выразителя взрыва и социальной революции).
С Гайдном сложнее. Он фигурирует в трагедии и два раза, и каждый раз с добавкой «новый». И Булгаков о нем умолчал: он же не хотел разбираться в музыке.
И хорошо: не войдем с ним в контры.
*
ОТВЕЧАЕТ В. РЕЗНИКОВ (1976 г.).
Дело в том, что почему–то решили, что Сальери, в противоположность Моцарту, — «не гений», а либо — «ремесленник», либо — «посредственность», либо — «просто талант». Это повелось от смешения позднейшего значения слова «гений» с тем. которое придавал ему Пушкин. «Гением» стали называть лишь что–то высочайшее до невообразимости.
Пушкин же понимал под словом «гений» качество, но отнюдь не только его высочайшую степень. Ведь часто, говоря о «гении», Пушкин особо указывал и на «степень гениальности».
Например:
Конечно, беден гений мойили:
И, жертва темная, умрет мой слабый гений…А вот — пример из рассматриваемой пьесы:
…Когда бессмертный гений…Да и самый перечень деятелей, которых Пушкин называл «гениями», — подтверждает это. Среди тех, кому Пушкин присвоил это «титло», — Вергилий, Гораций, Тибулл, Овидий, Лукреций, Козлов, Жуковский, Державин, Вяземский, Дельвиг, Вольтер.
Сальери причастен к той же творческой стихии, что и Моцарт, — пусть в меньшей степени. Все признаки этой его причастности налицо. Уже с самого детства искусство доставляло ему горячую радость. Сальери знал «восторг и слезы вдохновенья». Именно к Сальери идет Моцарт со своими вновь написанными вещами; да и потом — он прямо говорит Сальери в их разговоре о Бомарше: «Он же гений. Как ты да я». А также и об упоминаемом произведении Сальери, опере «Тарар», Моцарт отзывается с явной похвалой.
Каких же еще доказательств гениальности (в пушкинском смысле) нам надо?
МОЙ КОММЕНТАРИЙ.
Прекрасно! Тем более, что то, к чему это, — снижение планки ”гений», — Резников приспосабливает, есть прямое подтверждение моего и прямой бунт против устоявшегося мнения: «гений и злодейство — вещи вполне совместимые. Ибо вот перед нами факт: Сальери гений, и Сальери — злодей».
Я бы не стал эти приемлемые для меня слова выделять курсивом, предназначенным у меня для того, с чем я более или менее спорю, если б Резников не побаивался распространять свое мнение и на гениев в нашем, современном смысле слова: «Гармония, попавшая в мир, отяжелевает, обрастает всевозможными враждебными ей и друг другу элементами, и — становится невольной участницей и косвенной виновницей всевозможных столкновений, неотъемлемых от мира».
В 1966 году вышла уже книга Натева «Искусство и общество», но и через 10 лет, и до сих пор наукой почему–то игнорируется открытие Натевым специфической функции искусства, ничему, кроме искусства, более не присущей. Вот она: непосредственное и непринужденное испытание сокровенного мироотношения человека с целью совершенствования человечества.
Вдумайтесь, несмотря на цель (совершенствование человечества) связь у искусства с добром очень непростая. Испытывая, кого–то (но не все человечество) можно и сломать! На то и испытание! Если взглянуть по–простецки, так даже похоже, что с нравственностью, с добром и злом у искусства мало общего.
Понятно, что такая теория неприемлема была при тоталитаризме. Однако в области эстетики, может, раньше, чем где бы то ни было, задолго до перестройки, началась антитоталитарная ересь. Что ж теории Натева не повезло? Не знаю. Она до сих пор не в ходу. А в 1976 году В. Резников лишь слегка коснулся того факта в пушкинской трагедии, что гений и злодейство «совместны».
1.4
ВОПРОС.
Зачем такое бунтарское начало трагедии?
ПРИМЕР.
С а л ь е р и Все говорят: нет правды на земле. Но правды нет — и выше.ОТВЕЧАЕТ Д. ДАРСКИЙ (1915 г.).
Сальери не хочет несправедливого Бога и не принимает им установленного миропорядка. Дела и заслуги человека — горящая любовь, усердье, самоотверженье — бессильны что–либо изменить в извечном предопределенье. В мире господствует голый произвол, бессмыслица или, может быть, что–то еще обиднее. Сальери стоит новым Гамлетом, для которого распались скрепы мира. Разрушена и наивная вера в нравственный миропорядок. Возврата к старому больше не было, приходилось вступать в неизведанное будущее, идти по бездорожью. Восстав против насилия небес, Сальери знает, что его борьба с Моцартом есть нечто большее, нежели вражда раздавленного честолюбия. Столкнулись два несогласимых, взаимно уничтожающих начала.
Что же это за искусство, которое спасти чувствует призванным себя Сальери? Из того, какие требования он предъявляет Моцарту и чего в нем не находит, мы имеем возможность сделать некоторые умозаключения. В противовес безумцу и праздному гуляке, насквозь сознательный и трудолюбивый Сальери намеревается основать искусство преемственное, объединенное традицией, методически подвигающееся вперед. Сальери помышляет об общине мятежников и завоевателей, дерзновенных строителей вавилонской башни, ведущих приступ неба. Они должны производить свою работу медленно и непрерывно, не допуская ни падений, ни чрезвычайных достижений. Для такого плана что пользы в Моцарте? Его чудесный дар не может войти звеном в состав совокупного труда, необоснованный гений не может быть связан с устойчивою дисциплиной, с движением всех. Как на непредвиденной удаче, на нем нельзя установить никакого расчета. Он бесполезен в общем деле.
МОЙ КОММЕНТАРИЙ.
Как это напоминает спор с эмигрировавшим из революционной России Дягилевым наркома просвещения этой России Луначарского:
«Спрашивается, что важнее в смысле судеб искусства и всечеловеческой культуры: хотя бы, например, факт, конечно, первого в мире посещения прошлогодней выставки АХРРа буквально сотнями тысяч красноармейцев, рабочих и крестьян или ежегодные дягилевские балеты, на которые собираются все те же десять тысяч блазированных трутней?»
Только не подумайте, что я усматриваю в Дарском симпатии к революции и коллективизму. Это у пушкинского Сальери были такие симпатии. А правда, как трава сквозь асфальт, — пробивается. Дарский — тот асфальт. Он исповедует «искусство для искусства»: «…различие между теми, кого Белинский назвал гением и талантом, не только в степени дарования: количественная неравномерность не есть качественная противоположность. Перед нами не две однородных натуры — только с неодинаковой одаренностью, но две взаимно исключающие духовные сущности, два антипода. Перед нами поэт и смертный». Будто смертный в момент восприятия искусства (настоящего восприятия) не является сотворцом, открывающим художественный смысл произведения. Ну, Дарский так не считает. Пусть. Тем ценнее получить кусочек истины от него: Сальери — за общее дело смертных, Моцарт — враг его.
1.5
ВОПРОС.
Почему у Моцарта в драме нет биографии, а у Сальери есть?
ПРИМЕР.
С а л ь е р и …Родился я с любовию к искусству; Ребенком будучи, когда высоко Звучал орган в старинной церкви нашей, Я слушал и заслушивался — слезы Невольные и сладкие текли. Отверг я рано праздные забавы; Науки, чуждые музыке, были Постылы мне…И так далее до конца монолога в конце первого действия. И то же — много биографического — во втором монологе.
ВОПРОС.
Почему в пьесе одно действующее лицо — Сальери (Моцарт лишь пассивное орудие небесных сил)?
ОТВЕЧАЕТ М. ГЕРШЕНЗОН (1919 г.).
У Пушкина немало произведений объективных; но лучшие его вещи глубоко автобиографичны, т. е. зачаты им в страстных думах о его собственной судьбе, когда его личное недоумение, созрев, открывалось ему как загадка универсальная. Такова маленькая гениальная драма о Моцарте и Сальери.
Пушкин сам был Моцартом, — в искусстве, — и он знал это; но во всем другом он был Сальери, — и это он тоже знал, это он мучительно чувствовал каждый день, потому что его жизнь была очень трудна. Конечно, дар песен — неоценимое богатство. Но почему же не были ему «суждены небом» и прочие дары? Другим — удача во всем и легкая жизнь, богатство, красота, успех у женщин: тоже сладкие дары и тоже данные даром. Что за произвол в раздаче и какая возмутительная, какая оскорбительная несправедливость! Но ведь он сам, Пушкин носитель такого же дарового дара? Да, — и тем хуже. Пушкин и свой дар рассматривал как частный случай общей несправедливости.
Так, мне кажется, родилась в нем идея «Моцарта и Сальери». Случайному или произвольному определению «неба» человеческое сознание противопоставляет свой закон, — закон справедливости. [А справедливость ведь идеал всех революций.] Пушкин, сам обязанный своим лучшим достоянием беспричинному выбору, выступает здесь адвокатом протестующего сознания. В мире царит Судьба; разум, восстав против нее, конечно, будет раздавлен, потому что Судьба всемогуща, но разум не может не восставать, в силу самой своей природы. Кто застигнут несправедливостью Судьбы, тот либо разобьет себе голову об стену, либо, как обыкновенно и делают люди, обманывает себя размышлением, что здесь — однократная случайность, и что поэтому, как только случайность исчезнет, все опять пойдет закономерно. Именно так рассуждает у Пушкина Сальери. Он слишком уверен в нормальности разумного порядка; всякий другой порядок бытия кажется ему настолько нелепым, что он просто не хочет допустить такой возможности; оттого он убивает не себя, а Моцарта, чтобы с устранением этой чудовищной аномалии восстановился правильный ход вещей.
Это действительно мировая трагедия. Трудно невыносимо человеку примириться с роком. В нашей жизни явно действует не один, а два закона: наши целесообразные усилия основаны на законе причинности, но наперекор им и ей в мире царит судьба, вмиг разрушающая и созидающая, произвольно дарящая и отнимающая. Какому же закону довериться? Сложить руки и ждать всего от судьбы или, наоборот, утвердиться в причинности разума и строить безоглядно?
Это гордое самоутверждение человека, этот бунт против неба Пушкин довел в Сальери до крайней черты, когда мятежное настроение, созрев, разражается действием, активным противодействием верховной силе — убиением ее посла. И Сальери, совершив поступок, содрогается; мы чувствуем, что он убил и самого себя. Иррациональное в нем самом, небесный состав его целостного духа возмущен узурпацией рассудка, и личность погибнет, не вынеся этого разлада.
Нелепо говорить о неправоте Сальери: он только близорук и непрактичен, он сам обрек себя на гибель. Но как же быть? Не создавать культуры самочинно и последовательно, а ждать посланцев свыше, ждать небесных даров? — Если бы мы даже решили так, нам невозможно прозябать в бездействии; не в нашей власти заглушить наш разум — он нудит нас творить. Культура неизбежна, культура законна; Пушкин никогда не отвергал ее по существу. Но он знал, что верховная власть принадлежит иррациональному началу, о чем на казнь себе и людям забыл Сальери.
МОЙ КОММЕНТАРИЙ.
Иными словами, Пушкин за то, чтоб сообразовать крайности. Но не так: половина на половину. А с перевесом в сторону Сальери. Ибо в 1830 году Пушкин уже вышел из точки бестенденциозного изучения действительности (нижний перегиб Синусоиды идеалов) с целью найти путь в лучшее будущее. Пушкин двинулся вверх по Синусоиде — по пути утопии о примате справедливости. Потому у него видимый перевес действий получил Сальери и потому же он — с биографией.
*
На тот же вопрос несколько иначе -
ОТВЕЧАЕТ Ст. РАССАДИН (1977 г.).
Путь Сальери — это путь таланта к посредственности. В момент, изображенный в трагедии, Сальери уже скопец, но именно уже. Он не был обделен природой, он сам себя оскопил. Мы знаем много, слишком много случаев, когда талант, вступив на путь насилия над самим собой, расплачивается бесплодием и бездарностью. Не является ли одной из причин тяжелейшего гоголевского кризиса (и, быть может, его важнейшей причиной) попытка художника подчинить свой вольный гений догмам?
Проблески моцартианства были в мальчике Сальери, — он сам погасил их в себе.
Я сделался ремесленник: перстам Придал послушную, сухую беглость И верность уху. Звуки умертвив, Музыку я разъял, как труп.Это словарь духовного [я выделил, чтоб оспорить] аскетизма: «сухую», «умертвив», «как труп». Даже свою комнату Сальери по–монашески [монахи — бездуховны?!.] назовет кельей.
Нередко, просидев в безмолвной келье Два, три дня, позабыв и сон и пищу, Вкусив восторг и слезы вдохновенья, Я жег свой труд и холодно смотрел, Как мысль моя и звуки, мной рожденны, Пылая, с легким дымом исчезали.Вот он — момент самооскопления. Уничтожаются плоды истинного вдохновения, стоившие слез (родственных тем, «невольным и сладким» слезам детства), уничтожаются звуки, «мной рожденны», собственные детища, и навсегда уходит способность рождать их. Воспоминание не эпично, оно еще сохраняет следы боли, которую испытывал Сальери во время этой мучительной операции. Ведь не «написаны», не «сочинены» — «рожденны».
И вот они–то — детища, своя плоть и кровь — «пылая, с легшим дымом исчезали». В эпитете «легкий» — нежность и горечь. То, что досталось и стоит так дорого, превращается в легкий дым. В невесомость. В дым.
Впрочем, на этом ощущение боли разом прерывается. Сына гармонии больше нет. Остался логик и алгебраист, остался скопец, перебирающий свои «алмазы, изумруды», перечисляющий успехи:
Усильным, напряженным постоянством Я наконец в искусстве безграничном Достигнул степени высокой. Слава Мне улыбнулась; я в сердцах людей Нашел созвучия своим созданьям.Только что, на наших глазах, Пушкин, несомненно, сочувствовал Сальери: ведь тот был еще творцом. Строка «пылая, с легким дымом исчезали» — это сострадание художника художнику. А в чеканном, мерном, самодовольном перечислении успехов нет и следа Пушкина.
[Ну, не совсем. А «в искусстве безграничном»!]
Дело сделано. Сальери теперь уже не носит в себе частички Моцарта. К уничтожению Моцарта он пришел через убийство проблесков моцартианства в самом себе.
Конечно, огромен путь от насилия над собственным талантом до насилия над жизнью Моцарта; настолько огромен, что его конец может показаться независимым от начала. Но «холодная» расправа с собственными рукописями — уже не первоначальная, а срединная веха на этом неотвратимом пути.
Живому, веселому, детски обаятельному Моцарту Сальери предназначил роль доказательства в системе собственных рассуждений. Моцарт должен погибнуть, ибо исторгнут этой системой.
Вот отчего так странно построена первая сцена трагедии — с откровенно, нескрываемо служебным появлением Моцарта (эпизод со срипачом доказывает перед Сальери тезис «гуляка праздный», эпизод с «вещицей» — тезис «гений»). Вот отчего и музыка гения служит главным образом для того, чтоб его игра отражалась на психологическом состоянии Сальери (Пушкин даже не позаботился о том, чтобы ремарка «Играет» совпадала хотя бы с концом стиха).
Несущая гибель мертвая логика Сальери осуждена самой поэтикой драмы.
Но она, эта логика, к тому же выдвинута вперед. Дана «крупным планом».
Сальери — стал человеком нормы, поэтому судьба его при всей исключительности (он дорастает до убийства, и кого — Моцарта!) имеет и характер нормативности. Его судьбой Пушкин испытывает всех, кто виновен в упорствующем непонимании…
МОЙ КОММЕНТАРИЙ.
Непонимании чего? — «Того, что выше их», — пишет Рассадин.
Нет! — Того, что ниже.
Сальери постепенно (тут Рассадин — можно согласиться — прав, как прав и в том, что конфликт трагедии был бы слишком замкнут внутри искусства, если б он, конфликт, был только конфликтом между классицизмом и его антагонистом), — Сальери постепенно пришел к крайностям нормативности, трактуемой широко. Зато и Синусоида идеалов есть сама постепенность, и иллюстрирует изменения не только в искусстве, но и в мировоззрениях разных людей. Нормативность начинает в одних довлеть, когда они объединяются. Когда объединяются против безобразий самовластных князьков — возникает абсолютизм. Когда это отражает искусство — возникает классицизм. Когда он ополчается против темноты Средневековья — он становится классицизмом просветительским. Когда его берут как знамя борцы против феодальной несправедливости вообще — он становится просветительским классицизмом второй волны. Когда антифеодальная революция победила и победителям–буржуям пора без феодальных помех заняться удовлетворением своего эгоизма (понятие это низкое), тогда отстающее от этого низкого бытия, т. е. оставшееся на взлете Синусоиды, политическое сознание (у якобинцев) продолжает углублять борьбу за равенство и доходит до тирании (вылет вверх с Синусоиды). И соответствующее искусство в своей нормативности посягает на манипулирование сознанием масс. (Пример из проекта праздника, составленный знаменитым Давидом: «Национальный Конвент, предшествуемый громкозвучной музыкой, показывается народу; председатель появляется на трибуне, воздвигнутой в центре амфитеатра; он объясняет мотивы, по которым устроен этот торжественный праздник [уже послушный народ придет, даже не зная, зачем собрали?]; он приглашает народ воздать почести создателю природы. Он говорит: народ должен [!] огласить воздух криками радости».) А если до революции еще не дошло, а сознание передового, авангардиста, ее жаждет и негодует на низость масс… Или если революция провалилась, а авангардист не хочет смириться: «Я знаю, я»… Истину… Правду… Норму…
Все это является — по отношению к идеологическим и иным противникам — непониманием не того, что выше, а того, что ниже.
Владей Рассадин инструментом «вылеты с Синусоиды идеалов», ему не пришлось бы нарекать низ верхом и помещать плохого Сальери вниз в компанию с плохим Ницше. И так как оба вылета аморальны — понятно, почему Рассадин это все–таки сделал: он правильно почуял, что Пушкина интересовало, как плохими становятся в общем хорошие люди. Рассадин любопытный эпиграф взял к своей статье:
— Усерден ли по службе? — Усерден. — Каковых способностей ума? — Хороших. — Каков в нравственности? — Аттестовался хорошим. — Каков в хозяйстве? — Хорош.Из «Кондуитного списка Кавалергардского ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА Полка Поручика Барона Дантеса Геккерена»
«Интересно состояние души, в которой не находится иммунитета и противоядия против преступления,” — пишет Рассадин о замысле Пушкина в трагедии «Моцарт и Сальери». Урнов бы ему еще и такой довод предложил: «Вспомним жанровое определение, которое Пушкин дал своим «маленьким трагедиям» — «Драматические изучения»…» То бишь — «Даешь бестенденциозность! Даешь науку!» Я еще похлеще подкину: последним в пробных названиях цикла стоит совсем наукообразное — в стиле немцев–ученых — «Опыт драматических изучений».
Но я же и возражу, может, самому Пушкину (впрочем, цикл как таковой не был опубликован при его жизни, и кто его знает, как бы Пушкин в конце концов распорядился). Так вот: не в посредственностях копался тут Пушкин, а в титанах, не бестенденциозность здесь, а начало утопии.
И коль скоро Пушкина начало опять тянуть вверх по Синусоиде идеалов, ему инстинктивно хотелось не повторить ошибок якобинцев, декабристов и художников, тяготевших к чему–то подобному в искусстве. Вот он и дал Сальери «крупным планом».
1.6
ВОПРОС.
Зачем Пушкин усложнил столкновение Моцарта и Сальери?
ПРИМЕР.
Сальери не только злодей, но и суровый, самоотверженный труженик, бескорыстно преданный искусству.
ОТВЕЧАЕТ Б. БУХШТАБ (1936 г.).
Можно ли утверждать, что среди стимулов к преступлению нет зависти? Нельзя. Но в столкновении Моцарта и Сальери есть и иные аспекты: это не только столкновение нового искусства со старым или гения с тружеником искусства, — это столкновение двух типов творчества: столкновение рассудочного художника, «поверяющего алгеброй гармонию», с вдохновенным «безумцем, озаряемым гением». Для Пушкина это столкновение в какой–то мере выражало борьбу классицизма и романтизма.
Такая смысловая многосложность трагедии: и зависть, и творческое неприятие — не дает возможность однозначно характеризовать ни героя, ни идею вещи. «Маленькие драмы» Пушкина — один из самых значительных этапов в развитии русского психологического реализма.
МОЙ КОММЕНТАРИЙ.
Я не думаю, что гении классицизма — Корнель и Расин — творили без вдохновения. Да и художники масштабом поменьше — тоже. Нет. Они вдохновлялись — рациональным в мире. И оттого от них веет рассудочностью, а не из–за бесталанности или негениальности. И их антагонисты, разочаровавшись в рационализме и разуме, тоже не отвергли форму (алгебру) напрочь. Иначе их произведения для нас были бы безумием. Но те и другие, встретившись в одном времени, друг с другом боролись, поскольку выражали разные идеалы. Однако и тут полярность их идеалов была не автоматической и абсолютной. C классицистами второй волны (например, с поздним Бомарше времен упомянутого Пушкиным «Тарара») мало о чем спорили бы представители русского так называемого гражданского романтизма (сам молодой Пушкин). Недаром последних иные называют классицистами и романтиками одновременно. Радищев (революционный сентименталист) с Бомарше «Тарара» тоже б мало спорил, если б встретился. Почему? — Это очень легко понять, вспомнив Синусоиду идеалов: и тот Бомарше, и Радищев, и молодой Пушкин — на восходящих дугах Синусоиды (являющихся продолжением нисходящих дуг искусства Просвещения, сентиментализма и романтизма).
Романтизм, конечно, возник как нисходящая дуга, как разочарование в коллективизме и нравственности, в разумности и добре мира, романтизм родился как упор на «я». И Моцарт к нему действительно близок. Но Моцарт все же умер до возникновения романтизма. Тогда как при Моцарте был предромантизм (со своей нисходящей дугой). Так что Бухштаб лишь немного неточен со своей мыслью о противостоянии в «Моцарте и Сальери» романтизма вообще классицизму вообще. На самом деле тут вражда одного из видов предромантизма одному из видов классицизма.
Другое дело, что, конечно, не поспоришь c целью введения Пушкиным многоаспектности в конфликт: во имя реализма.
Зато реализм–то бывает разный.
1.7
ВОПРОС.
Почему маленькие трагедии коротки?
ОТВЕЧАЕТ И. АЛЬТМАН (1937 г.).
Они представляют как бы финал больших драм, разыгравшихся ранее. В «Моцарте и Сальери» подводится итог каким–то идейным конфликтам. Ошибочные намерения ряда главных героев пьес — вот причина, вызывающая неизбежную … гибель их.
МОЙ КОММЕНТАРИЙ.
Это хронологически первое прямое упоминание об идейном конфликте и о заблуждении как стержнях трагедии, и я не мог его не привести здесь. Мысль очень здравая веет у Альтмана: нечто огромное прячется под небольшой видимой частью данного айсберга. Музыковедческий и идеологический подход, вы видели, это подтверждает. Но сам Альтман оказался не на уровне своей заявки: «Утверждали и продолжают утверждать, что зависть — основная тема в «Моцарте и Сальери». Как можно было не заметить, что речь здесь идет о вековом споре между творчеством и ремеслом?» Судите сами: разве это идейный конфликт? И в мнении ли о роли ремесла, всего лишь «подножия искусству» (так именуемого самим Сальери), заключается заблуждение?
1.8
ВОПРОС.
Почему Пушкин не оставил одно из начальных заглавий — «Зависть» — и такие проникновенные слова против зависти вложил в уста Сальери?
ПРИМЕР.
Кто скажет, чтоб Сальери гордый был Когда–нибудь завистником презренным, Змеей, людьми растоптанною, вживе Песок и пыль грызущую бессильно?ОТВЕЧАЕТ М. ЗАГОРСКИЙ (1940 г.).
Сальери не знал чувства зависти. Почему? Да потому, что все успехи его друзей и врагов в такой же степени «законны», как и его собственные, — все они добыты ценою «трудов, усердия», лишь в трудной борьбе с «ремеслом», которое и является единственным «подножием искусству» для них. Не таков Моцарт, чья гениальность, «как беззаконная комета», явилась «в кругу расчисленном светил». Именно так ощущает его гений Сальери. Обвинение его Моцарту очень серьезно:
Что пользы в нем? Как некий херувим, Он несколько занес нам песен райских, Чтоб, возмутив бескрылое желанье В нас, чадах праха, после улететь.Вот основной грех Моцарта перед искусством, по мнению Сальери. Там, где некое чудо, небесное озарение, сверхъестественное явление, дар свыше, — там нет искусства. Такой гений не имеет «наследника», не «подымает», не двигает, не совершенствует то, что Сальери дороже жизни, — «одну музыку».
Ключ к пониманию Моцарта дает сам Сальери, рассказывая о себе:
Отверг я рано праздные забавы; Науки, чуждые музыке, были Постылы мне; упрямо и надменно От них отрекся я и предался Одной музыке…Вот основной грех Сальери. Не в зависти, не в том, что «ремесло» поставил он «подножием искусству». Без ремесла был бы немыслим и Моцарт, родившийся в семье музыканта–профессионала, обучавшего своего сына длительно и настойчиво всей алгебре музыкального искусства. Поверить «алгеброй гармонию» обязан каждый музыкант — иначе перед нами было бы лишь нагромождение звуков. Для Пушкина, писавшего о том, что «вдохновение необходимо в геометрии, как и в поэзии», не было ничего противоестественного в этом соседстве «алгебры» и «гармонии». Нет, не в этом повинен Сальери, а в том, что замкнулся в этом мире звуков, что он стал отшельником и «жрецом», что он отверг жизнь, «забавы» и даже «науки, чуждые музыке», все, все, кроме служения своему богу звуков. Но это смерть для подлинного художника и музыканта. Отвергнуть «науки, чуждые музыке», это значит оторвать художника от мира идей и знаний всего человечества и превратить его по существу в узкого схоласта.
МОЙ КОММЕНТАРИЙ.
Это Загорский очень точно заметил насчет оторванности Сальери от жизни. Многие отмечали превалирование в искусстве рассудка, сознания в революционные годы. Вот — Кожинов:
«…прозе первой четверти [XX] века… свойственна особенная реальность художественного языка, которая в известной степени существует даже независимо от содержания. Одной из основных причин возникновения и развития этого особого языка является небывалая осознанность работы над речью, характерная для данного времени… Невиданное ранее распространение и роль играют разного рода манифесты, в которых совершенно точно указываются «необходимые» для подлинной художественности качества речи — например, сложный параллелизм в семантике и утонченная звукопись (символизм), творчество «зауми», «самовитого слова» (футуризм), сложная и непрерывная цепь тропов (имажинизм) и т. п.»
А ведь первая четверть ХХ века это революционные годы.
Вот более ранний автор — Плеханов:
«Давид сам признавал, что у него преобладает рассудочность. Но рассудочность была самой выдающейся чертой всех представителей тогдашнего освободительного движения. И не только тогдашнего, — рассудочность встречает широкое поле для своего развития и широко развивается у всех цивилизованных народов, переживающих эпоху перелома, когда старый общественный порядок клонится к упадку и когда представители новых общественных стремлений подвергают его своей критике… Рассудочность является плодом борьбы нового со старым, и она же служит ее орудием. Рассудочность свойственна была также всем великим якобинцам».
Вот — пересказ из рассуждений Константина Леонтьева о грядущем социализме:
«Прогресс! Никогда у человека не было так мало шансов понять себя. Беда не во врагах монархии, а в том, что верх над жизнью берет проект».
Так что спасибо Загорскому за его верное наблюдение про оторванность Сальери от жизни. Ну, а то, что он совсем отверг в Сальери зависть и не догадался, что та была–таки, но была неверным ходом мысли пушкинского Сальери в этой трагедии заблуждений… Тоже спасибо: не лишил меня приоритета.
Так думал я, но вынужден поправиться, наткнувшись на работу В. Резникова. Относительно лжезависти он у меня приоритет отнял (см. со следующей строки).
*
ВОПРОС.
Зачем Пушкин сделал Сальери и независтливым и признающимся в зависти?
ОТВЕЧАЕТ В. РЕЗНИКОВ (1976 г.).
Нет, никогда я зависти не знал, О, никогда! — ниже когда Пиччини Пленить сумел слух диких парижан, Ниже когда услышал в первый раз Я Ифигении начальны звуки.Сальери почувствовал зависть впервые, а значит, — дело вовсе не в его завистливости. Чувство зависти явилось только первоощущением другого состояния [выделено мною]: состояния потери равновесия из–за нарушения одного из усвоенных им законов жизни.
Сущность этого закона можно выразить формулой: «АÞВ», где под «А» подразумеваются затраченные труды, под «В» — полученное вознаграждение. Определенному количеству трудов соответствовала определенная доля и радости творчества, и сочувствия людей. Короче говоря, вполне соблюдался принцип «каждому по его труду». «АÞВ». Следовательно, «2АÞ2В», «3АÞ3В» и так далее. Пусть хоть «10В», — лишь бы сначала «10А», — и жизнь Сальери текла бы спокойно и счастливо…
Как вдруг он встретил «В», умноженное на 10, 20 или еще больше, и — что самое ужасное — при полном видимом отсутствии «А».
МОЙ КОММЕНТАРИЙ.
В 1976 году В. Резников не мог напечатать в тоталитарном социалистическом государстве мысль, что именно вследствие непомерной привязанности Сальери к социалистическому принципу «каждому — по труду» он и стал злодеем. Но думал, пока писал, что сможет. И пытался обмануть, может, сам себя: «В Сальери даже не то удивительно, что он не смог вместить феномен Моцарта, а — то, с какой бескомромиссностью он против него восстал! Едва он столкнулся с нарушением частной правды… и прямо–таки с фантастической самоуверенностью движется к цели: восстановить попранную «правду».
Пушкин свою трагедию писал тоже не в условиях свободы слова. Но ему было легче. Еще и потому легче, что он своего Сальери вывел в пору николаевской реакции в пику революционерам, которые — так уж у них водится — не могут избегнуть крайностей.
Надо только суметь увидеть в Сальери образ революционера. То, что он и признается в завистливости и не является завистником, должно наводить на иной, на принципиально–идейный разлад с Моцартом. И В. Резников увидеть это смог. Здесь не важно, что он не сумел (или не хотел) об увиденном со всей ясностью написать.
Ну, а введение им термина «первоощущение» для ощущения зависти у Сальери — это прямое подтверждение мысли, что перед нами трагедия недопонимания.
1.9
ВОПРОС.
Зачем Пушкин заставил своего Моцарта хорошо отнестись к слепому скрипачу?
ПРИМЕР.
М о ц а р т Постой же: вот тебе, Пей за мое здоровье.ОТВЕЧАЕТ Д. Д. БЛАГОЙ (1967 г.).
Пушкина пленяет эта черта Моцарта. Для него она признак подлинности его гения, ибо гений вообще по самой своей природе «простодушен». В послании к Гнедичу, написанному два года спустя, в 1932 году, Пушкин также подчеркивает это. Истинный поэт подымается на вершины искусства, но вместе с тем ему близки все проявления жизни, все голоса земли. Его слух, привыкший к «грому небес», способен любовно внимать и «жужжанью пчел над розой алой», скучать «на пышных играх Мельпомены» и «улыбаться забаве площадной и вольности лубочной сцены». «Таков прямой поэт», — заявляет Пушкин. Таким был Моцарт.
МОЙ КОММЕНТАРИЙ.
В чем–то можно согласиться с Благим. В чем?
Художники плохо относятся к своим коллегам, если те исповедуют идеалы, на Синусоиде идеалов далеко отстоящие друг от друга. И хорошо — если недалеко.
И вот скажите: вылет вниз с Синусоиды далеко отстоит от ее собственно низа? — И нет, и да. И там, и там — индивидуализм. Следовательно — близко. А с другой стороны, крайний индивидуализм «вылета вниз» изрядно отличается от просто индивидуализма «низа». И художник, приемлющий и то, и другое, кажется довольно широким. Таков пушкинский Моцарт да и сам Пушкин начала тридцатых годов, лишь чуть двинувшийся на Синусоиде идеалов вверх от самого ее низа.
Обратимся теперь к привлеченному Благим стихотворению — «Гнедичу». Гнедич — переводчик «Илиады» Гомера. Об этом — в стихотворении. А идеал Гомера (мы помним по первому разделу и еще убедимся во втором) — на вылете вниз с Синусоиды, идеал сверхчеловеков: боги, герои, которым море по колено и все дозволено. Вживаясь в Гомера, Гнедич, конечно же, как бы пропитался им. И этот идеал субъективно кажется высоким относительно того, что могут себе позволить людишки. Отсюда — «гром небес» «с таинственных вершин», «пророк», «скрижали» и т. п. И отсюда же — другой как бы полюс: «тень долины малой», «жужжанье пчел над розой алой». Есть и на самом деле другой полюс — «на пышных играх Мельпомены». Мельпомена — муза трагедии. А трагедия это все–таки не от Гомера, там другие идеалы. Совсем другие. Так что — по Пушкину — там делает вжившийся в Гомера поэт, Гнедич? — «Он сетует душой». Такого нюанса не замечает Благой. Ведь поэт показан совсем не абсолютно всеядным. Как факт: людишки на своем уровне, по мере возможности тоже тяготеют к разнузданности «в безумстве суетного пира, поющих буйну песнь», а поэт «улыбается». И не чему попало, а — «забаве площадной и вольности лубочной сцены». Достаточно низкому.
Убедитесь во всем сами:
С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожидали, И светел ты сошел с таинственных вершин И вынес нам свои скрижали. И что ж? ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве суетного пира, Поющих буйну песнь и скачущих кругом От нас созданного кумира. Смутились мы, твоих чуждаяся лучей. В порыве гнева и печали Ты проклял ли, пророк, бессмысленных детей, Разбил ли ты свои скрижали? О, ты не проклял нас. Ты любишь с высоты Скрываться в тень долины малой, Ты любишь гром небес, но также внемлешь ты Жужжанью пчел над розой алой. Таков прямой поэт. Он сетует душой На пышных играх Мельпомены, И улыбается забаве площадной И вольности лубочной сцены, То Рим его зовет, то гордый Илион, То скалы старца Оссиана, И с дивной легкостью меж тем летает он Вослед Бовы и Еруслана.Вот так же и пушкинский Моцарт со слепым скрипачом. В них есть идейное родство: гуляки. Но все–таки широк Моцарт: по–доброму посмеяться готов над распространением этой идеологии — и в королевской опере, и в трактире. Широк.
1.10
ВОПРОС.
Зачем Пушкин сделал своего Сальери аскетом?
ПРИМЕР.
С а л ь е р и …Отверг я рано праздные забавы… … … … … … … … …мало жизнь люблю.ОТВЕЧАЕТ В. СОЛОВЬЕВ (1974 г.).
Его аскетизм это не эгоистическая и не альтруистическая, но скорее идеологическая жертва. Он жертвует собой ради идеи. И он знает цену своей жертве, поэтому жертвуя Моцартом, он совершает жертвоприношение уже во второй раз.
МОЙ КОММЕНТАРИЙ.
Я согласен, что аскетизм у Сальери ради идеи. Только разве может быть аскетизм эгоистическим?
Эгоизм находится на полюсе парных оппозиций идеалов, он в самом низу нижнего перегиба Синусоиды идеалов. И сродство имеет с жизнелюбием. А самоотверженность — само–отверженность — находится на противоположном полюсе: там, где альтруизм и коллективизм.
Другое дело, что есть вылет с Синусоиды вниз, в суперэгоизм, в сверхчеловеческое и т. п.
И еще иное дело, что человек с, так сказать, нижнего перегиба Синусоиды для исповедующих идеалы, соответствующие любой другой точке Синусоиды, представляется самым безыдейным. Самый злой сатанист выглядит идейным по сравнению с обыкновенным эгоистом, которого сатанист назовет животным и будет почти прав. Сатанист, сверхчеловек, суперэгоист и с собой может покончить ради идеи (Вертер, герои Оссиана), а простой эгоист — никогда.
И Соловьев, наверно, близко к сатанистам и хочет поместить Сальери: «Достоевский в «Бесах» дал вариант этой сверхчеловеческой воли в Кириллове; интересно, что философское самоубийство Кириллова приводит к гнусному убийству Шатова. Взаимосвязь эта дана и у Пушкина, но в одном герое, потому что Сальери — самоубийца не только потенциальный, осьмнадцать лет носящий с собой яд — «последний дар моей Изоры», но и всамделишный, реальный самоубийца. Первое убийство Сальери совершено давно: «Звуки умертвив, музыку я разъял, как труп». Первое убийство — убийство музыки, второе, как следствие, — убийство себя, потому что Сальери убил в себе музыку; и третье — убийство Моцарта».
А ведь против кого Достоевский написал «Бесов» и вывел там таких отрицательных героев, как Кириллов? — Против социалистов. (В средней школе при социализме за то Достоевский одно время даже был исключен из программы обучения литературе.) Достоевский сам был социалистом. И его за то сослали. Не из–за ссылки, не из страха — но Достоевский разочаровался в мирском, так сказать, социализме. Разочаровался — ради другого очарования: христианского социализма. И какие бы угрызения совести по отношению к бывшим братьям по борьбе его ни мучили, ему хотелось своих новых врагов поместить как можно дальше от Бога. Ну так кто же дальше от Бога, чем бесы?
Но ведь, трезвее глядя, ингуманисты от коллективизма разве не лучше бы ему пригодились — те, чьи идеалы — на вылете вверх с Синусоиды?
Для Соловьева в 1974 году, как и для Достоевского, наверно тоже еще не наступили трезвые времена. Но то, что за аскетизм Соловьев сравнил Сальери с социалистами Достоевского, — для меня очень ценно. Не я первый, не я один…
Есть еще одно извинение для смешивающего суперэгоистов со сверхколлективистами: те иногда в мгновение превращаются один в другого и наоборот (как Вертер — помните? — перед самоубийством). Но аналитик должен же понимать, что тут действует правило «крайности — сходятся» и делать ударение на «крайностях», а не — не различать бесов суперэгоизма от экстремистского социалиста Кириллова и якобинца от музыки пушкинского Сальери.
1.11
ВОПРОС.
Зачем Пушкин применил слово «херувим» в сальериевской характеристике Моцарта?
ВОПРОС.
Зачем в трактире слепой музыкант играет арию «voi she sapete»?
ОТВЕЧАЕТ ВОЛЬПЕРТ А. И. (1977 г.).
Есть глубокая закономерность в том, казалось бы, незначительном факте, что из всего богатства мировой оперы Пушкин выбрал для исполнения трактирным скрипачом именно знаменитую канцону Керубино «voi she sapete». Тут отражен и демократизм творчества Моцарта, произведения которого знает народ, и близость образа Керубино человеческому облику Моцарта (а также Бомарше и Пушкина). Отзвук этой характеристики слышится в сетовании Сальери: гениальность дается «не в награду… трудов»,
А озаряет голову безумца, Гуляки праздного.По французски слово «Керубино» означает также «херувим» («cherubin»), и в восприятии Сальери образ легкомысленного мальчишки–пажа ассоциируется с этим значением его имени и отбрасывает отблеск на обоих своих создателей (Моцарта и Бомарше).
МОЙ КОММЕНТАРИЙ.
Нужно очень немного, чтоб подвести легкомыслие под философию героического гедонизма: ”все дозволено и дела нет до других». И Пушкин исповедовал–таки его. Только не болдинской осенью 1830 года, когда сватался к Наталье Николаевне.
Есть любопытная статья Лесскиса “«Каменный гость» (трагедия гедонизма)», трактующая эту маленькую трагедию с биографической точки зрения: ею, мол, Пушкин настраивался на семейную жизнь и супружескую верность (что не противоречит, кстати, эволюции его идеала к консенсусу и подведению черты под его донжуанским списком, отражающим, согласитесь, скорее победы над женщинами, чем гармонию с ними).
*
На тот же вопрос -
ОТВЕЧАЕТ Марина НОВИКОВА (1980 г.).
Дон Жуанов мотив звучит в судьбе Моцарта не единожды. Ария первая отсылает нас к известной пьесе Бомарше. В этой пьесе «сюжет Дон Жуана» распределен на двоих. Эротическая тема отдана графу Альмавиве; тема игры с судьбой поручена Фигаро. Мы привыкли к социологическому пониманию пьесы: умный, талантливый, предприимчивый герой третьего сословия торжествует над самодуром–феодалом. Но в истории культуры плут–пикаро, «человек ниоткуда», играющий наудачу хоть с дьяволом [выделено мною], «делающий» судьбу собственными руками, безотносительно к (а чаще — вопреки) устоявшимся канонам [выделено мною], — фигура далеко не безоблачная [выделено мною]. Мировоззренчески культурно–исторический плебей пикаро и аристократ Дон Жуан — братья. Оба родились на излете Средневековья, когда «время вышло из суставов» (В. Шекспир) и «на турнир» всемирной истории начал ломиться герой–индивидуалист [выделено мною].
МОЙ КОММЕНТАРИЙ.
Он и не нужен был бы (ввиду полного моего согласия), если б не противопоставление Новиковой «социологического понимания»… Чему? По цитате выходит — «истории культуры», словосочетанию «мировоззренчески» с «культурно–исторический». В своей работе, имея в виду эти, совсем не мистические огромности, Новикова называет их «надличным», «внепсихологическим», что еще привычно социологическому пониманию. Но чаще она говорит: «неба содроганье», «космический», «небесный», «верхний сюжет». Коль я признаю, что Пушкин переходил к утопизму в своем реализме, то, может, и не стоило б слишком возражать: Пушкину, может, такая огромность, как «небо», было ближе, чем «социологическое». Но все–таки, раз Пушкин отмежевывался от явного мистицизма демонического Моцарта, то не хочется на его утопизме делать мистический акцент (тем более, что такой акцент может перекочевать — а у Новиковой и перекочевывает — и на Cальери); смотрите продолжение цитаты (где, кстати, очень и очень привлечена мистика для ответа на все тот же вопрос: зачем именно эта ария вписана Пушкиным). «Да и Ария… выбрана непростая. «Вы, которые знаете…» — так переводится с итальянского ее начальная фраза, процитированная Моцартом. Слепой Скрипач обращается к зрячим, к «тем, кто знает», — тем язвительней и двусмысленней эта фраза. В том–то и беда, что слушатели Скрипача не знают истинного смысла проиходящего. Играя судьбой, они (подобно Дон Жуану) не ведают, что творят и какие силы накликают».
Выделенное не мною «не знают» отличается от моей гипотезы о «трагедии недопонимания друг друга и себя». Мое «не знают» — психологическое, земное. Из него вырастает огромность — утопия, идеал знания.
1.12
ВОПРОС.
Почему Пушкин не указал, какую именно арию из «Дон — Жуана» играет слепой скрипач?
ОТВЕЧАЕТ Б. А. КАЦ (1979 г.).
Прежде чем этот вопрос привлек внимание исследователей, его пришлось практически решать постановщикам и музыкальным оформителям первых театральных представлений [в 1832 году] (об их решениях нам ничего не известно). В своей опере «Моцарт и Сальери» Римский — Корсаков выбрал арию Церлины «Batto, batto…».
Очевидно, что при выборе решающую роль играли два критерия: популярность арии и ее исполнимость на скрипке соло. Однако, не нанося никакого ущерба представлениям о высокой музыкальности Пушкина, можно предположить, что, упоминая об арии из «Дон Жуана», он менее всего был озабочен проблемами инструментоведения. Мысль о неисполнимости той или иной арии на скрипке могла просто не приходить поэту в голову. Что же касается популярности, то и тут, думается, речь должна идти не о вообще популярной арии, но о такой популярной арии, которая чем–либо могла особенно заинтересовать лично его, Пушкина.
Если поставить вопрос в таком плане, то, видимо, из всех арий моцартовского «Дон Жуана» первым претендентом на место, указанное в ремарке, окажется знаменитая ария Лепорелло «Madamina, il catalogo e` questo», так называемая «ария списка», как бы ни было трудно представить ее звучание в сольном скрипичном исполнении.
Как известно, след, оставленный этой арией в биографии Пушкина, достаточно заметен: напомним о «донжуанском списке».
Но, пожалуй, самое любопытное — это то, что в конце «арии списка» звучат слова, весьма близкие к арии Керубино «Voi che sapete» (дословно: «Вы, что знаете…» — начало фразы «Вы, знающие, что такое любовь»). Представив доне Эльвире список побед своего хозяина и исчерпывающе осветив универсальность его вкусов, Лепорелло не без издевательского сочувствия заключает: «Voi sapete quel che fa`” (дословно: «Вы знаете то, что [он] делает»).
Есть ряд оснований полагать, что из всей арии Лепорелло именно эти слова могли остаться в памяти Пушкина. Слова «Voi sapete quel che fa`” на коротком отрезке звучания (24 такта) повторяются шесть раз. Подчеркнем, что речь идет о конце арии и о кадансирующих построениях, т. е. о моментах, которые, по данным исследователей музыкального восприятия, наиболее прочно, даже по сравнению с начальными фрагментами, удерживаются слуховой памятью.
Если Пушкин, вписывая ремарку об арии из «Дон Жуана», действительно имел в виду арию Лепорелло, то становится ясным, почему он не уточнил, какую именно арию из «Дон Жуана» играет слепой скрипач. Написав «voi che sapete» вместо «voi sapete quel che fa`”, он мог думать, что ария уже указана. [Дело в том, что чуть раньше у Каца дебатировалось, ошибся ли Пушкин, написав «voi che sapete» — начало ариетты Керубино из оперы Моцарта «Свадьба Фигаро»: «если верить Т. Н. Ливановой, первое документально подтвержденное исполнение «Свадьбы Фигаро» в России состоялось лишь в сезоне 1836–37 г.» — или не ошибся, учитывая, что «указания на более ранние спектакли, на которых мог бывать Пушкин, основаны на косвенных данных», а также учитывая, что Пушкин о «Свадьбе Фигаро» «мог иметь смутное представление по отдельным номерам, слышанным в домашних концертах (наиболее вероятно — в доме М. Ю. Виельгорского)». А при такой неопределенности Кац продолжает.]
Если же ошибки не было и пушкинский Моцарт слушал в трактире мелодию из «Свадьбы Фигаро», то также не исключено, что близость текстов начала канцоны Керубино и конца арии Лепорелло могла быть подсознательным стимулом к выбору именно этих номеров.
МОЙ КОММЕНТАРИЙ.
А если обратить внимание, что «ария списка» и ассоциации с ариеттой одинаковы в смысле выражения крайнего индивидуалистического идеала, то я от своей версии (мол, «Чтобы кипела кровь горячее…») отказываюсь, ибо ничего не проигрываю по сути. Тем более, что Кац кончает такими словами:
«…как бы ни было интересно решение вопроса о пушкинской ошибке, гораздо существеннее то, что данная неясность проливает свет на восприятие Пушкиным творчества Моцарта в целом. Известная небрежность Пушкина в упоминании моцартовских текстов (какую арию из «Дон Жуана» играет скрипач, какой отрывок из «Реквиема» и какую фортепьянную пьесу играет Моцарт?) говорит, на наш взгляд, не о поверхностности, но об отношении к моцартовскому творчеству как к целостному, не дифференцирующемуся внутри себя явлению. Пушкину важна прежде всего та совокупность эстетических признаков, которая определяется именем Моцарт. Творчество Моцарта для Пушкина — не столько корпус текстов, сколько единый текст, фрагменты которого — в принципе — равнозначны. Любопытно, что именно таким отношением к собственному творчеству наделяет Пушкин самого Моцарта, заставляя того воскликнуть: «Из Моцарта нам что–нибудь!». Вряд ли Моцарт желает при этом похвастаться перед Сальери многочисленностью своих сочинений в репертуаре уличных музыкантов. Скорее здесь зафиксировано восприятие автором своего творчества как некоего пусть разнообразного, но — в принципе — одного и того же, все время развертывающегося текста».
Я б только добавил, что Моцарт един и идеологически (если признать, что музыка имеет связь с идеалом).
1.13
ВОПРОС.
Зачем Пушкин ввел событийную неопределенность в кульминацию трагедии, а не ввел слова типа «незаметно», «украдкой»?
ПРИМЕР.
(Бросает яд в стакан Моцарта.)Как бросает? — Что украдкой — ниоткуда не следует, кроме как от стереотипной установки читателя.
ОТВЕЧАЕТ Ю. Н. ЧУМАКОВ (1979 г.)
Нельзя ли предположить, что перед нами не замаскированное злодейство, а откровенно демонстративный, открытый акт, что яд брошен в стакан прямо на глазах Моцарта? Такое понимание кульминации предложено ленинградским режиссером Н. В. Беляком.
Попробуем дополнить «воображением скупые ремарки поэта». Мы узнаем, что яд не «опущен», не «всыпан», а именно «брошен», то есть, видимо, произведен достаточно резкий и быстрый жест. К тому же в нем чувствуется — и скорее всего, прошло в творящем сознании Пушкина — нечто вроде вызова, сделанного Сальери, так как чуть позже Моцарт отвечает ему на этот жест («бросает салфетку на стол»), как бы подтверждая, что вызов принят. Слова же Моцарта, произнесенные вслед за жестом, «Довольно, сыт я», вводят убийственный для Сальери контрпоступок — исполнение реквиема [отпевание себя]. Налицо остро драматическое столкновение двух друзей. Теперь сцена отравления Моцарта перестает быть замаскированной и предательской расправой с беззащитным, доверчивым человеком, превращаясь в острейший и рискованный психологический поединок, в котором герои, одержимые демоническим [выделено мною] вдохновением, бросают дерзкий вызов друг другу и судьбе. Здесь очень важно, что оба друга–врага вступают в борьбу на равных основаниях, чем заодно выполняется и закон драматургической сценичности, предполагающий откровенное схлестывание двух воль, открытую трагическую игру, характерную для всех четырех пьес.
Попробуем хотя бы приблизительно эксплицировать содержание потока сознания, текущего за произносимыми словами персонажей, будь они живыми людьми. В глубокой тени слов Моцарта о несовместимости гения и злодейства маскируется неосознанное стремление отвести от себя предчувствуемую беду, но одновременно ставятся все точки над «и», провоцирующие Сальери на роковой поступок. Отводя, провоцировать — в этом есть манифестация судьбы, иронии, игры. Представим теперь состояние Сальери в этот момент. С одной стороны, замешательство, что он раскрыт, с другой — узнав, что предчувствие Моцартом смерти, которое проходит через обе сцены, направлено на него, Сальери убеждается, что именно он избран, чтобы «остановить» Моцарта. Замыкание этих противоборствующих мотивов приводит Сальери к импульсивному и дерзкому жесту. Произнеся «Ты думаешь?», он «бросает яд в стакан Моцарта» и предлагает ему выпить. Жест открытый и непредумышленный, содержащий игровой момент.
Психологической подкладкой поступка Сальери может быть следующее: «Ты сказал, что я гений, но вот я бросаю в стакан яд или разыгрываю тебя, а ты должен, если настаиваешь на своей правоте, выпить его. Если ты выпьешь, ты прав, но прав и я, потому что совершаю не злодейство, а выполняю свое предназначение, к тому же, может быть, помогая тебе, твоим тайным влечениям. Пей, докажи свою веру!» Все это и есть прямое столкновение, но не такая ситуация, при которой один нападает, а другой не подозревает о нападении. Здесь и порыв демонического [выделено мной] вдохновения, азарт без расчета, риск без учета последствий — одним словом, трагическая игра. Моцарт принимает ее условия. Веря и не веря, может быть, содрогаясь внутри себя или бравируя возможной опасностью, точно зная на самой глубине своего тайноведения, что пьет яд, Моцарт спокойно произносит здравицу другу, славит их союз сыновей гармонии и без малейшего промедления пьет стакан до дна. «Да, я пью, — как бы говорит он, — потому что верю тебе. Ты гений и ты друг, ты не можешь бросить яда, хотя и бросил что–то, не можешь совершить злодейства. Я пренебрегаю необъяснимым коварством, я почему–то чувствую смертельный риск, но я выпью, не показывая тебе своих сомнений…»
В новой версии Сальери уже не выглядит только рассудочным доктринером, холодным и расчетливым логиком. Конечно, в нем сколько угодно рационализма, но… [и] «вдохновения, порою как бы демонического» (Пиотровский). Для больщинства современных исследователей страстность Сальери самоочевидна. Так, О. Фельдман, говоря о Моцарте, Сальери и вообще обо всем цикле, отмечает «поведение героев, охваченных пламенем страстей, в которых осознанное неотделимо от безотчетного». Разумеется, это относится и к Моцарту, каким бы простодушным и ребячливым он ни казался. Его демоническое [выделено мною] «происхождение» (Альтман) отмечал еще Гете, и вполне возможно, что этот аспект был для Пушкина не таким уж неожиданным. В то же время демонизм обоих [выделено мной] героев вовсе не делает их похожими. [Не дожидаясь своего подробного комментария, лучше здесь напомню: Моцарт — на супериндивидуалистическом вылете вниз c Синусоиды идеалов, отсюда — демонизм; Сальери — на ингуманистически–коллективистском вылете вверх с Синусоиды идеалов; отсюда — фанатизм, то есть тоже некий демонизм.] Любая общая черта лишь более высвечивает их непохожесть и несовместимость.
Конфликт драмы просматривается и на онтологическом метауровне. Безотчетное стремление к самоуничтожению… Все то, что предшествовало эпизоду в трактире Золотого Льва: томление, беспокойство, мрачные видения — могло быть знаком какого–то глубокого внутреннего кризиса, и тогда мысль Сальери о дружеском обеде могла быть внушена рассказом Моцарта о своей пьесе, сочиненной во время бессонницы. Весьма характерно, что после того, как яд принят, Моцарт испытывает чувство облегчения, катарсиса, даже вдохновения. То же с Сальери до ухода Моцарта. Что бывает причиной подобного рода кризисов в жизни художника, сказать нелегко. Замечено лишь, что «на полпути земного бытия», то есть, по Данту, в возрасте сразу после тридцати пяти лет, творческая натура бывает охвачена чувством исчерпанности, усталости, конца. Возможно, что это какой–то возрастной перепад, переживание, когда ощущаешь конец не процесса, а мира. Пройдешь это, и окажется, что сорокалетним снова принадлежит мир, но до этого еще надо дожить. Примеров слишком много, чтобы их перечислять, и разве не постигло нечто похожее через шесть лет самого автора «Моцарта и Сальери»?
Мы теперь можем подвести некоторые итоги. Новая версия вполне соответствует пушкинской поэтике и значительно расширяет смысл трагедии. Однако в нашу задачу вовсе не входила отмена традиционной версии и призыв читать и играть «Моцарта и Сальери» не слыханным дотоле образом. Новая версия не имеет и не может иметь прямых и неопровержимых доказательств своей однозначной правильности, но, с другой стороны, она не может быть опровергнута. Самое главное в нашей интерпретации — это отмена безоговорочной правильности и безусловной единственности версии тайного отравления, которая теперь должна получить статус альтернативы к версии явного отравления.
*
ОТВЕЧАЮТ Н. В. БЕЛЯК И М. Н. ВИРОЛАЙНЕН (1995 г.).
Этот фрагмент в отношении двойного истолкования вполне соответствует закону поэтики трагедии, ее насыщенности всякого рода двойными значениями, инверсиями, понимаемыми как любые виды взаимодействия противоположностей.
ПРИМЕР ИНВЕРСИИ.
Принцип инверсии обращает на себя внимание в словесном оформлении уже самых первых строк:
Все говорят: нет правды на земле. Но правды нет — и выше. Для меня…«Все говорят» — «Для меня»,
«нет правды» — »правды нет»,
«на земле» — «и выше».
ПРИМЕР ИНВЕРСИИ.
Ах, правда ли, Сальери …гений и злодейство Что Бомарше кого–то отравил? Две вещи несовместные. Не правда ль?ПРИМЕР ИНВЕРСИИ.
Структурная инверсия: исходное противопоставление себя всем («Все говорят — а я не верю») оказывается полностью инверсированным в финале: «Или это сказка Тупой, бессмысленной толпы…» (сказка толпы — а я поверил).
ПРИМЕР ИНВЕРСИИ.
Асиммметричная инверсия в формуле Моцарта:
Нас мало избранных, счастивцев праздных, Пренебрегающих священной пользой, Единого прекрасного жрецов. —собирает в себя и инверсирует смысл сразу трех высказываний Сальери о том, как он понимает «жрецов, служителей музыки». Первое из них — «я избран, чтоб его остановить», где избранность понимается в совершенно ином смысле, чем тот, о котором говорит Моцарт: Моцарт имеет в виду избранность создателей, Сальери — избранность убийцы. Второе — «гуляка праздный», где праздность понимается как качество чисто негативное для художника. Третье — «Что пользы в нем?», где не только нет пренебрежения принципом пользы, но, напротив, этот принцип трактуется как верховный в решении вопросов жизни и смерти.
ПРИМЕР ИНВЕРСИИ.
Звуковая инверсия: збран — праздн.
Не случайно предыдущее высказывание Моцарта насквозь проаллитерировано [в смысле — насыщено согласными]. Скопление трудносочетаемых согласных крепит весь узел инверсий, собирая вместе и оркеструя слова, рассыпанные по всему пространству речи Сальери: правда, праздность, избранность, жрецы, презренность, польза…
ПРИМЕР ИНВЕРСИИ.
Инверсия внешней мотивации Сальери в первом монологе и в первом действии — внутренней мотивации во втором монологе.
ПРИМЕР ИНВЕРСИИ.
Графически отделенные друг от друга, две части второго монолога Сальери содержат в себе две различные и тоже взаимоинверсированные системы внутренней аргументации. Первая апеллирует к общественной пользе, к обстоятельствам объективным и рационализируемым. Вторая — к субъективному и иррациональному.
ПРИМЕР ИНВЕРСИИ.
Та судьба, которой Сальери противился «осьмнадцать лет», таила в себе две возможности: самоубийства и убийства.
ПРИМЕР ИНВЕРСИИ.
…заветный дар любви, Переходи сегодня в чашу дружбы.Эта финальная реприза Сальери тоже содержит кристалл инверсии, метаморфозы, качественной трансформации сюжета. «Заветный дар любви», смерть, завещанная возлюбленной, теперь перейдет в «чашу дружбы» — в чашу, которую пьют вместе. [Это особенно важно для варианта открытого отравления.]
МОЙ КОММЕНТАРИЙ.
Можно сказать, что Пушкин на каждом шагу дал понять, что все у него чревато обратным смыслом. Все. В том числе и относительно Моцарта. Бог — демон, небесное — подземное. Но все никак ему не пробить своих интерпретаторов. Даже таких, как Беляк и Виролайнен. Те отказываются ставить точки над «и»: выводить художественный смысл из массы (я лишь часть переписал) своих наблюдений над текстом. Они как бы предоставляют это другим.
И вот уже почти признание — Непомнящего (1997 г.):
«Сальери сплошь и рядом употребляет слова не в том смысле, какой они имеют в христианскую эпоху, — и это не случайно и не по недосмотру (автора). Вот ведь «небо» для Сальери вовсе не то, что для христианина, — а синоним Рока; он говорит «дар», — но всем ходом рассуждения игнорирует сам смысл понятия дара и утверждает понятие заслуги, покупки. Соответственно и слова «священный», «бессмертный» в его устах приобретают смысл не буквальный, а метафорический».
Но и для Непомнящего Моцарт — непреререкаемо позитивен.
Вот Чумаков уже почти прорвался:
«Открытое бросание яда оживляет в героях драмы античные обертоны. На античном фоне Моцарт пластически спокойно выпивает до дна стакан, в который на его глазах был только что брошен яд».
И Чумаков ссылается на Аверинцева. А тот пишет:
«Для наивного… мироотношения само собой разумеется, что угроза страшит, а надежда радует, что удача и беда однозначно размежеваны между собой: удача — это хорошо, беда — это худо, гибель — это совсем худо, хуже всего. Так воспринимает вещи животное, так воспринимает их бездуховный, простодушно–беззастенчивый искатель корысти, пошлый обыватель, но также и униженный изгой общества: кто станет требовать от сеченого раба, чтобы он «был выше» страха истязаний или надежды на освобождение? Но свободный человек — другое дело: аристократическая мораль героизма, эллинское «величие духа» предполагает как раз презрение к страху и надежде. Когда герой идет своим путем, неизбежным, как движение солнца, и проходит его до конца, до своей гибели, то это по глубочайшему смыслу не печально и не радостно — это героично. Ибо победа героя внутренне уже включает в себя его предстоящую гибель (так Ахилл, убивая Гектора, знает, что теперь на очереди он), и поэтому ее [победу] плоско, пошло и неразумно воспринимать как причину для наивной радости; с другой стороны… о погибших героях не следует всерьез жалеть [ведь баланс победной судьбы клонится к победе, ибо ее больше, чем гибели]».
И еще:
«Деяние героя по существу лишено сообразной ему цели. (Что–то вроде абсолютной цели есть разве что только у Гектора, чей подвиг направлен на спасение отечества, т. е. на нечто большее самого подвига, но как раз поэтому его образ отмечен для Гомера явственной чертой неполноценности: нельзя же герою принимать свою надежду и крушение надежды до такой степени всерьез!). Действование героя в своих высших моментах становится бескорыстным или бессмысленным, соответственно и крушение героя должно вызвать не аффект страха и жалости, но урок свободы».
Свободы От! Ото всего!
«Логический предел такой свободы — смех и самоубийство».
Чувствуете, как это сродно с демонизмом музыки Моцарта?! И вертеру в Сальери, вдруг пробудившемуся и заставляющему бросить яд в открытую, тоже сродни этот античный демонизм.
Тут мне хочется, не дожидаясь главы «УПОРСТВУЮ», поспорить с Чумаковым. Он пишет, что новая версия кульминации соответствует античному фону, а старая — христианскому. И поначалу христианский — хорошо обосновывает:
«В конце концов, тайного отравления нет ни в какой версии, как бы там ни опускался яд: если бы Пушкин написал, как злобный завистник коварно ликвидирует своего недальновидного соперника, всякий трагизм был бы вычеркнут из пьесы. Тайного отравления нет никогда, потому что Моцарт изначально знает обо всем незнаемым знанием. Как всякое живое существо, он просто не может сразу и безоговорочно принять свою гибель. И перед своим подвигом Моцарт внутренне как бы молит, чтобы чашу пронесли мимо.
Здесь уже нет и следа героико–игрового состояния, но есть мольба о «мимопронесении», покорность судьбе, чувство избранничества, и есть прощение к своему убийце».
Это ж аналогия с Иисусом!
И кто Иисусу противостоял в мольбе о «мимопронесении»? — Бог, жестокий Бог.
Ну, а кого Чумаков в Сальери противопоставляет Моцарту на христианском фоне? — Богоборца.
Это — непоследовательность. Если последовательно, то тоже Бога надо было б. У Чумакова что? Духу не хватило?
А Пушкин, похоже, подумывал о таком.
Любопытно рассмотреть «античные обертоны» в открытом бросании яда, имея в виду не античность вообще, а ее финал.
Тут пригодится лотмановская реконструкция одного замысла Пушкина, под названием «Иисус», кстати, вписанного вместе с «Моцартом и Сальери» и «Д. Жуаном» в один перечень на некоем листке, датируемом 1826 годом.
Лотман показал, что «Иисус» 1826‑го года превратился в отрывок «Повесть из римской жизни» 1833‑го года. Там речь о трех ночных пирах перед добровольно избранной смертью: пир у Клеопатры в честь ее любовника–смертника (36 г. до н. э.), тайная вечеря Христа (33 г. н. э.) и последний пир Петрония (66 г. н. э.). В «египетском» эпизоде происходит заражение молодой — грубой и воинственной — римской культуры изнеженно–развращенным эллинизмом. Вторая ночь («христианский» эпизод) должна была начаться страшной картиной духовного развала римского мира накануне зарождения мира нового. А оба эти эпизода есть рассказы, вставленные в третью ночь, последнюю ночь Петрония, известного как автор орги–порнографического романа «Сатирикон» (в нем этот придворный писатель, нареченный императором Арбитром вкуса, высмеивал неизящные из ряда вон выходящие чувственные удовольствия низов римской империи, высмеивал во имя тех же, но изящных из ряда вон выходящих чувственных удовольствий знати; Петроний был вынужден по приказу развратного, капризного и подозрительного императора Нерона вскрыть себе вены, что он и сделал в стиле героического гедонизма: разговаривая с друзьями не о бессмертии души, а слушая шутливые песни и легкомысленные стихи). Причем время самоубийства Петрония, 60‑е годы н. э., были отмечены массовыми казнями христиан, не желавших считать римского императора богом; идейный героизм стал массовым, а не единичным, как с Гектором. И можно уже предчувствовать, что Пушкин не становится ни на сторону фанатизма христиан, ни на сторону демонизма типа Петрония. Оба «изма» ознаменовали конец античной цивилизации.
И все это — по Лотману — нужно было Пушкину в связи с концом другой цивилизации, которую он застал. «Образ Иисуса не случайно волновал воображение Пушкина. Конец наполеоновской эпохи и наступление после июльской революции 1830 г. [во Франции] буржуазного века воспринималось разными общественными течениями как конец огромного исторического цикла. Надежды на новый исторический век вызвали в памяти образы раннего христианства. В 1820‑е гг. Сен — Симон назвал свое учение «новым христианством». В таком ключе воспринималось учение Сен — Симона и русскими читателями. В 1831 г. Чаадаев под влиянием июльской революции писал Пушкину, связывая воедино катастрофу старого мира и явление нового Христа: «У меня слезы выступают на глазах, когда я всматриваюсь в великий распад старого общества, моего старого общества… Но смутное предчувствие говорит мне, что скоро появится человек, который принесет нам истину веков. Может быть, вначале это будет некоторым подобием политической религии, проповедуемой в настоящее время Сен — Симоном в Париже».» (У Пушкина, мы уже знаем, это же выражалось в идеале общественного консенсуса и в отрицании из ряда вон выходящих и враждовавших «измов» уходящего века Просвещения.)
Жаль только, что Лотман экстремистов конца нового «огромного исторического цикла» смешал вместе — героев–гедонистов с идейными героями… Как и Чумаков- в «демонизм обоих (Моцарта и Сальери) в античных обертонах» открытого бросания яда.
Жаль. Зато тем свежее моя «точка над «и»”.
Впрочем, и сам Чумаков исключает из этих «античных обертонов» того Сальери, который в нем возобладал через миг после открытого бросания яда под влиянием демонического вдохновения.
В момент самого рокового мига действует вертер в Сальери:
«Что касается Сальери, то … он в импульсивном поединке, получающем открытый характер и непредсказуемый ход, становится демонически одержимым существом и, избавляясь в этот миг от мучительной рефлексии, разыгрывает чужую…жизнь».
В чем же проявляется невертер в Сальери после рокового мига? — Чумаков пишет:
«Постой, Постой, постой!.. Ты выпил!.. без меня?Традиционная версия, согласно которой Моцарт до самого конца ни о чем не подозревает (неясные предчувствия не в счет), объясняет это действительно великолепное место тем, что после здравицы Моцарта «в душе Сальери возникает нечто похожее на раскаяние; он почти готов удержать, остановить Моцарта. Но уже поздно. Произносящий свой тост от полноты души, Моцарт уже осушил свой бокал до дна. И Сальери страшным усилием воли подавляет свой неосторожный порыв, тут же находя ему наиболее естественное объяснение» (Д. Д. Благой). Иначе говоря, слова «без меня» поспешно заполняют, мотивируя как попало, пустое место, предназначенное для более содержательного продолжения, может быть, даже признания. Неожиданная, но несостоявшаяся попытка помешать своему последовательно проведенному до этого замыслу трактуется как диалектика души, рефлекс благопристойности, всегда возникающий после того, как зло уже содеяно. Спору нет, это одна из самых тонких идей традиционной версии, но мы посмотрим на реплику Сальери иначе.
«Без меня» в нашем случае получает буквальный смысл. Изысканный психологизм, конечно, утрачивается, но зато выступают на свет не такие уж очевидные мотивы. Бросая яд на глазах Моцарта, Сальери вовсе не совершает холодно рассчитанного заранее поступка. Он уже решился отравить друга, но как это сделать конкретно, в деталях, разумеется, не мог рассчитать. Какой бы сверхчеловеческой волей ни наделил Пушкин своего героя, Сальери все же не профессиональный убийца и на его действия не могли не оказать влияния провиденциальные высказывания Моцарта о Бомарше и о несовместимости гения и злодейства. Открытое бросание яда не только мгновенный порыв [вертера в Сальери], продиктованный демоническим вдохновением. В нем могло содержаться невысказанное, не успевшее высказаться предложение совершить двойное самоубийство. После своего рискованного жеста Сальери, сам еще переживая его упоение и жуткость, мог и действительно не успеть остановить Моцарта или что–либо предложить ему. Моцарт выпил решительно и быстро, не дав Сальери опомниться. В конце концов, Сальери тяжеловесен и медлителен как всякий резонер. Возможно, он хотел, чтобы они выпили яд из одного стакана, собирался произнести еще один монолог, на этот раз при Моцарте…»
Вот оно: незамечаемое самим Чумаковым отчуждение от античных обертонов Сальери–общественника. Моцарт быстр, Сальери медлителен. Моцарт — герой–гедонист, не подающий вида, что идет на смерть. Пожил в свое удовольствие, и — хватит. Нечего доживать до некрасивой старости и творческой импотенции. «Блажен, кто праздник жизни рано оставил, не допив до дна бокала полного вина…» И — действует мгновенно. А Сальери хотел бы поговорить перед смертью о пользе ее для идеи, во имя которой он жертвует своей жизнью, увлекая за собой в небытие Моцарта.
А какой иной мог быть тот монолог резонера Сальери? — Он мог быть в духе отвергаемого Пушкиным христианского фанатизма. Неважно, что пушкинский Сальери безбожник. И неважно, что в задумываемом одновременно с «Моцартом и Сальери» «Иисусе» не христиане убивают, а хриcтиан убивают. Неважно.
Важно, что фанатики–христиане там дошли до Абсолюта. Важно, что они во имя Его готовы на крайности. Важно, что потом, через века, во времена, скажем, крестовых походов и инквизиции, они во имя Абсолюта убивали миллионами. Важно, что вслед именно за ними, фанатиками–христианами, которые, конечно же, были своеобразными революционерами Древнего мира, последовали революционеры Нового времени.
А Пушкин в 1830 году был за консенсус, а не революцию. И потому для него и в «Иисусе» и в «Моцарте и Сальери» неприемлемы были ни «обертоны античности» (античности ли вообще или краха античности), ни обертоны христианства.
Не только в традиционной, но и в нетрадиционной версии кульминации трагедии есть, вопреки Чумакову, христианский фон: Сальери — как тот жестокий Бог, что за пренебрежение собой наслал потоп, уничтожил Содом и Гоморру и сотворил еще миллионы ингуманистических действий.
1.14
ВОПРОС.
Почему у Пушкина Сальери ужаснулся перед «явлением-Моцарт», впрочем, упиваясь им, но не испугался достаточно сильно поразившего его «явления-Глюк»?
ОТВЕЧАЕТ Марина НОВИКОВА (1980 г.).
На вопрос этот пытается ответить сам Сальери. И отвечает честно — однако не до конца осмыслено. (Осмысли он эту разницу до тех глубин, какие под силу архибесстрашному Сальери, — может, он понял бы и смысл Моцартова прихода в свою судьбу.)
Послушничество у Глюка укрепляло фундамент Сальериева мира. То было другое (более «глубокое», более «пленительное») свое. Моцарт же искушает опасно приблизившимся чужим: «безумством». Учиться у Моцарта нельзя. Он — сама торжествующая европейская индивидуация, художник без родословной и школы: «Наследника нам не оставит он».
Отношение Сальери к Моцарту имеет аналог в пушкинской лирике: стихотворение «В начале жизни школу помню я…» (1830, год написания «Моцарта и Сальери»). «Смиренная, одетая убого, но видом величавая жена» символизирует там Средневековье, его идеалы. «Строгая краса» свята, но сурова.
И часто я украдкой убегал В великолепный мрак чужого сада…Моцарт и есть для Сальери «волшебный демон» чужого сада, куда убегает украдкой старший композитор. И ощущает он одинаково мучительно как великолепие этого сада, так и его мрак. Иными словами: раздвоенная позиция по отношению к Моцарту отражает собственное культурное, душевное, духовное двоение Сальери.
МОЙ КОММЕНТАРИЙ.
В четырех маленьких абзацах Новикова выразила суть моей гипотезы. И комментировать нужно было бы только привязку Сальери к Средневековью. Что я сейчас и сделаю. Но дело в том, что слова «не до конца осмысленно» у Новиковой случайны, а для меня они принципиальны (по–моему, перед нами трагедия непонимания). И комментарий разрастется.
Итак, при чем тут Средневековье?
Если Пушкин, вместе с Чаадаевым (как то следует из предыдущей главки), действительно чуял приближение нового «огромного исторического цикла», то Новикова, может, в чем–то и права. Синусоиды ж бывают тоже огромные (см. статью Прокофьева по списку литературы): Античность («низкое») — Средневековье («высокое») — Новое время («низкое») — новый виток «огромного исторического цикла» («высокое»)…
Новикова задает вопросы и отвечает…
ВОПРОС.
Зачем слова «родился я с любовию к искусству»?
ОТВЕТ.
Так думал о своем назначении всякий средневековый человек. Монах, светский интеллектуал, «ручной» труженик — все они «рождались с любовию» к своей сфере деятельности. Первый импульс творчеству дали звуки орга`на. Профессия выбирает человека, — не наоборот, — будучи сама зовом «с высоты духовной». Никакого «самовластья» — безоговорочная вовлеченность в свою область духа, как в судьбу.
ВОПРОС.
Зачем так: мальчик отрекся от «праздных забав» и «чуждых наук»?
ОТВЕТ.
У этого отречения есть точный средневековый термин: послух.
ВОПРОС.
Зачем такое: «труден первый шаг», «скучен первый путь»?
ОТВЕТ.
А разве не трудны и не скучны многолетние штудии в средневековой школе или университете? Долгое послушание в обители? Терпеливое ученичество в ремесленном цеху? Средневековье смотрело на дело иначе. Каппакодиец Иоанн недаром отдает предпочтение спасающимся как бы через «скуку», через внутренний труд. Их духовный результат для него не в пример надежнее спасения налегке.
И так далее. Не перечесть… И Новикова подводит промежуточный итог: «Так что возглас Сальери:
Где ж правота, когда священный дар, Когда бессмертный гений — не в награду Любви горящей, самоотверженья, Трудов, усердия, молений послан, А озаряет голову безумца, Гуляки праздного? —это не скрежет зубовный одинокого завистника. Это вопль целой культуры, у которой отнимают символ веры. Трагедия в том, что «правота» Моцартовой гениальности кощунственна для сальеризма как средневекового миропонимания».
Действительно, Средневековье ж — не только княжеская независимость и вседозволенность по отношению к низшим. А верность вассального подчинения?! А церковного?! Средневековье, — если другим одним словом, — это иерархия. Соборность. Это — на восходящем витке Синусоиды. И в том — родство с любым классицизмом (в том числе — с глюковским) и некая непротиворечивость с моей гипотезой.
Еще одним характерным словом — «застой» — характеризуется Средневековье. Застой — из–за отсутствия бешеной конкуренции. Ну, так Новое время — по противоположности — это динамика, крах и успех. Одни быстро скатываются в общественный низ, другие — еще более стремительно — взлетают вверх. Для тех ключевое слово — удача. Ибо только умение и трудолюбие — слишком слабая тяга, чтобы взлететь. (Так, Моцарту выпала удача родиться гением.) Причем удача вообще–то безотносительна к добру, ибо оно может помешать успеху. (Так, душевная легкость, с какой Моцарт перелетает от трактирной красотки к виденью гробовому, может, более фундаментальное свойство его натуры, на котором и базируется его тип гениальности.)
Пираты — самые типичные преуспевающие люди начала Нового времени. Так их называют рыцарями удачи. В противоположность средневековому: рыцарь чести. И Новикова очень удачно рассуждает о чести и славе:
«Для нас «честь» и «слава» — практически синонимы. Средневековье их разграничивало, безоговорочно утверждая первую, не без опаски относясь ко второй. Честь — это не всякая «слава», а только та, которая наделена нравственным значением. Народный язык помнит об этом разграничении доныне: в нем нет и быть не может «худой чести», хотя возможна «худая слава».
И она ставит вопрос и отвечает…
ВОПРОС.
Зачем с Сальери сопряжен лейтмотив славы?
ПРИМЕР.
«Я стал творить… не смея помышлять еще о славе». «Слава мне улыбнулась…». «Я счастлив был: я наслаждался мирно своим трудом, успехом, славой…». «…Не то мы все погибли, не я один с моей глухою славой…».
ОТВЕТ.
Тут обнаруживается «странное сближение» Сальери с ярчайшим символом новоевропеизма — гетевским Фаустом.
МОЙ КОММЕНТАРИЙ.
Фауст у Гете отошел от науки и прибег к услугам Мефистофеля, потому что не чуждый науке Гете видел в ней символ застоя. И некий застой там и тогда действительно стал через век виден многим: «Классическая наука — это сумма окончательных и вечных законов: и в бесконечных просторах и в ультрамикроскопических областях сохраняются все те же привычные законы (открытые Ньютоном, Галилеем и Декартом). Эта однотипность, однородность мира — скучна. Наука как царство чистой, неосложненной противоречиями мысли (до середины и конца XIX в. классическая наука развивалась не за счет преобразования фундаментальных представлений о мире, а за счет все большего уточнения и… новых областей применения…) — это «осанна» познанию. В XX в. иное отношение к науке (с возникновением неклассической) стало нормой. До этого «вопрошающая» тенденция в науке была чисто оппозиционной к позитивной тенденции и в значительной мере отрывалась от позитивной. Поэтому беспокойный Фауст и оторвался от позитивной науки» (Б. Г. Кузнецов).
Хорошо. Фауст — антизастойный символ. А как с этикой?
Замечательно, что к «Пра — Фаусту» Гете приступил тогда же, когда и к «Вертеру» — после первых двух своих творческих этапов: 1) эпикурейства и анакреонтики в стиле рококо (низ Синусоиды идеалов) и 2) кратковременной реакции на этот «низ» — стихов в духе протестантского учения (верх Синусоиды). Было чему оппонировать! И в «Вертере», «Пра — Фаусте», в других вещах нового, третьего этапа родился Гете–штюрмер. Это вылет с Синусоиды вниз; не зря ж пишут: «Результаты отстаивания идей свободы личности нередко приводили штюрмеров к безудержному восхвалению эгоизма (что позднее неоднократно использовалось в пропаганде идеи «сверхчеловека») (Неустроев).
Замечательно также, что и к собственно «Фаусту» Гете — уже в зрелом возрасте — тоже приступил после разочарования в идеалах верха Синусоиды, в классицизме (называемом «веймарским»), когда его, Гете, «друг у друга, — по его словам, — оспаривали два духа», одному из которых хотелось «опять до мелочей вернуться, — снова его же слова, — к своей первой молодости» (к третьему этапу ее, если быть дотошным).
Меня и Новикову вела одна мысль, когда в «культурном, душевном, духовном двоении» Сальери я в качестве его второго «я» назвал Вертера, а она — «новоевропейца», что в раздвоенном Фаусте. Но дальше я с ней разошелся. Я счел, что вертера в себе Сальери в общем задавил и преступление совершил от имени истошного коллективиста («медиевиста» — сказала бы Новикова). А она — что от имени «европейской индивидуации». Действительно, я акцентирую в Глюке просветительский классицизм второй волны как привлекавший классициста Сальери, не прятавшего этого классицизма. А она — «глубокие, пленительные тайны», схожие, мол, с магическими увлечениями оппозиционера в науке Фауста (хоть еще и до продажи им своей души Мефистофелю, но все же…).
И все же, слава Богу, что я не один нашел сомнительную моральность в пушкинском Моцарте: «Что хорошего в том, что Моцарт полагает людей искусства «счастливцами праздными, пренебрегающими презренной пользой, единого прекрасного жрецами»? Если не лукавить, это ведь проповедь искусства для искусства, вне его нравственности, его пользы для общества?..» Слава Богу. Ибо одно дело, когда музыку реального Моцарта называют демонической, а другое дело — прочесть о персонаже: «Моцарт и есть для Сальери «волшебный демон»” Или: «Но если Сальери — своего рода Фауст, кто же его Мефистофель? Черный человек «день и ночь покоя не дает» Моцарту — Моцарт покоя не дает Сальери («Ах, Моцарт, Моцарт! Когда же мне не до тебя?»)». И каждый поймет, что для раздвоенного Сальери — Фауста Мефистофелем является Моцарт. Потому что Моцарт, как Мефистофель, может ответить: «Ад во мне». Потому что Моцарт знается с потусторонними силами и относится к жизни (отражая это в музыке) как игрок–пират–новоевропеец: пан или пропал, — как «безумец».
Это — о положительном отношении «медиевиста» Сальери к «своему» Глюку и о раздвоенном отношении «медиевиста–новоевропейца» Сальери — Фауста к Моцарту.
А теперь — об обмолвке Новиковой, что у Сальери это отношение «не до конца осмыслено».
На самом деле, по Новиковой, персонажами движет «метафизика судьбы», «мироздание» — не меньше. Они в принципе не могут осмыслить то, что творится в «верхнем сюжете», а сказывается на «нижнем».
Мне все время хочется пересказать более низкими словами то, на что высокими лишь намекает Новикова: «Новый огромный исторический цикл, похожий на Средневековье, представителем которого является медиевист в Сальери, во имя торжества этого нового в «верхнем сюжете» творит в «нижнем сюжете» с помощью Сальери суд справедливости над новоевропейцем Моцартом. Этот новый огромный исторический цикл вещими голосами и приметами посылает чуткому Моцарту сигналы о грядущем высшем суде. Но Моцарт не понимает. Не понимает и Сальери свою роль в «верхнем сюжете» “.
Поразительно, но Новикова убедительно демонстрирует некоторые «сигнальные», «вещие» голоса, которыми «через Сальери Моцарта окликают «глубокие тайны» ”. То же — через черного человека, через слепого старика (например, см. главку о voi che sapete)…
Я не стану их демонстрировать — эти «вещие» голоса, так как они не доказывают мою, более приземленную, версию (о пушкинском идеале консенсуса в расколотом обществе), двигающую всем, что происходит в трагедии. Хоть Новикова как бы приглашает меня подстроиться к ней, ничем своим не поступаясь: «Так осуществляет себя в «Моцарте и Сальери» многоярусная и многосмысленная «метафизика судьбы». На нижнем ее уровне — преступление и наказание. На более высоком — вина и искупление. На высочайшем уровне — милость и «воскресение душой». Ни один из этих смыслов не отменяет низшего…»
И дело не в том, что поступиться бы все–таки пришлось, например, «Реквиемом», как характерным моцартовым произведением, если и не воспевающим жизнь, украшенную смертью, то порицающим загробную жизнь с ее адскими муками и будущим Страшным судом. Дело не в том, что кое–какие находки Новиковой я еще не могу объяснить по–своему. Например, такое: «Милость к Моцарту — в том, что ему дано было написать Реквием. Никто из пушкинистов, кажется, не отмечал многозначительного расхождения в этом пункте между реальным Моцартом и Моцартом пушкинским. Реальный Моцарт не успел закончить свой Реквием. Едва ли Пушкин про это не знал; тем красноречивей тот факт, что Моцарт пушкинский закончить Реквием успел («совсем готов уж Requiem»).»
Дело в том, что если мне начинать считаться с вещими голосами метафизики, то надо признать, что через несколько недель после создания «Повестей Белкина», в маленьких трагедиях, Пушкин настолько далеко продвинулся в своем реализме по пути утопизма, что дальше ему дорога была уже, не к «Капитанской дочке» с ее добрыми Пугачевым и Екатериной II, а к волшебным сказкам, в которых «фантастический элемент определяет торжество нравственного идеала, подчас недостижимого в реальной действительности, но — в соответствии с народной моралью — в принципе необоримого» (Фомичев). А первую сказку Пушкин написал хоть и в 1830 году, но перед маленькими трагедиями…
Да и разошелся я кое в чем существенном с Новиковой (кроме упомянутого — еще много есть расхождений).
В общем, пока рано моей версии входить как частность в общее (как ньютоновская механика — в эйнштейновскую) в версию Новиковой.
1.15
ВОПРОС.
Зачем Пушкин сделал так, что три раза упоминается имя Бомарше?
ПРИМЕР.
С а л ь е р и И, полно! что за страх ребячий? Рассей пустую думу. Бомарше Говаривал мне: «Слушай, брат Сальери, Как мысли черные к тебе придут, Откупори шампанского бутылку Иль перечти Женитьбу Фигаро. М о ц а р т Да! Бомарше ведь был тебе приятель; Ты для него «Тарара» сочинил, Вещь славную. Там есть один мотив… Я все твержу его, когда я счастлив… Ла ла ла ла… Ах, правда ли, Сальери, Что Бомарше кого–то отравил?ОТВЕЧАЮТ Н. В. БЕЛЯК И М. Н. ВИРОЛАЙНЕН (1989 г.).
Трижды упоминая в своей трагедии имя Бомарше, Пушкин намечает три этапа становления просветительской идеологии: первый раз Бомарше возникает как веселый комедиограф, автор демократичного «Фигаро» [без имени, еще раньше, он тоже в таком же качестве — как идеолог воинствующего индивидуализма — возникает упоминанием ариетты Керубино из оперы, родившейся от того же «Фигаро»], во второй раз Бомарше возникает как автор дидактического «Тарара», в третий раз — как циничный отравитель.
Жизненный и творческий путь Бомарше, ведущий к «Женитьбе Фигаро», — это путь самозащиты, затем — самовыражения и, наконец, — самоутверждения [Фигаро — Бомарше демонстрирует победительность своеволия не худшую, чем аристократы]. Автор «Фигаро» — буржуа, защищающийся от аристократов [нападением].
Автор «Тарара» — это уже буржуа, занявший место аристократа [канун Великой Французской революции]. Индивидуализм [и я на индивидуализме настаиваю], лежавший в основе его социального типа [Фигаро], изменил [в «Тараре»] свою природу: победив, он начал поучать [это уже не индивидуализм, а нечто противоположное — общественное]. Создав бессмертного героя по образу своему и подобию [Фигаро], теперь Бомарше по образу своему и подобию стал строить внеположенный ему мир. Социальное колесо перевернулось, и самоутверждение превратилось в откровенную демиургию. (Демиургией мы называем такую интеллектуальную позицию, которая претендует на авторские полномочия по отношению к мирозданию [обществу в том числе]…)
[Здесь прийдется вставить сведения о «Тараре», которые привели в своей статье Беляк и Виролайнен]: «…в прологе оперы представлена тройная иерархия космических сил, состоящая из: 1) неупорядоченных стихий, 2) властвующих над ними творческих Гениев и 3) венчающего мироздание всеблагого Брамы. Гении занимаются сотворением рода людского: Гений Природы — материальной стороной творения, Гений Огня — одухотворением произведенного Природой и распределением земных жребиев. Гении, с одной стороны, стремятся к законосообразности, а с другой — в основе их действий лежит случайность. Власть же над абсолютным законом высшей справедливости является прерогативой невидимого Брамы, стоящего над всем этим.
На основе такого космогонического мифа строится в «Тараре» миф социально–исторический. «Тарар» является утопическим образцом «правильной» истории: задача людей заключается в приведении случайностей, допущенных творящими Гениями, к тому закону справедливости, который обеспечен наличием всеблагого Брамы. Пороки тирана Атара [второго главного действующего лица] делают его недостойным трона, а добродетели солдата Тарара [первого главного действующего лица] соответствуют царскому месту. И личные достоинства, и социальные места достались каждому из героев по жребию, выпавшему по воле случая. Вот почему эти социальные места необходимо перераспределить в соответствии с личными достоинствами героев так, чтобы над случайностью восторжествовала законная справедливость. И по ходу развития оперы в результате многочисленных перипетий трон Атара достается добродетельному солдату Тарару». — [Вот вам и общественность, коллективизм, то, к чему обязательно приходят индивидуалисты, когда они объединяются в борьбе за свои индивидуалистические права! Теперь можно вернуться к прерванному определению демиургии.]
(Демиургия… претендует на авторские полномочия по отношению к мирозданию и игнорирует то обстоятельство, что человеческое сознание само является частью мира.) [Чувствуете: Беляк и Виролайнен ведут к тому, чтоб общественное все–таки не назвать этим именем и чтоб Сальери, последователя Бомарше — Второго (назовем его так в отличие от Бомарще — Первого, автора «Фигаро»), не назвать общественником тоже. Этак оговорившись, теперь спокойно двинемся дальше за нашими точно рассуждающими исследователями. Итак, Бомарше «стал строить внеположенный ему мир» в произведении искусства (которое не есть жизнь), а пушкинский Сальери — непосредственно в жизни: раз «правды нет и выше», раз справедливого Брамы нет, значит, добьемся мы освобожденья своею собственной рукой.]
В Сальери, с которым, собственно, и связан мотив отравительства, мы встречаемся уже не с самой идеологией Бомарше–демиурга, но с ее последствиями. Бомарше фигурирует в трагедии как отравитель [третье упоминание его имени], ибо как художник и идеолог он невольно оказывается ответствен за Сальери.
МОЙ КОММЕНТАРИЙ.
Исследователям — идет только 1989 год — еще не хочется плохого пушкинского Сальери называть зарвавшимся коллективистом и общественником, и они связывают его с другими «измами»: иррационализмом, индивидуалистическим объективизмом, нигилизмом.
Впрочем, свои комментарии я уже достаточно внедрил в приведенную выше раскавыченную цитату.
1.16
ВОПРОС.
Если музыка, сочиняемая Сальери и сочиняемая Моцартом, антагонистичны по выражаемым идеалам, то зачем Пушкин ввел от имени Моцарта любовь к какому–то сальериевскому отрывку?
ПРИМЕР.
М о ц а р т Да! Бомарше ведь был тебе приятель; Ты для него «Тарара» сочинил, Вещь славную. Там есть один мотив… Я все твержу его, когда я счастлив… Ла ла ла ла…ОТВЕЧАЮТ Н. В. БЕЛЯК И М. Н. ВИРОЛАЙНЕН (1989 г.).
М. П. Алексеев высказал предположение, что Моцарт напевает здесь отрывок из арии Тарара «Астазия- богиня», популярной в России в пушкинскую эпоху. Но из текста Бомарше явствует, что в арии об Астазии Тарар оплакивает свою возлюбленную. Эта ария мало соответствует тому состоянию счастья, о котором говорит Моцарт. Поэтому мы хотели бы предложить другую гипотезу, основанную на анализе литературного текста «Тарара».
Дело в том, что в каноническом варианте его вообще нет ни одной ситуации, которая была бы окрашена чистой и непосредственной радостью, — есть лишь патетические места. Зато в издании 1790 г. имеется сцена, вставленная в финал оперы и по своему характеру отличающаяся от всего остального ее текста. С ней–то и связана наша гипотеза, дающая возможность адекватно оценить весьма сложное по своей психологической природе эмоциональное состояние Моцарта.
Премьера оперы состоялась 8 июня 1787 г. «Тарар» Бомарше, представлявший собой философскую сказку, основной пафос которой заключался в аллегорическом выражении идей, выработанных французским просветительством, и созданный с целью идеологического формирования общественного сознания был принят с восторгом. В течение 1787 г. было сыграно 33 спектакля. То был первый триумф Сальери в Париже. И вот в 1790 г. готовится возобновление спектакля. Но с момента премьеры прошло не просто четыре года: за это время свершилась Французская революция. Историческая ситуация в стране в корне переменилась, а вместе с ней переменилась и ситуация театральная.
Сцена превратилась в трибуну, а зрительный зал отвечал ей со всей активностью, какая мыслима в политическом собрании. Перебранки между представителями различных партий доходили до драк [чувствуете? — моцартовская раскованность!].
Именно для такой театральной аудитории Бомарше написал новую сцену — сцену коронования Тарара, которая была ориентирована на конкретную политическую ситуацию и носила откровенно публицистический характер: Бомарше высказывался в ней за конституционную монархию. Сторонники его политических взглядов рукоплескали; республиканцы освистали финал.
В этой ярко публицистической сцене, в которой солдат Тарар, любимец народа, восходит на трон злодея Атара и дарует своим подданным всяческие блага (жрецам — право вступления в брак, тяготящимся браком — право развода и т. д.), есть эпизод, когда закованные в цепи негры из Зангебара обретают человеческое достоинство. Именно этот эпизод и должен быть, на наш взгляд, соотнесен с текстом пушкинской трагедии.
Молодой негр: (в э к с т а з е) … … … …. Урбаля! Урбаля! (о б р а щ а я с ь к з р и те е л я м) Ля–ля–ля, ля–ля–ля! (Ж и в о п и с н а я п л я с к а н е г р о в и н е г р и т я н о к, в ы р а ж а ю щ а я и х в о с т о р г)Итак, наша гипотеза связана с тем, что «ла ла ла ла» пушкинского Моцарта является не только музыкальной, но и словесной цитатой из данной сцены «Тарара» — ювелирной деталью в словесном произведении, посвященном музыке.
Такая цитата не только эмоционально соответствует пушкинскому контексту, но и в свою очередь раскрывает его, ибо через нее прочитывается, что такое собственно счастье для Моцарта: это особое восторженное переживание свободы [ «свободы от» в ее отличии от «свободы для»], связанное к тому же с переживанием музыкально–эстетическим. Цитируя в качестве своего любимого это место из ”Тарара», Моцарт не только делает комплимент композитору Сальери, но и как бы полемизирует с его основными эстетическими и идейными установками. Вульгарно–демократический характер негритянской арии находится в вызывающем противоречии с однозначной серьезностью жреческих претензий Сальери.
Такая цитата сразу многое говорит и о Моцарте, и о Бомарше, и о Сальери [вынужденно отступившего здесь от себя], и о «Тараре» в его отношении к Французской революции, и о специфической театральной ситуации [раскованность от этикета]… Как кажется, подобный характер цитации вполне соответствует природе пушкинского лаконизма, который никогда не сводится к линейной лапидарности, но содержит в себе целый семантический пучок смыслов.
МОЙ КОММЕНТАРИЙ.
Музыковеды еще не нашли доказательства, что Пушкин мог знать о введенной сцене коронования. И не страшно: еще найдут. А в арии и пляске молодого негра есть два момента: 1) коллективная радость освобождения рабов, обращенная к противникам плантаторского режима в зале театра, склонным подпевать артисту, и 2) личная радость раба после победы объединившихся индивидуалистов, когда коллективизм уже не нужен и можно расковаться и не обращать внимания на этикет. Так Беляк и Виролайнен склонны пушкинскому Моцарту приписать сродство с первым моментом, а я б приписал — со вторым. Тем более, что у Бомарше там и свободе брака радуются. А уж это музыкально оформлять мог, лишь перешагивая через себя, такой композитор, как пушкинский Сальери.
Но что особенно хорошо — что Беляк и Виролайнен отправляются от музыки, анализируя «Моцарта и Сальери». Третий случай в истории трактования трагедии.
Глава 2 Упорствую
2.1
ВОПРОС.
Зачем Пушкин сделал Сальери безжалостным, а Моцарта — олицетворением небесных сил?
ПРИМЕР.
Моцарт провидчески чувствует, что его хотят убить и кто–то близкий:
М о ц а р т (за фортепиано) Представь себе… кого бы? Ну хоть меня… … … … … …. … с другом — хоть с тобой — Я весел… Вдруг: виденье гробовое… … … … … …. Мне день и ночь покоя не дает Мой черный человек. За мною всюду Как тень он гонится. Вот и теперь Мне кажется, он сам–третей Сидит.ПРИМЕР.
По уходе уже отравленного Моцарта — ни слова сожаления о нем, но жестко–равнодушное вдогонку:
Ты заснешь Надолго, Моцарт!ОТВЕЧАЕТ М. ГЕРШЕНЗОН (1919 г.).
Нам невозможно доверяться капризам неба; человек должен взять свое дело в свои собственные руки и строить хотя медленно, но верно.
Сальери должен совершить убийство, и убить ему сравнительно легко, потому что он Моцарта не чувствует как личность. На такого, как он сам, «жреца, служителя музыки», у него верно не поднялась бы рука, потому что человек для него — только геометрическая точка целесообразных усилий; где он видит накопление таких усилий, там для него — человек, где таких усилий нет, — там марево, тень человека. Таков в его глазах Моцарт: призрак, залетный херувим, но только не живая личность. Пушкин тонко отметил это — умолчанием, полным отсутствием в Сальери личной жалости к Моцарту, нет ни слова сожаления о друге и человеке, о цветущей жизни, которую он готовится разрушить.
МОЙ ОТВЕТ.
Гершензону требовалось обосновать (помните? — в главе «СОГЛАШАЮСЬ») просальериевскую адвокатуру Пушкина, требовалось героизировать Сальери. И критик возвел его противника в ранг посланца неба и предпринял попытку психологически несколько обелить бесчувственность убийцы.
На самом деле у Пушкина нет ни небесности Моцарта (есть гениальность и чуткость), ни абсолютной бесчувственности Сальери. Последний годами мучился, прежде чем решился на убийство. И убийство это не небесного посланца, а идейного противника. А если Сальери и довел себя до некоторого равнодушия в день убийства, то именно из–за идейной его подоплеки. Посмотрите на художественное свидетельство Платонова, изнутри и очень хорошо знавшего психологические крайности революционных улучшателей мира:
«Обыкновенно он убивал не так, как жил, а равнодушно, но насмерть, словно в нем действовала сила расчета и хозяйства. Копенкин видел в белогвардейцах и бандитах не очень важных врагов, недостойных его личной ярости, а убивал их с тем будничным тщательным усердием, с каким баба полет просо. Он воевал точно, но поспешно, на ходу и на коне, бессознательно храня свои чувства для дальнейшей надежды и движения».
По сравнению с таким воителем за справедливость Сальери кажется сентиментальным и неумехой:
М о ц а р т (Пьет) С а л ь е р и Постой, Постой, постой!.. Ты выпил!.. без меня?Он же явно спохватился, что забыл часть яда всыпать и себе. А забыл, потому что волновался и старался волнение скрыть. Это ж у него восклицания очень далекие от равнодушия.
И предчувствия Моцарта тоже вполне материалистически объясняются. Он ведь, как заметил Устинов, постоянно нарушает даже границы принятого поведения: входит в дом Сальери без стука, приводит к нему неподобающего гостя, внезапно исчезает, внезапны (и не прячутся им) резкие переходы его настроения. А он же очень тонко чувствующая натура. Ну, не мог же он хоть какой–то клеточкой мозга не переживать подсознательно, что выражаемый его музыкой воинствующий индивидуализм ежедневно плодит ему врагов среди людей нравственных и среди жертв героического гедонизма. Не мог же он как–то не предполагать нарастание вероятности возмездия за свою раскованность.
*
По тому же поводу — безжалостности Сальери — задумывается и более поздний исследователь.
ВОПРОС.
Зачем Сальери плачет, когда яд уже брошен в стакан Моцарта?
ОТВЕЧАЕТ Татьяна ГЛУШКОВА (1982 г.).
Вчитались ли мы в «эти слезы»?
Они кажутся — по инерции нашей совести — слезами глубокого душевного потрясения, родственного раскаянию… Тем более, что Сальери просит погубленного им, отравленного уже Моцарта: «Продолжай, спеши Еще наполнить звуками мне душу…» Вот и мнится, что это горчайшие слезы, запоздалые слезы истинной, разом воспрявшей, хоть и запоздалой, любви. Однако это не так!.. Сальери и впрямь испытывает глубокое душевное волнение. Но это не горькое, а счастливое волненье. Миг убийства Моцарта — это для Сальери «звездный час». Звездный час его сухой, исковерканной — врожденной ему — рационалистской души. Ведь вот что говорит он (вслушаемся; да не заслонят нам эти, на миг умилившие нас, слезы строгой действительности пушкинского текста!):
…Эти слезы Впервые лью: и больно, и приятно, Как будто тяжкий совершил я долг, Как будто нож целебный мне отсек Страдавший член!..«Долг» — это, в частности, восстановление «справедливости», попранной «несправедливым», «неправым» небом. Это долг перед довлеющим себе разумом, всецело сливающийся для Сальери с долгом перед собой — носителем такого разума. Характерно: не совесть, а долг воодушевляет Сальери.
МОЙ ОТВЕТ.
Мне почти нечего возражать (разве что против «врожденной ему рационалистской души»; Ст. Рассадин, — вспомните, — хорошо показал, что рационализм у Сальери не врожденный, а приобретенный).
И долг, и во имя справедливости — все это общественное.
Разве что — прокомментировать про совесть, тоже ведь являющуюся проявлением общественного в человеке, в его сознании, а еще больше — в его подсознании? — Комментарий таков: у ингуманиста–общественника совесть действительно легко глушится: он ведь действует во имя общественного же!
Но если я поместил свой ответ в главу «УПОРСТВУЮ», то потому, что начала–то Глушкова «за общественное» в Сальери, а кончила — «за эгоистическое» в нем, кончила «долгом перед собой — носителем такого разума». И вот еще: «…«долг» столь слит с существом Сальери, столь гармоничен относительно его души, что исполнение его, это практическое торжество гармонии между разумом и эгоизмом, это убийство уподобляет Сальери своему физическому исцеленью». И еще: «…интерес лично–эгоистический только прикрыт групповым эгоизмом».
Не пришло Глушковой в голову, что Сальери стал злодеем из–за того, что искалечили его крайний рационализм и крайний коллективизм. И все силы свои она бросила на доказательство, что он такой отроду, а если и нет, то родился со злодейскими задатками, а стал — злодеем в квадрате.
Споря с Соловьевым я уже говорил, что крайности сходятся, похожи и что аналитику следовало бы учитывать, из эгоизма или из коллективизма родом преступник, а не валить все на эгоизм (когда в силе был социализм) или смешивать, мол, перед нами коммуно–фашизм (когда в моде стал эгоизм).
Глушковой бы не ломиться в открытые двери «Сальери злодей», а подумать, чего это Пушкин им, таким, заинтересовался.
А заинтересовался он потому, что его интересовала идея справедливости и то, как она перерождается в злодейство — минуя эгоизм, непосредственно из коллективизма — как это продемонстрировала Французская революция. Тогда б ей, Глушковой, не надо было б доказывать лживость Сальери перед самим собой, поиски им морального алиби и т. п. — А что, если здесь не лжет и не ищет алиби, а призван–таки и — герой? Искаженный герой–коллективист.
Помните — в начале книги — Лотмана, цитирующего Пушкина 30‑го года?
«Оставь герою сердце! Что же Он будет без него? Тиран…»Так что, если в драматическом произведении Пушкин исследует, как обстоятельства (а не наследственность) делают человека злодеем–коллективистом, и что, если исследует как раз потому, что мечтает найти путь, как из коллективиста не попасть в злодеи?
Глушкова доказывает, что Сальери патологический злодей, как Барон из «Скупого рыцаря»:
Да! если бы все слезы, кровь и пот, Пролитые за все, что здесь хранится, Из недр земных все выступили вдруг, То был бы вновь потоп — я захлебнулся б В моих подвалах верных. Но пора. (Хочет отпереть сундук.) Я каждый раз, когда хочу сундук Мой отпереть, впадаю в жар и трепет… …сердце мне теснит Какое–то неведомое чувство… Нас уверяют медики: есть люди, В убийстве находящие приятность. Когда я ключ в замок влагаю, то же Я чувствую, что чувствовать должны Они, вонзая в жертву нож: приятно И страшно вместе. (Отпирает сундук.) Вот мое блаженство.«Очевидна лексическая и синтаксическая общность этого отрывка и речи Сальери в миг убийства: «…и больно и приятно… Как будто нож целебный мне отсек Страдавший член!..» Трудно усомниться во взаимосвязанности пушкинских «маленьких трагедий» — всех четырех — друг с другом».
Прочтя это у Глушковой, я как бы окунулся в поток пушкинского сознания: ну да! именно после этого признания Барона — по противоположности — могла у Пушкина сверкнуть мысль вывести другого маниакального злодея. Барон им стал от крайнего эгоизма, Сальери — от такого же коллективизма. Пушкин в образе Сальери как бы предвосхитил появление маньяков–убийц — Сталина, Полпота и других. Пушкин обнаружил закон и мечтал о том, чтоб, познав его, люди его бы обходили.
Вообще, какая разница, какой Сальери злодей: маниакальный (по Глушковой) или попроще (по Гершензону)? Любой злодей — это плохо. И выведен Пушкиным ради поисков: как бы это, чтоб их не было.
2.2
ВОПРОС.
Зачем Пушкин сделал Сальери так много врущим самому себе?
ОТВЕЧАЕТ Н. ЛЕРНЕР (1921 г.).
Сальери лжет и походя клевещет на искусство, на жизнь, клевещет обнаженно и, как не может не понимать сам этот внимательно наблюдающий себя и в то же время невылазно запутывающийся в паутине собственных софизмов и самооправданий человек, клевещет бессильно.
Жалко–нелеп его софизм:
Что пользы, если Моцарт будет жив И новой высоты еще достигнет? Подымет ли он тем искусство? Нет…Да! — а не нет! Всякая достигнутая высота поднимает искусство до себя, и что в нем создано, создано навек, бесповоротно и неотменимо.
Сальери лжет, когда называет внушенные нам искусством желания «бескрылыми»; нет, они дают нам крылья, и сам Сальери не раз возносился на этих крыльях; лжет, называя нас «чадами праха»: мы не только чада праха, но и дети Неба, иначе мы не понимали бы искусства, не были бы конгениальными Моцарту и ему, ему, Сальери.
И даже на самого себя клевещет Сальери, — ведь и он, Сальери, в известном отношении поднимал искусство своими былыми счастливыми достижениями; сам же он называл искусство «безграничным», т. е. в идеале одинаково недостижимым и для Сальери, и для Моцарта. И его ласкала слава, и он знал внешний успех, и он плакал вдохновенными слезами, и это такие же «даровые» священные дары, как гений Моцарта, посланные Богом, он затаптывает в грязь, ослепленный завистью.
Именно ослепленный.
МОЙ ОТВЕТ.
Ослепленный, но не завистью, а ненавистью. Не к гениальности Моцарта, а к выражаемому его музыкой крайнему индивидуализму, героическому гедонизму. Аморальны оба искусства: и Моцарта, и Сальери (если считать моральным то, что принято у большинства простых людей, а аморальным — то, что у сверхчеловеков от индивидуализма или от коллективизма). Но суперколлективисту его аморальность более позорна: она ж против большинства. И — суперколлективист же очень сознательный. Это не непосредственный, как ребенок, Моцарт: хочу — беру, и ничего вокруг больше не существует. Потому Сальери и суетится перед самим собой.
По Лернеру Сальери потому так много лжет, что Пушкин написал трагедию «ложного, неискреннего, нечестного бунта». И с этим можно бы согласиться: бунтовал бы Сальери честно, против идеи Моцарта — его б не загрызла совесть (ведь не смущала даже самых культурных большевиков гибель произведений искусства от большевистского штурма Зимнего дворца или московского Кремля). Но Лернер не так растолковывает суть трагедии: «Сальери обращает в бездушное этически индифферентное орудие борьбы свою живую душу человеческую». В эту минуту Лернер забывает, что у Сальери, объективно, не человеческая, а сверхчеловеческая душа, что он, в своем вылете в (коллективистскую, напомню я) крайность, ингуманист. И лишь потому, что здесь таки трагедия «неискреннего бунта», оказывается этот «невылазно запутывающийся» Сальери с обманутой собственной душой: словно обыкновенной.
Из–за этого же «неискреннего бунта» и другая ошибка Сальери, точно подмеченная Лернером: «Пушкин и не решает, и даже не ставит в своей трагедии вопрос о совместимости гения и злодейства: это делает Сальери, и какое–то мнение об этом, нас и Пушкина нимало не обязывающее, высказывает Моцарт. [Лернер тонко намекает, что Моцарт лишь предположительное мнение об этом выразил: «Не правда ль?»] Наш великий поэт, с его широким взглядом на искусство, знал [да и пушкинский Моцарт, похоже, подозревал], что с нравственностью оно ничего не имеет общего, ей не служит и ей не противоречит, что художник может быть человеком безнравственным [как, например, поэт–преступник Франсуа Вийон]. Грех Сальери — прежде всего против искусства. Мы оставляем Сальери с вопросом на устах, выражаемым в образах дорогого ему искусства, в формулировке: ”ужель он прав, и я не гений?» Бедный, бедный, слепой Сальери! Он и не подозревает, что здесь не один, а два не зависящие друг от друга вопроса…»
Но сказать прямо, что идеал, выражаемый музыкой Моцарта, безнравственный, у Лернера так же не хватило духа, как и пушкинскому Сальери. И поэтому, — вернитесь к исходному вопросу, — Сальери так много врет и врет самому себе.
2.3
ВОПРОС.
Зачем Пушкин дал своему Моцарту высказать эгалитарный, казалось бы, т. е. уравнительный идеал общественного устройства?
ПРИМЕР.
По поводу, похоже, слез и слов Сальери, послушавшего «Реквием», Моцарт говорит:
Когда бы все так чувствовали силу Гармонии! но нет: тогда б не мог И мир существовать; никто б не стал Заботиться о нуждах низкой жизни; Нас мало избранных, счастливцев праздных, Пренебрегающих презренной пользой, Единого прекрасного жрецов. Не правда ль?ОТВЕЧАЕТ И. М. НУСИНОВ (1941 г.).
Моцарт взывает:
Когда бы все так чувствовали силу Гармонии!В этих словах — затаенная мечта Моцарта о совершенном и всеобщем счастье, о высшем торжестве искусства.
Но Моцарт не мог знать пути к этому торжеству искусства. Его едва ли знал сам Пушкин. И не потому только, что Пушкин, как и Моцарт, или как другие великие современники Пушкина — Гете и Байрон были окружены светской чернью и тратили огромные силы на борьбу с ней, а подчас и на приспособление к ней. Причины здесь более глубокие: всеобщее торжество искусства неотделимо от социалистического торжества гуманизма, реальные пути к которому еще ни одному человеческому гению неведомы были в болдинскую осень 1830 года.
Не ведая путей для такого торжества искусства, Моцарт не отворачивается с артистическим презрением от мира, а готов признать справедливым это ограниченное внимание мира к искусству:
…но нет —прерывает Моцарт свои мечты,
тогда б не мог И мир существовать; никто б не стал Заботиться о нуждах низкой жизни…Как и самое высокое искусство, эта «низкая жизнь» суверенна. Права мира на существование не определяются мерой его признания искусства.
Мир и искусство не являются для Моцарта принципиально непреодолимой антиномией, таящей в себе неразрешимые противоречия. Это противоречие снимается этицизмом Моцарта.
МОЙ ОТВЕТ.
«Иногда истину начинают лучше понимать благодаря тому, что кто–то попытался решительно ее отвергнуть». Эту фразу Генриха Батищева я вспомнил, прочитав приведенные слова Нусинова.
Как! Итоговое: «Нас мало избранных, счастливцев праздных, пренебрегающих презренной пользой» — это значит «не отворачивается с артистическим презрением от мира», от «низкой жизни»? Как! «…но нет: тогда б не мог и мир существовать» — это «не является для Моцарта принципиально непреодолимой антиномией»?
Выведя для себя антиэтицизм музыки Моцарта и реального, и пушкинского, я до Нусинова не замечал, что, оказывается, пушкинский Моцарт намекнул об этом своем сокровенном мироотношении словами. И дважды! И оба раза — с помощью полувопроса «Не правда ль?».
Вот — первый раз:
М о ц а р т Он же гений, Как ты, да я. А гений и злодейство Две вещи несовместные. Не правда ль?Первое предложение для большинства нынешних читателей сомнительно. Имя Моцарта знает чуть не каждый в нашей все еще довольно образованной стране. Похоже, пожалуй, было и с читающей публикой пушкинского времени. А многие ли знали тогда и знают теперь имена Бомарше и Сальери? Для более осведомленных эти двое тоже не ровня Моцарту, хотя полностью компетентные знают, что во время, изображаемое в трагедии, их имена гремели, может, и громче моцартовского. И все–таки так и кажется, что Моцарт тут говорит с подначкой. И тогда сомнительным окажется и второе предложение, ставшее афоризмом. Разве что счесть Моцарта простоватым, как ребенок. Но может ли быть простоватым гений?!
Мы, конечно, привыкли, что со словом «ребенок» в отношении к Моцарту ассоциируется нечто ангельское и доброе. И действительно есть такой возраст, младенческий, являющийся по праву воплощенным символом добра. А добряк, конечно, запросто назовет гениями своих именитых современников.
Но что, если притормозить наш стереотип в восприятии Моцарта? Что, если вспомнить, что младенцам не характерно торможение, и они что хотят, то и делают, не взирая ни на что? И что, если вспомнить о парадоксальности моцартовской музыки и, следовательно, сознания? — Отрицая и для себя, и вслух злодейство Бомарше по иному признаку, чем Сальери, разве не может легкий и непредсказуемый Моцарт хоть и связывать союзом «а» первое предложение со вторым, но произнести самодовлеющий афоризм («гений и злодейство две вещи несовместные») и тут же, хоть и через точку, подвергнуть его сомнению («не правда ль?»). Лернер, вы читали, тоже не захотел признать этот афоризм как произнесенный безоговорочно.
Нет, конечно, здесь риторический вопрос. По определению риторический вопрос лишь провоцирует активное восприятие партнера и не требует ответа, ибо ответ подразумевается. И все–таки. Если признать, что Пушкин захотел изобразить, как подсознательное стучится во враждебное ему сознание, то надо будет согласиться — это Пушкину удалось прекрасно: его Моцарт произнес нечто амбивалентное не только для читателя и для Сальери (и мы и злодей знаем о злодействе). Произнесенное устами Моцарта вполне могло оказаться двусмысленностью для его собственного уха. И второй смысл тут — это независимость искусства от этики.
В том–то и трагедия Моцарта, что он недоосознает антиэтицизм художественного смысла своих произведений и опасность реакции на это со стороны некоторых: осознавал бы вполне — боялся бы, не был бы так свободен и не был бы самим собой, гением моцартовского типа, раскованным, а поскольку недоосознает, постольку подвергается смертельной опасности и гибнет.
И для нас ясно, что подсознание пушкинского Моцарта безошибочно: и совместимы гений и злодейство, и злодеем может быть и друг, и любимая, и Сальери, и жена. И для читателя получается, что на вопрос сознания пушкинского героя: «не правда ль?» — подсознание героя же отвечает: «нет, не правда». Нет — всей цепи силлогизмов, предшествующих вопросу.
То же — и с цепью силлогизмов перед вторым «не правда ль?». Нечто хорошее и здесь подвергается скрытому сомнению. То есть, возможно, это плохо, «когда бы все так чувствовали силу гармонии», плохо, когда «никто б не стал заботиться о нуждах низкой жизни» и «все предались бы вольному искусству». И хорошо обратное — когда «нас мало избранных». А Нусинов огрубляет Моцарта, не замечая тонкой виртуальности его слов (виртуальный это тот, который может или должен проявиться).
Мне вспоминается сцена из киносериала «Солнечный ветер». За столиком институтского кафе симпатичный и самоуверенный молодой физик, непосредственный и легко впадающий в творческий транс, как Моцарт, с таким увлечением обсуждает с главной героиней только что услышанный им ее доклад, потрясший ретроградное большинство на симпозиуме (к которому наш молодец явно не относится), что без всякого стыда в забвении восторга выпивает одну за другой чашечки кофе всех сотрапезников (возбужденнный ум властно требует глюкозы и кофеина). Женское окружение переглядывается в восхищении: «Какой неукротимый темперамент!» И затем молодые дамы задумчиво смотрят на парня: «Вот бы его — ко мне в постель!» И главная героиня незаметно для него заказывает и заказывает ему еще кофе. Она, предельно раскованная в своем научном поиске, для поддержания творческого горения чувствует необходимость быть вольной и в любви (таков сюжет). А она замужем. И полюбила другого. И мучается супружеской верностью. И завидует вот этому объявившемуся вдруг расторможенному субъекту. А он воплощает собой привилегированность физиков в стране, втянутой в ядерную гонку. И зритель так и читает в подсознании героини: «А что — я не физик разве?!. Не волшебник, не искусник от науки? Разве я не вправе, как и он, хоть я и женщина? Разве вся «низкая жизнь» не должна быть «подножием искусству» моему? Разве поэтому в «низкой жизни» мне не все позволено?» И впоследствии она разрешает себе все. Это оканчивается драматически. Зато перед ней раскрывается перспектива понять–таки физику корпускулярного излучения Солнца, так называемого солнечного ветра. Итак, да здравствует достигаемое полной свободой выдающихся, «избранных» физиков высшее торжество физики!
Совсем не по нусиновскому Моцарту: «высшее торжество искусства, «когда бы все так чувствовали силу гармонии».
У пушкинского Моцарта в сознание стучится подсознательный антипод этицизма. Но он его в таком качестве не сознает. Когда тот прорывается в прямые слова, пушкинский Моцарт его украшает, понимай, чем–то противоположным «низкой жизни». Наверно высокой он свою жизнь в этот миг понимает. И совсем Моцарт тут не «не отворачивается с артистическим презрением от мира», а как раз отворачивается от «низкой жизни»:
Нас мало избранных, счастливцев праздных, Пренебрегающих презренной пользой, Единого прекрасного жрецов.Следующее за этим «Не правда ль?» относится ко всей цепи силлогизмов, а не к последнему звену. Цепь же состоит из таких звеньев: неравенство это плохо — равенство это хорошо — равенство это плохо — неравенство это хорошо. Так вы хотите, чтоб риторический вопрос относился лишь к последнему звену и рассматривался только как риторический, предполагающий ответ: «правда»? Вы вправе. Тогда для вас Нусинов просто ошибся, натянув на пушкинского Моцарта некий прокоммунизм.
Однако гораздо тоньше увидеть во всем отрывке полутона, происки подсознательного, которое совсем не связывает себя этикой и согласуется с индивидуалистическим пафосом моцартовской музыки, с пафосом, который Пушкин постиг.
Впрочем, если б Нусинов и позволил себе заметить такие нюансы, он в 1941 году не посмел бы о них напечатать.
Так что, в результате, ответ на поставленный вопрос должен быть другой: пушкинский Моцарт лишь мельком подумал о желательности равенства в обществе — мало ли куда могло занести эпизодическую мысль этого легкого человека.
2.4
ВОПРОС.
Зачем Пушкин дал Сальери слова глубокого оправдания замыслу убить Моцарта?
ПРИМЕР.
…не то мы все погибли, Мы все, жрецы, служители музыки, Не я один с моей глухою славой.ОТВЕЧАЕТ В. ВЕРЕСАЕВ (1942 г.).
Моцарт — это не Пиччини, не Глюк, и это не товарищ, пусть первый среди всех их, но «первый среди равных». Это существо совсем из другого, высшего мира.
Вот Сальери стоит передо мною — в великой тоске чада праха, томящегося бескрылым желаньем подняться над землею. Пока Моцарт жив, он, Сальери, — да и не только он, а и Пиччини, и Глюк, и остальные его «товарищи в искусстве дивном», — все должны себя чувствовать «чадами праха», маленькими, бескрылыми «дарованьицами». Да разве возможно с таким ощущением творить? Чтобы вольно творить, нужно чувствовать себя орлом, способным подняться выше облаков, сознавать себя великим талантом, гением. Нет, не софизмами, вовсе не софизмами доказывал себе Сальери гибельность Моцарта для всех их. При Моцарте никто из них не может чувствовать себя гением. Значит, не может творить. Значит, не может жить. Потому что для них для всех жизнь — только в искусстве.
МОЙ ОТВЕТ.
Это тонко заметил Вересаев, что не могущий чувствовать себя гением не может творить.
Почему в детстве все поют, рисуют, танцуют, а в отрочестве у большинства это все пропадает? Да потому что юношам становится ясен их уровень. Но есть же, — скажете, — люди со способностями, которые не бросают эти занятия, хотя и не считают себя гениями. Верно, но лишь отчасти. Способным нечего стыдиться, если они считают еще слабой свою очередную работу: они ее или уничтожают, или прячут. Но дело–то в том, что не творить они не могут: это так называемая интрогенная (рождающаяся внутри, а не из–за потребности во внешнем) форма деятельности. «Как в случаях развлечения, спорта и игры, в случае художественного творчества чувство удовольствия и удовлетворения в конечном счете вызывается не результатом активности, а самим ее процессом» (Узнадзе). У способных произведение не является совсем ерундой. Этого хватает, чтоб творить дальше и дальше. А пока творишь… «Степень удовлетворения процессуальной стороной творчества в конце концов зависит от того, насколько адекватно воплощены в произведении искусства его (субъекта) внутренние переживания. Идея произведения искусства не только ежеминутно определяет процесс творчества, но и зовет к его окончанию и завершению. Процесс художественного творчества потеряет свой смысл, если он прекратится до завершения произведения» (Узнадзе). Пока художник творит, не кончил свой опус, ему все время что–то удается, он непрерывно побеждает. Он — субъективно — чувствует себя гением! Это незабываемое переживание. Сужу по себе: я живописью занимался, и не только в детстве. Сосуществование в мире других гениев не находится в поле внимания пока творишь. Пока я творю — я орел, я вольный. И вовсе не внешнее, не желание славы, или большей славы побуждает меня взяться за новый акт творчества, а то, что я иначе разорвусь. И плевать мне на все на свете!
Удивляюсь, что Вересаев, упоительно интересный писатель, забыл это, когда писал о Сальери. И — не смог с ним не поспорить, когда он очень точное переживание призвал на службу неправде.
2.5
ВОПРОС.
Зачем Пушкин дал Моцарту предварить словесным описанием свою новейшую вещь, которую тот собрался сыграть?
ОТВЕЧАЕТ В. ВЕРЕСАЕВ (1942 г.).
…у Пушкина нечто крайне наивное, над чем расхохочется не один только специалист–музыкант.
Представь себе… Кого бы? Ну, хоть меня, немного помоложе; Влюбленного, — не слишком, а слегка, — С красоткой или с другом, хоть с тобой. Я весел… Вдруг: виденье гробовое, Незапный мрак иль что–нибудь такое…Плох тот музыкант, который все это не в состоянии выразить непосредственно в музыке и вынужден прибегать к предварительному словесному решению!
МОЙ ОТВЕТ.
Поразительно, но Вересаев как бы забывает о существовании так называемой программной музыки, музыки, предваряемой специальным словесным текстом. Ее сочиняли и самые именитые композиторы на свете. Что: в том их слабость?
Другое дело, что во времена Моцарта программной музыки еще практически не было как таковой. Так тем смелее поступил Пушкин, тем раскованней и в стиле Моцарта: раз она возникла при нем, Пушкине, в письменно зафиксированном виде, то почему б ему не заставить своего Моцарта, представителя предыдущего поколения, произнести программу устно.
Так. Все так. И все–таки упрек Вересаева коробит.
Впрочем, есть одно обстоятельство, по–моему, прямо–таки толкавшее Пушкина на вольность с историей музыки и психологией композиторов. Если правда, как пишут, что Пушкин понял музыку Моцарта раньше многих и многих, в том числе и раньше многих музыковедов, то ему свое понимание поневоле необходимо было словесно зафиксировать. Он это и сделал.
Вдумайтесь: что чувствует «я» моцартовской вещицы при гробовом видении? Страх. Но бесследно ли пропала «его» веселость? Ведь виденье гробовое еще не смерть. Что если здесь не только чередование контрастов, а и взаимопроникновение! Тогда почитайте, что о Моцарте, — пушкинском и реальном, — написал Чичерин:
«Гениально схвачен Пушкиным демонизм Моцарта в его характеристике того, что он сыграл Сальери — легкая, приятная беседа — и вдруг виденье гробовое…
Напомню рассказ Рохлитца о прощании Моцарта с семейством кантора в Лейпциге. В момент прощания с ним Моцарт написал два канона, один элегический — «Lebet wohl wir sehn uns wieder» [ «Прощайте, мы увидимся снова»], другой комический — «Heult noch gar wie alte Weiber» [ «Поревите еще как старые бабы»]. Каждый из них звучал прекрасно, а когда эти два канона спели вместе, то получилось не просто конрапунктическое сочетание разных тем, но полное органическое единство слившихся противоположностей, до того странное, поразительное, особенно глубокое, потрясающее, что все были страшно взволнованы, и сам Моцарт быстро закричал: «Прощайте, друзья», и убежал. Дело не в техническом кунсштюке сочетания разных тем, а в органическом слиянии контрастов в едином целом, внутренне противоречивом, амбивалентном, с одновременным притяжением и отталкиванием… Мы спускаемся в такую глубину мировых сил, где единство противоположностей реально. И Рохлитц кончает свой рассказ указанием, что соединить разные темы может всякий хороший контрапунктист, но в данном случае получилось единое целое, полное слияние различий, и в этом, говорит он, одна из глубочайших особенностей Моцарта…
Бодлерианское «небо и ад»! В окончательном универсальном Моцарте это слияние… существует уже не в виде разных голосов, разных частей, а в виде полного слияния, иногда в простейшей мелодии… Об этом прекрасно говорит Паумгартнер: «… его демоничность — темная страсть прекрасного, которая должна раствориться в противоречиях… Сама смерть продуктивна… Сладостное предчувствие конца заставляет лучше осознавать бытие…» Прекрасно, прекрасно! Это именно Моцарт! Сладостное предчувствие конца (самый настоящий Моцарт!) и кубок жизни, космизм и реальная жизнь… соки земли, чувственность, эротизм и безграничные горизонты».
Пушкинский Моцарт сказал короче и скрытнее. Но совсем никаких слов не дать Пушкин не мог. Ибо он, Пушкин, был едва не пионером в постижении Моцарта. Вот еще цитата у Чичерина:
«Моцарт — демоническая натура и отзвуки этих природных склонностей обнаруживаются в его произведениях в таком количестве, что охватывает удивление: как об этом вопросе во всей его совокупности до сих пор не было речи…»
Чичерин писал это задолго до Вересаева, но Вересаеву, судя по его работе, так и не открылся демонизм Моцарта, даже несмотря на прямой пушкинский намек. Уважительнее отнесся бы Вересаев к Пушкину, задумался б: зачем Пушкин заставил композитора переводить словами свою музыку — так не назвал бы здесь Пушкина наивным.
*
А вот как на тот же вопрос — «зачем пушкинский Моцарт предпослал своей «вещице» словесную программу?» -
ОТВЕЧАЕТ В. РЕЦЕПТЕР (1970 г.).
Между ремаркой «Входит Моцарт» и первой же его репликой: «Ага! увидел ты!..», — помещено важнейшее событие — отказ от шутки. В чем причина, почему Моцарт передумал? Потому, что — »увидел ты»? Но ведь ясно (следующая реплика Сальери: «Ты здесь!..» — подчеркивает это), что Сальери не увидел Моцарта. Моцарт, как громом, поражен тем, что Сальери видит его не видя. А если именно сейчас, а не позже, вспомнить, что ему «день и ночь покоя не дает» «черный человек», что он, как тень, гонится за Моцартом «всюду», мы почувствуем несомненную связь только что происшедшего события с этим обстоятельством…
И Моцарт не может не понимать, что не слепой скрипач, а он сам, Моцарт, как–то странно неприятен Сальери…
Три недели назад Моцарту был заказан Реквием, и сочинен он быстро. Мы знаем, какое впечатление произвел этот заказ и как отозвалась эта работа на Моцарте, а между тем ближайший друг, Сальери, узнает о ней только сегодня. Почему же Моцарт до сих пор ничего не говорил Сальери о Реквиеме? Ведь даже «безделицу», написанную на ту же тему, Моцарт несет к Сальери незамедлительно. В этой непоследовательности есть какой–то скрытый смысл.
Отношения Моцарта и Сальери начались с настоящей дружбы. Но они дали трещину. С одной стороны, это зависть Сальери, обнаруженная и осознанная им, зависть, которой должна быть найдена причина. Что же с другой стороны?
«Мне совестно признаться в этом…» — говорит Моцарт. Почему совестно? И — «В чем же?» Неужели всего лишь в дурных предчувствиях? Стесняться и просить снисхождения можно по поводу слабости; стыдиться же, «совеститься» можно, видимо, только чего–то дурного.
Например, совестно подозревать друга в злом умысле.
Моцарт обычно выглядит либо слишком упрощенно, либо слишком загадочно. Пушкин же, на наш взгляд, как драматург больше всего занят взаимоотношениями двух людей, некогда близких, каждый из которых по–своему чувствует кризис дружбы и по–своему ищет из него выхода.
Вот, наконец, Моцарт идет к другу, решив признаться в подозрениях, в мании, быть может, нелепой. Признаться, исповедоваться, очистить душу и тем самым излечиться. Вовсе не противоречит этому и ремарка «Моцарт хохочет» — не смеется беззаботно, а именно хохочет. Герои Достоевского тоже подчас хохочут в минуты напряженные, решающие и трагические.
И прийдя к другу, возможно, Моцарт так поражен встречей, а затем мрачной вспышкой Сальери, что просто играть не может и собирается с силами; в сегодняшнем Сальери, в его нетерпимости, в явной душевной омраченности как раз и кроется для Моцарта «что–нибудь такое…», о чем он хочет и не смеет сказать… И прежде чем сыграть «безделицу», Моцарт пересказывает Сальери ее содержание.
МОЙ КОММЕНТАРИЙ.
Все это — выявление тончайшего психологизма. Но не ради психологии психологизм Пушкиным здесь затеян, а мимоходом (не нарочно же спускаться с этого реалистического завоевания реалисту, пусть и утопическому).
*
А вот как Рецептеру
ВОЗРАЖАЕТ Я. БИЛИНКИС (1972 г.).
В. Рецептер оправданно останавливается на том, как трудно Моцарту приступить к игре. Однако он напрасно проходит мимо драматического содержания самой музыки, на которую прямо указывает пушкинский Моцарт. Так и стало возникать у В. Рецептера в Моцарте психологическое «перенасыщение», заставившее автора статьи в конце концов назвать наряду с Моцартом даже «героев Достоевского».
Моцарт же живет с музыкой нераздельно. Мы узнаем о переменах в его душевном мире из того, как по–новому, иначе, чем прежде, возникает, дает в нем «себя знать» музыка.
Вот почему первое в «маленькой трагедии» исполнение своей музыки Моцарт предваряет словесным «изложением».
Творец «Моцарта и Сальери» как нельзя более далек от того, чтобы видеть источник судьбы гения в чьей–нибудь «злой воле» или в отношениях самого гения с носителем этой «злой воли». Совсем напротив — все у Пушкина наполнено движением истории. И потому ни истолкования, ни сценические постановки «маленькой трагедии» не терпят никакого погружения исключительно в психологию, никакого нагнетания «психологизма».
Сальери, как ему представляется, спасает искусство, его дальнейшую судьбу от Моцарта. Но в самом Моцарте прежняя жизнь его, моцартовской музыки отступает перед чем–то совсем иным, новым. «Если у Моцарта мы еще не раз встречаемся с «забавами» гения, великолепными и покоряющими по изяществу и непринужденности и чистоте инструментальными сочинениями, где поистине «музыка сама себе цель» — и слушатель наслаждается очарованием тем, плетением музыкальной ткани, тончайшим мастерством и вкусом, то для Бетховена это почти исключено», — констатирует сегодня музыковед [Н. Шахназарова]. В трагедии Пушкина то, о чем говорит музыковед, открывается нам как совершающееся не после Моцарта, а в нем самом. И Моцарту, такому, каким он был, места в мире больше нет. Дальше музыке предстояли новые, гораздо менее непосредственные отношения с жизнью.
МОЙ КОММЕНТАРИЙ.
Мне очень импонирует стремление Билинкиса видеть глубины, огромности, «движение истории», двигавшие Пушкиным при создании образов гения, злодея — надводной, так сказать, части айсберга–произведения. И обращение Билинкиса к истории музыки в связи с пушкинской трагедией замечательно. Не я первый!..
Только Билинкису не повезло с музыковедом.
«Непринужденность» — по Шахназаровой, а за нею и по Билинкису — «прежней моцартовской музыки» это на Синусоиде идеалов — точка на самом ее низу, а не на вылете с нее вниз, как по Рохтлицу, Паумгартнеру, Чичерину относительно музыки, характерной только для Моцарта. А идеал Бетховена — на восходящей дуге Синусоиды, если не на вылете с нее вверх (как можно судить, например, опираясь на Луначарского). Так если правы четыре перечисленных музыковеда, то не права Шахназарова. И не надо было Билинкису делить Моцарта на старого и нового и нового — соотносить с Бетховеном.
Но как знать, кто из музыковедов прав, а кто нет? Я, как слушатель и Моцарта, и Бетховена, считаю, что вправе судить.
В юности меня озаряли видения при первом слушании некоторых отрывков серьезной музыки. Так, я однажды услышал (потом я узнал: это было начало 40‑й симфонии Моцарта — первая мной услышанная его вещь), я услышал по радио нечто столь трепетное и щемяще красивое, что мне представилась прекрасная бабочка–однодневка, порхающая в совершенном счастье среди радостного дня, не зная, что она умрет на закате; но я‑то знал! И я задохнулся от избытка чувств и выбежал из квартиры, чтобы не слышать радиоприемник. Но музыка продолжала вибрировать в моей душе. «Я лечу, я лечу, я порхаю! Красота, красота, красота!» — как бы выражал себя маленький мотылек. А я, большой и все знающий про него, быстро шел по ночной улице и безумно, до слез его (и только ли его!?) жалел.
Мог ли я полвека спустя не откликнуться душою на слова музыковедов об эфемерности этой прекрасной жизни, как пафосе творчества Моцарта.
А Бетховена (наверно тоже впервые) — его увертюру к музыке для гетевской драмы «Эгмонт» — я услышал как сопровождение к финалу радиопостановки этой драмы, трактованной как трагический пролог в будущем победоносной нидерландской революции. И меня трясло.
Так как мне не верить, что Бетховен — выразитель идей Французской и вообще любой социальной революции.
В общем, считаю, что я смею словам Шахназаровой о Моцарте сказать «нет», а словам Чичерина, Рохлитца, Паумгартнера — «да».
2.6
ВОПРОС.
Зачем Пушкин придал импровизаторский характер моцартовской словесной программе его «вещицы»?
ПРИМЕР.
Представь себе… кого бы? Ну, хоть меня… …или с другом — хоть с тобой…ОТВЕЧАЕТ С. БОНДИ (1950‑е годы).
Дело в том, что у Пушкина Моцарт вовсе не понимает ситуацию, не понимает, что Сальери его лютый враг. И музыку свою он написал вовсе не на готовую программу, которую он будто бы излагает Сальери, прежде чем сыграть свое произведение! Наоборот, он сам не знает, что он написал, и старается сам понять внемузыкальный смысл своего произведения. Он тут же придумывает, кого бы можно было бы представить себе, слушая его произведение. И останавливается на себе: «ну, хоть меня»… И дальше, говоря о том, какое внемузыкальное содержание вложено во «вторую тему» его вещи, он также придумывает, колеблется; сначала ему кажется, что это образ красотки, в которую «слегка влюблен» его герой, а потом отказывается от этого: «…или с другом, хоть с тобой…»
Итак, начинается с музыкального образа Моцарта — молодого, в расцвете сил, к тому же в особом подъеме — он влюблен… «Не слишком, а слегка», то есть в таком состоянии духа, когда еще нет противоречий, страданий от сложных обстоятельств, связанных иной раз с глубокой, большой любовью. Здесь только радость любви, веселье… Словом, звучит характерная для Моцарта светлая, быстрая, ясная, вдохновенная музыка — «тема» Моцарта…
[Заметим тут же, что Бонди не сумел (как очень и очень многие и в прошлом, и сейчас) понять только Моцарту присущую характерность, понятую Рохлитцем, Паумгартнером, Чичериным и др. — демонизм, сладостное предчувствие конца в простейшей мелодии.]
…Вторая «тема» (другой мотив) — тема Сальери. Более спокойная, рассудительная, не такая веселая и быстрая, притом вполне мягко и «доброжелательно», даже, может быть, любовно звучащая — ведь это тема друга, по словам Моцарта… Далее, как обычно бывает в серьезных музыкальных произведениях, идет так называемая «разработка» этих тем, сочетание их, или «диалог», при котором они обычно, сохраняя в общем свой мелодический и ритмический рисунок, могут изменять свое выразительное содержание. Так мотив Сальери постепенно…
[Бонди игнорирует «Вдруг», черным по белому напечатанное в тексте.]
…преображается — теряет свой дружественный характер, звучит все более враждебно, зловеще, угрожающе… Музыкально–логический вывод из этого движения, развития, подлинного раскрытия темы Сальери — внезапный мрак, смерть, «виденье гробовое», которым и кончается пьеса.
Пушкинский Моцарт, написав свое произведение, в котором раскрывается подлинное лицо Сальери и роковые последствия их дружбы, сам не понимая смысла его, старается все же понять, перевести его содержание с привычного ему языка музыки на язык слов. Это для него совершенно необходимо! Он жил, чувствовал и мыслил только для музыки, и ему вовсе не нужно было обычным, «словесным» языком осмыслить содержание своих произведений… Но теперь дело касается его жизни!
Действительно, первое, что слышит Моцарт, заглянув потихоньку в комнату Сальери, — это его возглас: «О Моцарт, Моцарт!» Сколько горечи и злобы в этом вопле! А следующая испуганная реплика: «Ты здесь! — давно ль?» А с каким презрительным видом смотрит на него Сальери, когда Моцарт представляет ему слепого скрипача! А каким тоном звучат его реплики: «И ты смеяться можешь?», «Когда же мне не до тебя…», «Ты, Моцарт, недостоин сам себя», «Я знаю, я!» Теперь дело касается его жизни.
Вот чем объясняется это странное поведение Моцарта, заставившее критиков–музыкантов обвинить Пушкина в ошибке, в незнакомстве с музыкой, с психологией композитора: никогда композитор не станет предлагать другому композитору «представить себе» что–нибудь, слушая его вещь, если это не заранее обдуманное программное произведение.
Пушкинский Моцарт не для Сальери говорит, а для самого себя, ему во что бы то ни стало нужно прояснить смысл этого, очень важного для него произведения. Придумавши на глазах Сальери «программу», Моцарт как будто добился своего, он как будто понял сам, о чем он написал… Но…
Это и есть трагедия Моцарта, на которую обычно не обращают внимания исследователи и исполнители его роли. Моцарт не может заподозрить своего друга и горячего поклонника его музыки в преступном умысле…
МОЙ ОТВЕТ.
Приятно наткнуться на почти дословное совпадение с моей версией, что перед нами трагедия недоосознавания. Но недоосозавание–то оказалось глубже: не другого, а себя. Чем Моцарт породил вражду к себе? Музыкой. Не качеством ее, а смыслом. Хорошо, что Бонди ввел (впервые) в оборот слова «смысл произведения». Вот жаль только, что он не понял этого смысла. Он применяет слова «развитие музыкальной темы», ставшие шаблонными у музыковедов. Но развитие–то, когда касается сонатной формы, не означает постепенности, как обычно. (Бонди не обратил внимание на слово «Вдруг».) Здесь «развитие» означает один закон — беззаконие. Действительно, разве это обычно: среди веселья — виденье гробовое? А тем более — эстетизация этого? Нет. Для недемонов!
Какое–то движение Моцарта к правильному осознаванию дружбы Сальери, может, и есть в пьесе и, можно вывести, что отсюда — характер экспромта у его программы для «вещицы». И тогда, получается, торжествует, и тут торжествует пушкинский неизменный психологизм. И Бонди, получается, логичен: «Главная ее [трагедии] задача — раскрытие глубины человеческой психики, сложности до тех пор не изученных ни наукой, ни искусством душевных состояний». И это соответствует бестенденциозному реализму.
Но есть более тонкие наблюдения над текстом, включающие в себя и наблюдения Бонди, и то, что он в упор не видит, и позволяющие сделать иные выводы. Об этом — со следующей строки.
*
ВОПРОС.
Зачем Пушкин сделал Моцарта почти постоянно сомневающимся, взывающим к согласию собеседника, а Сальери — наоборот?
ПРИМЕР.
М о ц а р т Ужель и сам ты не смеешься? … … … … … … … … … Хотелось Твое мне слышать мненье… … … … … … … … … … Что ж, хорошо? … … … … … … … … … Ба! право? … … … … … … … … … Не правда ль?ПРИМЕР.
«В первой сцене из 107 стихов, сказанных Сальери в монологической форме, приходится всего 16 стихов в форме диалога» (Благой. 1955)
ОТВЕЧАЮТ Н. В. БЕЛЯК И М. Н. ВИРОЛАЙНЕН (1995 г.).
Утверждая некоторую правду как высшую и несомненную истину, Моцарт сомневается и в собственном праве на утверждение, и в собственной субъективной правоте, а потому постоянно стремится найти поддержку в другом, в собеседнике. Вспомним, что оба его программных, безапелляционных, афористичных высказываний — о несовместимости гения и злодейства и о природе единого прекрасного жрецов — каждый раз (хотя и по–разному) завершаются одним и тем же трепетным вопросом: «Не правда ли?», взывающим к согласию собеседника.
Но ценой собственной жизни платит Моцарт за отсутствие сомнений в тот момент диалога, когда решается судьба этой истины в нем самом и в мире.
До того принципиальная вопросительность Моцарта контрастно противоположна монологизму Сальери. На протяжении первой сцены Сальери девять раз задает вопросы. Два из них имеют чисто функциональный характер: «Ты здесь! Давно ль?» и «Что ты мне принес?» Остальные же семь суть вопросы риторические, они не нуждаются в ответах, ибо сами содержат их в себе. «Кто скажет, чтоб Сальери гордый был Когда–нибудь завистником презренным <…>? Никто!»; «О небо! Где ж правота, когда…» — подразумевается: нет правоты; «И ты смеяться можешь?», т. е. как ты можешь смеяться? Этого нельзя!; «Ах, Моцарт, Моцарт! Когда же мне не до тебя?», т. е. мне всегда до тебя; «Что пользы, если Моцарт будет жив И новой высоты еще достигнет? Поднимет ли он тем искусство? Нет»; «Что пользы в нем?» — подразумевается: нет пользы; «Что умирать? я мнил: быть может, жизнь Мне принесет незапные дары <…> И я был прав!».
Это качество Сальери обращается в свою противоположность во второй сцене. Здесь на каждом его вопросе сквозит зависимость от собеседника, потребность в ответе: «Что ты сегодня пасмурен?»; «Ты верно, Моцарт, чем–нибудь расстроен?»; «А! Ты сочиняешь Requiem? Давно ли?». Вопросы Сальери постепенно становятся сращенными единым дыханием с репликами Моцарта, подхватывают речь собеседника и вызывают к ее продолжению.
М о ц а р т Но между тем я… С а л ь е р и Что? М о ц а р т Мне совестно признаться в этом… С а л ь е р и В чем же?А чтобы окончательно убедиться в значимости вопросов Сальери, обратим внимание на характер финала трагедии. В финале звучит целая обойма отнюдь не риторических вопросов, на которые уже нет иного ответа, кроме молчания и тишины оборвавшегося здесь текста.
…но ужель он прав, И я не гений? Гений и злодейство Две вещи несовместные. Неправда: А Бонаротти? или это сказка Тупой, бессмысленной толпы — и не был Убийцею создатель Ватикана?[Речь о легенде, что Микельанджело распял и убил натурщика, чтоб точней изобразить страдания распятого Христа.]
Трагедия кончается вопрошением того самого человека, который открывал ее утверждением, «ясным, как простая гамма».
МОЙ КОММЕНТАРИЙ.
Как видите, хоть я и обозначил «ОТВЕЧАЮТ», но Беляк и Виролайнен не отвечают, а отмечают наблюдения. Отвечать, зачем все это сделал Пушкин прийдется мне. И ответ в том, что здесь трагедия недоосознавания самих себя.
Моцарт потому и вопросителен, что его сознание трагически не соответствует своей вопросительности. Не «все большее и большее — по Бонди — приближение к ясному пониманию ситуации» здесь. Пушкин неосознаваемо поступает в точном соответствии с психологическим принципом художественности по Выготскому: развоплощает материал в его противоположность. Казалось бы, чем больше человек сомневается, тем он ближе к истине. Но это — в жизни. В искусстве наоборот. Самый доверчивый — Отелло — ревнив, светский лев — Онегин — гибнет от несчастной любви… Вопросительный Моцарт так и не приближается к уяснению, почему у него могут быть враги — из–за демонизма его музыки. И теряет он всякие сомнения и утверждается в своей безопасности, когда поздно, когда он уже отравлен.
Сальери более способен отдавать себе отчет, что с ним происходит. И он начинает с ясного, как простая гамма, понимания, что торжествует в мире кривда, демонизм, Моцарт. Но Сальери не удерживается на этом — трагедия–то: недоосознавания. И он срывается с позиции своей призванности, что вне морали, вне сообразовывания с Другим. И впадает в вопросительность. И когда ему уже некому ответить, он полностью теряет уверенность в своей правоте, а непонимание себя и Моцарта достигает подхода к апогею.
В результате ни Моцарт, ни Сальери друг о друге и о себе самого главного не поняли, и трагедия совершилась. А мечта их создателя, Пушкина, была в обратном. И потому он тут уже не бестенденциозен. Он утопичен.
*
В словах «Представь себе… кого бы? Ну хоть меня… с другом — хоть с тобой…» оказалось возможным увидеть не импровизаторский характер, — как по Бонди, — а модельный. И что тогда?
ОТВЕЧАЕТ А. БЕЛЫЙ (1980‑е годы).
Моцарт как бы строит модельную ситуацию, в которой может оказаться любой человек. Важен не конкретный субъект, а та гамма переживаний, которая возникает с появлением «виденья гробового». Эту гамму можно развернуть, например, так: «Творец отнимает у человека жизнь в тот самый момент, когда человек счастлив. Несправедливо, безжалостно, бесчеловечно. Имеет ли Он право на это? Разум не может с этим примириться» [а по Чичерину — в смертности перец жизни]. Так мы еще раз возвращаемся к уже звучавшему ранее вопросу — хозяин ли Создатель в доме своем? [Белый этот вопрос вывел — и вполне обоснованно — исходя из богоборческого пафоса Сальери.] По–видимому, в музыке, играемой Моцартом, есть какие–то демонические, богоборческие ноты, за что он удостаивается похвалы от Сальери в смелости.
МОЙ ОТВЕТ.
Нельзя ставить в один ряд богоборческие и демонические ноты, хоть Демон и богоборец. Демон борется во имя индивидуализма, во имя себя. А с богом можно бороться и во имя колективизма, например, как гетевский Прометей — с Зевсом: во имя людей. Идеал демонический — на вылете вниз с Синусоиды идеалов, гетевский, в «Прометее» — на восходящей дуге. Язычника, атеиста и христианского вероотступника (как прелата в «Оводе» Бондарчука) возмущает несправедливость мироустройства, зло, отнимание жизни у молодых и счастливых и не за большие грехи перед богами и людьми, а так — по произволу. Христианин — смиряется, особенно — причастившись: Бог дает — Бог и возьмет. А демонист что? Для него жизнь на грани смерти — самый смак.
А как за гранью?
Демонист и там с Богом не помирится. Таким я и услышал моцартовский «Реквием» с пластинки на проигрывателе. И то, что пушкинский Моцарт «Реквием» играет будучи отравленным, — знаменательно. Он торжествует над смертью, над Богом. Богоборец там — это ли не демонизм!?
И мне очень импонирует такой поворот мысли у А. Белого:
ВОПРОС.
Почему Моцарт свой минимонолог (единственный торжественно–ораторский) говорит не после мига торжества (когда он восклицает: «Ты плачешь?»), а после того, как Сальери объясняет свои слезы?
ОТВЕЧАЕТ А. БЕЛЫЙ.
Пушкин строит текст так, что Моцарт как бы подписывается под словами Сальери, они принадлежат Моцарту в той же степени, что и Сальери.
М о ц а р т Ты плачешь? С а л ь е р и Эти слезы Впервые лью: и больно и приятно, Как будто тяжкий совершил я долг, Как будто нож целебный мне отсек Страдавший член!..В душах обоих пушкинских героев шла борьба темных и светлых сил, добра и зла, божественного и демонического. Они оба сделали выбор, но решения их полярно различны… Моцарт же спор между «тварной» и божьей справедливостью разрешает «в пользу» Бога. Создатель — хозяин в своеме доме, даже если и отнимает самый главный свой дар — жизнь. В последнем своем монологе Моцарт развивает тему Божественного произвола, тему «неравенства».
МОЙ ОТВЕТ.
Что неравенства (только без кавычек) — да. Остальное — нет.
Демону действительно нужно Божественное неравенство, зло. Ибо иначе как же он будет вводить людей в грех. А демонист иначе как же возвысится над другими (или просто проигнорирует других — «нужды низкой жизни»)? По божьей воле? — Это зависимость. Лучше — по своей.
А боролись — еще при жизни — в Моцарте не темные и светлые силы, а темные и серые. Темные — демонические, серые — обывательский страх смерти. Страх он отсек, выпив стакан, налитый тем, кого смутно подозревал в злом умысле. Вот почему ему и больно и приятно.
Белый же (в 1980‑х годах!) решил Моцарта согласовать с христианским Богом, и демонизм еще не отравленного Моцарта ему понадобился лишь как объект преодоления в «Реквиеме». (Поэтому так схожи мои впечатления от прослушивания «Реквиема» с его домыслом о «вещице». А что у него домысел — достаточно убедиться, просто соотнеся текст Белого с текстом «вещицы»).
2.7
ВОПРОС.
Почему Пушкин позволил своему Сальери делать явные логические ошибки?
ПРИМЕР.
С а л ь е р и …я избран, чтоб его Остановить — не то, мы все погибли…ОТВЕЧАЕТ М. ИОФЬЕВ (1950 г.).
Ход мыслей Сальери лишен логичности. Убить композитора не значит заглушить его мелодии. Сальери рассуждает не как трезвый человек, а как человек, охваченный страстью. Он лишь кажется рационалистом, а на самом деле он маньяк. Сознанию Сальери чуждо представление о реальной значимости вещей — это уже торжество субъективных представлений о мире.
МОЙ ОТВЕТ.
От субъективизма до индивидуализма один шаг, и Иофьев его сделал в ходе дальнейшего рассуждения. Будто не бывает маньяка рационализма? И будто не бывает нормальный человек в состоянии «словно маньяк»?
На самом деле Пушкин для того и заставляет Сальери быть нелогичным, что он написал трагедию заблуждений и дает нам, читателям, об этом знаки.
2.8
ВОПРОС.
Зачем Пушкин заставил своего Сальери плохо отнестись к слепому скрипачу?
ПРИМЕР.
С а л ь е р и Мне не смешно, когда маляр негодный Мне пачкает Мадону Рафаэля, Мне не смешно, когда фигляр презренный Пародией бесчестит Алигьери. Пошел, старик.ОТВЕЧАЕТ Игорь БЭЛЗА (1953 г.).
Когда Сальери, услышав игру слепого скрипача, произносит высокопарные и гневные слова о «маляре негодном», который «пачкает Мадону Рафаэля», о «фигляре презренном», что «пародией бесчестит Алигьери», — то слова эти, заканчивающиеся сухим, жестким приказаньем — «пошел, старик», воспринимаются не как защита искусства от профанации, а как выражение глубочайшего презрения к «низам».
МОЙ ОТВЕТ.
Мой ответ произошел из неприятия ответа Устюжанина на другой вопрос.
ВОПРОС.
Зачем Пушкин не пометил — хорошо или плохо играл старик?
ОТВЕТ Д. УСТЮЖАНИНА (1974 г.).
В первом монологе Сальери видел свое счастье в том, что он «в сердцах людей нашел созвучие своим созданьям». А теперь он отказывается понять радость Моцарта, услышавшего созвучие своим созданиям в сердце уличного музыканта.
Причем для понимания сущности конфликта совершенно не важно, как — хорошо или дурно — играл старик, что забавного нашел Моцарт в его игре. Вспомним пушкинскую формулу народной оценки его собственного творчества:
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал…
Музыка Моцарта, несомненно, пробуждает чувства добрые в нищем скрипаче. Сальери же..
МОЙ ОТВЕТ.
Почему «несомненно»? Для меня, скажем, после всего вышенаписанного, как раз сомнительно, что именно «чувства добрые» пробуждает музыка Моцарта в слепом скрипаче. (Точно так же, как и заявление Бэлзы о причинах возмущения Сальери на игру скрипача — «выражение глубочайшего презрения к «низам»” — мне очень подозрительно.)
Приведу сначала субъективное наблюдение над похожим случаем.
Со мной в юности, как уже говорил я, случались видения от классической музыки. Когда я первый раз услышал по радио (потом я узнал название — 1‑й концерт Чайковского для фортепиано с оркестром), когда я услышал первые аккорды этого шедевра — помимо того, что я вмиг переполнился счастьем, мне привиделись, сходящиеся как бы к одному центру сосны на фоне неба, как они видны, если лечь спиною на землю в сосновом бору; и сквозь хвою пробивались лучи солнца (фильма «Летят журавли» тогда еще не существовало)… Я не мог не поделиться таким потрясающим впечатлением с одноклассником, наиболее, как мне казалось, подходившим, чтоб меня понять: у него дома был рояль, и он умел на нем играть, казалось, любую танцевальную музыку; мы ходили к нему домой учиться танцевать. Рассказ свой я иллюстрировал, так сказать, художественным свистом (им неподдельно заслушивались даже те девушки, которым я не нравился, когда я исполнял неаполитанские песни). Но 1‑й концерт в моем исполнении у моего музыкально образованного одноклассника вызвал отвращение: я был очень воодушевлен, а ему не передалось. И он придрался, что я слишком обеднил звучание оркестра, пытаясь передать его свистом.
Вот так же, к форме, придрался Сальери.
Я, помня, что со мной делается от серьезной музыки, стал ходить на симфонические концерты. А за своим соучеником я этого никогда не замечал. Он даже рояль постепенно забросил. Зато он был, не в пример мне, отличный танцор и донжуан.
У нас были разные идеалы, и оттого я его с 1‑м концертом не пронял. То же — и у Сальери со скрипачом. А у меня с девушками, когда я насвистывал неаполитанские песни, идеалы совпадали. То же — и у Моцарта со скрипачом.
Вот если бы скрипач сыграл из Глюка, Пиччини или из Сальери…
Или посмотрите, кого Сальери уважает из поэтов, живописцев: Данте, Рафаэля, Микельанджело Буанаротти — готика, Высокое Возрождение, маньеризм. Это ж все — на восходящих дугах Синусоиды идеалов или на вылетах вверх с нее. Пушкинский Сальери не поклонился, скажем, Петрарке (нисходящая дуга) или, тем более, Боккаччо (самый низ) — Раннее Возрождение.
Вы скажете: «А как же Сальери пришел в восторг от «безделицы» Моцарта?» — На то Моцарт и гений. Искусство может очень много. Так, фейхтвангеровский министр фашистского государства Кленк был покорен фильмом «Броненосец Потемкин» Эйзенштейна. А пушкинский слепой скрипач не представлял всю силу искусства. И — Сальери не проникся прелестью вседозволенности от Керубино и Дон Жуана.
Вспомните себя. Как вам смешно, если на сцену выходит четырехлетняя девочка и очень похоже повторяя фривольные ужимки эстрадной звезды поет ваш любимый шлягер. А если вы ненавидите шлягеры — как вас она возмущает. Правда, во втором случае, вы не станете маскироваться и воскликнете: «О, времена! О, нравы!» Так зато вы и не играете трагедию недоосознавания, самого себя — в том числе.
И Устюжанин совершенно прав, когда напролом, как бы насилуя текст пьесы, где, казалось бы, черным по белому написано, что скрипач играет дурно, проходит мимо этой оценки его игры со стороны Сальери и перескакивает прямо к пушкинскому так называемому «Памятнику». Сам Пушкин поначалу хотел там хвалить себя за, так сказать, форму:
И долго буду тем любезен я народу, Что звуки новые для песен я обрел…Но остановился он на, скажем так, содержании:
Что чувства добрые я лирой пробуждал.Не прав Устюжанин только — заявляя, что Моцарт в скрипаче (и в народе) пробуждал тоже чувства добрые.
А Бэлза, как и Устюжанин, в упор не видящий сальериевского возмущения качеством игры скрипача, еще больше не прав, что из–за отвращения к «низам» негодует Сальери.
2.9
ВОПРОС.
Зачем Пушкин заставляет своего Сальери говорить такое трогательное о своем детстве?
ПРИМЕР.
Родился я с любовию к искусству…ОТВЕТ С. И. ДАНЕЛИА (1956 г.).
Это лишь мнение Сальери, а не Пушкина, и мнение ошибочное: Сальери ошибался в своем отношении к музыке, не понимал этого отношения, не мог дать ему точного названия.
МОЙ ОТВЕТ.
Я привлек ответ Данелиа не как пример бездоказательности, являющейся подспорьем для насилования пьесы. На самом деле он сам не заметил своей голословности в этом месте своей работы. Очень уж неприятным типом выходил у него Сальери из соображений о классицизме, каким тот виделся его врагам, романтикам начала XIX века:
«Классицизм господствовал в европейской литературе XVII–XVIII веков, получив теоретическое свое обоснование в стихотворном трактате Буало «L’art poe`tique» (1674 г.). Главная мысль, лежащая в основе этого знаменитого произведения, сводилась к положению, ставшему популярным еще со времен итальянского Возрождения — а именно к положению о том, что античное искусство есть абсолютное искусство, которому мастера новой Европы могут только подражать, не питая надежды ни превзойти его, ни даже сравняться с ним в совершенстве. Выходило таким образом, что задача дальнейшего служения искусству должна была состоять в охране вместо пополнения, в подражании вместо творчества, в ученичестве вместо мастерства. Была разработана система правил поэтического искусства. От каждого, кто выступал на литературной арене, требовалось строгое соблюдение этих правил…»
Данелиа такой эпиграф взял к своей работе:
Искусство всегда создает нечто новое.
Валерий Брюсов
И по Данелиа выходит, что классицизм — по крайней мере в конце XVIII века — не искусство. А Сальери, им воспитанный, достоин жалости в ту минуту, когда читатель добр. Вообще же Сальери достоин всяческой хулы (так что доброму слову его даже о своем детстве нельзя верить).
Мне импонирует, что слову Сальери нельзя верить, и я включил Данелиа в свою подборку. И я ведь ничтоже сумняшеся утверждаю, что Сальери «не мог дать точного названия», например, феномену Моцарта (называя его словом «бог»). И я ведь заявляю это, исходя из рассуждений о классицизме.
Только я подхожу к классицизму непредвзято.
Да, он отказывался от местного во всем: в языке, в характерах, в сюжете — отказывался во имя античного. Так ведь это потому, что считал, что разум во все времена, у всех людей одинаков и что было прекрасно в древности — прекрасно и сейчас. Более того, зрителя и читателя необходимо, мол, было уводить в стародавнюю жизнь, чтобы жизнь современная, знакомая читателю и зрителю, не мешала своими конкретными чертами созерцать отвлеченные чувства, способности души и законы разума. А ради разума у классицизма ВСЕ. Ибо мыслилось, что абсолютная монархия (а затем и просвещенная монархия) это сила, способная вырвать страну из средневекового хаоса. Да, классицизм для высших жанров признавал лишь александрийский стих. Так ведь почему? Потому что проза считалась языком быта, единичной, случайной жизни. А нужен–то был язык богов, язык чистой разумности. И само–то требование несмешивания высоких жанров с низкими было для чего? Для того, чтоб пестрота не мешала разумному анализу. И акцент на правилах был ради идеи абсолютистской (а затем и просвещенной) государственности. Все–все в классицизме призвано, чтоб ПРОСВЕЩАТЬ. И даже сама страстность (у Расина обычное дело — борьба разума и страстей) — потому что иначе не воспитаешь, ибо разум не всесилен и приходится ему помогать: вести к доброте, очищать страсти через разум. (Все это — пересказ хрестоматийных истин, и потому я не ссылаюсь на авторов. Странно, что Данелиа их отбросил ради позы романтика, продирающегося сквозь строй эпигонов классицизма в XIX веке.) А ведь даже в конце XVIII века, просветительский классицизм второй волны все еще не был эпигонским, отвечал потребностям идущей революции. И ведь именно тогда разворачивается действие пушкинской трагедии «Моцарт и Сальери».
Так что грех Данелиа — в слишком общем, пристрастном да и формальном подходе к классицизму, в подходе, лишенном вопроса и ответа на вопрос: зачем классицизм был такой. Из–за этого и ошибка в оценке Сальери.
Пушкин действительно не солидарен со словами своего Сальери, Сальери действительно много недопонимает и называет неправильно. Но не кусать же его за каждое слово, как собака вора, поощряемая обворованным хозяином.
2.10
ВОПРОСЫ.
Почему «Моцарт и Сальери», — как и все маленькие трагедии, как и все в болдинскую осень 1830 года, — написана очень быстро? Почему маленькие трагедии написаны сразу после «Повестей Белкина»? Зачем контрастно соотнесен западноевропейский мир маленьких трагедий с русским миром «Повестей Белкина»?
ПРИМЕРЫ.
Каждая повесть, трагедия написаны за несколько дней. Повести — в сентябре–октябре, трагедии — в октябре–ноябре. В повестях — русское захолустье, в трагедиях — экзотический прошлый западно–европейский мир.
ОТВЕЧАЕТ ТОЙБИН М. И. (1976 г.).
Западная действительность изображена в маленьких трагедиях подчиненной роковому действию гипертрофированных, разрушительных демонических страстей, носители которой сталкиваются с неотвратимой судьбой, необходимостью и приходят к внутреннему краху, тупику. Этому миру, миру разъединения противопоставлен в «Повестях Белкина» мир русской жизни, согретый мягкой доброжелательной улыбкой. Под покровом иронии здесь таится поэзия «прозы», человечности, скрытых эпических возможностей. Здесь дает себя знать стихия добродушия, сердечности, простоты.
МОЙ ОТВЕТ.
Тойбин попал в самое яблочко. Перед ним открылся пушкинский идеал консенсуса в «Повестях Белкина». Но разве этот идеал не выводится у Пушкина из противоположного материала: борьбы страстей? Тойбин этого не замечает. В маленьких трагедиях — наоборот. Он замечает материал — мир страстей. И неясным для него остается ТАКОЙ ЖЕ, как в повестях, художественный смысл трагедий.
*
ОТВЕЧАЕТ ФРИДМАН Н. В. (1980 г.)
Во второй половине 20‑х и в 30‑е годы мы находим то же изображение сильных страстей, которое было ведущим в пушкинских произведениях южного периода. Оно опять–таки являлось вольнолюбивым вызовом душевной мелкости, которая стала психологической нормой для быта общественных верхов николаевской поры… Таким образом, романтическая струя проходит через очень многие произведения «последекабрьского» Пушкина. Остановимся на самом гениальном ее воплощении в маленьких трагедиях. Для понимания их происхождения очень важно подчеркнуть, что романтические тенденции Пушкина во второй половине 20‑х и в 30‑е годы проявлялись в его желании уйти в иные, чаще всего далекие исторические эпохи, не похожие на современность своей яркостью и «исключительностью»… «Необыкновенные» времена и «необыкновенные» образы можно найти в большинстве маленьких трагедий Пушкина.
Романтика страстей есть во всех маленьких трагедиях. Она дана преимущественно в «обрамлении» средневековья… Сюда же примыкает предательское отравление друга в «Моцарте и Сальери» — пьесе, хронологически относящейся к концу XVIII века, но связанной некоторыми своими бытовыми деталями с рыцарскими временами.
Объединяет маленькие трагедии и другое. В пору сочинения их Пушкин был твердо уверен, что решающим фактором для конечной оценки страстей является их отношение к высшему этическому критерию — счастью человечества. Принцип высшего альтруизма приобретает характер этического приговора над персонажами маленьких трагедий. Сила их страстей не кажется Пушкину абсолютной ценностью. Пушкин–гуманист не отвлекается от нравственного содержания той или иной страсти. Как бы ни поражала читателя грандиозность переживаний скупого рыцаря или Сальери, он неизбежно даст им подсказанную уничтожающую этическую характеристику. И не только подсказанную, но и прямо выраженную, в афористических выражениях: «Ужасный век, ужасные сердца!» («Скупой рыцарь»), «Гений и злодейство — две вещи несовместные» («Моцарт и Сальери»).
МОЙ ОТВЕТ.
Фридман не противопоставляет повести трагедиям, и это хорошо. Но я опять не вполне согласен. Альтруизм был задачей тогдашнего Пушкина. Но решал он ее (вполне по принципу Выготского) на пути наибольшего сопротивления: развоплощая материал (страсти) в альтруизм (а я говорю — в идеал общественного консенсуса), не являющийся таким раскаленным, как страсти. То есть развоплощал Пушкин — в нечто противоположное страстям. Оттого у него это не романтическая струя, а романтический (из–за того, что утопический) реализм.
И нет прямого пушкинского афористического называния своего идеала: в повестях Пушкин спрятался за лжеавтора Белкина и его рассказчиков, а в трагедиях автор в принципе лишен собственного слова.
*
ОТВЕЧАЕТ КУПРЕЯНОВА Е. Н. (1981 г.).
Пушкин до конца дней оставался «русским европейцем». Однако начиная с середины 20‑х гг. его отношение к русскому и европейскому начинает меняться: прежнее измерение русского европейским постепенно, и чем дальше, тем больше, уступает место измерению европейского степенью его соответствия национальным силам и особенностям русской истории. Вывести «формулу» русской истории из нее самой и означало для Пушкина постичь то, что отличало ее от исторического опыта западных стран, обеспечивало в прошлом и гарантировало в будущем национальное «самостояние» России в ряду других европейских держав.
Не лишено вероятности, что этой идеей и увлеченностью ею обусловливается необыкновенная продуктивность творческой деятельности Пушкина в знаменитую болдинскую осень 1830 г. Каждая из повестей и трагедий была написана в течение каких–нибудь двух–трех дней, из чего следует, что их замыслы возникли не внезапно, а вынашивались длительное время. Относительно маленьких трагедий это подтверждается их первоначальным и далеко не полностью реализованным впоследствии планом, который датируется 1826 г. [Вариант предисловия к “ Повестям Белкина» датируется 1829 г.]
Ключ к пониманию обоих циклов лежит в их несомненной идейной взаимосвязи, суть которой в контрастной соотнесенности западноевропейского мира маленьких трагедий с русским миром повестей.
Пародийно–иронический, новый и «гибкий» слог повестей Пушкина подчеркивает дерзновенность и неожиданность совмещения в них устарелых, наивных сентиментальных сюжетов, ситуаций, характеров с типическими обстоятельствами и характерами захолустного быта современной поэту уездной России. Проникающая повествование мягкая, добродушная ирония призвана вызвать ощущение дистанции, отделяющей его собственные реалистические «узоры», их новое идейно–эстетическое качество от старой сентименталистской «канвы», по которой они вышиты. Но в то же время ее пародийное использование и самый факт возможности такого использования демонстрируют непреходящую ценность уравнительных идеалов сентиментализма, их созвучие здоровым национальным устремлениям русской жизни.
Национальное искони предстояло сознанию Пушкина одной из ипостасей общечеловеческого. Именно в таком философско–историческом аспекте «Повести Белкина» тесно связаны с маленькими трагедиями. Обращает на себя внимание, что современному русскому миру «Повестей» противостоит в драматургическом цикле отнюдь не современный западный мир, а его прошлое. И это так потому, что в этой эпохе Пушкин ищет и обнаруживает исторические корни буржуазной цивилизации западных стран, чужеродные русской истории. Русский мир при всей его захолустности и крепостнической косности в большей мере приближается к [пушкинскому идеалу], избежав в своих национальных глубинах разрушительного, анархического действия общечеловеческих страстей, обусловленного отнюдь не их «естественной» природой, а эгоистическим началом и индивидуалистической стихией западноевропейской цивилизации, ее феодальными истоками и буржуазной природой.
МОЙ ОТВЕТ.
Контраст западного и русского мира в двух циклах, повторяю, кажущийся. И там, и там материал — страсти. И Купреянова от этого даже и не уходит: «Нам представляется, что мир повестей Белкина отнюдь не столь идилличен и человечен. Не есть ли тоска, от которой погиб Самсон Вырин, проявление крайней степени эгоизма родительской любви. Весьма сомнительна и «человечность» мира русского гробовщика. Никак не подтверждает «стихии добродушия, сердечности, простоты» и герой «Выстрела» — Сильвио». Но справедливо возражая Тойбину Купреянова не в силах противиться его правоте относительно художественного смысла повестей. И так же, как Тойбин, не в силах она распространить этот художественный смысл и на маленькие трагедии. А что идея трагедий, мол, состоит в индивидуализме Запада, проистекающем еще из феодализма… Так и в России ж был феодализм… Не понятно что–то. И историзм Пушкина тут как бы повисает. А все потому, что не вполне–то историзмом был Пушкин вдохновлен в болдинскую осень 1830 года. Скорее — чем–то общечеловеческим: подспудным стремлением к консенсусу. Идея тоже достаточно большая, чтоб подвигнуть ее выразителя на ошеломляющую работоспособность и стремительность.
2.11
ВОПРОС.
Почему трагедия во всем гармонична?
ОТВЕЧАЕТ В. НЕПОМНЯЩИЙ (1997 г.).
Все то, что мы называем искусством гармоническим… вольно или невольно исходит из веры в бессмертие, из факта изначальной устроенности мира, его совершенства… Гармоническое искусство объективно опровергает идею, что Бог плохой художник и создал «несовершенный» мир. Пойди найди «несовершенство» в «Илиаде», в Моцарте, в «Моцарте и Сальери», в Микеланджело Буанаротти, — неужели Бог менее талантлив? Неужели не мог создать совершенный мир, раз создал такие чудеса?
Хочется понять совершенство «Моцарта и Сальери» как «форму истины». Думаю, не будет большим преувеличением сказать, что «Моцарта и Сальери» можно рассматривать как совершеннейшую художественную теодицею. [Из словаря иностранных слов, 1954‑го года: «теодицея (гр. theos бог + dikё право, справедливость) — «оправдание бога» — религиозно–философские построения, особенно распространенные в 17–18 вв., ставившие целью как–нибудь объяснить и оправдать явное и непримиримое противоречие между господством в мире зла и несправедливости и «благодатью» и «всемогуществом», приписываемым религией богу. Эти теории служили интересам эксплуататорских классов, оправдывая социальные несправедливости.]
МОЙ ОТВЕТ.
Бог по красоте не опознается. Приведу в пример стихотворение Фридриха Ницше — по–моему, достаточно красивое, чтоб возразить Непомнящему:
Чтоб совершить преступленье красиво, Нужно суметь полюбить красоту. Или опошлишь избитым мотивом Смелую мать наслажденья, мечту. Часто, изранив себя безнадежно, Мы оскверняем проступком своим Все, что в могучем насилье мятежно, Все, что зовется прекрасным и злым. Но за позор свой жестоко накажет Злого желанья преступная мать, Жрец самозванцам на них не покажет, Как нужно жертвы красиво терзать.Во всяком случае, А. Белый — прочти он этот стих — понял бы Фридриха Ницше, раз написал про Возрождение (а именно, про идеал, что на вылете вниз с Синусоиды, который исповедовали титаны–преступники Возрождения, столь чтимые Фридрихом Ницше): «Из этой эпохи, в которой даже убийство могло быть оправдано, если оно эстетически красиво, пришел последний «анекдот» пушкинской трагедии. Не случайно Сальери выдвигает как контрдовод… имя Бонаротти…», якобы замучившего натурщика, решая эстетическую задачу.
Если не убеждает, можно привести пример и посильнее — гениальное стихотворение Тютчева:
От жизни той, что бушевала здесь, От крови той, что здесь рекой лилась, Что уцелело, что дошло до нас? Два–три кургана, видимых поднесь… Да два–три дуба выросли на них. Раскинувшись и широко и смело. Красуются, шумят, — и нет им дела, Чей прах, чью память роют корни их. Природа знать не знает о былом. Ей чужды наши призрачные годы, И перед ней мы смутно сознаем Себя самих — лишь грезою природы. Поочередно всех своих детей, Свершающих свой подвиг бесполезный, Она равно приветствует своей Всепоглощающей и миротворной бездной.Что: благо-»устроенность» мира здесь, вера в бессмертие, в христианского Бога? — Нет. А красота — есть!
И, кстати, о Микеланджело. У Непомнящего о нем — неточность, по меньшей мере. Поздний Буанаротти — художник–судия–над–красотой. Судья пристрастный, считающий телесную красоту источником греха, судящий ее в пользу сверхбудущего бесплотного существования после Страшного суда, когда наступит тысячелетнее царство на небе.
Вы посмотрите (это легко: в любой серьезной библиотеке любого города есть альбом репродукций Микеланджело), посмотрите на его, может, самое известное произведение — «Страшный суд». Посмотрите на эти мужественные лица, на мощные фигуры, с широкими плечами, с развитым торсом, с мускулистыми руками и ногами. И обратите внимание, как искаженны гримасами их лица, как безнадежны все их, даже самые энергичные, движения, напряженные и конвульсивные. Причем, у всех: и грешников, и праведников, и святых. Да они и неотличимы друг от друга. Святые, например, лишены нимбов. Почему это? Да потому, что изображена суета плотская (даже святых, давно умерших плотью, а теперь ее вновь обретших, как и все, кто когда–то жил, а теперь вот восстают из могил и возносятся к Иисусу). Зачем им эта красивая плоть!? Ни прощенным, ни поверженным в ад — душам — она не нужна! И не зря свое собственное лицо Микеланджело изобразил на коже лица, коже, содранной когда–то со ставшего святым Варфоломея, который теперь вот приобрел тело с новой кожей, а старую держит в руке. (Вы найдете Варфоломея чуть правее, глядя от зрителя, и ниже Иисуса.)
Мучил или нет Буанаротти натурщика — пусть этим, вслед за пушкинским Сальери, мучаются нынешние и будущие гении–преступники. Но реальный Буанаротти, в своей фреске «Страшный суд», физическую красоту мучил. Его фреска (открывшая следующий после Позднего Возрождения большой стиль, стиль маньеризма) есть пример совсем не гармонического искусства, хотя и вдохновлена верой в Бога и бессмертие.
Кому это все не доказательство, могу процитировать самого Микеланджело той поры: «Я же говорю и знаю это по собственному опыту, что на небе только того ждет лучшая участь, чье рождение было предельно близко к его смерти».
А гармоническое разве — искусство средневековой иконописи? Воспевало оно физическую красоту? А оно–то уж точно вдохновлялось идеей благоустроенности мира, его совершенства, идеей бессмертия и Бога.
В общем, думаю, только в полемическом раже мог Непомнящий написать то, что написал. И этот раж охватил его надолго. Он создал свою, настолько большую художественно–критическую теодицею, направленную специально против проблесков, по–моему, истины, проскальзывавших за последние 100 лет, что уместно уделить ему особое внимание.
*
Он задается вопросом, почему в «маленьких трагедиях» притягательны «падшие» герои. И изящно избегает имени Моцарта в перечислении «падших». А ведь бесспорно обаяние пушкинского Моцарта, его нельзя не любить. Принцип художественности Выготского это прекрасно объясняет. Героический гедонизм в первую очередь нужно перебороть для консенсуса. Вот Моцарт и обаятелен. Как крыловская стрекоза. А по Непомнящему — «вне отношений героя… с образом Божьим в себе, нам не понять ни природы притягательности «падших», ни природы их трагизма».
Нравящийся Моцарт мог бы быть Непомнящим объяснен нехудожественностью теодицеи, необразностью ее, требованием принимать все в лоб, без подтекста. — Нет. Ему жаль художественности. Пожертвуем, мол, образностью (будто бывает одно без другого):
“ Сколько раз приходилось выслушивать:
— Ну зачем так буквально?! Ведь перед нами все–таки художественный образ!
Извините. Если речь идет о стихотворении, поэме, повести, то — еще куда ни шло… Но если — драма, если — театр, тогда подвиньтесь…»
И по смыслу главного пафоса Непомнящего (и вопреки его срывам с этого пафоса) продолжить надо бы так: «Если — театр, то на сцене — не образы (то есть условные обозначения), а живые люди, и в случае с Моцартом — живой посланец справедливого Бога, доказывающий и жизнью своей (гениальностью), и моральной победой, одержанной после своей смерти, что высшая правда есть. Воздействие театра — в лоб, без подтекста. Так «грубоватая натура театра требует» (Непомнящий). И — Моцарт, в отличие от «падших» из других «маленьких трагедий», нравится, мол, именно за божественность».
*
Непомнящий подстраховывает тезис о грубоватости ответом на вопрос, почему трагедия музыкальна. — Музыка, мол, не имеет подтекста, и ее элементы непосредственно выражают идею целого, содержание, сущность.
Да еще привлечено мнение, что в сакральных текстах (как и в музыкальных) элементы выражают содержание напрямую. — Теодицея…
И Непомнящий уподобил–таки трагедию некой музыке. Только сомнительно это сделал. Даже мы, — музыкально необразованные (как, впрочем, и он, по его же признанию), — можем об этом судить. Смотрите.
Произведение в сонатной форме состоит из трех частей: экспозиции, разработки и репризы — и иногда заканчивается кодой. Непомнящий приводит им всем аналогии. Экспозиция, мол, это первый монолог. Хорошо.
По определению, в экспозиции — тональное разобщение. Для этого в ней главная и побочная темы — в разных тональностях. Непомнящий оперирует мажорной и минорной тональностями в бытовом их понимании: радостная и мрачная. Это просто неверно. (Упоминавшийся «Мальбрук в поход собрался» — в миноре, а какая веселая песенка.)
Главная тема — мол, «неправда на земле и выше», и она — в миноре. Ну, пусть. «Этой теме противостоит как побочная (появляясь в конце монолога) тема «священного дара», «бессмертного гения» — она семантически «мажорна»…» Сомнительно. Ведь тема Моцарта («О небо! Где ж правота, когда священный дар…») появляется как конкретизация общего положения, что правды нет и выше!
О разработке Непомнящий не пишет.
Реприза — последний монолог. Пусть. Нормативная реприза должна повторять тему неправды, но в мажоре (раз ее тональность в экспозиции назвали минорной), а тему гения — в миноре (раз уж ее тональность в экспозиции Непомнящий назвал мажорной). Что в трагедии этого нет (в миноре — обе), пишет сам Непомнящий. Но выкручивается тем, «что минор как тональность вовсе не всегда создает «минорную» семантику…». Вспомнил, когда надо.
Кода — по–итальянски — хвост. Она следует за последним из основных разделов (следовательно, — за репризой в нашем случае) и не принимается в расчет при определении: сонатная форма у произведения или какая–нибудь другая. Так сказать, слон есть слон и без хвоста.
А кончаться музыкальное произведение (в конце той же репризы, например) не может на абы какой ноте, аккорде. Каждый согласится, что чувствуется, когда музыка, пусть и незнакомая, подходит к концу и кончается. Не по прекращению звучания мы определяем конец.
Так вот кода (если выразиться неточно, но достаточно) представляет собой окончательное закрепление конца, что достигается многократным повторением его последних звуков.
А Непомнящий пишет, что последний монолог Сальери предварен (?) «на правах коды двумя короткими монологами: «Эти слезы Впервые лью…» и «Когда бы все так чувствовали силу…»”.
Как после этого относиться ко всей цепи «музыкальность — без подтекста — оправдание Бога»?
Ну, предположим, что Непомнящий все же прав. Действительно «…минор… может испускать сияние, которое недоступно иному мажору…» Согласимся со всей логической цепью: «тональный материал [финала трагедии — минор, как его поименовал Непомнящий]… претворяется светлой цельностью Большой Гармонии. Так и в этом финальном монологе. Сальери говорит «в миноре» («…ужель… не гений…»), ибо он мыслит еще внутри своей «алгебры»… Но то, что` он мыслит («или это сказка… и не был Убийцею…»), находится «снаружи» коллизии Сальери, вне разлада его алгебры с Правдой; то, что` он мыслит, снисходит к нему из области света, из сферы гармонии. Он еще не понимает, не слышит этого, но видит, или слышит, автор, это потенциально доступно и нам».
То есть «мораль», мол, прозвучала в «сияющем миноре» «Большой Гармонии», и, мол, следовательно, и музыка вообще, как и театр вообще, и эта вот трагедия, в частности, говорят нам свой художественный смысл в лоб, без подтекста, то есть — только тем, что звучало и написано. То есть слова «не был Убийцею создатель Ватикана» это другие слова того же: «правда выше есть: гении, посланцы неба, — не злодеи».
Так вот есть методологически принципиально иное мнение о подтексте в музыке. На мой вопрос об этом один кандидат музыковедения ответил серией наводящих вопросов:
— Вы помните из «Пиковой дамы» арию Германна «Я имени ее не знаю…»?
— Да. — И я напел эти слова.
— Музыка выражает что? Любовь?
— Да.
— А финальное «Три карты, три карты, три карты!..» по музыке похоже на эту арию, выражающую любовь?
— Да.
— Вот вам, совсем по Выготскому: сочувствие и противочувствие. Ими вас, — если вы способны улавливать музыкальную тему и ее превращения, — Чайковский наводит на нечто третье, о чем звучания не было и что будет продуктом вашего сотворчества.
Нечто подобное я нашел у Асафьева о Пятой симфонии Бетховена (помните? — «стук судьбы»).
«Пример — первая и последняя части Пятой симфонии. Драматизм, стремительность… поступи 1 части заключают сами в себе, в этой же части… акцент на тонике. [Тоника это та нота, которая способна остановить музыкальное движение (вспомните слова о коде). В самом конце 1 части, — где звучит измененный «стук судьбы»: та–та–та–там! та–та–та–там! та–та–та–там! та–там! та–там! та–там! та–там! — тоника это нота «до» («там»), если играть мелодию на пианино одним пальцем, и акцент на ней всякому заметен. И этот акцент выражает устойчивость. Непомнящий сказал бы, что это и есть «мораль», что она прозвучала и в лоб выразила идею целого.] Но симфония — это целое, и это процесс. Последнюю часть — триумф До Мажора, шествие ликующего человечества — нельзя отрывать от начала симфонии (напоминаю, как умно Бетховен включает в финал до–минорную настороженность Скерцо), и тогда все величие и размах тоники финала в совокупности с главным натиском до–минорных тоник в 1 части объединены в одной идее: борьба и радость — таково становление жизни.
В этом единстве Пятая симфония — «напряженная устойчивость», симфония мощного призыва к борьбе. Если же рассматривать части симфонии только как цепь звеньев, каждое из которых, успокаивая, заставляет забыть драматизм предшествующего, то в таком «звукоряде» финал уничтожает все трагическое напряжение симфонии. В первом аспекте — симфония как единый, сотканный из конфликтов идей и чувствований интонационный процесс; ликование финала звучит так: «борьба продолжится, ибо такова жизнь, а сейчас — радость»; во втором же аспекте получается: «борьба кончилась — успокоимся в радости». Склонен думать, что первый аспект — вся симфония в целом звучит как напряженная устойчивость — более бетховенский…»
Так что, если и в как бы музыкально устроенном «Моцарте и Сальери» тоже не «прозвучала», не написана черным по белому «мораль»? И если так, то, может, не теодицея тут?
*
ВОПРОС.
Зачем Пушкин применил «двойной» диалог?
ПРИМЕР.
На театре давно разработан прием, называемый «общаться щекой»: разговаривая с одним действующим лицом, адресуясь якобы к нему, на самом деле иметь в виду другое присутствующее здесь лицо, видимое или невидимое, — к нему обращаться, с ним вести диалог.
Именно так Сальери ведет себя во Второй сцене. Словесно обращается к «гуляке» — другу, но «щекой» общается с неким другим лицом, «реплики» которого читаются — сквозь слова Моцарта — необыкновенно внимательно: ловится каждое слово, учитывается каждый подаваемый знак: «А! Ты сочиняешь Requiem? Давно ли?.. Нет… Что?.. В чем же?»
Отвечает же он не тому «лицу», а — самому Моцарту, «гуляке»: ”И, полно! что за страх ребячий? Рассей пустую думу. Бомарше…»
И тут же следует оттуда новый знак, новый пароль: «Да, Бомарше… Ах, правда ли, Сальери, что Бомарше…»
Это уже — как прямая команда; все сходится!
ОТВЕЧАЕТ В. НЕПОМНЯЩИЙ.
Все это, гадательное, может быть, в разрезе филологического размышления, ясно и просто в применении к сцене.
«Маленькие трагедии» — своего рода история болезни: упорного стремления человека добиться «присущего всякому греху подчинения высшего низшему» (архим. Александр Семенович Тян — Шанский). Отвергнув «правду» и «правоту» «неба», Сальери, как бы даже враждуя с ним, в то же время говорит о своей «избранности» и пользуется тем, что` представляется ему поддержкой «неба», внимательно вслушивается в его «подсказки». Выстраивается своя иерархия: высшая ценность — «музы`ка», «небо» служит ей, а значит — ее адепту. Такая вот инверсия.
МОЙ ОТВЕТ.
Нововерующий, не давая права на существование другой вере, признать в той наличие высокого, Абсолюта не может. И стремление, скажем, атеистов к их высокому перетолковывает в «страсть людей утилизировать высшие ценности, подменить идеальное материальным его символом… заставить высшее — идеалы — подчиняться и служить интересам».
Идеалы же, — какие бы они ни были «низкие», — субъективно всегда высоки. А если вызваны коллективистскими интересами, то тем более. Вот как об этосе и борющихся мещан, и борющихся дворян в эпоху Французской революции писал Асафьев: «Пусть разные общественные слои и группы людей, и отдельные выдающиеся умы каждый по–своему понимали средства и цели борьбы, но духовный подъем, пламенность лучших человеческих чувствований и этическое одушевление были крайне распространены. Это одушевление подготовили уже энциклопедисты, и после них оно звучало всюду — в повышенном эмоциональном тонусе произведений литературы, даже в научных исследованиях, в ораторских речах, в диалогах салонов…»
Мог ли вне этого пламенного этоса быть пушкинский соавтор «Тарара», Сальери? Общественное мнение правило миром, во всяком случае, приходило к власти, а значит, — совесть. Ее представлялось возможным пробудить и в самом закоренелом, самом крайнем индивидуалисте. И Сальери делает «гуляке» всякие выговоры. И вот — стало получаться: Моцарт–композитор, даже не осознающий всю меру пагубности своей музыки, какой–то частичкой себя все–таки смутно понял, что заслуживает возмездия и подсознательно и символами просит возмездия. Вот с кем общался «щекой» Сальери — с совестью демона, вот чем было то Небо!
Не музыка высшая ценность у Сальери.
«Почему исполнители и слушатели воспринимают, хотя бы в самых общих чертах, именно то, что хотел выразить автор?
Ассоциативные связи музыкальных образов с жизненными образами, мало того — музыкальные представления о реальной действительности отнюдь не являются привилегией композиторов, но органически присущи всем людям, воспринимающим и любящим музыку. Мы не отдаем себе отчета, в какой мере музыкально воспринимаем окружающую нас реальную действительность… явления реальной действительности, помимо зрительных впечатлений, порождают в глубине нашего сознания обобщенные музыкальные представления, которые создают почву для более конкретных ассоциативных связей, возникающих при слушании музыки. Эти ассоциативные связи не узко индивидуальны, но общезначимы, ибо возникают на основе жизненного и, в частности, музыкального опыта, а следовательно, имеют социальное происхождение… благодаря объективности и общезначимости этих связей возможно взаимопонимание между автором, исполнителем и слушателем, понимание идеи, замысла и содержания музыкального произведения, возможен общественный музыкальный язык, понимание которого, в отличие от словесного языка, легко выходит за пределы национальной культуры.» (Тюлин).
Вот то, что выражалось на том языке композиторами–просветителями–второй–волны: Глюком, Пиччини, — и было высшей ценностью, Небом для пушкинского Сальери. Пол — Европы сотрясалось от Французской революции. А Моцарт–композитор в этой области безнадежно отставал. И вот, наконец, не без влияния Сальери, в гении заговорила совесть и стала просить Сальери убить своего носителя.
Так что я не соглашаюсь с Непомнящим, что «Моцарт и Сальери» — драма «отношений между «землей» и «выше», между верой и неверием, между земным и небесным в человеческих душах, — и не меньше». Не соглашаюсь, что драма эта затеяна, чтоб стать автору на ту сторону, что «выше», и что этот замысел заявлен в лоб, и что иначе «на театре» не бывает. Нет, это драма отношений между двумя разными «высокими» материями, драма во имя третьего «высокого», в лоб не заявленного, что в театре обязательно для художественности так же, как и для литературы.
Впрочем, и сам Непомнящий срывается на возможность и необходимость подтекста в театре: «Не дай Бог, если актер поставит себе задачей играть «жизнь человеческого духа» и «отношения с образом Божьим». Это сыграть впрямую, актерски нельзя… Это — жизнь человеческого духа — должен «играть» режиссер…»
А то, что такую театральную тонкость имел в виду Пушкин, как общение «щекой», — так литературе еще и не такое по плечу.
*
ВОПРОС.
Почему Моцарт в тосте уравнял с собою Сальери?
ПРИМЕР.
За твое Здоровье, друг, за искренний союз, Связующий Моцарта и Сальери, Двух сыновей гармонии.Ответ Непомнящего нельзя не предварить мощными ответами других. Поместить их раньше, по хронологии их возникновения, не хочется: ассимилировать вопрос я смог только после предыдущего «столкновения» с Непомнящим.
ОТВЕЧАЕТ В. РЕЦЕПТЕР.
Конечно, та «неведомая сила» [совесть демона, как показано чуть выше], которая влечет Моцарта к Сальери, не может быть измерена одной подозрительностью. Моцарт обостренно чувствует роковое излучение, исходящее от Сальери, его достигшую предела нетерпимость, внутренний мрак и, не зная, во что это может вылиться, отчасти сознательно, отчасти интуитивно борется не только со своим, но и с его мраком, со всякой тенью зла. Моцарт ищет разрушенной гармонии, жаждет добра, мира и покоя. Тогда неизбежным становится рождение провидческих реплик Моцарта об отравлении, совершенном Бомарше [та же совесть демона]…
И когда простым вниманием и кажущимся участием («Что ты сегодня пасмурен?», «Ты верно, Моцарт, чем–нибудь расстроен?», «Что?», «В чем же?», «Бомарше говаривал… откупори шампанского бутылку…», «Ну, пей же!» — попробуем услышать это, как Моцарт, не зная монологов Сальери) Сальери помогает Моцарту признаться, — Моцарт [Моцарт–человек, обыватель] воистину излечивается.
Освободившись от подозрений и тревоги, вновь обретя друга, он пьет его здоровье…
МОЙ КОММЕНТАРИЙ.
Он в квадратных скобках.
ОТВЕЧАЮТ Н. В. БЕЛЯК И М. Н. ВИРОЛАЙНЕН (1995 г.).
Скрытым было отравление или тайным — от этого меняется лишь степень предъявленности сюжета, но не его суть. Голос ли сознания или подсознания говорит в Моцарте — этот голос точен, он адекватен происходящему и диктует тот же самый поступок: когда все предчувствия и подозрения наконец попадают в цель, полностью совпадают с действительностью, Моцарт опрокидывает эту действительность, действуя по закону категорического императива.
[Категорический императив это безусловное нравственное веление, изначально, по Канту, присущее разуму, вечное и неизменное, лежащее в основе морали.]
Здравицу он произносит не как наивное и страдательное лицо, но как трагический герой, совершающий в высшей мере сознательный поступок.
МОЙ КОММЕНТАРИЙ.
Совпадет с возражением Непомнящему, приводимому ниже.
ОТВЕЧАЕТ В. НЕПОМНЯЩИЙ.
Вещий дух Моцарта почуял рядом злодейство и ужаснулся, и в этом встретился со страхом моцартова земного естества и сознания. И вот тут–то, «внизу», на земле, он встречается с духом Сальери — оземленным почти до самоотрицания (тема самоубийства) и потому готовым к злодейству; и тоже объятым ужасом, но другим: величия и правоты замысла, которому служит «небо». Две встречи… Еще шаг — и можно будет схватить друга за руку.
Но вещий дух Моцарта шага этого не делает — не может. Он смотрит злу в глаза, слышит его дыхание, он боится его — но отождествить само зло в человеке не может — ибо это христианский дух.
Зло, ни с чем не отождествленное, ни с кем не связанное, становится отвлеченным, повисает в пустоте, оборачивается и в самом деле «страхом ребячьим» и «пустою думой». И охватывает счастье. В этой зоне счастья продолжается теперь встреча духа Моцарта с духом Сальери — в тосте Моцарта, в потоке света и дружества.
МОЙ ОТВЕТ.
Как видим, и Беляк с Виролайнен, и Непомнящий на огромную моральную высоту ставят поступок пушкинского Моцарта.
Но есть возможность объяснить его и иначе.
Моцарт перед тостом больше чем раздвоен. В нем и обыватель, боящийся предчувствуемой смерти, и упрямый демон, радующийся этому три недели не сбывающемуся предчувствию, и засовестившийся демон, просящий смерти в наказание за свой демонизм. И последние двое не очень–то и осознаются. Но под влиянием Сальери активизированы все.
(Открытое отравление я, вслед за Чумаковым, предлагаю считать проходящим в трагедии на уровне обертона.)
И как же все наши Моцарты реагируют на предложение выпить?
Обывателя — по Рецептеру — Сальери успокоил. Демон же решил встряхнуться от сальериевого гнета.
А вы помните, что выражаяет моцартовский «Реквием»? — Возмущение каждого их мертвых грешников всего человечества против Бога и одержание духовной победы над ним. Не даром «католическая церковь весьма неохотно допускала исполнение моцартовского «Реквиема» в своих службах» (Орелович).
Но такой «Реквием» это ж некий коллективизм! Это ведь чем–то похоже на Французскую революцию, на фабулу и музыку сальериевского «Тарара»! «Не погребальную мессу — Моцарт создал бесценный памятник своей эпохи великих философов, революционеров…» (Орелович). Такой «Реквием» может получить одобрение христианского богоборца Сальери без сомнительной для демона похвалы: «Ты, Моцарт, бог…»
Вот обыватель c демоном в Моцарте и слились в тосте (где, может, не зря потому и имя изменено — Моца`рт). Вот обыватель с демоном слились и в последовавшем за тостом исполнении музыки.
Это тем более верно, что затем Моцарт, — похоже, что осознанно, — провозглашает дифирамб вненравственному искусству для искусства.
*
Непомнящий задается вопросом, зачем вопросительность придана Моцарту. И изящно отвечает: «его вопрошания «Не правда ль?»… знаки совершенной неколебимости. Это неколебимость веры».
Без комментариев.
*
Почему Пушкин отказался от названия «Зависть»? — Не потому, оказывается, что Сальери потянул на нечто большее, чем эта банальность. А потому, что у Пушкина было свое, редкое отношение к зависти: «Зависть — сестра соревнования, следственно, из хорошего роду». Не дай Бог, мол, Сальери приподнимется из своей низости, и кто–то свяжет его с чем–то высоким; высоте, Богу, причастен только, мол, Моцарт, а Сальери — только к Люциферу, если велик.
Будто с Люцифером не совместна зависть, понимаемая обыкновенно.
*
ВОПРОС.
Зачем Пушкин придал своему Моцарту шокирующее поведение и музыку?
ПРИМЕР.
М о ц а р т …Я весел… Вдруг: виденье гробовое… С а л ь е р и …Какая смелость… М о ц а р т …Ба! право? может быть… Но божество мое проголодалось.ОТВЕЧАЕТ В. НЕПОМНЯЩИЙ.
Дар Моцарта — как всякий истинный гений — древней, изначальной природы: дар визионерский, жреческий, пифический, пророческий. Но существует это дитя вечности в эпоху Сальери. И мы живем в эпоху Сальери — и смотрим на Моцарта отчасти глазами Сальери: можем осуждать Сальери за то, что его в Моцарте нечто раздражает, однако хорошо чувствуем, что его раздражает. Вспоминается описанный Пушкиным («Путешествие в Арзрум») дервиш (по словам турка, «брат» поэту), который «орал во все горло», несомненно шокировав русского поэта. Моцарт выглядит отчасти как юродивый, позволяющий себе то, что на слишком мирской взгляд непозволительно (это и в музыке было слышно: не зря ее обвиняли едва ли не в цинизме и демонизме — характерная земная, посюсторонняя реакция на тайнослышание).
МОЙ ОТВЕТ.
Из «Путешествия в Арзрум» явствует, что Турция слишком часто в той войне показывала себя плохо. Армия не побеждала ни в одном бою, бежала перед малочисленными российскими войсками. Характерный пример: «…Полки пошли к ней, отвечая на турецкую пальбу барабанным боем и музыкою. Турки бежали…» Арзрум командование не стало оборонять по просьбе своего же населения. Россия же достойна была всяческих похвал, и дервишу (это — мусульманский нищенствующий монах), подходя объективно, было за что «приветствовать победителей». Но его сердце, видно, кровью обливалось от стыда за своих. Оттого он и «кричал во все горло»: чтоб его хвала врагам проняла правоверных. Таков же и православный юродивый. Он полностью потерял веру в людей, в то, что можно их заставить не грешить, но сдаться он не может и идет на крайности.
И так же поступает типичный авангардист, который во что бы то ни стало хочет немедленно изменить людей к лучшему, будучи уверен, что это ему не удастся, а отступиться от своей задачи — не может и все. И устраивает эпатаж. Выходит в неискусство. То есть, — по Натеву, — уже не непринужденно воздействует на людей, а принуждающе. («Его [дервиша] насилу отогнали».) Бахтин называл это срывами голоса в лирике. Ибо лирика это обязательно некий коллективизм, а дервиш, юродивый, декадент и авангардист — социальную базу утратили.
«Лирика — это ви`дение и слышание себя изнутри эмоциональными глазами и в эмоциональном голосе другого: я слышу себя в другом, с другими и для других… это одержимость духом музыки, пропитанность и просквоженность им. Дух музыки, возможный хор — вот твердая и авторитетная позиция внутреннего, вне себя, авторства своей внутренней жизни… Этот чужой, извне слышимый голос, организующий мою внутреннюю жизнь в лирике, есть возможный хор, согласный с хором голос, чувствующий вне себя возможную хоровую поддержку… Лирика полна глубокого доверия… в ее могучей, авторитетной, любовно утверждающей форме… Организующая сила [такой] любви в лирике особенно велика [а в других родах литературы тоже присутствует]… любви, лишенной почти всех объективных… моментов, организующей чистое самодовление процесса внутренней жизни, — любви женщины, заслоняющей человека и человечество, социальное и историческое (церковь и бога). Душная, горячая любовная атмосфера нужна, чтобы оплотнить чисто внутреннее… иногда капризное движение души (капризничать можно только в любви другого…). И лирика безнадежной любви движется и живет в атмосфере возможной любви…» (Бахтин).
Иными словами, кто имеет идеал, — на какой бы точке Синусоиды или вылетов с нее тот ни находился, — кто находится, так сказать, в плоскости этой Синусоиды (кроме декадентов и авангардистов, которые уже и с самой этой плоскости вылетели, лишившись идеалов — см. «Тютчев и…» по списку литературы), кто имеет идеал (а идеал это ценность не только в моих глазах, и обязательно исповедуется и еще кем–то), кто имеет идеал, тот и имеет внутреннее право нечто воспевать. Пусть это будет хоть и дьявольский идеал. «Индивидуализм может положительно определять себя и не стыдиться своей определенности только в атмосфере доверия, любви и возможной хоровой поддержки» (Бахтин). И наоборот, когда разочаровался, а нового идеала не обрел: «Это имеет место в декадансе… Отчасти прозаическая лирика Белого с некоторою примесью юродства… Всюду, где герой начинает освобождаться от одержания другим — автором (он перестает быть авторитетным)… герой начинает… видеть свою наготу и стыдиться, рай разрушается… отсюда своеобразный лирический стыд себя, стыд лирического пафоса… Это как бы срывы голоса, почувствовавшего себя вне хора» (Бахтин).
Можно ли свести музыку Моцарта к «срывам голоса»? — Конечно, нет. Это совсем не то, что у Непомнящего — «фамильярность в отношении «высшего», свобода «любимчика»”.
*
ВОПРОС.
Почему Моцарт как автор готового «Реквиема» так странно себя ведет?
ПРИМЕР.
…и с той поры за мною Не приходил мой черный человек; А я и рад: мне было б жаль расстаться С моей работой, хоть совсем готов Уж Requiem.ОТВЕЧАЕТ В. НЕПОМНЯЩИЙ.
Художнику, автору звучащей работы «расстаться» с ней, уже «готовой», — то есть выпустить ее в свет, чтоб читали и слушали, — не только приятно: желанно, необходимо, нестерпимо нужно (поэты созывают друзей, читают нечаянно зашедшему, останавливают знакомых на улице, звонят ночами по телефону, чтобы прочесть — порой даже и «не готовое»), а тут — и «жаль» расстаться, и «рад» оставить заупокойную мессу себе!
Вывод отсюда такой: Моцарт о смерти не знает, предчувствует вовсе не смерть и боится не смерти.
О смерти знает его гений, ее предчувствует, но — не боится. «Бессмертный гений» не может бояться перехода своего обладателя в вечность из времени. Моцарт–человек не знает, что его высший ум «рад» тому, что пора вернуться в сферы, откуда он родом, — ибо здесь ему, очевидно, делать уже нечего, все исполнено.
Чего же боится Моцарт–человек? Ведь вот — боится досмерти.
Но между тем я… [И далее — о жутком наваждении преследования черным человеком.]
Как это — чего боится? Разве кроме смерти мы ничего не боимся? Не сидит разве в человеке смертный страх: страх беды — несчастья, войны, сумы, тюрьмы, страх за семью, детей, близких, страх болезни, немощи, старости — страх жизни, ее зла? Зла, соседство которого здесь, за столом, он ощущает с таким же ужасом, как близость древа яда, к которому ни птица не летит, ни тигр нейдет.
МОЙ ОТВЕТ.
Нет, человеку свойственно по–разному бояться разного зла. Моцарт–обыватель смертно боится именно смерти. А другое его «я», творческое, гениальное, действительно не боится смерти. Но не потому, что оно божественно, а потому что демонично.
Если заказчик не прийдет, значит, «Реквием» не будет звучать за упокой кого–то. Значит, потусторонними силами заупокойная месса заказана для него, Моцарта. Значит, смерть его близко. И это особенно вдохновляет его демонический гений. Как факт: вот он написал демонический экспромт сегодня. Так не радость ли это?! Это прекрасно — жить на грани смерти!
*
ВОПРОС.
Зачем Пушкин заставил своего Моцарта смеяться над слепым скрипачом?
ПРИМЕР.
…проходя перед трактиром, вдруг Услышал скрыпку… Нет, мой друг Сальери! Смешнее отроду ты ничего Не слыхивал… Слепой скрыпач в трактире Разыгрывал voi che sapete.ОТВЕЧАЕТ В. НЕПОМНЯЩИЙ.
Для Моцарта есть другая гармония — иного, высшего, чем искусство, порядка. Оттого он и к гению своему относится без пиетета, которого требует Сальери («…недостоин сам себя»), не несет его торжественно, как неприкасаемую святыню. Он такой же Скрыпач: тот играет (по слуху — ведь слепой) божественную музыку Моцарта, а Моцарт играет — также по слуху — Божественную гармонию. И наверняка (ведь гений) слышит, чувствует, что в чем–то ее искажает: не потому ли хохочет — видя в слепом старике собрата, а не нахала, профанирующего музы`ку. Ведь, в конце концов, весь этот падший мир есть профанация того, что замыслил о нас Бог. Человек на каждом шагу извращает Замысел о себе.
МОЙ ОТВЕТ.
Подозрительно. Получается: Бог предполагает, а человек располагает; Бог замышляет, а человек извращает. Равны.
Но хорошо, пусть Непомнящий прав. Пусть Моцарт чувствует, что в чем–то искажает «Божественную гармонию». Можно даже сообразить, в чем искажение, если позволить себе, как Непомнящий, толковать Библию от себя, вопреки требованию православной церкви: выходя на люди, обязательно ссылаться на признанных церковью толкователей (может, Непомнящий сектант, и ему — можно от себя; ну так и мне, атеисту, можно от себя).
Итак. По Библии Бог как нас (вернее Адама с женой) замыслил? Не знающими добра и зла, бессмертными в потенциале. В самом деле, ведь Бог задумал, что Адам и его жена, питаясь плодами ото всех деревьев рая, кроме запретного древа познания, съели бы рано или поздно плод от от древа жизни и стали бы бессмертными. И лишь в результате происков падшего ангела Адам, Ева и произведенное ими человечество стали смертными, и некоторые из людей стали тем острее ценить жизнь. А Моцарт именно этим и вдохновлялся. То есть он творил во имя дьявола, а не Бога. Творил, слушая дьявольскую гармонию, творил, смутно чувствуя, что искажает «Божественную гармонию», и не считая, что делает нехорошо. Совсем как слепой скрипач! Это и вправду смешно. Только уже немножко с другой точки зрения, чем у сектанта Непомнящего.
А ведь надо не забыть (о чем забывает Непомнящий), что Моцарт считает и Сальери таким же «сыном гармонии», как и себя. То есть тоже как–то искажающим «Божественную гармонию». И потому, наверно, восклицает:
Ах, Сальери! Ужель и сам ты не смеешься?Непомнящему надо бы обоих композиторов удалить от веры, Бога и совести, как это и сделал Пушкин. Но… не озарило. А то неизвестно, не ближе ли Моцарта оказался бы — со своей жаждой справедливости и рукотворной «правды» — пракоммунистический изувер Сальери к тому, «что замыслил о нас Бог», то есть к миру без добра и зла, каким он выглядит в начале Старого и в конце Нового Завета. Тогда, впрочем, вспомнилось бы Непомнящему, что коммунисты конца второго тысячелетия н. э. в чем–то близки христианскому коммунизму начала первого тысячелетия. Однако, вновь нынче обретшие веру в Бога обычно не любят такое сходство осознавать.
И я их понимаю — таких, как Непомнящий, с давешним «вполне выношенным, личным и искренним открытием: мол, долгое время «маленькие трагедии» Пушкина были загадкой, и только марксистская наука оказалась способна ее разгадать». Если с перестройкой в 1991 году бесславно кончился «новый огромный исторический цикл», начатый — по Чаадаеву — Сен — Симоном (а это — восходящая ветвь Синусоиды), так то, что теперь мечтается честными людьми как исторически достижимый идеал есть соединение несоединимого (то есть — середина нисходящей ветви Синусоиды, в чем–то действительно похожая на середину восходящей ветви, на гармоническое соединение частного и общего, на пушкинский 1830‑го года консенсус). Для Непомнящего, по–видимому, ситуация такова: штурм неба кончился поражением, так надо признать свое ничтожество перед Небом и в том найти удовлетворение.
А христианство ж тоже не всегда было на подъеме, как в начале первого тысячелетия н. э. (это верх восходящей ветви Синусоиды и даже фанатический вылет вверх вон с нее). И не всегда было таким империалистическим, так сказать, как при крестовых походах против неверных (вылет вниз). Были у него и периоды мудрого соединения несоединимого, периоды победы в поражении. Я имею в виду уход от притязаний на мирскую власть или просто периоды смирения, мира с властями предержащими (середина спускающейся ветви Синусоиды). Непомнящему было, — как по накатанной дороге, — куда поворачивать после поражения «марксистской науки».
Но у Пушкина–то было встречное движение. И на похожесть смирения с консенсусом нельзя поддаваться.
2.12
ВОПРОС.
Почему «безделица» Моцарта кончается мрачно?
ОТВЕТ СЛЮСАРЯ А. А. (1998 г.).
Потому что пушкинский Моцарт испуган предчувствием смерти, как это и свойственно обычному человеку, не демону, семьянину, каким он и показан в трагедии.
К 1830 году Пушкин отошел от мысли, что художник воспаряет над действительностью в момент творчества («Пока не требует поэта К священной жертве Аполлон… — стихотворение 1827‑го года). Теперь, в 1830‑м, гуманизм его реализма углубился и выразился в пафосе слияния искусства и жизни. И в данной трагедии Пушкин не отделяет свой идеал от образа Моцарта, для которого музыка является прямо из жизни, естественно и свободно.
МОЙ ОТВЕТ.
Жизнь — понятие настолько широкое, что сливается с чем угодно. И искусство многофункционально и много с чем из жизни сливается, можно сказать. Так, под музыку больше съедают и пьют, и потому она часто используется в трактирах. Вот вам и связь искусства Моцарта с жизнью. И Моцарт — это известно — был способен сочинять в любой обстановке. Чем тоже не связь с жизнью? Вообще, если иметь в виду утилитарную функцию искусства, то и «Тарар» Сальери был слит с жизнью, ибо революционно настроенная парижская публика в зале подхватывала, пишут, тираноборческие слова арий и пела вместе с артистами.
Но Моцарт, сочиняя, совершенно как бы улетал от окружающего. Полный отрыв от жизни — можно и так сказать. А «Тарар» — произведение чуть не прикладного искусства (пропагандистское). И Сальери, сочиняя к нему музыку, лишь озвучивал волю Бомарше.
Однако если не жонглировать понятиями, то у искусства есть специфическая функция, не присущая больше ничему — испытательная. Я повторюсь. Ничто иное не испытывает (непосредственно и непринужденно) сокровенное мироотношение человека с целью совершенствования человечества (Натев).
Доподлинно искусство с жизнью сливают авангардисты, когда отрываются в своем активизме от массы, но хотят, тем не менее, ее пронять. Например, такой перформанс: снайпер простреливает мякоть руки художника при скоплении зрителей (художник выступает против агрессии США во Вьетнаме и хочет привить отвращение к жестокости привычному к ней американскому обществу). Или (другой пример), если нет надежды пронять публику позитивно, то — пронять хотя бы негативно: превратить произведение в пролог скандала (как чтец своих особых стихов Маяковский после первой русской революции перед публикой, разочаровавшейся в революции).
Пушкин в 1830 году подобным (доподлинным) слиянием искусства и жизни не занимался. Да и никогда не занимался. Да и вопрос еще: искусство ли — такое слияние.
И вряд ли пристало Пушкину–реалисту, — даже романтическому реалисту, каким, я считаю, он начал становиться тогда, — вряд ли пристало ему делать Моцарта рупором своих идей, как это делали чистой воды романтики.
А вот пример различия между искусством и жизнью, касающийся как раз данной трагедии:
«В первое представление Дон — Жуана, в то время, когда весь театр, полный изумленных знатоков, безмолвно упивался гармонией Моцарта — раздался свист — все обратились с изумлением и негодованием, и знаменитый Салиери вышел из зала — в бешенстве снедаемый завистью.
Салиери умер лет восемь тому назад. Некоторые немецкие журналы говорили, что на одре смерти признался он будто бы в ужасном преступлении — в отравлении великого Моцарта.
Завистник, который мог освистать Дон — Жуана, мог отравить его творца».
Это слова Пушкина через два года после написания трагедии. Это не художественное произведение. И — перед нами едва ли не банальная уголовщина, не достойная пушкинского гения. Так зато Пушкин здесь и не выступает как художник.
Он был очень умен. Но гением он был в искусстве, а не в жизни. И в трагедии, а не за ее пределами, он выразил колоссальную глубину, в том числе и мысли.
Как тут не привести слова Гуковского:
«Ни в чем писатель не выявляет так глубоко… свое мировоззрение, как в своих произведениях. Можно не до конца открывать себя (вольно или невольно), можно искажать самого себя в письмах, в разговорах, в декларациях, в личных поступках… но никоим образом не в творчестве…»
Соответственно — и в пушкинском Моцарте. Тот в жизни мог быть хорошим семьянином и обычнейше бояться смерти и ее предчувствия (что Пушкин и показал), но в музыке — быть демоном (что Пушкин тоже показал, но не прямо, не плакатно, не в лоб).
Кстати, о лобовом восприятии текста и законе Выготского.
Очень естественно — процитировать художественный смысл только что упоминавшегося «Поэта». Этот смысл, мол, такой: «Но лишь божественный глагол До слуха чуткого коснется, Душа поэта встрепенется, Как пробудившийся орел». Это естественно, но неверно. Ибо художественный смысл подлинного произведения искусства (не иллюстрации) в принципе нельзя процитировать. То, что вдохновило поэта, и то, что озарило читателя, как бы нематериально воздействуют одно на другое. Это как один смутно ищет наименьшее число, делящееся и на 2, и на 3, бормоча эти числа, а другой, слыша их, догадывается: 6. Так и здесь — вполне по закону Выготского. Пушкин мотает нас от сочувствия к высокому:
Пока не требует поэта К священной жертве Аполлон…(слова–то какие торжественные: поэта, священной, жертве, Аполлон!) — к противочувствию:
И меж детей ничтожных мира, Быть может, всех ничтожней он.(Дети — это позитивно окрашенное слово; противочувствие заключается в сочувствии к низкому, ничтожному.)
И так по всему стихотворению: то — 1) позитивно к высокому или негативно к низкому, то — 2) позитивно к низкому или негативно к высокому. Смотрите, напишем 1) курсивом, а 2) жирным:
Молчит его святая лира, Душа вкушает хладный сон Как пробудившийся орел. Тоскует он в забавах мира К ногам народного кумира Не клонит гордой головы; Бежит он, дикий и суровый, И звуков, и смятенья полн…И от такого изматывания и сталкивания сочувствия с противочувствием рождается третье, катарсис, возвышение чувств: Пушкин же воспевает СНИСХОЖДЕНИЕ высокого к низкому, СОГЛАСИЕ с тем, чтоб люди не слишком высоко искали себе кумиров и идеалов. После своего тираноборчества, когда он был орлом, представителем продекабристского романтизма (взлет Синусоиды идеалов), Пушкин теперь, в 1827 году, склонен быть реалистом и сотрудничать с Николаем I, не считая его, как консервативное дворянство, кумиром, однако уповая на прогрессивные намерения его, испуганного восстанием декабристов (спуск Синусоиды идеалов).
Это — о восприятии текста не в лоб.
(А потом Пушкин и в Николае I разочаровался. И стал представителем следующего, так сказать, задумавшегося реализма — низ спуска Синусоиды идеалов. Потом обратился к воспитанию народа в духе консенсуса несмотря на сословное общество — новый подъем по Синусоиде идеалов, когда и написал «Моцарта и Сальери». И от жизни опять стал некоторым образом улетать вверх, а не спускаться, как в «Поэте»…)
Теперь о мрачном конце — по Пушкину — моцартовской «вещицы».
Литература, конечно, не музыка. И трудно ей передавать синхронность. Но оперирует же и она, скажем, ассоциациями. Почему не счесть, что в нашем сознании, только что воспринявшем и красотку, и друга, и внезапный мрак, все это аккумулируется.
Наконец, в свете того, как мы определились, что искусство — не жизнь, — пушкинский Моцарт не только боится, переживает предчувствие смерти (это жизнь), но и эстетизирует, создает об этом фрагмент произведения (искусство). И — учитывая ассоциацию — какой нюанс предчувствия смерти он эстетизирует? — Эфемерность жизни, еще более прекрасной от близости смерти.
А не это ли демонизм!?.
Ювелирная деталь, в 1980‑х годах найденная Цейтлиным, тонко подтверждает эту мысль:
«Одно только наличие рифмы в рифмованной поэзии не может быть смысловым фактом. Иное дело — рифма в белом стихе. Например… ассонансная:
Как тень он гонится. Вот и теперь Мне кажется, он сам–третей…А точных, глагольных рифм — так даже «слишком» много для белого стиха:
Я весел… Вдруг: виденье гробовое, Незапный мрак иль что–нибудь такое. Сказали мне, что заходил… …Всю ночь я думал: кто бы это был? Ты для него «Тарара» сочинил… …Ах, правда ли, Сальери, Что Бомарше кого–то отравил? Единого прекрасного жрецов. Не правда ль? Но я нынче нездоров…А необыкновенно глубокую для поэзии XIX века рифму невозможно не услышать:
— Давно, недели три. Но странный случай… Не сказывал тебе я? — Нет. — Так слушай.Вот и все рифмы. Мало их. Но в речи Сальери нет ни одной! Не стану обсуждать, сколь значимо их местонахождение, хотя и об этом… можно… сказать. Точная рифма появляется с темой смерти. Но вот каким образом они [рифмы] входят в слух? Удивительно, что появляется рифма не только редко, но и тихо».
А я б сказал — ничего удивительного. Дьявольская ж умелость — соблазнить так, чтоб соблазненный и не заметил, как он погиб, как смерть принял за эстетически ценное явление. Вертер в Сальери был очень падок на такие соблазны.
Приведенное — как бильярдные шары — столкновение противоположных мнений (о том, почему «вещица» кончается мрачно) неплодотворно. Но я все же его привел, потому что это единственный случай, когда мой оппонент знал мою версию о неприятии Пушкиным Моцарта–беса и ответил на нее. Ответил не голословно опровергая, а опираясь на какой–то элемент текста трагедии и на динамику творческого развития Пушкина.
Здесь же (хоть тут и не глава «СОГЛАШАЮСЬ») стоит дать и мнение, почти совпадающее с моим и дающее ответ на вопрос — «почему «безделица» Моцарта кончается мрачно?».
*
ОТВЕЧАЕТ В. РЕЗНИКОВ (1976 г.).
Самого Моцарта мучает проблема несовместимости двух противоположных начал в его собственной душе. Гармония, входя в Моцарта, обретает в нем «лукавого раба». Моцарт привязан душой к миру, к обыденной жизни, к семье. Моцарт настойчиво показывается примерным семьянином:
…играл я на полу С своим мальчишкой… …Но дай схожу домой сказать Жене, чтобы меня она к обеду Не дожидалась…Но сила Гармонии, врываясь в душу Моцарта, этот быт резко отрицает. На протяжении пьесы Моцарт рассказывает о создании двух своих произведений, — и обе истории овеяны каким–то мистическим ужасом.
Из двух «творческих историй» мы убеждаемся, что проявление для пушкинского Моцарта «бессмертного гения» было субъективно окрашено в мрачный, черный цвет, потому что вырывало его из любимой простой жизни, вставало перед глазами «гробовыми виденьями», лишало сна.
Моцарт чувствует, сколь неразрешимое противоречие представляет его существование. В предсмертном монологе он вслух произносит свою сокровенную трагическую мысль о конечной несовместимости жизни и творчества:
Когда бы все так чувствовали силу Гармонии! Но нет: тогда б не мог И мир существовать: никто б не стал Заботиться о нуждах низкой жизни, Все предались бы вольному искусству…Но ведь уничтожение мира — и есть величайшее мыслимое злодейство… Так что — не зря именно Моцарта волновал этот вопрос:
А гений и злодейство — Две вещи несовместные. Не правда ль?Он мечтает хоть как–то согласовать быт и Гармонию…
МОЙ КОММЕНТАРИЙ.
Он прежний. В 1976 году у нас было опасно называть Моцарта музыкальным выразителем идеалов крайнего индивидуализма, и… Они названы Гармонией.
А то, что названо оппонирующим Гармонии бытом, — это ж обычная обывательщина.
И кто тогда были обыватели?
Сказано, что в канун революции низы не хотят, а верхи не могут жить по–старому. Так это сказано не об обывателях, трутнях истории. Это, может, меньшинство, пчелы — недовольны: политики и идеологи от третьего сословия — несправедливостью феодализма, аристократы — скукой своей обеспеченности. И первые — ведут к революции и возглавят ее, а вторые (своим бегством во вседозволенность) — усиливают отвращение к старому строю. (Идеал первых — на восходящей дуге Синусоиды, вторых — на вылете вниз вон с нее.) А большинство, обыватели, — что бюргеры, что аристократы, — им что! Их идеал сегодня и сейчас достижим (он в самом низу перегиба Синусоиды). Всегда доволен сам собой, своим обедом и женой… Им хорошо. И таким и был Моцарт вне музыки.
Естественно, что таким, простым индивидуалистам, идеалы крайних индивидуалистов кажутся жуткими.
Заключение
Пора, давно пора кончать проверку гипотезы о непонимании как причине конфликтов и понимании как предпосылке консенсуса. И вам, читатель, теперь судить, хороша ли эта проверка и выдержала ли ее гипотеза о таком вот художественном смысле «Моцарта и Сальери».
Спасибо за упорство и внимательность, как бы вы ни отнеслись к прочитанному. Вдвойне спасибо за доброе отношение. Но если я вас не убедил, особенно — с тригонометрической аналогией истории искусства, то, напоследок, предлагаю вам самому ответить себе: как же получилось, что не в такую уж простую схему, как синусоида с отростками, уложились — без насилия над ними — идеалы столь многих художников (перечисляю в порядке их упоминания): Гайдн, Глюк, Пиччини, Ричардсон, Бомарше, Руссо, Ватто, Голдсмит, Макферсон, Гете, Шекспир, Байрон, Бекфорд, Гомер, Тирсо де Молина, Корнель, Расин, Мольер, Бетховен, Давид, Радищев, Гнедич, Достоевский, Петроний, Платонов, Буало, а также реальные Сальери и Моцарт и сам Пушкин разных периодов его творческой эволюции?
Истина в последней инстанции, конечно, недостижима. И, — поскольку данная работа научно–популярная и, значит, имеет отношение к науке, — было бы очень красиво перечислить те элементы трагедии, которые мне не удалось ассимилировать. Я даже стал перечитывать своих (в большей или меньшей степени) оппонентов именно с этой целью. И сдался: не получается. Похоже, я все могу объяснить по–своему. И перестал перечитывать. Наверно, я еще слишком горяч для такой работы, и нужно ее оставить для будущего.
Могу лишь признаться, что я, конечно, не все, написанное по–русски о художественном смысле «Моцарта и Сальери», прочел. Не по–русски — вообще ничего. И совершенно проигнорировал психоаналитическую интерпретацию. Она мне показалась такой притянутой, что я ее не смог одолеть чтением. Лишь перед тем, как сделать это признание, я переборол себя, прочел, но не захотел углубляться в эти все же малоперспективные, по–моему, дебри. И еще я посчитал себя не вправе как бы то ни было обсуждать очень уж специализированный музыковедческий текст Гаспарова во Временнике Пушкинской комиссии, изданном в 1977 г.
Раздел 3 НЕПРЕДВИДЕННЫЙ
Поначалу меня радовало, что с мира по нитке — набирается мне, нищему, рубашка, чтоб приодеть мою гипотезу о художественном смысле «Моцарта и Сальери» в одежду наблюдений над текстом трагедии, каких у самого меня, в 1‑м разделе, было мало. Но — чем дальше, тем больше — накапливалась какая–то смутная тоска… Словно я постепенно превращался в несимпатичного и слишком рационального Сальери.
Как вдруг — Цейтлин (середина 1980‑х годов). В его работе мне забрезжила возможность закончить свою — на не столь занудной ноте (да простится мне, что я его использую переиначивая).
Итак.
Пушкин, оказывается, не только беспощадный (подымись, мол, до меня и тогда меня поймешь). Он еще и снисходительный (ладно, мол, скажу и напрямую).
Единственно достоверным образом существует пушкинская пьеса в литературной форме. И когда ее перечитываешь, то вдумываешься в нее или нет, трагический конфликт очевиден уже в чисто формальном различии двух ее героев. Монолог — главенствующая форма сальериевой речи; а слово Моцарта всюду звучит не иначе как в ответ собеседнику.
Так вот почему Моцарт «гуляка праздный»! Не потому, что небрежен к своему «священному дару» — нет тому достаточных свидетельств, и читатель тут вправе не поверить Сальери. Но что несомненно читателю — так это «праздное» отношение Моцарта к своему слову, не к музыке. Столь же явно трудовое отношение Сальери — опять же не к музыке, а к слову. Вот где он настоящий, профессиональный труженик — ритор по призванию и образу жизни.
Скажут, искреннее слово не само разве «рвется из груди» — надобна ль ему «обработка»? Очень даже надобна! Спонтанные слова — они–то на самом деле не из сердца исходят. Их даже подбирать не нужно — они как назойливые мухи вьются вокруг. А вот без пощады к себе вытащить свою правду наружу, в слово — для этого надобно профессионально потрудиться.
Так, значит, моцартовы слова — как назойливые мухи? Свободные… Летают…
Нет! Моцарт не назойлив, а отзывчив. Но отзывы его как осиные укусы: каждый для Сальери очень болезненный, а сам Моцарт от них гибнет.
Пушкин о том, чтобы обе ремарки «Играет» совпадали хотя бы с концом стиха, не зря не позаботился. Музыки в ремарках в его для сцены не предназначенном (как, например, и драмы Байрона) произведении нет. Музыка «звучит» для читателя и без собственно музыки — в словах. В монологизме «звучит“ музыка Сальери, в отзывчивости — музыка Моцарта.
Причем Сальери самое главное выражает в монологах, которых Моцарт не слышит и отвечать на которые, естественно, не может. Более того, даже когда антипатия Сальери все–таки прорывается в диалог («Нет. Мне не смешно, когда маляр негодный…» и т. д.), собеседник продолжает его не слышать, а может быть, и не желает слышать, и отвечает:”Ты, Сальери, Не в духе нынче. Я приду к тебе В другое время». Подобный же уход Моцарта от прямого диалога в обмене такими репликами: «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь; Я знаю, я» — “ Ба! право? может быть… Но божество мое проголодалось». Диалог в «Моцарте и Сальери» не ограничен формой прямого речевого контакта. Это диалог сущностей, композиционный диалог: монолог — ответ. Он возникает как бы над конкретным движением речевой ситуации. Только на этом сверхуровне Моцарт по–настоящему отвечает Сальери, не опускаясь до прямого объяснения с ним. Это родственно музыке. Почему, скажем, Моцарт, не слыхавший монологов Сальери, как будто отвечает ему, во всяком случае, говорит о том же? — Это диалог двух музыкантов, построенный по принципу варьирования музыкальной темы. Тему поначалу задает Сальери: «гуляки праздного», «праздные забавы», «что пользы» в Моцарте. Моцарт дает свои вариации: «счастливцев праздных, пренебрегающих презренной пользой». Сальери: «Я избран, чтоб его Остановить». Моцарт: «Нас мало избранных», не заботящихся… И так далее. Типичная музыкальная форма — вариации (Викторович).
Но вы, рядовой читатель, этого не знаете. Не важно. Вы чувствуете: это музыка. Да и что ж это иное, если речь здесь о столь небывалых в мире людей страстях, о такой беспредметности? Пьеса — о музыке. Но и сама она, в определенном смысле, есть музыка — самое плебейское искусство, способное на все возбудить приблизительно родственное сочувствие.
Вы даже Сальери сочувствуете. Потому что монологизмом Пушкин совмещает позицию Сальери с читательской.
А тот — сама неуверенность. И его неуверенность не замаскирована, а прямо выражена в его складной речи. Ибо речь его — не констатация правды, известной ему, а дело, коим надобно стяжать последнюю истину.
Да — дело. Потому что одно — безразлично вторить тому, что «все говорят». Совсем иное — испытывать истину. И не иначе, как отрицанием вслух — провокацией. Потому что иначе ответа Неба можно ведь и не дождаться.
А вправду, кому это: «О небо!»? Самому себе? Или «почтеннейшей публике»? Что если здесь не только реалистическое произведение, но и чуточку миф?
Тогда «Что пользы?» — не риторически, а взаправду вопрошает Сальери. «Что пользы» в моцартианстве, коль нам, «чадам праха», навек заказана «алгебра»? Так не должно ль прежнюю гармонию сохранить — испытанную, доступную нам, ”чадам праха»? Ради того только — а не из «шкурной» выгоды — «мы все, жрецы, служители музыки» должны «при деле» остаться.
Так, значит, не на освобождение «вакансии» гения испрашивает он благословение у Неба? Нет, самую эту «вакансию» — а не личность, ее «занявшую» — считает он лишней и даже пагубной для справедливого миропорядка. Не на присвоение, а на отмену «священного дара» испрашивает он благословение, дабы все осталось по–прежнему, как было до появления носителя этого «священного дара». Переиначить гармонию — дабы сохранить ее, поверяемую «алгеброй», то есть формулами разума. Ну и, значит, не останется в живых сам носитель «священного дара». Потом. А сначала — заключить полюбовный уговор с Небом на убийство Его посланца.
Все — на уровне слова, «красного» слова, которое и является делом: доказать себе и Небу необходимость убийства Его сына. Казалось бы — только сотрясение воздуха, ходы разума.
Но трагедия человеческого разума, как показывает история, никогда не завершалась в сфере чистого разума. А всегда — в практике убийства, достаточно только противоречия между людьми назвать антагонистическими. Даже на высших, духовных стадиях сказывается инстинкт «низкой жизни»: остаюсь жить или я, или он; вместе — несовместимо.
И так же возник миф. Героический, во всяком случае. По гипотезе Клейна.
Он возникает в эпоху народных катастроф, когда над народом нависла угроза уничтожения и необходимо моральное преодоление кризиса.
Такая эпоха была, например, во время нашествия с севера дорийцев на древнейшую (доэллинскую) Грецию. Была уничтожена так называемая крито–микенская культура, исчезла письменность, были разрушены города, сам общественный строй — древнейший рабовладельческий — был уничтожен, и ахейцы (так назывались те, кто жил тогда в Греции) вернулись к родовому строю, какой был у напавших — дорийцев. Но все же ахейцы выжили и что–то от той, додревнегреческой, нации все же сохранилось. В искусстве — это поэмы троянского цикла (догомеровские). И в этих поэмах ахейцы обыграли одно свое случайное поражение, под Троей, которое случилось до нашествия дорийцев и от народа, которого ахейцы чаще побеждали, чем наоборот. И изживание сокрушительного поражения от дорийцев ахейцы осуществили в выдуманной какой–то странной победе над троянцами, осуществили в догомеровской «Илиаде», кончающейся вполне сказочным образом (известный эпизод с троянским конем).
Почти такая же ситуация — в русских былинах, возникших в эпоху татаро–монгольского нашествия. Сказочным образом побеждаются сильные враги, прототипом которых являются враги более слабые, часто бывавшие битыми (печенеги, половцы), или вообще волшебные персонажи (соловей–разбойник).
При таких обстоятельствах, в мифе, реализуется больше компенсаторная функция искусства, чем основная (по Натеву — испытательная), и суть произведения раскрывается скорее словами, понятыми в лоб (т. е. из текста), чем катарсисом (из подтекста).
Пушкин — чем–то, в «Моцарте и Сальери» — сотворил тоже некий миф: невероятно, но веришь. Мотивы и поступки Сальери он объемлет такой логикой — отрешенной от житейского рассудка, — на какую читатель, однако, соглашается, сам того не замечая. Но ведь чем–то же надо было так настроить ум читателя, чтобы он «с ходу» почувствовал себя «своим» в той логике! Пожалуйста: один, например, очевидный, но неосознаваемый прием — «инвентарная» бедность.
Вот я нахожу Сальери в комнате, где стоит рояль — и более ничего о ней не известно. Вот другая, «особая» комната в трактире — а вся ее «особость» опять же такова, что и в ней, кроме обеденного стола, стоит рояль. Так коль взору, пусть и мысленному, не на чем задержаться, кроме как на рояле и обеденном столе, то сами эти предметы обретают смысл, не соизмеримый с их обиходным значением. Мало вещей. Но ежели стол в трактире служит не для обеденно–обыденной надобности, а для умерщвления, и ежели рояль предназначен только бессмертному гению (а Сальери ни разу не прикасается к клавишам), то этих вещей вполне хватает, чтобы составить предельную оппозицию: смерть — бессмертие.
Мало вещей — мало и действующих лиц. И предельная оппозиция составляется такая: смертные — бессмертные.
Животная борьба за существование, которая породила сам жанр мифа, вополощается в мифе как персонифицированная в героях, настроенных экстремистски: победа — моя, и никак иначе, мне — жизнь, ему — смерть, мне — высший стиль жизни, ему — низший и не меньше. Без полутонов. Абсолютный контраст. Идеал — на вылете вниз с Синусоиды идеалов. Моцарт такой и провозглашает в конце, в своем минимонологе.
Однако, как только приложишь к делу этот инструмент — Синусоиду с отростками — так и становится ясно, что у Пушкина миф, да не такой, какой бывал когда–то.
В древнем мифе герой силу свою демонстрирует, а не родину защищает. И тем выполняет предначертание своей судьбы, Неба. Он вне морали. Но если ему суждено умереть — он не колеблясь идет на смерть (герой!).
Так если Моцарт еще похож на такого героя, — ему суждено принять смерть от Сальери, он смутно чувствует это, но не избегает его, — то Сальери ведет себя и не как индивидуалист, и совсем не героически. Он выступает (ого, против кого! — против Неба), но словами. И не приступает к делу, пока не получает Его согласия. (Первое согласие Сальери услышал в моцартовском экспромте: у Сальери еще до сознания не дошло, что он хочет Моцарта убить, а Небо уже услышало и дало своему посланцу это почувствовать и передать Сальери. Второе согласие в том, что Моцарт фактически сам для себя сочинил заупокойную мессу: и заказчик не является, и Моцарт сам не хочет, чтоб тот явился, что стало бы значить, что «Реквием» будет исполнен на смерть кого–то чужого.) Сальери ведет себя как слабый человек. Вот и не отравился он вместе с Моцартом, о чем думал, да практически спасовал.
А главное, Сальери иначе подчинен Року, иначе внеморален, чем Моцарт. Сальери только борется за выживание (контрастное «или — или»: или он, или мы, за которых представительствую я). Это животная мотивация (идеал на нижнем перегибе Синусоиды). Таких древний миф не воспевает.
Так что же Пушкин задумал?
Простой читатель не знает про гипотезу Клейна и про Синусоиду идеалов. Он не знает, что Пушкин предложил ему странный миф. И что вообще какой–то миф — тоже не знает. Но что Сальери разучился «красно» говорить в финале — видно каждому. Что ж произошло? Разве не победили неизбранные — избранных, трудяги — праздных?
Нет.
Ибо трупа нет.
«Камерная» самодостаточность произведения такова, что избавляет от сальерианского соблазна «разъять» его и заглянуть вглубь. Она настраивает на доверчивость к наличному смыслу. А при таком настрое «изъятое» осмысливается как недолжное. Оттого, что слов в пьесе мало, весьма значимо отсутствие реалий, на какие указует слово.
И коль скоро сама бессмертная гармония — в виде музыки, которую изображают слова трагедии — в произведении исполнена, то есть на деле, а не в свидетельстве — тогда уж недолжному на самом деле, явно быть не должно! «Моцарт и Сальери» — единственная из четырех «маленьких трагедий», где с предельной смысловой тяжестью присутствует слово «труп». Но нет самого трупа! Смерть не проникает на мыслимую нами сцену. Вхолостую крутит злодейство «бездельным» словом в финале. Потому оно и несов–мест–но с явью бессмертного гения. То есть они несовместны именно как «две вещи». Явью, а не моральным запретом эта истина предстает в пьесе. В растерянности пребывает убийца. Так именно потому, что нет трупа! И не должно быть. Потому что гений — бессмертный.
Сальери сделался злодеем зря и не мог не сделаться и в этом его трагедия.
«Труп» — ключевое слово. Трагизм сальериевой судьбы может показаться надуманным, если его заумное притязание понимать слишком уж оторванным от низкой жизни. Нет, это притязание, — камерной контрастностью «или — или», — выставлено как животная борьба за существование! Почему он музыку разъял, как труп? Почему гения хочет превратить в труп? Потому что труп, то есть мертвая природа, — наиболее доступный слой бытия, откуда можно извлекать сокрытые запасы родственного (животного) тепла. Но не этот ли хищнический позыв сублимирован в теоретических ухватках познающего разума? Вот в чем тяжесть трагедии! Даже на высших, духовных стадиях притязаний сказывается инстинкт низкой жизни. «Спеши Еще наполнить звуками мне душу…» С восторгом приемлет Сальери дар природы бессмертной. Но именно так приемлет, как хищник — свою добычу. Принять — это для него и значит убить! Такова не осознанная, а условно–рефлекторная логика, коей он обучен по своему сиротскому опыту.
Почему сиротскому? Потому что он не из избранных. А те — хотят.
Трагизм сальериевой судьбы коренится, стало быть, не во внешних обстоятельствах, не в наличии на свете избранных, не в несправедливом Небе, не в самом существовании Моцарта, своими отзывами как марионетку толкающего Сальери на злодейство. Трагизм сальериевой судьбы в мертвящем духе хотения. Нет, не священного дара, не благодати лишен Сальери и все, кого он защищает. Он лишен благобрати.
И таковы люди в наше время. И, может, не будут такими в будущем. Хотелось бы, во всяком случае, раз трагичными представляются нам теперешние.
Сальери, — как и каждому в свою меру, — вначале дана была благодать: «…высоко Звучал орган в старинной церкви нашей». Высоко — но не чуждо! Материнскому зову ответны «слезы невольные и сладкие». Это самое настоящее признание в сыновней любви! А во что она превратилась? В «любовь горящую», в как бы эротическое чувство. В Прекрасном (в судьбе гениального слушателя) сирота Сальери (не избранный Небом в гениальные композиторы) не узнал своей родины и стал разымать как труп сначала музыку, а потом покусился и на гения. Небо разрешило и то и другое, но лишь для того, чтоб доказать сальериеву неправоту.
Вот он — мотив неузнавания, пожалуй, самый трагичный и таинственный среди используемых в мифе. А иными словами — трагическое недоосознавание, причина крайнего разлада между людьми.
Кто ж мог так все подать? — Тот, кто мечтал — осознайте, мол, люди, и все образуется.
Осень 1998 года.
Литература
Аверинцев С. На перекрестке литературных традиций (Византийская литература: истоки и творческие принципы). В журн.: Вопросы литературы. 1973, N2.
Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. Л., 1971.
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1986.
Беляк Н. В., Виролайнен М. Н. «Там есть один мотив…» («Тарар» Бомарше в «Моцарте и Сальери» Пушкина). В кн.: Временник Пушкинской комиссии. Вып. 23. Л., 1989.
Бэлза И. Ф. Исторические судьбы романтизма и музыки. М., 1985.
Воложин С. И. Понимаете ли вы Пушкина? Одесса, 1998.
Воложин С. И. Тютчев и… модернисты, мнимые и настоящие. Одесса. 1995.
Вольперт Л. И. Бомарше в трагедии «Моцарт и Сальери». В кн.: Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1977. Т. 36, N3.
Выготский Л. С. Психология искусства. М., 1987.
Глумов Л. Музыкальный мир Пушкина. М. — Л., 1950.
Григорович В. Б. Великие музыканты Западной Европы. М., 1982.
Гуковский Г. А. Изучение литературного произведения в школе. М. — Л., 1966.
Кац Б. А. «Из Моцарта нам что–нибудь!» В кн.: Временник Пушкинской комиссии. 1979. Л., 1982.
Клейн Л. Кто победил в «Илиаде»? В журн.: Знание — сила, N8, 1986.
Кожинов В. В. Происхождение романа. М., 1963.
Кузнецов Б. Г. Философия оптимизма. М., 1972.
Купреянова Е. Н. А. С. Пушкин. В кн.: История русской литературы. Т. 2. От сентиментализма к романтизму и реализму. Л., 1981.
Лотман Ю. М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь: Кн. для учителя. — М., 1988.
Лотман Ю. М. Опыт реконструкции пушкинского сюжета об Иисусе. В кн.: Временник Пушкинской комиссии. 1979. Л., 1982.
Луначарский А. В. В мире музыки. М., 1971.
«Моцарт и Сальери», трагедия Пушкина. Движение во времени. Антология трактовок и концепций от Белинского до наших дней. М., 1997.
Натев А. Искусство и общество. М., 1966.
Неустроев В. П. Немецкая литература эпохи просвещения. М., 1958.
Нусинов И. М. История литературного героя. М., 1958.
Оперные либретто. Т. 2. Зарубежная опера. М., 1972.
Плеханов Г. В. Литература и эстетика. Т.1. М., 1958.
Попова Т. В. Зарубежная музыка XVIII и начала XIX века. М., 1976.
Прокофьев В. Н. Художественная критика, история искусства, теория общего художественного процесса: их специфика и проблемы взаимодействия в пределах искусствоведения. В кн.: Советское искусствознание ’77. Второй выпуск. М., 1978.
Риттер В. Так был ли он убит? В кн.: В. А. Моцарт. М., 1991.
Тюлин Ю. Н. О программности в произведениях Шопена. Л., 1963.
Узнадзе Д. Н. Психологические исследования. М., 1966.
Фомичев С. А. Поэзия Пушкина. Творческая эволюция. Л., 1986.
Чаадаев П. А. Статьи и письма. М., 1989.
Чичерин Г. Моцарт. Л., 1970.
Научно–популярное издание
Соломон Исаакович Воложин
БЕСПОЩАДНЫЙ ПУШКИН
Ответственный за выпуск
Штекель Л. И.
Н/К
Сдано в набор 09.12.98 г. Подписано к печати 02.02.99 г., формат 148х 210
Бумага офсетная. Тираж 100 экз.
Издательский центр ООО «Студия «Негоциант»
270014, Украина, г. Одесса, ул. Канатная 16/5



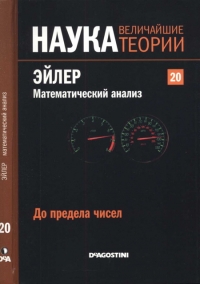






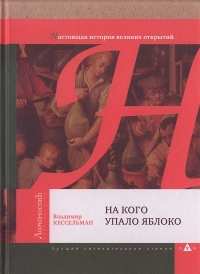


Комментарии к книге «Беспощадный Пушкин», Соломон Исаакович Воложин
Всего 0 комментариев