Григорий Яковлевич Солганик Очерки модального синтаксиса Монография
ВВЕДЕНИЕ
Предмет анализа в данной работе – субъективная модальность, субъективно-модальный синтаксис, который по аналогии с модальной логикой можно назвать модальным синтаксисом.
Модальная логика – раздел математической логики, в котором исследуются высказывания, имеющие такие истинностные значения, как «возможность», «невозможность», «необходимость» и т.п.[1] Близость модальной логики к лингвистике связана с выделением кроме значений «истинно» и «ложно» третьего значения истинности – «возможно». В суждении возможности отображается возможность наличия или отсутствия признака у предмета, о котором говорится в данном суждении, например: «Возможно, что наши регбисты окажутся победителями чемпионата».
Применительно к языку исследуемое в модальной логике значение возможности связано с включением в суждение (высказывание) субъекта – субъективного сознания. Один из ведущих теоретиков модальной логики Я. Хинтикка называет содержание, включающее пропозициональную установку, «возможными мирами»[2]. Возможные миры – это не что иное, как состояния сознания субъекта, ориентированные на воспоминание или на представление будущего, погруженного в творческую фантазию или подверженного сомнениям. Вхождение субъекта в эти состояния «осуществляется с помощью ментальных предикатов, выраженных посредством специальных лексических средств. А. Вежбицкая выделяет широкий пласт такой лексики, заданный в первую очередь наречиями, вводными словами, союзами типа к счастью, наверное, только, уже, давным-давно, возможно, слишком, все еще, которые имплицитно задают позицию субъекта (агента) деятельности»[3].
Если в модальной логике изучение значения возможности ограничено критерием истинности, то в лингвистике исследуются не только значения возможности, необходимости и т.п., но и весь комплекс проблем, связанных с антропоцентрическим принципом («человек в языке»)[4]. И все эти проблемы получают выражение в категории субъективной модальности.
Термин субъективная модальность, традиционно использовавшийся в синтаксисе, в настоящее время применяется в лексикологии и фразеологии, в словообразовании, в лингвистике текста. Это отражает стихийный процесс превращения субъективной модальности в общеязыковую категорию, что соответствует ее природе и сущности. Действительно, исследование языка обнаруживает присутствие субъективной модальности на всех его уровнях. В лексике это разветвленная система оценочных средств (о соотношении оценочности и субъективной модальности речь пойдет ниже), в морфологии – вводно-модальные слова, частицы, местоимения и др. Даже в семантике падежей проявляются модальные значения[5].
Многообразное проявление модальности во всех звеньях языковой системы свидетельствует об универсальности этой категории, о важности ее для понимания устройства и сущности языка. Однако главная сфера действия субъективной модальности – это синтаксис. И именно синтаксис наименее изучен с точки зрения выражения субъективной модальности. В грамматиках (академических, вузовских), в пособиях и руководствах описывается обычно диктальная семантика, объективная модальность – отношение предложения к действительности, то, как предложение отражает ситуацию. И в очень незначительной степени затрагивается субъективная модальность – компонент значения, составляющий важный слой общей синтаксической семантики предложения.
Субъективная модальность играет важнейшую роль не только в семантике, но и в функционировании синтаксических единиц, в речеобразовании (переходе от языка к речи). Исследования субъективной модальности очень важны как в теоретическом плане, так и в практическом отношении. Фактически эти исследования, имеющие значение прежде всего для синтаксиса предложения, синтаксиса текста, стилистики, могут составить самостоятельную отрасль синтаксической науки.
Таким образом, настоящая работа посвящена роли субъективной модальности в синтаксисе, главным образом в синтаксисе предложения и в синтаксисе текста.
Работа состоит из введения, четырех глав, посвященных описанию теоретических основ модального синтаксиса (глава 1), анализу субъективно-модального значения словосочетания (глава 2), предложения-высказывания (глава 3), типизации как важнейшего процесса речеобразования, текстовой модальности (глава 4) и заключения.
Предлагаемая работа представляет собой первый опыт монографического исследования модального синтаксиса и не претендует на исчерпывающее изложение сложных проблем, связанных с данной темой. Задача ее гораздо скромнее – привлечь внимание к важнейшему разделу синтаксиса, наметить пути анализа актуальнейшей темы, охарактеризовать ее узловые пункты.
Автор с благодарностью примет замечания и соображения по поводу этой работы.
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДАЛЬНОГО СИНТАКСИСА
Традиционно под модальностью в синтаксисе понимают грамматико-семантический признак, выражающий отношение высказывания к действительности и отношение говорящего к содержанию высказывания. Соответственно различают объективную и субъективную модальность. Первая выражает отношение предложения-высказывания к реальности: сообщение может подаваться как бывшее, настоящее или будущее (ирреальное). Она составляет обязательный признак предложения.
Вторая выражает отношение говорящего к тому, о чем он говорит, и рассматривается как необязательный компонент высказывания. Это отношение может выражаться, а может и не выражаться. «Субъективная модальность, т.е. отношение говорящего к сообщаемому, присутствует не во всяком высказывании: говорящий может никак не выражать своего отношения к сообщению»[6].
что касается субъективной модальности (СМ), то, соглашаясь с ее определением (выражение отношения говорящего к высказываемому), трудно согласиться с тем, что она составляет не обязательный компонент предложения-высказывания. Как будет показано далее, роль СМ гораздо глубже и значительнее, нежели простой необязательный показатель отношения говорящего к содержанию высказывания. Как и объективная модальность, субъективная модальность является обязательным признаком не только предложения-высказывания, но и других синтаксических единиц, а также речи (текста). Иначе говоря, субъективная модальность – это общесинтаксическая и общеязыковая категория. Уже упоминалось, что термин «субъективная модальность» используется в лексикологии и фразеологии.
Язык обращен к миру вещей и к человеку. Языковая система устроена так, чтобы говорящий мог высказать любое суждение о действительности. Но это обязательно предполагает выражение отношения говорящего к высказыванию. Говорящий должен располагать возможностями оценивать и субъект, и предикат, и другие компоненты высказывания.
Язык как система знаков обозначает предметы, понятия, явления независимо от воли и желания человека. Однако система языка устроена применительно к потребностям человека. Системность языка определяется, во-первых, закономерным характером отношения к действительности (предметов, явлений, связей между ними), системностью мирового устройства. Во-вторых, тем, что все языковые процессы (номинация, предикация и др.) осуществляются с точки зрения коллективного языкового сознания, в конечном счете – с точки зрения говорящего.
Эти два аспекта тесно взаимосвязаны и одинаково важны для понимания природы и сущности языка. Однако второй аспект (организация языка с точки зрения говорящего) только начинает разрабатываться (анропоцентрическая теория языка). Дальнейшие исследования в этом направлении представляющиеся весьма перспективными, призваны показать системный в плане модальности характер организации всех уровней языка.
Язык как система знаков не включает в себя человека, но устроен «по мерке человека»[7], в соответствии с его потребностями – называть предметы и давать им оценку, т.е. содержит, в частности, возможности выражения оценки содержания. Об этом свидетельствует сама структура знака, состоящего из означающего и означаемого. Означаемое в свою очередь состоит из ядра, содержащего основные признаки (семы), характеризующие, идентифицирующие предмет, и периферии, содержащей коннотативные признаки, находящиеся часто в латентном состоянии. «Наряду с существенными признаками объекта-номинанта, – пишет Ю.Д. Апресян, – значение слова содержит и несущественные латентные признаки»[8]. Исследователь приводит следующие примеры признаков потенциальных сем: для слова «молния» таким признаком будет быстрота, для слов «тетя» и «дядя» – тот факт, что они обычно старше ego[9]. Ассоциативные (потенциальные) семы часто служат основой метафорических переносов (телеграмма-молния).
Таким образом, значение слова обладает иерархической структурой – включает архисемы (общие семы родового значения), дифференциальные семы (видового значения) и потенциальные (ассоциативные) семы, отражающие побочные латентные признаки обозначаемого объекта[10].
Иерархическую организацию значения слова можно представить в виде ядра, в которое входят архисемы и дифференциальные семы, и периферии, включающей латентные признаки, вообще разнообразные возможности развития значения. Периферия может быть нулевой, как, например, в научных терминах, но может занимать почти все пространство означаемого, как, например, в интенсивах – относительных прилагательных конкретной семантики, подвергающихся в газетно-публицистическом стиле процессу окачествления и приобретающих широкое обобщеннооценочное значение, стертую семантику. Значение этих слов настолько широко, что они теряют собственную предметность, грамматикализуются и начинают обозначать наивысшую степень качества, передаваемого определяемым существительным (дремучий мракобес, махровый реакционер). «Некоторые имена прилагательные наряду с основным значением качества развивают вторичные значения (или оттенки значения) высшей степени интенсивности, без выражения качества. [...] В сочетании с выразителем качества такие имена прилагательные выступают в усилительной функции, т.е. в роли усилителей (интенсивов), подчеркивая и усиливая признак, выраженный вторым компонентом сочетания»[11].
Семантика слова и грамматических категорий представляется поверхностному взгляду внеличностной. Однако язык, созданный по мерке человека, анропоцентричен – для всех людей, а значит, и для каждого человека. Поэтому в каждом языковом знаке должно быть нечто личностное, хотя бы потенциально. Этим языковой знак отличается от неязыковых. Это личностное в знаке – предрасположенность к появлению в семантике субъективно-эмоциональных сем. Именно наличие периферии в означаемом обеспечивает возможность его развития – переноса значения, выражения оценки, которая может превращаться в субъективно-эмоциональное значение.
В качестве примера довольно сложного развития оценочного значения можно привести модальнооценочные слова. Не выражая прямо оценку обозначаемого (как, например, позитивно– и негативнооценочные слова), они в то же время обладают определенной оценочной направленностью, способностью косвенно выражать оценку. Косвенный характер оценки заключается в том, что слова характеризуют отношение не к тому, что непосредственно обозначено ими (не к денотату), а к тому, что связано в действительности с обозначаемой реалией. Так, слово бремя означает «тяжелая ноша, обычно перен. – тяжесть» (Толковый словарь русского языка под ред. Д.Н. Ушакова, т. 1). Однако бремя нельзя отнести ни к позитивнооценочным, ни к негативнооценочным, ни к безоценочным словам. Оно оценочно. Но оценочность его особого рода. В слове бремя оценка выражается не по отношению к самому понятию «тяжесть», а к тому, к тем, кто несет эту тяжесть. Таким образом, разбираемые слова типа бремя оценочны, но оценочность их носит косвенный, модальный характер. Ср. также драма, трагедия, путы, оковы, обуздать, гальванизировать и др.[12]
Приобретение словом модальнооценочной окраски – результат тесного взаимодействия слова и контекста, результат закрепления слова за определенными контекстами. Регулярно употребляемое в контекстах позитивного характера, слово может приобрести общую позитивнооценочную направленность, в негативнооценочных контекстах – негативную модальность. Это живой и естественный процесс развития значения слова, связанный именно и прежде всего с его функционированием, употреблением в контексте. Итог этого процесса – формирование разнообразных оценочных средств, различных субъективно-эмоциональных значений.
Оценочное значение в слове – это результат коллективного языкового сознания, коллективной языковой практики, развития языка. И говорящий пользуется таким оценочным словом как готовым. Это еще не собственно субъективно-модальное значение, т.е. принадлежащее конкретному говорящему. Таковым оно становится в речи, в контексте: оно может использоваться, присваиваться говорящим как выражение его отношения к содержанию высказывания.
Таким образом, на уровне лексики субъективная модальность (СМ) является потенциальной, выступает как универсальная категория, обеспечивающая возможность выражения оценочных смыслов. То же характерно и для других языковых уровней – морфологии и синтаксиса (о чем подробно далее).
Универсальный характер СМ проявляется не в самом языке, а при переходе от языка к речи. На уровне языка СМ существует как возможность, полная же ее реализация совершается в речи.
Обратимся к анализу речевых актов – единиц, из которых состоит любая речь, т.е. отрезков речи, высказываний. Начнем с самых элементарных: Идет дождь; Дай воды; Волга впадает в Каспийское море.
Эти высказывания различны по смыслу, содержанию, грамматическому строению. Единственное, что их объединяет, это определенное отношение к говорящему лицу, к Я. Так, высказывание Идет дождь означает: «Я (говорящий, пишущий) утверждаю (заявляю, говорю), что сейчас идет дождь». Высказывание Дай воды означает непосредственное обращение говорящего к слушающему (собеседнику) с просьбой (приказом, побуждением) дать, принести ему (говорящему) воды. Третье высказывание содержит определенную информацию, которая может быть выражена говорящим.
В любом высказывании более или менее явно, открыто обязательно присутствует или подразумевается говорящий (Я). И высказывание воспринимается как осмысленное не только потому, что компоненты его имеют грамматическую форму, но и благодаря тому, что оно соотносится с говорящим, выражает его речевое намерение. Так, ответом на наш вопрос могут быть не слова, а какой-либо жест, например, пожатие плечами или покачивание головой. Такой жест тоже воспринимается как высказывание только потому, что принадлежит участнику речевого акта. И как жест нельзя представить себе в отрыве от человека, так и высказывание невозможно без говорящего.
Таким образом, языковые (и неязыковые) средства становятся речью лишь тогда, когда происходит их соединение с говорящим лицом, с Я, т.е. в речевом акте. Именно структура речевого акта определяет общее, речевое в самых разнообразных высказываниях. Речевой акт «вмещает» в себя все произнесенные и еще не произнесенные (потенциальные) высказывания. Его структура, схема: «Я (говорящий) сообщаю нечто ТЕБЕ (слушателю) о НЕМ (предмете, лице, событии и т.д.)». Этот универсальный, всеобщий характер речевого акта получает отражение в любом высказывании.
Среди трех компонентов, сторон речевого акта (говорящий, слушающий, передаваемая информация), определяющее значение имеет первый – говорящий, производитель речи. Без него вообще невозможна речь, невозможно общение. Производство же речи (высказываний) осуществляется благодаря соединению какой-либо информации с Я говорящего. Для того чтобы слово вне речи стало высказыванием, речью, необходимо поставить его в определенное отношение к Я. Сравним писать (слово в словаре) и Писать! В первом случае нет связи с говорящим, поэтому нет и высказывания. Во втором случае перед нами высказывание: говорящий выражает приказ, информация тесно соединяется с Я.
Я – это изначальный центр любого высказывания, его основа даже тогда, когда Я открыто не выражено. Далеко не случайно то, что лингвистика не знает ни одного языка, в котором отсутствовали бы личные местоимения. Даже в самом безличностном высказывании так или иначе присутствует говорящий. И именно его присутствие превращает языковую единицу в речевую. Коротко можно сказать: речь начинается там, где есть говорящий. Средство же обнаружения говорящего – субъективно-модальное значение.
Язык располагает многообразными средствами выражения СМ. «Русская грамматика» относит к ним интонационные конструкции, грамматические, лексические средства, определенным образом взаимодействующие с интонацией и словорасположением, частицы, вводные слова и группы слов, междометия[13].
Как видим, средства выражения СМ даются списком, совокупно. Между тем они представляют собой систему, центр которой – не называемое обычно как субъективно-модальное средство местоимение Я. В языке (вне контекста) оно действительно не имеет субъективно-модального значения, но в высказывании, в тексте (речи) становится средоточием субъективной модальности. Если все остальные средства (вводные единицы и др.) выражают присутствие говорящего косвенно, то местоимение я называет говорящего прямо и непосредственно.
Все остальные средства СМ служат выявлению я в речи, связаны с ним, подчинены ему. Так, вводные слова, словосочетания, предложения обладают субъективно-модальным значением потому, что выражают отношение говорящего (я) к содержанию высказывания. Междометия, например, это непосредственная реакция говорящего и т.д. Таким образом, я – это средоточие, центр поля СМ. И появление я в высказывании (тексте) знаменует собой высшую степень СМ. Например:
Стояла звонкая тишина, лес нахмурился, посуровел. Я шел по тропинке, вглядываясь в темную чащу.
Появление я в последнем предложении резко меняет модальный план изложения: объективированное описание сменяется субъективированным. И предшествующие появлению якартины-фразы воспринимаются уже с точки зрения говорящего, я.
Переходя из языка в речь, я из нейтрального обозначения говорящего становится знаком присутствия говорящего в тексте и в зависимости от контекста, стиля, жанра вносит в речь разнообразные значения субъективной модальности. В тексте происходит усложнение структуры я. Оно не просто переходит из языка в речь, но модифицируется, усложняется. И главное заключается в том, что я говорящего, переходя в речь, может совпадать, а может и не совпадать с производителем речи (подробнее см. ниже).
Таким образом, местоимение я проявляет свои субъективно-модальные свойства только в высказывании, в тексте. Другие средства обнаруживают СМ как в языке, так и в речи. Иначе говоря, в речи они используются как готовые субъективно-модальные средства.
Каков же механизм действия СМ при переходе от языка к речи? Каков источник субъективно-модального значения в высказывании, речи?
Главное средство, образующее, конституирующее СМ[14], – категория производителя речи. И это естественно, без него речь невозможна. Однако отношение «производитель речи – речь» довольно сложно. Производитель речи многообразно и далеко не всегда прямо и непосредственно проявляет себя в речи. Промежуточным звеном между речью и ее производителем выступает субъект речи.
Я пишу.
Ты пишешь.
Он пишет.
Во всех трех предложениях производитель речи может быть один и тот же. Но в первом случае производитель речи и субъект совпадают. Производитель речи говорит о себе (это его собственная речь). Между речью и ее производителем нет никаких зазоров. Во втором предложении субъектом речи выступает тот, кого говорящий (производитель речи) называет ты. Производитель несколько отстраняется от собственной речи (появляется некоторый зазор). Производитель речи и ее субъект не совпадают. Однако связь между ними очень тесна: я и ты взаимно координированы. Ты подразумевает я. Наибольшая отстраненность производителя речи от ее субъекта и от самой речи наблюдается в третьем предложении. Непосредственная связь между производителем речи и ее субъектом отсутствует. Она определяется экстралингвистически: он – это лицо, предмет и т.д., которые попадают в сферу видения, понимания, знания и т.д. производителя речи. Здесь совершается наибольший отход производителя речи от собственной речи. Однако хотя производитель не проявляет себя в речи, он подразумевается.
Типы речи, формируемые на основе субъекта речи (местоимения я, ты, он) выражают в целом отмеченные выше значения. При этом наивысшая модальность связана с первым типом (от я), менее высокая – со вторым типом (от ты) и потенциальная – с третьим типом (от он). Источник же субъективно-модального значения – соотношение производителя речи и ее субъекта[15].
Таким образом, субъективная модальность – общеязыковая категория, проявляющая себя на всех уровнях языка, но прежде всего в синтаксисе предложения и текста, в речи. В языке СМ содержится как возможность, в речи она реализуется и предстает как категория, посредством которой осуществляется переход от языка к речи, т.е. как речеобразующая категория.
Субъективная модальность – центральная категория модального синтаксиса. Модальный синтаксис – это обширная область исследования синтаксических форм и конструкций с точки зрения субъективной модальности. Он должен занять полноправное место наряду с синтаксисом структурным, коммуникативным, семантическим. Без него здание синтаксиса не может считаться достроенным. Полная семантика синтаксической конструкции складывается из семантики последней и ее субъективно-модального значения. Без субъективно-модального значения семантика синтаксической единицы оказывается неполной, недостаточной.
Изучение субъективно-модального значения каждой синтаксической единицы составляет разделы модального синтаксиса: 1) субъективно-модальное значение словосочетания[16], 2) субъективно-модальное значение предложения-высказывания; 3) субъективно-модальное значение текста (текстовая модальность).
Модальный синтаксис можно назвать антропоцентрическим: он изучает роль человека говорящего в языке (речи). Именно в модальном синтаксисе, его категориях воплощается антропоцентрический принцип языка (речи). Переход языка в речь, само оформление и функционирование речи происходит с помощью средств модального синтаксиса. Модальный синтаксис включает в себя изучение речи – процессов ее образования и функ ционирования.
ГЛАВА 2. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ СУБЪЕКТИВНО-МОДАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Как было выяснено, субъективно-модальное значение предполагает присутствие говорящего. Однако такие единицы синтаксиса, как словоформа и словосочетание, непосредственно с говорящим не связаны. Они лишь подготавливают почву для формирования субъективно-модального значения. Многообразные средства, рассматриваемые традиционно как выражающие субъективно-модальное значение (частицы, междометия, вводные слова и др.), действительно участвуют в выражении этого значения, но не самостоятельно, частично. Сами по себе вне предложения-высказывания они не могут выразить субъективно-модального значения. Последнее реализуется лишь в речи, в высказывании. Но важно подчеркнуть, что, реализуясь полностью в речи, субъективно-модальное значение формируется на основе средств всех уровней языка – лексики, морфологии, синтаксиса. В этом, в частности, проявляется единство языковой системы. И разрозненные на первый взгляд средства субъективной модальности (СМ) получают естественное свое место и обоснование.
Лексика, развивая оценочное значение в словах, создает предпосылки для формирования субъективно-модального значения. Морфология участвует в формировании СМ благодаря специализации некоторых ее разрядов – личных местоимений, частиц, междометий и др., а также благодаря участию в синтаксической связи слов, наличию потенциальных синтаксических сем у каждой части речи (подробнее см. ниже).
Главная же сфера действия СМ – синтаксис. что касается слово сочетания, то непосредственно оно не содержит субъективно-модального значения, так как является частью высказывания, но участвует в его формировании косвенно как фактор осуществления синтаксической связи между словами.
Значение слова реализуется в соединении с другими словами, прежде всего в словосочетании. Выбирая модель словосочетания, говорящий уже одним фактом выбора так или иначе выражает свое отношение к содержанию обозначаемого понятия. Кроме того, любой компонент словосочетания может содержать оценочное значение, преобразуемое в составе предложения в субъективно-модальное.
Но словосочетание в интересующем нас плане имеет и более широкое значение. В соединении слов отражается не только объективная связь между предметами действительности, но и воля, желание говорящего соединять те понятия, которые необходимы ему для выражения определенной мысли, определенного отношения к соединяемым понятиям. Поэтому механизм связи между словами в словосочетании представляет несомненный самостоятельный интерес, так как его описание в литературе требует уточнения. Но он имеет важное значение и как фактор формирования субъективно-модального значения. Синтаксическая связь и развитие значения объединены очень тесно.
Нас будут интересовать прежде всего подчинительные связи. Подчинение в традиционном понимании – это такая связь, при которой одно слово главное, независимое, а другое зависимое. Говорящий выбирает тип связи, тем самым подчеркивая свое отношение к связи предметов в действительности. Рассмотрим с этой точки зрения подчинительные связи между словами, одновременно уточняя природу и механизм этих связей.
Как соединяются слова в словосочетании? Какова природа подчинительных связей? Подавляющее большинство авторов, пишущих о присловных связях, главное условие этой связи видят в подчинении одного слова (словоформы) другому. Но так ли это в языковой реальности?
Например, в словосочетании маленькие дети трудно определить, какое слово «главнее» – определяемое или определяющее. Действительно, определение невозможно без определяемого, но, с другой стороны, энергия распространения у прилагательного маленькие гораздо сильнее. Оно обязательно требует восполнения существительным (в нашем случае словом дети). Определяемое же самодостаточно, оно вполне может обходиться и без определения. И вопрос о том, что «главнее», оказывается трудно разрешимым. Он вообще, по-видимому, некорректен. Вывод о том, что «главнее» определяемое, продиктован логикой, логическим подходом к языку. Только с логической, но не грамматической точки зрения слово дети «главнее» слова маленькие. Отношение «главное – зависимое» – это логическое, а не грамматическое отношение.
В нашем примере каждый компонент предсказывает другой компонент, но один из них факультативен, а другой облигаторен. Со стороны определяющего связь облигаторна, со стороны определяемого – факультативна. Определяющее зависит от определяемого (принимает его грамматическую форму). Однако и определяемое зависит от определяющего: оно заполняет обязательную синтаксическую позицию при определении-прилагательном (маленькие =>дети). Если «смотреть» от прилагательного, то зависимым будет слово дети, грамматически главенствующим – слово маленькие: оно для реализации своего значения требует присоединения существительного. что касается определяемого (существительного), то оно является главенствующим только в логическом смысле: грамматическая форма существительного определяет грамматическую форму прилагательного. Таким образом, грамматически главенствующее слово – определение (прилагательное), логически главенствующее – определяемое (существительное).
В целом же связь компонентов словосочетания двусторонняя, двунаправленная. Если между двумя объектами, понятиями есть связь, значит, она взаимна. Если слово Х определяет слово Y, то Y тоже определяет Х, но по-другому, не так, как Х определяет Y. Однонаправленная связь (Х определяет Y, а Y не определяет Х) противоречит языковой реальности и элементарному содержанию термина связь.
Так, в атрибутивном словосочетании существительное, определяя грамматическую форму прилагательного, само в свою очередь зависит от прилагательного: оно реализует синтаксическую интенцию прилагательного. Принимая грамматическую форму существительного, определяющее само начинает «подчинять» себе существительное, требуя заполнения существительным свободной позиции при себе.
Синтаксическая присловная связь во всех ее видах (согласование, управление, примыкание) всегда двунаправлена, но реализуется по-разному в левом и правом направлениях. Логический подход не может раскрыть подлинный механизм синтаксической связи. Исследование присловных связей нуждается в грамматическом подходе. Суть грамматического подхода заключается в исследовании синтактики слова.
Обратимся снова к нашему примеру. Как соединяются слова в атрибутивном словосочетании маленькие дети? Смысловая связь их несомненна. Однако ясно, что слово маленькие не содержит в себе значение «дети», так же как и дети не включает в себя значение «маленькие». Как же возникает связь между ними?
Рассмотрим структуру значения слова маленькие. Кроме лексического значения оно содержит и значение более абстрактное и обобщенное: «относящийся к любому предмету» (в широком смысле), который может определяться прилагательным (маленькие =>дети, деревья, окна и т.д.). Это грамматическое (морфологическое) значение свойственно всему классу прилагательных. Выраженное в слове эксплицитно, это значение содержит в себе и имплицитную сему «предмет». Она не выражена в слове, но подразумевается: «относящийся к предмету» обязательно предполагает предмет. Для реализации значения прилагательного необходимо присоединять к нему слово, обозначающее предмет. Значение «предмет» потенциально содержится в грамматическом значении прилагательного и обязательно требует распространения, реализации. Это значение можно назвать потенциальной синтаксической семой (ПСС). Сема является синтаксической, так как направлена именно на связь. ПСС прилагательного манифестирует интенцию связи, очень сильную, императивную, но не выраженную эксплицитно в слове. При выделении ПСС мы можем опереться на идею Ш. Балли о грамматическом плеоназме. По мнению Ш. Балли, чтобы два слова составили правильное словосочетание, помимо различающих их сем, они должны иметь по крайней мере одну общую сему. Во французской лингвистике (А. Греймас, Б. Потье) для обозначения такой общей семы использовался термин классема. В одном сообщении классема встречается несколько раз (два и более), что и обеспечивает связность.
Вернемся, однако, к нашему примеру. Содержащаяся в грамматическом значении прилагательного ПСС «предмет» обнаруживается, реализуется в существительном, обозначающем предмет:
Маленькие («предмет») => дети (предмет).
Так потенциальная сема обретает плоть, форму, превращаясь в существительное дети. Реализация ПСС в существительном создает тесную связь между словами.
Однако этим процесс соединения слов не исчерпывается. Слово дети также имеет ПСС, связанную с морфологическим значением существительного: «то, что может быть определено прилагательным, иметь признак»:
Дети («признак») =>маленькие (признак).
ПСС («признак») реализуется в прилагательном, обозначающем признак. Однако интенция к распространению у существительного (дети) гораздо слабее, чем у прилагательного (маленькие). ПСС существительного факультативна, в то время как ПСС прилагательного облигаторна. Таким образом, суть синтаксической связи слов маленькие и дети заключается во взаимной реализации ПСС:
Маленькие => дети.
Говоря о ПСС как главном средстве синтаксической связи, важно иметь в виду, что конфигурация ПСС соединяемых слов имеет характер обратного подобия:
«предмет, обладающий признаком» => «признак предмета»
Такая конфигурация ПСС создает взаимное тяготение слов, содержащих ПСС, друг к другу, которое реализуется в соответствующих словах, что и обеспечивает прочную двойную и двустороннюю связь.
Мы рассмотрели синтаксическую связь в атрибутивных словосочетаниях (традиционно называемую согласованием). Аналогичен механизм связи управления и примыкания. Так, в словосочетании читать книгу ПСС глагола – («объект действия»), ПСС существительного – («действие над объектом»). Взаимная реализация обратно подобных ПСС создает синтаксическую связь, и трудно сказать, какое из слов «главнее». Глагол требует постановки существительного в определенной форме, существительное требует присоединения глагола (книгу => читать, читая, читающий...; любить, покупать, просматривать...). «Господствующее» слово требует «зависимого» так же, как «зависимое» «господствующего».
В основе всех присловных связей лежит механизм реализации ПСС. Можно полагать, что ПСС – одно из важнейших понятий синтаксиса, определяющее возможности и характер соединения слов. Как известно, слово обращено к миру вещей (парадигматика) и к речи (синтагматика), т.е. к другим словам. Синтагматика слова выражается в наличии у него возможностей, ресурсов для распространения. Отдельное, изолированное слово для выражения своего значения требует распространения другими словами. И возможности распространения заключены в самом слове. Каждое слово имеет синтаксическое значение, которое не выражено в слове эксплицитно, но принимает форму ПСС. Иначе говоря, каждое слово обременено синтаксическим значением (содержит ПСС), которое реализуется в других словах, в соединении с другими словами.
ПСС имеют универсальный характер, обеспечивая сочетательные возможности слов, реализуя их синтаксическое значение. И.А. Мельчук справедливо считает, что у слова (знака) наряду с означаемым и означающим следует выделять третий компонент – синтактику. «Наличие у знаков синтактики является отличительным свойством естественных языков. В искусственных языках [...] знаки не содержат (или почти никогда не содержат) синтактику»[17]. Следует лишь заметить, что синтактика не рядоположна означаемому и означающему, так как последние характеризуют не свойства, а структуру знака. Выделение же такого свойства, как синтактика, очень важно и перспективно.
Итак, каждое слово обладает потенциальным синтаксическим значением (ПСС). Эта сема имеет морфолого-синтаксическую природу. Грамматическое значение слова можно (условно) разделить на морфологическое значение (совокупность признаков, констатирующих принадлежность слова к той или иной части речи), выраженное эксплицитно, и имплицитное значение. Или, иначе, морфологическое значение содержит имплицитную синтаксическую сему. Выражая значения предметности, признаков, процессов и т.д., морфологическое значение не может тем или иным способом не указывать на взаимодействие между этими признаками, процессами, предметами и т.д. В противном случае морфология оказалась бы замкнутой, изолированной от синтаксиса и языковой деятельности в целом. Являясь частью морфологического (грамматического) значения, синтаксическое значение (ПСС) зависит от морфологического, определяется им.
Так, ПСС прилагательного, обозначающего признак предмета, имеет значение «предмет», ПСС существительного имеет значение «признак». Таким образом, наличие и конфигурация ПСС определяется принадлежностью к той или иной части речи. Обозначая признак, прилагательное не может замыкаться в самом себе. Оно обязательно направлено на предметы, поэтому ПСС прилагательного содержит в свернутом виде идею предметов. Но так как идея предметности выражается существительным, то ПСС прилагательного подразумевает существительное в качестве формы, в какой может реализоваться ПСС прилагательного. В принципе каждая часть речи содержит ПСС, выражающие потенцию (идею) связи с другими частями речи. Существование ПСС показывает теснейшую связь морфологии и синтаксиса.
Морфолого-синтаксическая природа ПСС проявляется в том, что каждая часть речи имеет свой набор ПСС. Так, существительное имеет ПСС практически всех частей речи: прилагательного, глагола, местоимения, наречия, числительного. Однако весьма показательно, что реализация всех этих ПСС возможна, неимперативна, необязательна. Это свидетельствует о центральной роли существительного в системе частей речи. Существительное открывает широчайшие возможности разнообразных связей. Значителен набор ПСС у глагола, имеющего и императивные ПСС (читать книгу). У других частей речи набор ПСС значительно уже.
Итак, будучи частью морфологического значения слова, имеющей синтагматическую направленность, ПСС представляет собой не что иное, как свернутое потенциальное значение части речи, выражающее интенцию связи данной части речи с другими. Набор ПСС – это набор частей речи, за пределами которых нет ПСС. В языке столько ПСС, сколько в нем частей речи. Синтаксические ресурсы той или иной части речи определяются количеством содержащихся в ней ПСС.
Являясь невыраженной частью морфологического значения слова, ПСС не связаны с лексическим значением, не вытекают из него. Однако лексическое значение слова может ограничивать реальную сочетаемость слова в речи (карандаш =>желтый, длинный, мягкий, но не *способный).
Наличие ПСС у той или иной части речи определяет принципиальную, теоретическую возможность ее соединения с другой частью речи, реализующей соответствующую ПСС. Так, любое прилагательное соединяется с любым существительным (если не учитывать лексический фактор). Реализованная ПСС создает своеобразный синтаксический каркас (синтаксическую модель), который заполняется лексикой:
[ ]-ый => существительное (м.р., ед.ч, им.пад.)
Ограничительным фактором выступает лишь лексическая сочетаемость.
Таким образом, синтаксическая присловная связь (традиционно согласование, управление, примыкание) – это максимально обобщенные взаимоотношения частей речи. ПСС присутствуют в каждом слове и обусловливают синтаксическую связь, которая осуществляется путем взаимной реализации ПСС. Синтаксическое значение содержится в слове как потенциальное, реализуется же в других словах, но строго в соответствии с ПСС. Традиционные согласование, управление, примыкание объединяются не подчинением одних форм другим, а «взаимным» подчинением» этих форм, т.е. взаимной реализацией ПСС. Поэтому более точно говорить не об управлении, согласовании, примыкании, а об адъективно-субстантивной, глагольно-субстантивной, глагольно-адвербиальной связи и т.д.
Синтаксическая связь, основанная на взаимной реализации ПСС, обусловливает и формирование субъективно-модального значения словосочетания. Каждая часть речи, обладая своим набором ПСС, участвует в формировании субъективно-модального значения. Такие части речи, как модальные слова, местоимения, междометия, специализированы для выражения СМ. Другие заключают в себе многообразные ресурсы для реализации субъективно-модального значения (например, прилагательные и наречия, о которых см. подробно раздел 3.1). Однако, будучи составной частью предложения, словосочетание не обладает самостоятельным субъективно-модальным значением, оно лишь способствует его формированию в высказывании. Это может быть сам выбор типа словосочетания, характер сочетаемости слов, оценочные компоненты словосочетания и др. Словосочетание участвует в формировании субъективно-модального значения в той мере, в какой оно участвует в образовании предложения.
ГЛАВА 3. СУБЪЕКТИВНО-МОДАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ВЫСКАЗЫВАНИЯ)
В формировании субъективно-модального значения центральная роль принадлежит предложению (высказыванию). Именно здесь сходятся нити всех ярусов языка (лексики, фразеологии, морфологии), участвующих в формировании субъективной модальности (СМ). Именно здесь СМ получает окончательное выражение.
Отражая ситуацию, конструкция предложения отражает и место в ней говорящего (наблюдателя), находящегося внутри ситуации, вне ее и т.д. Обязательное присутствие говорящего в ситуации, отражаемой в предложении-высказывании, обусловливает и обязательное (эксплицитное или имплицитное) выражение говорящим отношения к предмету сообщения и к ситуации. Вот почему любая конструкция предложения помимо объективно-модального содержит и субъективно-модальное значение. Это значение заложено в самой конструкции. На уровне структурной схемы оно представлено как потенциальное, как возможность, на уровне высказывания – как реализация этой возможности.
«Русская грамматика» не предусматривает позицию субъекта речи в структурной схеме, хотя и признает, что «в каждом предложении и, шире, вообще в каждом высказывании, произнесенном или написанном, всегда присутствует лицо, говорящее (или пишущее; далее «говорящий»). Присутствие говорящего выражается в том, что он так или иначе относится к тому, о чем сообщается»[18].
«Русская грамматика» (1980) связывает субъективно-модальные значения и средства их выражения с экспрессивной окраской сообщения и рассматривает их как сопутствующие основному сообщению, факультативные. Однако, как показывает анализ, они не являются чем-то внешним, привходящим, но, напротив, принадлежат самой конструкции, самой структурной схеме, как и объективно-модальное значение.
Любая структурная схема предполагает определенную интенцию, избирательность, точку зрения. Моделируя ситуацию, структурная схема «делает» это с определенной типизированной точки зрения. В принципе невозможна ситуация, представленная в предложении (в языке) вне наблюдателя (его точки зрения). Иными словами, схема структурирует ситуацию, в которой обязательно предусмотрено место для говорящего или отсутствие этого места (но не абсолютное), что тоже значимо.
Источником же субъективно-модального значения является присутствие говорящего, т.е. субъект речи. Он присутствует в любом высказывании. «Во всяком тексте есть тот, кто говорит, субъект речи, хотя бы слово я в нем ни разу не встретилось»[19]. Говорящий высказывается сам (я-предложения) или поручает эту роль другому, от имени которого ведется речь.
Присутствие говорящего естественно связано с выражением его эмоций, желаний, оценок и т.д., в конечном счете с выражением его отношения к сообщаемому. Другими словами, оно ведет к появлению субъективно-модального значения.
В структурной схеме предложения субъект речи подразумевается, но эксплицитно не выражен. Однако было бы избыточно включать субъект речи в структурную схему, так как он подразумевается во всех структурных схемах, ибо все они принадлежат всем говорящим. И предельно обобщенный субъект речи не вносит специфики в структурную схему. Он может быть присоединен к любой структурной схеме, например: Sr : N1 – Vf или Sr : Vf3s – Inf. Однако наличие такого обобщенного субъекта речи (Sr) становится значимым при реализации структурной схемы в высказываниях. Обобщенный субъект речи схемы воплощается в конкретные субъекты речи высказываний. И этот процесс совершается в соответствии с формулой схемы. В совокупности высказываний, построенных по той или иной схеме, субъект речи специфичен. Таким образом, обязательным признаком самой структурной схемы является не субъект речи, а субъективно-модальное значение, связанное с его появлением в высказываниях. В структурной схеме субъективно-модальное значение обобщено, в высказываниях оно конкретизируется. Если бы субъективно-модальное значение не было присуще структурной схеме, оно не могло бы появиться и в высказываниях. Конструкция предложения (структурная схема) определяет направление и характер формирования субъективно-модального значения высказываний.
Таким образом, объективную семантику структурной схемы, представленную в «Русской грамматике», следует дополнить субъективной (субъективно-модальной) семантикой. Полная семантика структурной схемы складывается из этих двух слоев синтаксического значения.
Рассмотрим охарактеризованные в общем плане процессы формирования субъективно-модального значения на примере предложений нескольких структурных схем.
3.1. Субъективно-модальное значение предложений типа N1 – Vf
Обратимся к анализу двусоставных предложений типа Ученик пишет; Завод работает; Ребенок радуется; Народ негодует. Они отражают ситуацию, обобщенной моделью которой является структурная схема N1 – Vf. Общая семантика этих предложений, по определению «Русской грамматики», – отношение между субъектом и его предикативным признаком – действием или процессуальным состоянием. Компонентами семантической структуры этих предложений, отражающей ситуацию, являются субъект, с одной стороны, и выполняемое им действие или испытываемое им состояние, с другой. Таков денотативный, или диктальный, по терминологии Ш. Балли, план предложения, его объективная семантика.
Однако данная характеристика значения неполна, так как не отражает позиции субъекта речи. Ведь все приведенные выше предложения, как и вообще любые предложения, произносятся, пишутся говорящим, производителем речи. Субъект речи, выраженный или невыраженный, эксплицитный или имплицитный (подразумеваемый), – непременный компонент семантической структуры любого высказывания, так как речь невозможна без ее производителя, субъекта. Субъект речи, говорящий, находится в определенной позиции, отношении к отображаемой в предложении ситуации. В анализируемых предложениях говорящий в самой структурной схеме не присутствует, не выражен, но он подразумевается, находится «за кадром». Однако отсутствие эксплицитного субъекта речи значимо. Ученик пишет подразумевает: «Я вижу (Мне кажется, я уверен и т.д.), что ученик пишет». Позиция говорящего в этих предложениях – это позиция стороннего наблюдателя. Модальное[20] значение этих предложений: «Говорящий описывает ситуацию со стороны». Иными словами, говорящий находится не внутри ситуации, а вне ее, изображает ее отстраненно, объективно, не обнаруживая своего присутствия. Это подчеркнуто объективированное отображение ситуации. Подразумевается, что и любой другой на месте говорящего описал бы ситуацию точно так же. Синтаксическая форма подчеркивает объективированность отображения, но не исключает полностью и субъективной точки зрения, стремящейся как бы к нулю.
Источник модального значения конструкции предложения – не только двусоставного, но и вообще любого – субъект речи, степень его участия (выраженности) в высказывании, его соотношение с диктальной семантикой, с элементами семантической структуры высказывания. Это видно, в частности, из такого сопоставления: Ученик пишет – Я пишу. В первом предложении говорящий описывает действие, производимое другим лицом – учеником. Ситуация представлена как объективированная, со стороны. Во втором – говорящий называет действие, которое совершает сам. Говорящий находится в центре ситуации, субъект речи и субъект действия совпадают. Это не стороннее описание действия, а его воспроизведение в момент речи. Модальность высказывания резко возрастает.
В принципе структурные схемы предложения можно было бы дополнить компонентом «субъект речи» (Sr). Но в этом, как уже упоминалось, нет необходимости, так как он подразумевается во всех структурных схемах. Реально же присутствие субъекта речи обнаруживается в высказываниях, строящихся по той или иной структурной схеме.
Участие субъекта речи в высказывании, вносящее в него значение модальности, проявляется многообразно и зависит от многих факторов. На уровне структурной схемы можно говорить лишь о потенциальном, хотя и универсальном характере модальности. Реальное же функционирование предложений, строящихся по той или иной структурной схеме, активизирует модальность. К факторам актуализации следует отнести в первую очередь способы (средства) выражения субъекта и предиката высказывания, распространение структурной схемы, лекси ческое наполнение главных и второстепенных членов предложения (преж де всего речь идет об оценочной лексике). Рассмотрим в таком порядке факторы, определяющие модальность высказывания. Позицию N1 (подлежащего, субъекта), в соответствии со структурной схемой, может занимать любой субстантив. Однако с точки зрения модальности наиболее важное значение имеет замещение позиции подлежащего местоимением Я и другими личными местоимениями.
«Русская грамматика» (1980) приводит целый список средств выражения субъективной модальности (СМ). Однако в этом перечне отсутствует главное средство выражения СМ – местоимение Я. Если СМ, по определению, есть отношение говорящего к сообщаемому, то естественно, что говорящий, называющий себя Я, – главный носитель субъективно-модального отношения. Я – центр поля СМ, объединяющий все разнообразные средства СМ в систему. И междометия, и вводные слова, и частицы, и другие средства выражают субъективно-модальное значение благодаря непосредственной связи с Я (говорящим).
Я в позиции подлежащего делает предложение открыто (и максимально) модальным. Я – говорящий, поэтому и отношение его к сообщаемому выражается непосредственно: Я пишу, (говорю, работаю, думаю и т.д.). Говорящий называет (описывает) действие, которое он производит, или состояние, субъектом которого он является. Действие и описание его совпадают – сосредоточены в одном и том же глаголе. Поэтому действие говорящего и есть его отношение к содержанию высказывания. Будучи средоточием, центром поля модальности, Я вносит в любое предложение, текст сильное и открытое модальное значение, связанное с участием говорящего. Особенно рельефно модальность таких предложений ощутима в потоке речи, на фоне других предложений (без Я), когда появление Я в позиции субъекта меняет план изложения на субъективно-модальный. Например: Был душный вечер. Лодка тихо скользила вдоль берега. Вдали я заметил одинокий парус.
Суть субъективно-модального значения, вносимого Я-подлежащим в предложение, заключается в том, что говорящий находится в центре ситуации, отображаемой в предложении, является не сторонним наблюдателем, а активным участником – производителем действия или субъектом состояния. Во всех остальных предложениях структуры N1 – Vf говорящий находится вне отображаемой ситуации и является сторонним наблюдателем. Вот почему Я-подлежащее резко меняет модальный статус предложения.
Учитывая сказанное, все подлежащно-сказуемостные предложения можно разделить с точки зрения модальности на два больших класса: предложения с подлежащим, выраженным Я, и остальные предложения (без Я), условно – Я-предложения и Он-предложения. С точки зрения субъективной модальности между ними существуют принципиальные различия.
«В рамках информативно-экспрессивного подстиля (газет. – Г.С.) существуют два противоположных друг другу, противопоставленных типа субъекта – Я-субъект и Он-субъект. Я-субъект выступает создателем ситуации, [...], создает в тексте особое представление референтной ситуации, в частности, представляет свою версию описываемого. Я-субъект выступает обязательно как говорящий и тем самым действующий субъект, у него есть свое внутреннее «эго», о качестве которого читающий, как правило, осведомлен, наконец, Я-говорящий ориентируется на некоторого арбитра (аудиторию), и эта аудитория размещается вовне дискурса. Он-субъект включен в ситуацию, созданную Я-субъектом. Он-субъект не всегда выступает как говорящий, не всегда реализует ту или иную интенцию. [...] Он-субъект имеет свое внутреннее «эго», о котором читающий часто ничего не знает (цели Он-субъекта, его искренности и т.д.). Он-субъект ориентируется на арбитра (аудиторию), который может быть расположенным как вовне дискурса, так и внутри его»[21].
Если расположить Я– и Он-предложения по степени субъективной модальности, то они займут противоположные полюсы шкалы: наивысшей модальностью обладают Я-предложения, наименьшей – Он-предложения. В промежутке располагаются виды предложений, тяготеющих к тому или иному полюсу. Так, к полюсу наивысшей эксплицитной субъективной модальности приближаются предложения, субъект которых выражен словосочетаниями с притяжательными местоимениями мой (Мой доклад назначен на вторник), предложения с субъектом мы (степень модальности несколько ослабляется, говорящий включает себя в некоторое множество). К предложениям с косвенными средствами выражения модальности следует отнести предложения с субъектом ты (вы) и соответственно с субъектом, выраженным словосочетаниями с притяжательными местоимениями твой, Ваш. Местоимения ты и я настолько тесно координированы в языке, что ты вызывает представление о я. «Ты» может сказать только говорящий.
Распространены предложения, модальность которым придает оценочная лексика, в частности в позиции субъекта, например: Агрессор раздумывает. Разумеется, слово «агрессор» выражает оценку. Оценка же принадлежит говорящему, который квалифицирует субъект действия (состояния) как агрессивный. Говорящий выражает свое отношение к содержанию высказывания, т.е. субъективно-модальное значение.
«Оценку, – пишет Е.М. Вольф, – можно рассматривать как один из видов модальностей, которые накладываются на дескриптивное содержание языкового выражения. Высказывания, включающие оценку или другие модальности, содержат дескриптивную компоненту и недескриптивную, то есть модальную компоненту, причем первая описывает одно или несколько положений дел, а вторая высказывает нечто по их поводу»[22].
По отношению к субъективной модальности оценка предстает как видовое понятие. Субъективная модальность, выражающая отношение говорящего к содержанию высказывания, включает в себя и оценочное отношение (истинность – неистинность, важность – неважность, хорошо – плохо и др.). Специфика же оценки заключается часто в непрямом выражении модальности, косвенно обнаруживающей присутствие субъекта речи.
«Важнейшей особенностью оценки является то, что в ней всегда присутствует субъективный фактор, взаимодействующий с объективным. Оценочное высказывание, даже если в нем прямо не выражен субъект оценки, подразумевает ценностное отношение между субъектом и объектом. Всякое оценочное суждение предполагает субъект суждения, то есть лицо (индивидуум, социум), от которого исходит оценка, и его объект, то есть предмет или явление, к которому оценка относится»[23].
Для формирования и проявления модальности в предложениях рассматриваемой структурной схемы наряду с субъектом большое значение имеет и предикат (способы его выражения). С точки зрения степени модальности здесь прежде всего выделяются высказывания со сказуемыми – глагольными формами 1-го лица настоящего времени, тождественные Я-предложениям и непосредственно обнаруживающие говорящего: Сижу задумчив и один...(Тютчев).
К специфическим для модальных высказываний следует также отнести предикаты считать, полагать, казаться, чувствовать (себя) и свернутые аналоги: по-моему, по мнению кого-либо и др. Такие предикаты вводят в высказывание открытую субъективную модальность, указывают на присутствие оценивающего субъекта: Она считается (кажется мне) хорошим специалистом.
Важную роль играют и косвенные формы личного местоимения 1-го лица, непосредственно называющие субъект восприятия (мне). К способам косвенного выражения модальности в предикатах следует отнести использование оценочной лексики. Оценка как один из основных аспектов взаимодействия человека с внешним миром особенно естественна при характеристике действия. Способы обозначения действия как объекта оценки во многом определяются семантикой оценочных лексем. Характерно при этом, что оценка действия является одновременно оценкой элемента ситуации и самой ситуации[24]. Например: Я люблю над покосной стоянкою слушать вечером гуд комаров (Есенин).
Однако предикат может не содержать оценочных лексем и вносить при этом модальность в высказывание. Можно полагать, как справедливо считают некоторые исследователи, что в глубинной структуре любого высказывания (а не только оценочного суждения) содержится аксиологический предикат.
Лес шумит. Если исходить из того, что это высказывание принадлежит некоему говорящему, то можно приписать цитированному предложению различные цели. Например: Лес шумит. А вчера он был тихий, спокойный, не к добру это. Главное при восприятии этого высказывания, как и любого другого, – что хотел сказать говорящий? Помимо той информации, которая содержится в предложении, оно заключает в себе и речевую интенцию, намерение говорящего. Ничто не говорится просто так. Говорящий может стремиться привлечь внимание к описываемому факту, событию, вызвать какое-либо чувство, изменить что-либо в картине мира адресата, побудить к какому-либо действию. Это речевое намерение говорящего и составляет суть субъективной модальности высказывания, в данном случае не очень определенной из-за отсутствия контекста. Однако эта неопределенность может входить в замысел говорящего (например, создать ту или иную атмосферу; характеризовать состояние говорящего и т.д.). Позиция говорящего в этом высказывании непосредственно не выражена. Она выражена лишь фактом самого высказывания. Значение модальности (и соответственно глубинного аксиологического предиката): говорящий стремится привлечь внимание к ситуации, обозначаемой в предложении, не обнаруживая, не проявляя себя. Он как бы говорит: «Обратите внимание, это немаловажно, это может иметь последствия».
И во многих формах сказуемого, не содержащих оценочных лексем, модальность выражается. Например, сказуемое представлено таким сочетанием глагола или инфинитива, которые означают целостный признак – действие или состояние субъекта: Каштаны зазеленели первые / первыми; Обед стоял нетронутый / нетронутым.
В ситуации, отражаемой предложением Каштаны зазеленели появляется дополнительный признак (первые / первыми). Благодаря этому признаку картина дается не изолированно, а в сравнении: другие деревья зазеленели (или зеленеют) позднее. Ср.: Мальчик рос замкнутый / замкнутым – в сравнении с другим (другими) мальчиком (мальчиками). Введение дополнительного признака (детализация, усложнение картины) сопровождается (так или иначе) характеристикой, сравнением, в конечном счете оценкой ситуации. Оценка же косвенно свидетельствует о более явном присутствии говорящего, о более высокой степени модальности предложения.
Аналогичный характер имеют предложения, сказуемое которых представлено сочетанием знаменательного глагола, означающего бытие, обнаружение, мысль, отношение, восприятие, с существительным в творительном падеже: Он вообразил себя героем; Собеседник прикинулся добряком; Засуха обернулась пожаром. Главная семантическая нагрузка в этих предложениях падает на существительное, которое играет роль опредмеченного признака (Он => герой; Собеседник => добряк; Засуха => пожар), что сближает эти предложения с предложениями первой группы (см. выше) и свидетельствует об их оценочном характере. Оценочность (модальность) возрастает, когда глагол в составе сказуемого имеет оценочный характер: вообразил, прикинулся и др. Ср.: В министерстве он состоит консультантом и слывет, считается консультантом.
Сказуемое может быть представлено сочетанием двух одинаковых личных форм разных глаголов, что характерно для экспрессивной, непринужденной речи. Сюда относятся многообразные случаи. Например: хохочет заливается; стоит не шелохнется; звонит надрывается. Модальное значение, вносимое в предложение такими сказуемыми, связано с характеризующей, квалифицирующей функцией вторых глаголов, что косвенно обнаруживает присутствие говорящего.
Модальны, как правило, сказуемые, выраженные глагольным фразеологическим сочетанием, что связано с их экспрессивностью, оценочностью. У фразеологизмов коннотативный элемент превалирует над денотативным. «Аксиологический компонент отражает человеческий фактор в семантике единицы, входит в структуру значения подавляющего числа идиом и представляет собой важнейшую характеристику фразеологизма»[25].
Экспрессивность, оценочность фразеологизмов предопределяет модальность предложений, в которых они используются. При этом «чем эффективней оценка, тем теснее она связана с индивидуальной позицией субъекта»[26]. По-видимому, все экспрессивно окрашенные варианты сказуемого в той или иной степени модальны, так как обнаруживают индивидуальную позицию субъекта.
Сказуемые, представленные формой глагола, вводимой сравнительным союзом, характеризуют признак как кажущийся, подобный тому, что обозначено глаголом: Ты словно спишь; Он будто с ума сошел; Она как будто онемела. Модальность подобных предложений проявляется как рефлексия говорящего в определении предикативного признака. Таким образом, предикат (сказуемое) вносит весомую лепту в модальность предложений, которая зависит от способов (средств) выражения предиката, от его лексического наполнения – прежде всего от экспрессивной, оценочной лексики.
Но не меньшее значение имеет и грамматическая (особенно временная) характеристика сказуемого. Ср.: Лес шумит и Лес шумел. С точки зрения модальности между предложениями в настоящем времени и в прошедшем – глубокая, принципиальная разница. В первом предложении действие совпадает с моментом речи, т.е. моментом речи говорящего, который находится в той же временной ситуации, что и субъект действия, т.е. внутри нее. Можно сказать: Послушай – лес шумит, но нельзя сказать: Послушай – лес шумел. Здесь линии говорящего и субъекта действия расходятся. Говорящий остается в настоящем времени, а действие субъекта относится к прошедшему. Действие не совпадает с моментом речи, говорящий находится вне ситуации, отображаемой в предложении.
Это принципиальное различие сказывается на модальности предложений. Лес шумит – событие изображается как непосредственно наблюдаемое (говорящим). Лес шумел – событие не изображается, а описывается. Уровень непосредственного наблюдения сменяется уровнем описания, обобщения. Говорящий находится вне временной ситуации и описывает ее извне, отстраненно.
Таким образом, временная ось тесно связана с модальностью: настоящее время коррелирует с субъектом речи, помещая его в ту же временную ситуацию, прошедшее – исключает его из временной ситуации. что касается будущего времени, то оно ближе к настоящему, что объясняется реальной возможностью осуществления действия в настоящем. Можно сказать: Послушай – лес будет шуметь. Субъект речи остается внутри временной ситуации.
До сих пор мы рассматривали в основном нераспространенные предложения. Однако большие изменения в модальность предложений вносят распространители – детерминантные и присловные. Для реализации описываемой структурной схемы достаточно обозначить субъект и его предикативный признак. Это, как правило, максимально (но не абсолютно) объективированное предложение (за исключением, разумеется, Я-предложений), например: Плыли облака. Любое же распространение предложения, конкретизируя ситуацию, косвенно свидетельствует в пользу присутствия говорящего (наблюдателя). Конкретизация ситуации – добавление признаков предметов, обстоятельств действия, деталей обстановки и т.п. – показывает, что событие, факт не только обозначаются, называются, но и описываются, изображаются с большей или меньшей полнотой. И сама полнота изображения обнаруживает присутствие наблюдателя (говорящего). Только он, наблюдатель, мог увидеть и назвать детали. чем выше степень детализации, тем модальнее предложение. Ср.: Лес шумит и Мрачный лес шумит или Лес шумит горестно, как будто вздыхает о чем-то. Ясно, что во втором и третьем предложениях модальность выше. Они могут принадлежать только говорящему.
Еще пример (принадлежит О.И. Москальской): Лесорубы работают и Лесорубы рубят деревья. При общем денотативном значении предложений угол зрения в них разный. В первом случае ситуация увидена в целом (крупным планом), во втором – детализировано: говорящий показывает (видит) отдельно и субъект действия, и действие, и объект. Детализация (распространение) меняет угол зрения и соответственно смысловую структуру предложения. Структурную схему можно рассматривать как отражение обобщенной, абстрактной ситуации. Структурная схема принадлежит всем говорящим, ее реализация и распространение – конкретному говорящему.
«Русская грамматика» (1980) рассматривает временные, пространственные, причинные, целевые и др. распространители-детерминанты. Однако с точки зрения модальности предложения релевантно разделение всех детерминантов на пространственные и временные. Референтом высказывания является, как известно, ситуация, т.е. часть отражаемой в языке действительности. Ситуация образуется в результате координации материальных объектов и их состояний. Существуют две общие формы такой координации – пространство и время. Детерминация – как пространственная, так и временная – значительно повышает ресурсы модальности предложения. Если исходить из антропоцентрического текстового хронотопа в определении Ю.С. Степанова, то и пространство (Я – здесь) и время (Я – сейчас) тесно связаны с говорящим. Пространственные детерминанты обязательно, но неявно предполагают наблюдателя. Обозначаемое в высказывании пространство вычленяется и фиксируется именно с точки зрения наблюдателя. Над городом плыли облака. Положение облаков отмечается по отношению к наблюдателю, находящемуся внизу. В случае пространственных детерминантов позиция наблюдателя определяется в зависимости от предлогов, которые можно рассматривать как операторы, определяющие положение предметов в пространстве с точки зрения наблюдателя. За лесом вставало солнце. Наблюдатель находится перед лесом.
«Предлог перед во фразах типа Перед деревом стоял мотоцикл помещает мотоцикл между наблюдателем и деревом и существенно ближе к дереву, чем к наблюдателю. Предлог за во фразах типа За деревом стоял мотоцикл помещает дерево между мотоциклом и наблюдателем, причем расстояние от мотоцикла до дерева представляется существенно меньшим, чем расстояние от дерева до наблюдателя. Глагол вилять (во фразах типа Дорога непрерывно виляла) помещает наблюдателя непосредственно на пространственный объект, по которому он перемещается (часто на транспортном средстве); в ситуации, обозначаемой глаголом виться (Тропа живописно вилась по склону горы), наблюдатель смотрит на пространственный объект со стороны или как бы со стороны»[27].
Точно так же, как пространственные детерминанты, с позицией наблюдателя (говорящего) связаны и временные детерминанты, к которым условно относим причинные, целевые, условия, уступки и др. «След» говорящего улавливается в том, что он объясняет, комментирует и т.п. основное событие, по отношению к которому он занимает особое положение. Объяснение причин, условий, следствий и т.п. непосредственно связано с точкой зрения говорящего (наблюдателя). Комментарий, объяснение могут принадлежать только говорящему. Это иная семантическая плоскость, иной угол зрения по сравнению с семантической сферой основного состава подлежащно-сказуемостного предложения. Детерминанты – и пространственные, и временные – находятся в семантической зоне говорящего. Не случайно детерминант находится как бы «над» событием, отдельно от него, относясь ко всему составу предложения и занимая в нем особое положение. Особый статус детерминанта можно объяснить тем, что он находится в иной семантической плоскости – зоне говорящего, правда, без явных признаков его присутствия. И связь детерминанта с предложением, по-видимому, субъективно-модальной природы. Обе части предложения объединяются принадлежностью говорящему, однако модальность детерминанта выше, отчетливее, что и выделяет его, подчеркивает его особое положение.
Присловные распространители также обладают значительными ресурсами модальности. Ср.:
1. Ученик рисует.
2. Ученик рисует собаку.
3. Ученик рисует синюю собаку.
От первого предложения к третьему повышается степень детализации, конкретизации и соответственно – модальности. В первом она минимальна (потенциальна). Ситуация обозначена в целом, объективировано. Во втором отражаемая ситуация конкретизируется: обозначен не только субъект, его действие, но и объект. Ситуация предстает расчлененной. Именно такой, какой, в соответствии с целью высказывания, увидел ее наблюдатель. Любая конкретизация обобщенной, типовой ситуации обнаруживает присутствие наблюдателя, производителя речи. Коллективный субъект речи, отражающий общеязыковой опыт, сменяется индивидуальным производителем речи (наблюдателем). Он-то и модифицирует, конкретизирует ситуацию применительно к цели высказывания. Детализация играет индивидуализирующую роль.
В третьем предложении синюю указывает уже более явно на присутствие наблюдателя. Именно такой увидел собаку наблюдатель. По выражению Н.Д. Арутюновой, «определение стремится индивидуализировать предмет»[28]. Среди присловных распространителей наибольшими модальными потенциями обладают признаковые части речи – прилагательные и наречия. Признаковая семантика наиболее очевидно проявляется в прилагательных, по сравнению с другими частями речи; она и является источником модальности прилагательных. Прилагательные-определения конкретизируют, индивидуализируют, квалифицируют предмет, и эта квалификация, характеристика косвенно указывает на говорящего. В этой функции выступают практически все прилагательные (в том числе и относительные). Однако наибольшими модальными потенциями обладают качественные прилагательные, в том числе оценочные. «Именно качественные прилагательные вводят в высказывание прагматический аспект, включая в него оценки, исходящие от говорящего»[29].
Как и прилагательные, наречия связаны с прагматическим аспектом высказывания – отражают позицию говорящего. Например: Ученик старательно рисует собаку. Старательно – это оценка, накладывающаяся на основное содержание высказывания и исходящая от говорящего.
По существу можно говорить о двух уровнях коммуникации. Наречие – это своеобразный элемент метатекста по отношению к высказыванию. «Авторы, рассматривающие эту проблему с точки зрения соотношения семантики и прагматики, подчеркивают, что роль наречного модификатора следует понимать в рамках дифференциации семантического и прагматического аспектов высказывания, где сама фактивная фраза является семантической, в то время как наречие отражает позицию говорящего – прагматику»[30].
С синтаксической точки зрения наречие в этих случаях относится к предложению в отличие от приглагольного наречия, определяющего только предикат. В плане модальности наречия сближаются с детерминантами.
Значительной степенью модальности обладают вводно-модальные слова, частицы, междометия, непосредственно выражающие позицию говорящего – его чувства (междометия), отношение к содержанию высказывания (вводно-модальные слова, частицы). И другие части речи в той или иной степени модальны: например, предлоги, указывающие на пространственное расположение предметов, раскрывают свое значение именно благодаря присутствию наблюдателя.
3.2. Субъективно-модальное значение предложений типа Запрещается шуметь (структурная схема Vf3sInf)
Семантика анализируемой схемы, как ее определяет «Русская грамматика», следующая: «квалификация отвлеченно представленного действия или процессуального состояния с точки зрения его необходимости, предопределенности, предполагаемости или желаемости; во всех случаях в предложении открыта позиция для субъектно детерминирующей формы»[31]. Это так называемая объективная семантика схемы. Для определения ее субъективно-модального значения необходимо раскрыть роль, специфику субъекта речи. Сравним:
Запрещаю шуметь.
Запрещается шуметь.
В первом случае запрет исходит непосредственно от говорящего, во втором – принадлежит неопределенному лицу (лицам), он объективирован. В структурной схеме позиция говорящего обобщена, типизирована. Она конкретизируется в предложениях (высказываниях) в рамках общей, типизированной точки зрения.
Итак, какова позиция субъекта речи в структурной схеме? Формально, внешне она не выражена, однако подразумевается и самой структурной схемой, и ее семантикой. Принципиальная конструктивная особенность предложений, строящихся по этой схеме, заключается в том, что во всех случаях остается открытой позиция для субъектно детерминирующей формы. Субъект действия (процессуального состояния) в схеме (но не в ее реализациях) устранен, отсутствует, но позиция его сохраняется, т.е. она может быть заполнена. Такая структурная особенность схемы предопределяет специфику грамматического значения данных предложений – обобщенно-обезличенный (но не абсолютно обезличенный) характер квалификации.
Запрещается шуметь. Сфера действия квалификации (в данном случае запрета) широка, распространяется на любой субъект, любое лицо, если позиция субъектно детерминирующей формы не заполнена. Запрещается шуметь тебе, мне, им – всем. Специфика конструкции заключается именно в том, что субъект хотя и устранен, но предполагается, подразумевается. Предложение как бы обременено субъектностью. И это отличает данные предложения от безличных, в которых субъект устранен и даже не мыслится (Светает; Смеркается). Точнее, по-видимому, говорить не об устраненности субъекта, а о направленности подобных предложений на обобщенный субъект. Незаполненность позиции субъектно детерминирующей формы ведет к обобщению субъектов действия (состояния). Подразумевается любой субъект, в том числе (возможно) и субъект речи.
Такая особенность рассматриваемой схемы предопределяет тесную близость субъекта действия (состояния) и субъекта речи. Во всех, по-видимому, без исключения случаях позиция субъектно детерминирующей формы может быть заполнена субъектом речи (мне, меня): мне хочется...; не имеет смысла...; не мешает...; меня подмывает... и т.д.
Семантика структурной схемы также предполагает субъект речи. Все предложения, строящиеся по данной схеме, квалифицируют, т.е. определяют, отвлеченно представленное действие или состояние. Квалификация же так или иначе связана с оценкой.
Запрещается шуметь. Такое высказывание возможно лишь в ситуации, предупреждающей нарушение запрета, пресекающей это нарушение, и т.д.
Требуется повременить. Тоже предполагает оценку ненормативной в каком-то отношении ситуации. Оценка же всегда в той или иной степени модальна, связана непосредственно с говорящим, субъектом речи.
Модальны и аспекты квалификации, выражаемые структурной схемой (необходимость, желаемость, предопределенность, предполагаемость). Все они подразумевают ту или иную точку зрения, отношение, интенцию говорящего. Запрещать, намечать, требовать и т.д. может лишь говорящий. Все предложения этой схемы субъектны – предполагают действия (состояния), относящиеся к людям, лицам (к их желаниям, намерениям, предположениям). И субъект речи формулирует, квалифицирует ментальные ситуации. В этом заключается специфика данных предложений: их тематика, семантика ограничена ментальными ситуациями.
Квалифицируя ситуацию (давая ей оценку), субъект речи находится вне этой ситуации, что позволяет охватить всю ситуацию в целом. Однако эта позиция не абсолютна. Субъект речи относит квалифицируемую ситуацию и к себе, распространяя ее и на себя, но никак не подчеркивая это (при незаполненной позиции субъектно детерминирующей формы).
В предложении Запрещается шуметь субъект речи явно имеет в виду не себя, но тех, кто нарушает или намерен нарушить запрет. Говорящий ставит себя вне ситуации, имея в виду тех, кто находится внутри нее. Однако вполне может отнести и себя к их числу. Обращенная говорящим к самому себе, фраза лишается смысла или возможна в особой ситуации, например в форме вопроса, обращенного к другим лицам, но подразумевающего говорящего: (Здесь) запрещается шуметь?
В предложении Требуется повременить говорящий относит требование к неизвестным, неназванным адресатам, включая в их число, возможно, и себя, но сознательно не называя, не выявляя себя. В стилистическом отношении это ведет к большей категоричности высказывания: выражается мнение не только говорящего; подчеркивается, что оценка, квалификация объективно вытекает из ситуации.
Здесь выявляется такая важная характеристика субъекта речи, о которой уже упоминалось, как его обобщенность (и в значительной степени неопределенность), что особенно подчеркивается безличной формой глагола (требуется, имеется в виду, тянет и т.д.).
Положение субъекта речи по отношению к отображаемой ситуации можно охарактеризовать как двойственное, амбивалентное. Он находится вне ситуации и в то же время внутри нее. И это связано с открытой позицией конструкции для субъектно детерминирующей формы. Субъект речи оценивает ситуацию со стороны, но не исключает и возможности своего нахождения внутри ситуации.
Требуется повременить. Субъект речи обобщен и неопределенен. Это говорящий. Но подразумевается, что подобная оценка может принадлежать любому, о чем свидетельствует грамматическая обезличенная форма глагола. Так считают, так могут сказать многие. Субъект речи находится вне ситуации, оценивает ее со стороны, однако такую оценку он дал бы, находясь и внутри ситуации.
Здесь мы подходим к очень важному вопросу – взаимодействию субъекта речи и субъекта действия (состояния). Сравним:
Мне пришлось уехать.
Ей пришлось уехать.
В первом случае субъект действия (состояния) и субъект речи полностью совпадают. Позиция субъектно детерминирующей формы занята субъектом речи. Говорящий квалифицирует ситуацию, в которой он сам оказался. Субъект речи находится внутри квалифицируемой ситуации, которую он оценивает в целом. Предложение явно открыто, субъективно-модально.
Во втором предложении перед нами объективированная, отстраненная оценка ситуации, даваемая говорящим, находящимся вне этой ситуации. Субъективная модальность сохраняется, но характер ее существенно меняется.
Здесь проявляется различие между Я– и Он-предложениями, характерное, по-видимому, для предложений всех структурных схем. Личные местоимения 1-го лица, непосредственно обозначающие говорящего (говорящих), будучи средоточием субъективной модальности (так как называют говорящего), вносят в высказывание повышенную субъективную модальность. Он-предложения находятся на другом полюсе шкалы субъективной модальности и тяготеют к снижению субъективной модальности.
что же касается предложений рассматриваемой структурной схемы, то их специфика заключается в особой субъектности, в открытой позиции для субъектно детерминирующей формы. И такая особенность обусловливает довольно сложную диалектику субъекта действия (состояния) и субъекта речи.
Ребенку не нравится сидеть неподвижно.
Заполнение позиции субъектно детерминирующей формы любой лексемой, за исключением личных местоимений 1-го лица, объективирует высказывание, резко снижая его субъективную модальность. Объясняется это прежде всего несовпадением субъекта действия (состояния) и субъекта речи. Производитель речи высказывается о чем-либо отстраненно, не включая себя явно в ситуацию, хотя и не исключая такую возможность. При этом высказывание может быть конкретным или общим в зависимости от контекста. В нашем примере речь может идти о конкретном ребенке или вообще о детях (общее суждение).
Таким образом, субъект речи субъект действия (состояния) могут совпадать или не совпадать, как и в других структурных схемах. Однако специфика субъекта речи в анализируемой структурной схеме заключается в том, что он тесно связан с конструкцией (конструктивно обусловлен), предполагается ею благодаря открытой позиции субъектно детерминирующей формы. Последняя подразумевает возможность заполнения как субъектом действия (состояния), так и субъектом речи. Практически в любую реализацию нашей структурной схемы можно вставить мне, меня, нам и т.д., что свидетельствует о конструктивной обусловленности субъекта речи в данной структурной схеме. Иначе говоря, субъективная модальность присуща самой конструкции, но наиболее сильно и явно проявляется в высказываниях, в которых субъект действия (состояния) и субъект речи совпадают. В остальных случаях субъективная модальность уходит вглубь, на периферию значения, но сохраняется как выражение мнения (оценки) говорящего:
Ему имеет смысл согласиться.
Это именно формулировка мнения, своеобразная оценка («имеет смысл»), принадлежащая говорящему. Ср.: Он соглашается – объективная констатация факта. Ему имеет смысл согласиться – субъективно-модальное выражение мнения говорящего.
Субъективно-модальное значение обусловлено конструктивно и семантически: Vf3s – везде своеобразные предикаты мнения, ментальные предикаты (желаемость, предполагаемость и т.д.). Субъективно-модальное значение структурной схемы и ее реализаций можно определить так: субъект речи дает прямую (при совпадении субъектов речи и действия) или косвенную оценку содержания высказывания, которая может включать и действия (состояния) самого говорящего.
Таким образом, с точки зрения субъективной модальности можно говорить о трех вариантах структурной схемы.
1. Нераспространенная конструкция (собственно структурная схема – Запрещается шуметь).
Предложения косвенно субъективно-модальны. Говорящий дает оценку ситуации, имея в виду те или иные ее аспекты. Однако оценка дается непрямо – косвенно, через глаголы, выражающие опасение, предположение, пожелание и т.д. по поводу отражаемой в предложении ситуации. И семантика этих глаголов свидетельствует о принадлежности оценок субъекту речи. Не меньшее значение имеет открытость конструкции для субъектно детерминирующей формы. Она обусловливает возможность заполнения этой позиции формами субъекта действия (мне, нам запрещается шуметь). Однако позиция субъекта речи также не заполнена. И хотя она может совпадать с позицией субъекта действия (состояния), все же не сливается с ней полностью, что и определяет специ фику данных предложений. Принципиальная незаполненность структурной схемы в известной мере объективирует эти высказывания, повышая их категоричность, распространяя на большое количество неопределенных субъектов.
2. Реализация структурной схемы посредством Я-предложений: Мне не подходит ждать.
Совпадение субъекта действия (состояния) делает эти пред ложения открыто и максимально субъективно-модальными.
3. Реализация структурной схемы посредством Он-предложений: Им не доставляет удовольствия спорить.
В предложениях этого типа степень субъективной модальности наименьшая. Она выражается косвенно – посредством предикатов мнения, обнаруживая говорящего (принадлежность ему этих мнений).
В целом в отличие от многих других структурных схем, в которых субъект речи подразумевается лишь самим фактом высказывания, в анализируемой схеме он подразумевается и самой структурной схемой, ее семантикой, хотя и в обобщенном виде.
Таким образом, структурная схема оказывается изначально обремененной субъективной модальностью, потенциально субъективно-модальной.
Незаполненная позиция субъективно детерминирующей формы предполагает возможность ее заполнения и субъектом действия (состояния), и субъектом речи в этой функции. Возникает сложная диалектика взаимоотношений между подразумеваемым субъектом действия (состояния) и обобщенным субъектом речи.
Общее субъективно-модальное значение схемы: говорящий квалифицирует ситуацию со стороны, прямо не выявляя себя, но считая возможным причислить и себя к числу субъектов квалифицируемой ситуации.
3.3. Субъективно-модальное значение предложений типа Воды убывает (структурная схема N2Vf3s)
Место имени в этих предложениях занимает любое существительное или прилагательное (в данной позиции субстантивирующееся), место глагольного компонента – глагол с лексическим значением бытия, наличия, появления, выявления, обнаружения, восприятия, мысли, чувства, наименования, предстояния, требования, необходимости, редко – глаголы конкретного действия (движения).
Семантика структурной схемы, по определению «Русской грамматики», «отношение между субъектом и его предикативным признаком – процессуальным состоянием. Это общее значение принадлежит и конкретным предложениям, в которых, в зависимости от лексической семантики глагола, процессуальный признак конкретизируется как то или иное состояние, не связанное с активной деятельностью»[32].
Для определения субъективно-модального значения структурной схемы необходимо проанализировать положение и функции субъекта речи в этой схеме. Сравним предложения Воды убывает – Вода убывает. Они различаются характером первого компонента, который в первом предложении представлен как объект, а во втором – как определенный и независимый субъект.
Однако субъект речи в обоих предложениях эксплицитно не выражен, это сторонний наблюдатель. Можно сказать: Я вижу, считаю, утверждаю, что Воды убывает и Вода убывает. Однако в подлежащно-сказуемостном предложении вода рассматривается как наблюдаемый независимый предмет. В первом же предложении (Воды убывает) такого отчетливого ощущения наблюдаемого предмета нет. Главный смысл этого предложения – уменьшающееся количество, а то, что уменьшается, занимает периферийную, не главную позицию (как в Вода убывает). Ср.: убывает воды, света, песка и т.п. Субъективно-модальное значение в предложении Вода убывает выше, так как оно более предметно, предмет более наблюдаем – он находится в центре семантической структуры. В предложении же Воды убывает в центре семантической структуры находится значение уменьшения количества, что труднее поддается наблюдению. Значение более абстрактно.
Будучи представлен в структурной схеме потенциально, субъект речи может появляться в конкретных предложениях при наличии обстоятельственных и особенно субъектных детерминантов. Субъектная детерминация весьма разнообразна, причем субъектные детерминанты (кому, у кого, для кого, с кем, за кем, между кем, на кого, со стороны кого, от кого) вступают, как правило, в отношения взаимозамещения, например: У меня / со мной этого больше не повторится. Субъект состояния это вступает во взаимодействие с субъектом речи Я, придавая всему высказыванию субъективно-модальный характер.
Сама конструкция (Воды убывает) воспринимается как коммуникативно незаконченная и требует распространения: Не минуло и году (после чего?); Грибов не попадается (где?); Жалоб не поступало (от кого?); Мест не имеется (для кого?). Все эти распространители (обстоятельственные и субъектные детерминанты) подразумевают субъект речи. Именно распространители формируют субъективно-модальное значение высказывания: в Я-предложениях – высокое, в Он-предложениях – гораздо более низкое. Точка зрения субъекта речи определяет возможность и часто необходимость распространителей имени и глагола. Субъект речи потенциально присутствует в структурной схеме. Реализация же его осуществляется по мере конкретизации компонентов структурной схемы в высказывании: Воды убывает – Воды в реке убывает – Воды в реке убывает на глазах (на наших глазах). Распространение – уточнение, пояснение, добавление и т.п. – осуществляется с точки зрения субъекта речи. Его присутствие из имплицитного становится более или менее эксплицитным.
Разумеется, распространение связано непосредственно с субъектом речи: Воды (в реке, в этой реке, в этой и без того мелкой реке, в нашей реке и т.п.) убывает. Конкретизация обнаруживает реальное присутствие субъекта речи. Детали, обстоятельства и т.п. описываемой ситуации может знать наблюдатель или участник ситуации, т.е. субъект речи. Поэтому любая конкретизация, реализация структурной схемы (сопровождаемая ее распространением) ведет к проявлению субъекта речи, т.е. к появлению субъективно-модального значения.
Таким образом, субъективно-модальное значение появляется на стадии реализации структурной схемы предложения, т.е. в конкретных предложениях, в высказываниях. Самой структурной схеме субъективно-модальное значение свойственно потенциально.
что касается степени субъективно-модального значения, то можно отметить как закономерность: чем детальнее, подробнее конкретизация, тем выше степень субъективно-модального значения, тем более заметно присутствие субъекта речи. Ср.: Воды в реке, по которой мы плывем, убывает.
В целом во всех предложениях данной структурной схемы позиция субъекта речи выражена слабее, чем в сопоставимых с ними подлежащно-сказуемостных предложениях. Это связано с тем, что субъект действия (состояния) выражен в них родительным падежом, значение которого более зависимое по сравнению с именительным падежом в подлежащно-сказуемостных предложениях. Для говорящего (субъекта речи) в предложениях описываемой схемы смысл содержания сосредоточен на количественном изменении и в меньшей степени на самом субъекте. Для говорящего субъект в именительном падеже более значим, более подчеркнут и потому обладает большим субъективно-модальным значением.
Таким образом, субъективно-модальное значение предложений, строящихся по анализируемой схеме, можно определить следующим образом: субъект речи рассматривает отношение между субъектом и его предикативным признаком как изменение действия (состояния) субъекта, которое значимо в каком-либо отношении для всей описываемой ситуации с точки зрения говорящего.
* * *
Анализ трех структурных схем и предложений-высказываний, строящихся по этим схемам, показывает, что главное по ле действия субъективной модальности – предложение-высказывание. Именно здесь при участии практически всех ярусов языка формируется субъективно-модальное значение высказывания. Потенциально присущее структурной схеме, оно реализуется в предложениях-высказываниях. При этом источник субъективно-модального значения – субъект речи. Структурный синтаксис представляет синтаксические единицы по отношению к миру вещей (действительности), но безотносительно к миру человека. Отсюда односторонность, неполнота описания синтаксиса. Более или менее полное описание достигается, когда мы вводим в него человека: рассматриваем синтаксические единицы по отношению к субъекту речи, с точки зрения говорящего.
Такой аспект анализа исключительно важен. Он объективен, ибо в значении синтаксических единиц не может не отразиться точка зрения говорящего. Он важен и потому, что соединяет статику и динамику, структуру и ее функционирование, язык и речь. Именно в модальном синтаксисе совершается превращение языковой единицы в речевую, предложения в высказывание. Подробно этот процесс будет показан в следующем разделе.
Категория субъекта речи – одна из важнейших в синтаксисе. Помимо исключительной роли в реализации структурных образцов субъект речи участвует в формировании речи. Здесь очень важно соотношение субъекта речи и ее производителя (см. главу 4).
3.4. Формирование высказывания как речевой единицы. Типизация – важнейший процесс речеобразования
Конечная цель модального синтаксиса – изучение речи, в которой проблема субъективной модальности является одной из центральных. Субъективная модальность выступает одним из главных факторов речеобразования. Высказывание составляет важнейшую единицу речи. Субъективная модальность организует семантический план соединения высказываний в более крупные целые – речевые произведения (подробнее см. главу 4).
Однако и само высказывание как главная составляющая речи требует анализа с точки зрения процесса речеобразования. Структурная схема – это языковая модель, которая реализуется в высказываниях. Однако формирование высказывания не сводится к реализации структурной схемы, не ограничивается ею. Будучи сформированы (по моделям), высказывания включаются в речь, текст. Процесс включения в речь – это важная, особая стадия формирования высказываний, требующая специального анализа. Речь играет важнейшую роль в конституировании высказываний как ее главных единиц. Именно в речи высказывание приобретает окончательную характеристику, оформление. Речь – это, как правило, речь конкретного человека, который не только оценивает сообщаемое, но и выбирает определенную манеру, средства выражения. Говорящий может использовать готовые обороты или попытаться выразить мысль по-новому, индивидуально. Индивидуальность как один из признаков речи близка проблематике субъективной модальности, можно сказать, включается в нее. Оценочный аспект речи, его типизация очень продуктивны во многих функциональных стилях.
Однако и с более широкой точки зрения фонд готовых средств выражения, их соотношение с производимыми единицами характеризуют говорящего (субъект речи), в конечном счете выражают определенную интенцию, т.е. субъективную модальность.
Анализ речевой сущности высказывания, ее формирования – важная сторона общего процесса речеобразования. Поэтому анализу структуры текста (речи) должно предшествовать исследование структуры и формирования высказывания.
Коммуникация осуществляется успешно прежде всего благодаря тому, что у говорящего и адресата есть не только фонд общих знаний и представлений о некотором фрагменте действительности, но и общий фонд выражений. Речь функционирует в коллективе и следует его традициям. Поэтому мера индивидуальности, во всяком случае для многих видов речи, довольно низка. И главная тенденция речи заключается в типизации речевых явлений для отражения тех или иных фрагментов действительности, для выполнения тех или иных функций. Именно слабая типизация речи подразумевается в нередких сетованиях писателей, поэтов на неразработанность языка.
Выразить в речи уникальное, новое, нетипичное довольно трудно. Пресловутые муки слова – это не что иное, как попытка через общее, языковое передать индивидуальное, единичное. Однако цель выразить единичное, уникальное ставится далеко не всегда. Очень часто возникает необходимость в выражении повторяющихся ситуаций, явлений, мыслей. Именно в этих случаях и нужны прежде всего типизированные элементы. Речь не только индивидуальна, но и социальна по своей природе. Если брать аспект развития, формирования речи, то главная ее тенденция – тенденция к типизации, которой противостоит тенденция к индивидуализации, уникальности. Взаимодействие этих тенденций и определяет характер функционирования, развития, форму речи, движущейся между двумя полюсами: уникальное, индивидуальное – общее, массовое. Однако главной в этом процессе является тенденция к типизации, унификации.
Попытаемся на конкретном примере показать действие названных тенденций, выявить в тексте типизированные и индивидуальные элементы, языковые и речевые.
«Молодой инженер, стоя под одним из платанов, росших вдоль шоссейной дороги, дожидался автобуса, чтобы поехать в свою контору. С утра стояла подоблачная духота. Дышать было трудно. Море замерло.
Молодой инженер был высоким, крепким, интересным мужчиной. Ему было тридцать лет, он был удачлив, и, казалось, есть все основания радоваться и радоваться жизни» (Ф. Искандер).
Трудно сказать, что в этом отрывке от языка и что от речи. Скорее всего в каждом отрезке, в каждой единице проявляются и язык, и речь. Например, молодой инженер – словосочетание, построенное по модели «существительное + прилагательное» – единица языка. Но это и единица речи, потому что наполнение модели индивидуально для данного текста. Обращает на себя внимание оборот подоблачная духота – несколько необычный, но точный и яркий, воплощающий индивидуальность речи.
Итак, текст состоит из единиц, которые воплощают в себе и язык, и речь. Как же происходит превращение языковой единицы в речевую?
Главное, что превращает языковую единицу в речевую, – это лексическое наполнение. Например, словосочетание зеленый куст построено по модели «существительное + согласованное с ним прилагательное». Эта модель имеет теоретически бесконечное (ограниченное лишь законами сочетаемости) количество вариантов лексического наполнения (n). Любое наполнение модели – это выбор из n вариантов.
Модель открывает многообразные возможности ее заполнения, но реализуется лишь одна. Происходит слияние, соединение языковой формы и содержания (лексического наполнения). И таким образом появляется единица, в которой языковое начало уходит вглубь, а на поверхности остается лексическое наполнение. Выбор последнего, зависящий от многих факторов, и есть производство речевой единицы.
Заполненная модель ограничивает, точнее, исчерпывает варианты заполнения, сводя их к единственному. Этот единственный вариант становится представителем всего множества вариантов лексического наполнения, а также языковой модели.
Речь стремится к идиоматизации своих звеньев, т.е. к превращению их в готовые, воспроизводимые средства выражения. Она стремится закрепить выбранное лексическое наполнение модели, типизировать его (приспособить к употреблению во многих аналогичных случаях). Тенденция к ограничению количества речевых единиц для той или иной ситуации связана, по-видимому, с ограниченными возможностями памяти человека.
Сравним обороты зеленый куст и зеленые насаждения. Словосочетание зеленый куст, употребленное в каком-либо тексте, дает точное, расчлененное наименование явления и в этом смысле незаменимо. Вырванное же из контекста, оно теряет семантические связи, присущие ему в тексте, и оказывается несамостоятельным, изолированным в смысловом отношении.
Выражение зеленые насаждения не нуждается в раскрытии своего значения в контексте, имеет точно определенное значение («посаженные деревья, растения») и может быть употреблено в любом тексте. Оно самодостаточно в отличие от выражения зеленый куст. Если последнее закреплено за текстом, в котором оно употреблено, то первое не имеет закрепленности, не зависит от текста. Словосочетание зеленый куст производимо, потому что в зависимости от экстралингвистических причин (ситуации) мы выбираем и существительное (куст, забор, мост и т.п.), и прилагательное (зеленый, молодой и т.п.). Выражение же зеленые насаждения воспроизводимо, так как регулярно используется для наименования соответствующего явления в качестве целостной единицы. В выражениях типа зеленый куст связь между словами подвижна, опирается на ситуацию (например, зеленый куст среди желтых). В оборотах типа зеленые насаждения связь между словами настолько тесна, что выражение воспринимается как единое, нерасчлененное.
Таким образом, необходимо выделять в речи два типа единиц – типизированные (зеленые насаждения) и нетипизированные (зеленый куст). Первые целесообразно назвать речевыми оборотами, а вторые – речевыми сочетаниями.
Идеальным представителем речевых оборотов являются фразеологизмы, манифестирующие наиболее типичные признаки речевых оборотов – устойчивость, воспроизводимость. Однако в речевой практике, в языковой реальности фразеологизмы занимают не столь большое место. Между тем речевая типизация охватывает все языковое пространство, не только его фразеологию. Если очертить основные сферы и направления типизации, то они распространяются прежде всего на высказывание – основную единицу речи. Как показывает анализ[33], типизируются прежде всего структурные звенья высказывания: субъект, предикат, объект (дополнение, обстоятельство). Типизация их и составляет процесс речеобразования, облегчает общение благодаря появлению готовых форм речи.
Типизация субъекта высказывания весьма продуктивна, особенно в публицистике. Например: Автор (повести, симфонии, проекта, статьи, пейзажей, памятника, письма, конструкции).
Адвокат (адвокаты империализма, адвокаты «холодной войны», адвокаты монополий). Акулы (биржевые акулы, акулы пера, акулы бизнеса, уголовные акулы). Ареопаг (ареопаг профессоров, ареопаг критиков, литературный ареопаг).
Как показывает анализ материала, речевое оформление субъекта высказывания занимает далеко не самое важное место в процессе типизации речи. Можно полагать, что субъект – не самая главная часть высказывания, которое может обходиться и без субъекта. Более характерны для процесса типизации универсальные речевые обороты, которые могут выполнять функции и субъекта, и предиката, и широко понимаемого объекта, например:
Арена (арена борьбы, арена событий, арена схваток; литературная арена, научная арена, историческая арена, мировая арена; выйти на арену, появиться на арене, уйти с арены, выступить на арене; ареной каких-либо действий стало какое-либо место, превращать что-либо в арену какой-либо деятельности). Арсенал (арсенал знаний, арсенал открытий, арсенал доказательств, арсенал улик, арсенал борьбы, арсенал прогресса, арсенал подавления; идейный арсенал, поэтический арсенал, технический арсенал, журналистский арсенал, актерский арсенал; арсенал чего-либо расширился; в арсенале чего-либо важное место занимает...; использовать что-либо из арсенала...). См. также барометр, балаган, бой, бремя, бумеранг, буря.
По сравнению с типизацией субъекта высказывания гораздо более продуктивна и важна для формирования речи типизация предиката. Субъект и объект – подвижные компоненты высказывания, предикат – его основа, центральная часть, главное в сообщении. Произвести высказывание – значит прежде всего выразить предикат. В результате типизации предиката формируются единицы, близкие к фразеологическим моделям – устойчивым словосочетаниям с постоянными и переменными компонентами: есть (манера) и (манера), есть вера и вера, есть соглашения и соглашения; (правда) есть правда, Бергман есть Бергман; (генералы) от (журналистики), жрецы от юстиции, ремесленник от педагогики, дельцы от науки, разбойники от медицины.
Типизация предиката заключается в том, что он дает основу высказывания, его постоянный компонент, оставляя незаполненные позиции для переменных компонентов – субъекта, объекта, а иногда и того, и другого.
Перед чем-либо бледнеет что-либо (Коррупция приняла такие масштабы, перед которыми бледнеет вся многовековая история мздоимства); Быть большим католиком, чем папа; Быть большим роялистом, чем король; Быть (идти, следовать и т.п.) в фарватере (кого-, чего-либо, чьей-либо политики); Обратить в свою веру; Трещать по всем швам; Не сходить со страниц газет.
В связи с типизацией предиката следует рассмотреть и такой важный аспект этого процесса, как оформление начальной части высказывания. Известно, что труднее всего начать высказывание. Типизация «подсказывает» целую серию зачинов с различными смысловыми модальными заданиями:
Не будет преувеличением сказать (утверждать), что... Нельзя не (+ инфинитив): нельзя не отметить, нельзя не согласиться, нельзя сказать, чтобы... Нетрудно (+ инфинитив): нетрудно догадаться, понять, решить и т.п. Факт, что (Факт, что проиграли); Дело в том, что..., Чудо как... (Чудо как хороша сегодня погода); Нет ничего более эффективного, чем... Не секрет, что... и др.
Важную роль в формировании речи играет и типизация объекта – разнообразных обстоятельств, в которых протекает действие, определений и дополнений. При этом все они дифференцируются по смысловым аспектам. Вот наиболее продуктивные из них:
Оценочный определительный: божьей милостью (поэт), чистой (чистейшей) воды (кто, что), достойный лучшего применения, печально знаменитый. Обстоятельственный оценочный: В хвосте событий, Под каблуком, Ниже всякой критики, Как никогда, В своем репертуаре, Под огнем критики, Полным ходом, Из первых рук, Верой и правдой и др. Обстоятельственный временной: В веках, Испокон века, От Адама, С колыбели и др. Количественный: Без меры, От мала до велика, Великое множество и др.
Весьма продуктивен аспект уподобления. Здесь можно выделить целую серию типизированных сравнительных оборотов с наречием как: Как без рук, Как (будто, словно) бельмо на глазу, Как в воду смотрел, Как ветром сдуло, Как обухом по голове, Как маслом по сердцу, Как с неба упал (свалился), Как по команде, Как воздух (необходим, нужен), Как дым развеяться (разлететься), Как за каменной стеной и др.
Особо следует выделить наиболее обобщенный и продуктивный аспект, определяющий характер, направление деятельности, повествования и т.п. Относящиеся сюда речевые обороты играют роль своеобразных предлогов: в свете, по линии, под знаком, в знак, по пути чего-либо, в обстановке, в атмосфере, в адрес, на взгляд, во вкусе, с благословения, перед лицом кого-, чего-либо и др.
Итак, с точки зрения типизации структурных звеньев высказывания наиболее продуктивными оказались предикат и объект.
Возникает вопрос: возможна ли типизация всего высказывания? Примеров подобной типизации очень мало и касаются они главным образом оценочного аспекта, своеобразного метатекста к повествованию, изложению: Мало не покажется; Дорогого стоит; Много воды утекло (с тех пор); На том стою!
Речевая типизация никогда не достигает 100%. Это сильная, влиятельная тенденция, не получающая, однако, полного развития. Иначе речь превратилась бы в собрание готовых форм (как пословицы, афоризмы, некоторые крылатые слова и др.). И процесс порождения речи свелся бы к запоминанию и воспроизведению готовых отрезков речи. Это невозможно ни теоретически, ни практически. Количество высказываний, отражающих действительность и рождаемых ею, бесконечно, поэтому типизировать можно лишь схему высказывания, точнее, ее структурные звенья. Вся схема высказывания принципиально не типизируется. Типизация высказывания подобна фразеологической модели, имеющей постоянные и переменные компоненты. Первые – готовые, воспроизводимые элементы речи, вторые – производимые, связанные с меняющейся языковой реальностью. Переменные элементы стимулируют речевое творчество.
Наряду с речевыми оборотами большая роль в типизации речи принадлежит речевым сочетаниям. В отличие от речевых оборотов они в большей степени привязаны к контексту, ситуативно ограничены. Речевые обороты гораздо меньше зависят от контекста, они полиситуативны, имеют более широкое значение, например: в обстановке (секретности, острой борьбы, сердечности, товарищеского сотрудничества, полного взаимопонимания, пессимизма, разногласий и т.п.).
Главный источник формирования речевых сочетаний – сочетаемость. Обычно сочетаемость не рассматривается в плане речевой типизации, но в действительности это одно из важнейших средств порождения речи. Речевые обороты составляют хотя и важную, но все же лишь часть речевого пространства – его готовые блоки, «кирпичики». Остальная же часть не менее, а, по-видимому, более крупная, приходится на долю речевых сочетаний, определяющих строй речи, характер употребления слова. Как, например, употребить в высказывании, в речи слово отчаяние? Речевые обороты здесь не помогут. Их нет. Только сочетаемость покажет все возможности употребления этого слова: Быть в отчаянии, ввергнуть в отчаяние, довести до отчаяния, впасть в отчаяние, предаться отчаянию, дойти до отчаяния, повергнуть в отчаяние, привести к отчаянию, прийти в отчаяние; Отчаяние охватило кого-либо, Отчаяние овладело кем-либо; минута отчаяния, шаг отчаяния.
Как видим, здесь представлены практически все возможные актуальные смысловые аспекты, связи слова отчаяние по отношению к говорящему и другим лицам, по отношению к поступкам (шаг отчаяния); характеризуется степень чувства (отчаяние охватило кого-либо) и т.п.
Сочетаемость типизирует переменные компоненты высказывания, без которых оно не может существовать. И эти компоненты тоже речевые единицы. Из множества вариантов сочетаемости слова выбираются и закрепляются в речи наиболее эффективные, призванные оформлять в речи актуальные смысловые аспекты. Однако в отличие от использования речевых оборотов говорящий стоит перед выбором одного варианта из многих. Но все эти варианты – речевые единицы. Язык диктует лишь направление и характер сочетаемости, определяет ее границы. Формируемые же сочетания принадлежат речи. Говорящий и производит, и воспроизводит их: производит, так как выбирает одну из многих форм; воспроизводит, так как выбранную форму использует как готовую. Элемент творчества заключается в выборе одного варианта из многих или (редко) в обновлении сочетаемости, которое тоже опирается на существующие формы.
Сочетаемость охватывает широкое речевое пространство, остающееся за вычетом речевых оборотов. Ее основа, цель – заполнение лакун в высказывании, его структурных звеньев. При этом есть слова универсальные, используемые во всех позициях высказывания и присоединяющие большое количество других слов. Есть слова более узкого диапазона, специализирующиеся на заполнении одной какой-либо позиции и притягивающие к себе гораздо меньше слов. Универсальные слова – это, как правило, глаголы и существительные.
Так, глаголы широкой семантики типа внести концентрируют вокруг себя большое количество существительных, с которыми они сочетаются, например: внести (беспорядок, взнос, вклад, дезорганизацию, диссонанс, задаток, замешательство, изменения, исправления, коррективы, лепту, неразбериху, оживление, перемены, поправку, предложение, привкус, проект, путаницу, разброд, разлад, разногласия, разнообразие, раскол, расстройство, растерянность, сумятицу, успокоение, уточнения, ясность; внести в список, внести на обсуждение).
Эти сочетания и составляют процесс речеобразования. Языковая единица внести порождает множество речевых сочетаний. Они устойчивы, воспроизводимы и могут использоваться как готовые формы речи. Важно подчеркнуть, что при широчайшем диапазоне сочетаемость носит избирательный характер. Она не беспредельна и определяется задачами речепорождения. Речевые сочетания (например, с глаголом внести) способствуют типизации высказывания, призваны служить готовыми предикатами и тем самым типизировать высказывание в целом.
Существительные широкой семантики (типа внимание) концентрируют вокруг себя большое количество глаголов, также образуя речевые сочетания, например: акцентировать внимание, выпадать из внимания, завладеть вниманием, задержать внимание, занимать внимание, заострять внимание, заслуживать внимания, концентрировать внимание, направлять внимание, обращать внимание и др.
Процессы образования речевых сочетаний с глаголами и существительными имеют зеркальный характер, но сущность их одна – служить материалом формирования речи. Глаголы и существительные, как наиболее богатые синтаксическими потенциями, лежат в основе процесса порождения речи. Зеркальный характер этих процессов выражается в том, что при глаголах широкой семантики используются конкретизирующие существительные, а при существительных широкой семантики – конкретизирующие глаголы. При этом формируемые на основе существительных речевые сочетания имеют системный характер: они образуют парадигму, крайние точки которой составляют антонимичные понятия, например: акцентировать внимание – выпадать из внимания. Развитие этой парадигмы связано с дифференциацией оттенков – оценочных, выделительных и др.
что касается парадигмы, в основании которой лежит глагол, то она носит открытый характер и может пополняться новыми членами, манифестируя развитие речи, ее средств.
Процесс типизации сочетаемости выражается в формировании своеобразных микросистем, в которых воплощается принцип полноты выражения отношений, связанных со словом, например: брать клятву, приносить клятву – нарушать клятву. Отношения брать – нарушать образуют своеобразный семантический каркас, парадигму.
Таким образом, в формировании речи можно выделить языковое и собственно речевое начало (типизированные и нетипизированные элементы). Любое высказывание – это соединение («сплав») речевого и языкового, соотношение которых гибко, подвижно и определяет стилистический облик речи. Языковое и речевое в высказывании постоянно колеблются, балансируют, но каждое из них не становится преобладающим. Языковое начало стимулирует тенденцию к обновлению, динамике речи, речевое – стремление к ее стабильности.
Речь стремится фиксировать, типизировать все возможные аспекты изложения, создавая тем самым семантический каркас, заполняемый конкретными сведениями. Ср. дифференцируемые по стилям зачины (Жили-были, Несколько лет тому назад), многообразные способы введения чужой речи, выражения чужого мнения (Как говорится, говоря словами кого-либо, по словам..., по мнению и др.). Типизируются, как правило, актуальные, частотные аспекты речевых ситуаций. Так, в научной речи типизируются фрагменты зачинов предложения: Необходимо определить; представляется возможным определить; главной целью статьи (монографии) является...; в заключение отметим; перейдем к...[34].
В научной речи типизации подвергаются, как правило, формулировки цели, задач, смысловые переходы, обоснование выводов и т.д. Если обобщить эти аспекты, то можно сказать, что типизируется смысловой контур, логическая схема – ее важнейшие звенья. Типизируется не сама мысль, а ее форма – в зависимости от характера развития этой мысли. Типизируется не содержание, но форма речевой цепи.
Все сказанное свидетельствует о глубине, всеохватности, универсальности процесса типизации. Общая картина речеобразования пестра и сложна. Однако главная тенденция не вызывает сомнений: речевая цепь стремится к идиоматизации, к заполнению ее звеньев воспроизводимыми, готовыми элементами. Разумеется, эта тенденция эффективна до тех пор, пока воспроизводимые элементы отражают фрагменты частотных, типичных, массовидных ситуаций, и становятся неэффективными в тех видах литературы, где необходимы средства уникального назначения. В таких видах литературы речевые обороты могут восприниматься как штампы.
Нередко речевые обороты становятся приметой стиля, эпохи, направления. «Для классиков, как Гете и Пушкин, – пишет С. Аверинцев, – готовое слово, т.е. риторическая формула, не становясь предметом систематической агрессии, как у Гейне и русских шестидесятников, остается законным элементом творчества, но смена этих инструментов небывало свободна. Готовое слово у них обоих – объект игровой манипуляции, свободной, однако, достаточно серьезной; и серьезность, и игра в некотором смысле невинны. Готовое слово берется в руки, но, так сказать, к рукам не прилипает. Авторское отношение к нему конструктивно, однако, дистанцированно, всегда остается право стремительно отходить от одного регистра к другому. Примеров можно найти сколько угодно много у обоих поэтов»[35].
Таким образом, соотношение речевых оборотов и речевых сочетаний определяет во многом общее субъективно-модальное значение речи (текстовую модальность). Повышение процента речевых сочетаний связано, как правило, с усилением индивидуального начала, т.е. эксплицитного или имплицитного субъективно-модального значения. Однако важно иметь в виду, что оценочность может содержаться и в речевых оборотах.
ГЛАВА 4. ТЕКСТОВАЯ МОДАЛЬНОСТЬ КАК СЕМАНТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ТЕКСТА И ВАЖНЕЙШАЯ СТИЛЕВАЯ КАТЕГОРИЯ
До сих пор мы говорили о субъективной модальности. Однако в тексте эта категория существенно трансформируется и приобретает особую роль. Значение ее для синтаксиса, функциональной стилистики, лингвистики текста трудно переоценить. Можно сказать, что эта категория лежит в основе текстообразования (семантический аспект), строя и тональности речи и во многом определяет характер изложения (повествования). Поэтому есть основания говорить об этой категории как центральной для текста и назвать ее текстовой модальностью (ТМ).
4.1. О категории «текстовая модальность»
Текстовая модальность (ТМ) формируется на основе тесно связанной с ней субъективной модальности, под которой понимается отношение говорящего к содержанию высказывания и которая выступает как грамматическое выражение антропоцентричности – важнейшего, фундаментального свойства речи.
Будучи одним из основных признаков предложения, модальность (субъективная модальность) распространяется и на группу предложений текста – прозаическую строфу (сверхфразовое единство, сложное синтаксическое целое). Представляя собой тесное семантико-синтаксическое единство, строфа (прозаическая строфа) является в то же время и модальным единством. Так, анализируя пятистишие из «Медного всадника» А.С. Пушкина «На берегу пустынных волн...», Н.С. Поспелов указывает: «Данное высказывание, как и всякое другое, является не просто механическим соединением предложений, но внутренне единым сложным синтаксическим целым, единым прежде всего по выражению в нем модальности, т.е. определенного отношения автора (говорящего) к тому, что им объективно высказывается»[36].
Предложения строфы имеют, как правило, единую субъективно-модальную окраску, и любое изменение модального «тона» строфы сказывается на ее структуре. В качестве средств выражения субъективной модальности для оформления переходов, начала, конца мысли и т.д. используются личные местоимения, личные глагольные формы, модальные слова, частицы и др.
Вводные слова – одно из средств, характерных для связи между самостоятельными предложениями. Близость вводных (модальных) слов к союзам отмечали многие языковеды. Так, В.В. Виноградов писал: «В русском языке наблюдается тесная связь и взаимодействие между союзами и модальными словами»[37].
Эту «союзную силу» вводных слов можно объяснить их модальной природой. Любое грамматическое отношение – это в то же время и связь. Так, причинные отношения выражаются союзами причины, отношения уступки – уступительными союзами и т.д. Отношение говорящего к тому, о чем он говорит, общая оценка сообщения, указание на его источник и т.д. – это тоже грамматические отношения, которые выражаются в речи с помощью вводных слов. Так, вводным словом например, стоящим в начале предложения, выражается отношение между общим и конкретным. Выражая это отношение, вводное слово является также средством связи между предложениями.
Вводные слова выражают не только логические отношения. Функции их в связной речи гораздо шире и многообразнее. Они могут изменять модальный план изложения, переводя повествование в план оценки, комментирования. С употреблением вводных слов связано и развитие уступительных отношений. В современном русском языке вводные слова конечно, правда и некоторые другие употребляются часто в функции уступительных союзов.
Таким образом, роль вводных слов в связной речи заключается в подчеркнутом выражении структурных и логико-смысловых отношений между предложениями, в осуществлении различных переходов, в смене аспекта повествования (модальные функции). Отношения, выражаемые вводными словами, как бы дополняют структурные связи (цепные, параллельные и др.), играющие основную роль в соединении предложений.
Союзы, подобно вводным словам, не играют решающей роли в связи предложений, однако функции их в прозаической строфе весьма значительны. Союзы участвуют в композиционном членении строфы, в синтаксическом оформлении зачинов и концовок, в осуществлении разнообразных тематических переходов, в выражении различных синтаксических отношений (противопоставление, сопоставление и т.д.).
По глубокому замечанию Т.И. Сильман, союз «содействует известному отвлечению внимания от отдельного предложения, перенося центр тяжести высказывания с отдельных предложений на сквозное движение мысли, на логические сдвиги»[38].
Как показывает анализ, каждый из основных сочинительных союзов (и, но, а) обладает в тексте своей композиционно-синтаксической функцией. «У союза и это функция в широком смысле слова повествовательно-динамическая. Организуя текст, союз и вносит в него идею продолженности и последовательности повествовательного движения»[39]. Вот характерный пример из повести А.П. чехова «Степь»:
«Едешь час-другой. Попадается на пути молчаливый старик курган или каменная баба, поставленная бог ведает кем и когда, бесшумно пролетит над землею ночная птица, и мало-помалу на память приходят степные легенды, рассказы встречных, сказки няньки-степнячки и все то, что сам сумел увидеть и постичь душою. И тогда в трескотне насекомых, в подозрительных фигурах и курганах, в голубом небе, в лунном свете, в полете ночной птицы, во всем, что видишь и слышишь, начинают чудиться торжество красоты, молодость, расцвет сил и страстная жажда жизни; душа дает отклик прекрасной, суровой родине, и хочется лететь над степью вместе с ночной птицей. И в торжестве красоты, в излишке счастья чувствуешь напряжение и тоску, как будто степь сознает, что она одинока, что богатство ее и вдохновение гибнут даром для мира, никем не воспетые и никому не нужные, и сквозь радостный гул слышишь ее тоскливый, безнадежный призыв: «певца! певца!».
По выполняемой в тексте функции союзу и противопоставлен союз но. В основе его текстовой семантики лежит значение предельности. Он обрывает прямую линию повествования и направляет его по другому руслу[40].
Основная функция союза а в тексте – ассоциативно-повествовательная, тематическая. «чаще всего этот союз выступает как актуализатор новой, часто параллельной, побочной, иногда неожиданно возникшей и так же неожиданно пропадающей темы. При этом в отличие от но союз а, как правило, не ломает повествования, он лишь слегка его видоизменяет, расслаивает, переакцентирует или нерезко смещает в иной субъектно-событийный план. Если вводимая союзом а тема имеет сопутствующий характер, она может быть дополнительно выделена определениями: между тем, тем временем, в это время; кстати, к слову, впрочем, вдобавок и под.»[41].
Способность союзов, как и вводных слов, служить средством связи между предложениями объясняется их субъективно-модальным значением. Именно оно придает целостность тексту.
Как уже говорилось, местоимение я и координированные с ним местоимения (ты, он) – главные средства выражения субъективно-модального значения. Переходя из языка в речь (текст), я из нейтрального обозначения говорящего становится знаком присутствия говорящего в тексте и в зависимости от контекста, стиля, жанра вносит в речь разнообразные субъективно-модальные значения.
В тексте происходит усложнение структуры я. Оно не просто модифицируется, усложняется. Главное заключается в том, что я говорящего, переходя в речь, может совпадать, а может и не совпадать с производителем речи (подробнее см. ниже). И здесь мы сталкиваемся с процессами сугубо текстовыми.
Таким образом, местоимение я проявляет свои субъективно-модальные свойства только в высказывании, в тексте. Другие средства обнаруживают СМ как в языке, так и в речи. Иначе говоря, в речи они используются как готовые субъективно-модальные средства. Поэтому представляется рациональным разграничивать языковые (внутримодальные) и текстовые (внешнемодальные) средства СМ.
К первым относятся все субъективно-модальные средства, названные в списке «Русской грамматики» (см. выше), кроме интонации, обнаруживаемой на уровне высказывания. К языковым следует отнести и такое важное средство, как субъективно-модальное значение синтаксических конструкций. Любая синтаксическая конструкция предложения, отражая обобщенно ситуацию, должна отразить и позицию говорящего по отношению к этой ситуации. В предложении обычно мыслится или выражается субъект действия (состояния), а последний обязательно соотносится с производителем речи. И это соотношение служит источником субъективно-модального значения.
Субъективно-модальное значение присуще предложениям любых структурных схем и многообразно проявляется в речи, приобретая в тех или иных контекстах типизированные формы. Общая пресуппозиция любого высказывания – принадлежность его говорящему и, следовательно, то или иное отношение производителя речи к содержанию высказывания. Это отношение (уверенность, сомнение, сожаление, различные эмоции и т.д.) выражается имплицитно самой синтаксической структурой. «Модальное значение есть специфическое значение синтаксического построения; оно может быть присуще только конструкции в целом. Значение неотделимо от формы, они образуют нерасчленяемое единство»[42].
Многообразные языковые субъективно-модальные значения получают полную реализацию в речи, где главную роль играют текстовые (внешнемодальные) средства, а языковые субъективно-модальные средства тесно взаимодействуют с ними.
Главное средство, образующее, конституирующее субъективную модальность (в дальнейшем будем говорить о текстовой модальности), – категория производителя речи. И это естественно, без него речь невозможна. Однако отношение «производитель речи – речь» довольно сложно. Производитель речи многообразно и далеко не всегда прямо и непосредственно проявляет себя в речи. Промежуточным звеном между речью и ее производителем выступает субъект речи.
Типы речи, формируемые на основе субъекта речи (местоимений я, ты, он) выражают различные оттенки текстовой модальности. При этом наивысшая модальность связана с первым типом (от я), менее высокая – со вторым типом (от ты) и потенциальная – с третьим типом (от он). Источник же субъективно-модального значения – соотношение производителя речи и ее субъекта.
Таким образом, первый слой, первая составляющая текстовой модальности (ТМ) определяется отношением говорящего к собственной речи, что выражается в том или ином соотношении производителя и субъекта речи.
Вторая составляющая ТМ – отношение производителя речи к миру, действительности. Производитель речи, воплощая мысли и чувства, соотносит их с действительностью и выражает свое отношение к сообщаемому. В языке средствами реализации этих отношений выступают субъективная модальность и наклонение. В тексте аналогом этих средств служит текстовая модальность (ТМ), выражающая отношение производителя речи к тексту и к действительности. Это обязательное качество любого текста. И в рамках каждого речевого произведения это отношение (эти отношения) сохраняется (сохраняются) и определяет (определяют) его характер, сущность, качества. Ср. лирическое стихотворение и газетную заметку, дипломатическую ноту и новеллу. В каждом подобном случае производитель речи ставит себя в определенные отношения к миру и к собственному тексту. Текстовая модальность – это своеобразное наклонение производителя речи к действительности и собственно к речи.
Однако отношение производителя речи к действительности не выражается прямо и непосредственно. Оно всегда опосредствовано языком (речью). Степень же этой опосредствованности, ее шкала чрезвычайно широка. Производитель речи может быть непосредственным участником событий, процессов, наблюдателем, созерцателем, информатором, побудителем, исследователем и т.д. Если суммировать, обобщить позиции, отношения производителя речи к миру, то здесь возможны по крайней мере три отношения («наклонения»): 1) объективное (говорящий отчуждает себя от действительности, находится вне ее, смотрит на мир со стороны; 2) субъективное (производитель речи отождествляет себя с непосредственными участниками событий, процессов, происходящих в мире; он находится внутри социума и воспринимает мир как деятель, участник); 3) субъективно-объективное (смешанное).
Как выражаются эти отношения в речи? Естественно, через первую составляющую ТМ. Несовпадение производителя речи и ее субъекта (Он пишет) не только характеризует отношение к речи (низшая субъективная модальность), но и формирует отношение к действительности как объективное (а строй речи соответственно объективированный). Совпадение производителя речи и ее субъекта (Я пишу) формирует субъективное отношение к действительности и соответствующий субъективированный строй речи. Субъективно-объективное отношение к миру создается также отношениями между производителем и субъектом речи, которые приобретают особые свойства. Таким образом, в текстовой модальности (ТМ) следует выделить два компонента: отношение производителя речи к действительности (ср. в языке наклонение) и отношение производителя речи к собственно речи, иначе говоря, соотношение производителя и субъекта речи.
Эти две характеристики, составляющие суть категории ТМ и органически взаимосвязанные, наполняются реальным содержанием в зависимости от характера воплощения социально закрепленного в литературной практике отношения «производитель речи – субъект речи», т.е. в зависимости от функционального стиля и жанра. И многообразие существующих текстов обусловлено именно названными двумя характеристиками речи. По ним довольно четко дифференцируются функциональные стили, которые представляют собой наиболее приемлемую типологию текстов.
Функциональные стили часто рассматриваются на языковом уровне. Однако полностью все черты и особенности функциональных стилей воплощаются и раскрываются в речи (тексте). Поэтому анализ функциональных стилей на речевом уровне должен выявить их основополагающие, конститутивные черты.
Многие исследователи в качестве важнейшего параметра функциональных стилей справедливо выделяют установку (на определенный характер изложения), конструктивный принцип, функцию и т.д. Все эти близкие по содержанию категории реализуются, как можно думать, в текстовой модальности, которая предстает как главный стилеобразующий и стиледифференцирующий фактор. Для каждого функционального стиля характерно определенное отношение к речи и к действительности, что обусловливает главные черты функционального стиля и фактически конституирует речь (тексты) как функциональный стиль.
В качестве определенных типов текста функциональные стили намечают в самом общем виде характер использования типов речи (от 1-го, 2-го, 3-го лица) и соотношение «производитель речи – субъект речи». Дальнейшая детализация, конкретизация этих характеристик совершается в жанрах, являющихся формой существования и реализации функциональных стилей, и в конкретных текстах.
Рассмотрим кратко функциональные стили в аспекте ТМ, как реализацию этой категории, воплощение двух ее составляющих – отношение производителя речи к самой речи (производитель речи – субъект речи) и отношение производителя речи к миру, к действительности.
Научный стиль. Производитель речи совпадает с ее субъектом, говорящим (я), но степень выраженности я минимальна. Производитель речи стремится к объективированию собственного я, к устранению личностно-индивидуальных черт. Субъект речи – это, как правило, типизированное мы, (реже я), пользующееся формами выражения, регламентированными в данном стиле. Субъект речи усреднен, максимально обобщен и именно вследствие этой усредненности чаще всего принимает форму мы (рассмотрим..., перейдем к ..., обратимся...). Отношение «производитель речи – субъект речи» опосредствовано стилевым узусом, принятой формой изложения. Производитель речи не стремится выявить себя в тексте как личность, индивид: авторское начало приглушено. Главная задача – раскрытие истины, сообщение информации; общее значение текстовой модальности приводит к объективированному характеру изложения (речь от 3-го лица).
Итак, внешнемодальные средства выражены очень слабо. Основная сфера проявления текстовой модальности – внутримодальные значения. Научный текст в большинстве случаев нуждается в очень четком и очень частом обозначении оттенков модальности. Так, например, невозможность категорического требования или утверждения, которая далась науке долгим и иногда печальным опытом, заставляет ученого менее категорично, более мягко формулировать свои рекомендации, даже если он в них совершенно уверен. Таким образом, появляется большая необходимость в выражении значения «следует, нужно, необходимо»: следует сказать, следует обратить внимание, следует провести опыт и т.д.»[43].
Отношение производителя речи к действительности – объективное, безэмоциональное (как и к познаваемой реальности, сущности).
Разговорная речь. Производитель речи полностью совпадает с субъектом, я говорящего. Это единственный стиль, в котором нет «зазоров» между этими категориями. Отсюда такое качество, как естественность (безыскусственность, безусловность) речи и противопоставленность по этому свойству всем остальным стилям. Это своеобразная точка отсчета, эталон, на фоне которого воспринимаются (оцениваются) другие стили. Степень выраженности я в разговорной речи максимальна (хотя и колеблется в широком диапазоне). Высока эмоциональность речи.
Отношение производителя речи к миру – субъективное, непосредственное, эмоциональное, соответствующее наивной картине мира носителя языка.
Официально-деловой стиль. Производитель речи совпадает с ее субъектом, однако совпадение это минимально. Они разграничены еще в большей степени, чем в научной речи. Как правило, производитель речи не конкретная личность, а коллектив, страна, предприятие, учреждение и т.д. в лице их официальных представителей. Поэтому степень выраженности субъекта речи очень мала, незначительна. Формы внешней модальности в языке законов, например, отсутствуют, изложение подчеркнуто безличностно. Предпочитаются структуры внеличностные, вневременной план изложения. Отсюда элиминация эмоциональности, образности, высокая регламентированность речи. Основная сфера проявления ТМ – внутримодальные значения, практически не взаимодействующие с внешнемодальными средствами, очень часто отсутствующими.
Отношение к действительности – объективировано-обобщающее, регламентирующее. Действительность воспринимается как объект нормализации, регламентации, упорядочивания. Текстовая модальность – императивность, констатация, предписывание, регулирование.
Художественный стиль. Главная его особенность – принципиальное несовпадение производителя и субъекта речи. Во всех остальных стилях, кроме разговорной речи, при общем формальном несовпадении производителя и субъекта речи производитель речи частично проявляет себя в тексте, и это оказывает влияние на общую модальность текста, приближая субъект речи к ее реальному производителю. Любая фраза научного текста воспринимается как принадлежащая автору. В художественной же литературе субъект речи (я, ты, он) никогда не отождествляется с реальным производителем речи. Отсюда некоторая условность художественной речи, возможности стилизации, полифонии, стилистическая многослойность и другие ее особенности.
Художественная речь при всей ее эмоциональности всегда объективирована. Объективированность заключается в том, что субъект речи приобретает самостоятельное значение условного производителя речи – рассказчика, становится условной маской, «образом автора». Однако полного разрыва связи между производителем и субъектом речи не происходит: подлинный голос автора может проявляться в отступлениях (лирических, публицистических).
Отношение производителя речи к действительности – субъективно-объективное, опосредствованное эстетическое. Между производителем речи и действительностью находится созданный в произведении условный, но правдоподобный мир, через который и выражаются непрямые и многозначные (многозначно интерпретируемые) суждения о действительности.
Публицистический стиль. Производитель речи совпадает с ее субъектом. И в этом принципиальное отличие публицистики от художественной речи, главная ее особенность, причина ее воздействия, силы и выразительности.
В отличие же от разговорной речи, где также наблюдается совпадение производителя речи и ее субъекта, я публициста облекается социальными, этическими, идеологическими смыслами. Субъект публицистической речи – это всегда представитель той или иной социальной группы, прямо и нередко открыто, пристрастно, эмоционально высказывающий свои убеждения, взгляды, мнения. При этом спектр эмоциональности чрезвычайно широк, однако главное качество остается неизменным: высказывание дается от лица конкретной личности, что делает речь документальной, подлинной, непосредственной (ср. с условностью художественной речи). В сопоставлении с разговорной речью структура авторского я (субъекта) в публицистике более сложна, включает в себя не только индивидуальные, но и социальные грани личности. Речевая ткань публицистики насыщена проявлениями внешней модальности, которые играют здесь исключительную роль.
Отношение к действительности – субъективно-объективное, прямое, оценивающее и анализирующее, осложненное существующими философскими, политическими, социально-идеологическими теориями.
Таким образом, функциональные стили как типы текстов различаются прежде всего ТМ – определенным отношением производителя речи к действительности и к самой речи. Эти две важнейшие характеристики дифференцируют функциональные стили и служат источником семантического многообразия текстов.
Наряду с семантико-синтаксической структурой, отражающей характер сцепления, развития мыслей, каждый текст обладает модальной структурой, выражающей отношение производителя речи к миру и к самой речи, к ее содержанию. По отношению к семантико-синтаксической структуре – к интеллектуальной, логической, диктальной информации – текстовая модальность выступает как ее речевая форма. Это специфически речевая форма высказывания, синтаксическая семантика текста, которая играет не меньшую роль в текстообразовании, чем специфические средства связи между предложениями, так как текст строится по законам ТМ. В процессе порождения текста происходит согласование модальных значений высказываний – внешне– и внутримодальных.
Поэтому текстовая модальность (ТМ) – важнейшая категория текста, образующая его семантическую основу, определяющая отношение производителя речи к действительности и к самой речи и выражающая тем самым установку на определенный характер изложения. ТМ выступает и как важнейшая категория функциональной стилистики, так как, воплощая установку на тот или иной характер изложения, определяет во многом строй и тон речи, ее стилевые качества, отбор языковых и речевых средств и в конечном итоге конституирует функциональные стили как разновидности литературного языка.
Функциональные стили намечают использование речи в самом общем виде. Дальнейшая детализация, конкретизация текстовой модальности совершается в жанрах, являющихся формой существования и реализации стилей. жанр в известном смысле – это устойчивая форма использования того или иного типа (типов) речи и реализация определенного соотношения «производитель – субъект речи». О связи жанра и лица, от которого ведется речь, писал Р. Якобсон, имея в виду, что особенности различных жанров обусловливают разную степень использования речевых функций: «Эпическая поэзия, сосредоточенная на третьем лице, в большей степени опирается на коммуникативную функцию языка; лирическая поэзия, направленная на первое лицо, тесно связана с экспрессивной функцией; «поэзия второго лица» пропитана апеллятивной функцией: она либо умоляет, либо не умоляет, – в зависимости от того, кто кому подчинен – первое лицо второму или наоборот»[44].
По сути дела, речь здесь идет о субъективно-модальном значении лица, от которого строится повествование, о закрепленности в жанровых формах определенных типов речи.
Реальные тексты, воплощая основные черты стилей и жанров, представляют дальнейшую конкретизацию намеченных характеристик, обусловливая многообразные вариации в рамках жанровых форм. В текстах происходит взаимодействие, «согласование» всех средств текстовой модальности – внешних и внутренних, – образующих единую линию, единую тональность. Покажем хотя бы на одном примере действие текстовой модальности. Перед нами очерк В.А. Гиляровского «Шипка» (1906). Вот его начало:
«В 1902 году исполнилось 25 лет со дня русско-турецкой войны 1877 года. Вместе со многими участниками этой войны я поехал на шипкинские торжества.
Мы прибыли на пароходе «Петербург» из Севастополя в болгарский порт Варну, а оттуда все участники шипкинских торжеств должны были двинуться в глубь страны, на Шипку.
Из Варны на Шипку можно было бы попасть с юга Балкан и с севера.
Путь с севера был интереснее. Он давал более наглядное впечатление того, что происходило на Шипке 25 лет назад.
И я выбрал путь с севера».
Зачин – информационная деловая лаконичная фраза, своеобразный информационный повод для последующего текста («исполнилось 25 лет со дня русско-турецкой войны 1877 года»). Фраза объективирована, лишена субъективной модальности. Если брать ее вне контекста, то это сообщение о факте, которое может иметь различное продолжение, например описание войны или описание 25-летнего периода жизни с 1902 года. И это был бы описательный контекст речи (описательная текстовая модальность). Основа описательности – перфектное значение глагола-сказуемого «исполнилось» (результат в настоящем). В целом зачин – лаконичная, но обстоятельная по содержанию, нейтральная по лексическому наполнению фраза с прямым порядком слов – задает тон спокойного, делового изложения.
Тесно связанная с зачином вторая фраза («Вместе со многими участниками этой войны я поехал...») продолжает спокойный, сдержанный тон изложения, однако регистр его меняется. Изложение переходит в план рассказа, нарратива. И главное изменение производит местоимение я. Я – это не условная речевая маска, а реальный автор, конкретная личность, В.А. Гиляровский. И дальнейшее изложение, как и зачин, освещается светом этого я. Перед нами не просто изложение событий, но рассказ очевидца о том, что он видел, думал, пережил. Дается не только факт, но и отношение к нему, комментарий, вызванный осмыслением и переживанием события. В изложение вносится личностное начало, рассказ приобретает объективно-субъективный характер. Событие характеризуется извне, объективно и изнутри, субъективно (т.е. какой отзвук оно находит в душе рассказчика, свидетеля, участника события). Именно в таком двойственном подходе к действительности и заключается, проявляется текстовая модальность публицистики и очерка как одного из ее жанров.
Я автора, появившись во второй фразе, бросает новый свет на все дальнейшее изложение. Все последующие фразы, даже самые объективированные, остраненные, воспринимаются как субъективно-модально окрашенные.
Ср.: «Мы прибыли...»
«Из Варны на Шипку можно было попасть»... (подразумевается, рассказчику и другим участникам).
«Путь с севера был интереснее. Он давал более наглядное впечатление...» (ясно, что интереснее – с точки зрения автора).
Разумеется, главное средство текстовой модальности – я автора, однако она поддерживается, формируется и другими средствами. Рассмотрим следующий после цитированного отрывок:
«Пароход «Петербург» прибыл в Варну и стоял на рейде, совершенно открытый ветру, который в этот сентябрьский день, к вечеру, перешел в шторм.
Все, кто должен был ехать на Шипку с севера, на шлюпках и вельботах переехали на берег. Переправа была не из легких! Разгулявшееся море бросало лодочки, то скрывая их за волной, то вынося кверху. через мол, который виднелся издали с нашего парохода, хлестала волна, сажени на две прыгая выше мола».
Описание кажется внешне объективированным, однако содержит едва заметные, не бросающиеся в глаза приметы присутствия автора-рассказчика. В первой фразе это причастный оборот «совершенно открытый ветру», данный, конечно же, «от автора». Следующая фраза объективирована («Все, кто должен был ехать...»). Однако затем – авторский комментарий, оценка – восклицательное эмоциональное предложение «Переправа была не из легких!» И последующее описание содержит многочисленные признаки авторского видения ситуации (шторма). Обозначена даже точка зрения автора-наблюдателя: «через мол, который виднелся издали с нашего парохода»... В самом же описании обращают на себя внимание (поддерживают текстовую модальность) эмоционально-оценочные слова: «разгулявшееся море», «лодочки», «хлестала волна» и др.
И далее общая текстовая модальность поддерживается, усиливается разговорно-инверсивными предложениями, косвенно отмечающими, обнаруживающими авторское присутствие: «Большого труда стоило перевезти багаж с парохода на берег»; «стоять шлюпкам под бортом было невозможно...»
Я автора, пронизывающее весь очерк, является его композиционным стержнем. В очерке тесно переплетаются две линии: линия объективного рассказа, изложения и линия оценки, переживания событий рассказчиком.
Авторское я очерка открывает широкие возможности комментирования, социальной оценки, эмоциональных обобщений. Так, после описания героических действий матросов во время шторма следует авторское отступление:
«Если я об этом говорю, так потому, что, празднуя четверть века со времени войны, ничего не пришлось сказать о матросах, которые также отличались в турецкую кампанию, также совершали чудеса. Лично испытывая, как единственный пассажир в шлюпке, всю ловкость и смелость молодцов-матросов, я понимаю, что эти люди представляли из себя в военное время!..
Эти люди могут сделать все!
Рулевой Солнцев и его команда – потомки героев прошлой войны, и они сделают то же, что сделали их знаменитые предки.
А таких, как Солнцев и его матросы, сколько угодно! Весь флот наш таков».
Перед нами типичный публицистический комментарий, отступление от непосредственной линии рассказа, своеобразное социально-политическое, социально-публицистическое обобщение. Однако общая тональность (текстовая модальность) резко не изменяется, но приобретает наивысшее напряжение. Происходит сгущение публицистической текстовой модальности, в целом неравномерно рассредоточенной по всему очерку.
Как показывает анализ, главное средство речевой организации очерка – текстовая модальность, в данном случае публицистическая. Отличие ее в полном совпадении производителя речи с ее субъектом и в прямом, непосредственном отношении автора (производителя речи) к действительности. Именно здесь проходит разграничительная линия между художественной и публицистической речью. В публицистике автор открыто и непосредственно выражает себя, свои мысли, чувства, оценки, свое отношение к миру. Текстовая модальность публицистики – это субъективно-объективное отношение к действительности, в котором субъект речи и является авторским я (производителем речи).
Аналогичную роль – тексто-, стиле– и жанрообразующую – играет текстовая модальность и в других функциональных стилях. Это важнейшая категория функциональных стилей, в которой многообразные языковые и речевые средства объединяются, выполняя общую, единую функцию, формируя установку стиля. Текстовая модальность дифференцирует и конституирует функциональные стили. Поэтому глубокое и всестороннее изучение этой категории представляется важнейшей и актуальной задачей функциональной стилистики и лингвистики текста.
4.2. Типы речи
Для стилистического анализа текста прежде всего важен строй речи, который создается во многом личными местоимениями. То, от какого лица ведется речь, определяет стилистическое качество и многообразие текстов. Грамматическое лицо – одна из фундаментальных категорий языка. Она оформляет участие говорящего в речи и во многом ее строй. Ведь любое высказывание, даже самое остраненное, принадлежит говорящему – производителю речи.
Сравним два высказывания: Биология – одна из интереснейших наук ХХ века; Я думаю, биология – одна из интереснейших наук ХХ века.
Первое высказывание представляет собой общее суждение (утверждение), которое вне контекста может принадлежать любому лицу. Оно похоже на афоризм, научное определение и может принадлежать каждому. Это как бы истина, не требующая доказательств.
Второе высказывание принадлежит конкретному говорящему, определенному лицу, которое называет себя я. И смысл его отличается от первого: мысль о том, что биология – одна из интереснейших наук ХХ века, эта мысль принадлежит лишь говорящему, другие могут придерживаться иного мнения.
Еще пример, приводимый известным французским лингвистом Э. Бенвенистом. Сравним два высказывания Я клянусь и Он клянется. В первом случае произнесение высказывания совпадает с обозначенным в нем действием. Говорящий произносит клятву и тем самым принимает ее на себя. Во втором случае говорящий описывает акт клятвы, которую произносит кто-то, но не говорящий. Разница весьма значительная. Таким образом, примеры показывают, какие изменения вносят местоимения в содержание высказывания. Однако этим роль местоимений далеко не ограничивается.
По современным научным представлениям, «язык сделан по мерке человека» (Ю.С. Степанов). Это значит, что язык приспособлен для выражения мыслей, чувств, переживаний людей. И естественно, что в центре языка находится говорящий (пишущий) человек. Единицей речевого общения является речевой акт, моделируемый личными местоимениями, которые называют участников речевого акта: я – непосредственный производитель речи, ты – ее адресат, он – обозначение любого не участвующего в речи человека. Я и ты взаимно координированы и противопоставлены местоимению он по признаку участия или неучастия в речи. Осознание себя, по мнению Э. Бенвениста, возможно только в противопоставлении. Я могу употребить я только при обращении к кому-то, кто в моем обращении предстанет как ты. Язык возможен только потому, что каждый говорящий представляет себя в качестве субъекта, указывающего на самого себя как на я в своей речи. В силу этого я конституирует другое лицо, которое, будучи абсолютно внешним по отношению к моему я, которому я говорю ты и которое мне говорит ты.
Любая речь исходит от Я, обращена к ТЫ, повествует о НЕМ или о Я. Условно это можно представить в виде схемы:
Будучи наименованиями участников речевого акта, личные местоимения выступают и основой построения высказываний. В соответствии с тремя участниками речевого акта речь может строиться от 1-, 2-, или 3-го лица. К этим трем типам и сводится все структурное многообразие русской речи. Разумеется, следует иметь в виду и комбинирование этих трех типов. Рассмотрим каждый из типов.
I тип («Я рассказываю...»).
I тип речи – высказывания от 1-го лица. Сюда относятся высказывания, строящиеся от 1-го лица, т.е. посредством форм я и мы, а также с косвенными средствами выражения Я.
1. Высказывания с формами я, мы или соответствующими глагольными личными формами и притяжательными местоимениями: Я отправляюсь за город; Иду за грибами; Мы строим общежитие; Наш сад в цвету; Мой отец – конструктор.
2. Высказывания побудительные и вопросительные. Их отношение к Я обнаруживается благодаря тесной координации я и ты. Обращенный к собеседнику вопрос или побуждение может исходить только от Я: Посмотри вокруг; Пойдем на концерт; Какое сегодня число? Как тебя зовут? Хотя высказывания имеют побудительную или вопросительную форму, принадлежат они Я. Сказать «Посмотри вокруг» может только говорящий.
3. Высказывания эмоционально-восклицательные: Как хорошо!; Хорошо!; Какая погода!; Ай-я-яй!; Что за чудеса в решете!
Принадлежность этих высказываний говорящему выражается посредством интонации, словопорядка, частиц, междометий и т.д.
4. Высказывания с вводными словами и сочетаниями, имеющими различные значения: Чего доброго, нагрянут сегодня эти разбойники; Задача, по-моему, не имеет решения; Здесь, помнится, была дорога.
Помимо разнообразных значений, которые вносят вводные слова в высказывание (уверенности или неуверенности, сожаления или радости и т.д.), они сигнализируют также о присутствии в предложении «голоса» говорящего. Ср.: Дверь тихо, без скрипа раскрылась; Дверь, к моему изумлению, тихо, без скрипа раскрылась.
В первом случае перед нами обычное высказывание, описывающее, как раскрылась дверь. Второй случай более сложный. Высказывание содержит два плана: описываемое событие, как в первом высказывании, и наблюдателя, следящего за событием, удивляющегося – он, по-видимому, не ожидал, что дверь раскроется. Благодаря вводным словам высказывание становится «двуголосным», полифоничным. Так, в нашем примере Здесь, помнится, была дорога к основному сообщению добавляется важная новая информация (второй план), связанная с вводным словом помнится, которую можно интерпретировать так: «Я, говорящий, был (бывал) здесь раньше и, кажется, помню, что здесь была дорога».
Итак, все четыре группы высказываний объединяются благодаря прямому (1-я группа) или косвенному (2 – 4-я группы) выражению Я говорящего. Все эти высказывания употребляются, как правило, в I типе речи, т.е. от 1-го лица. Форма речи от 1-го лица наиболее проста, естественна, изначальна. Говорящий – это я, собеседник – ты, он – тот, кто не участвует в речи. Именно так, по-видимому, начиналась вообще речь, имевшая на первых порах только устную форму.
Главная особенность I типа речи – совпадение производителя речи и Я говорящего. Однако эта особенность проявляется наиболее полно в обиходно-разговорной речи, в письмах, в публицистике. Вот, например, краткий диалог:
– Скучаете, я думаю, без ребят.
– Да, ребята... Скучаю, конечно.
В этом обмене репликами конкретный говорящий обращается к собеседнику, естественно, называя себя я. Затем в ответной реплике роли меняются: собеседник (слушатель, адресат) становится говорящим и также называет себя я. И это я полностью совпадает с производителем речи. Тот, кто говорит, и есть Я.
Аналогичное положение в письмах:
«Дорогой мой господин Гессе,
что за превосходное, поистине обаятельное чтение – Ваши «Письма»! Сразу по нашем возвращенье я вытащил этот том из пяти десятков других, которые здесь скопились, и последние дни проводил свои часы чтения, после обеда и вечером, почти исключительно за ним. Примечательно, как эта книга не дает от себя оторваться. Говоришь себе: «Поторопись-ка немного и пропусти кое-что! Ведь есть же еще и другие вещи, вызывающие у тебя хоть какое-то любопытство». А потом читаешь все-таки дальше, письмо за письмом, до последнего...»
Это письмо, обращенное к немецкому писателю Г. Гессе, написано, естественно, от 1-го лица, и у читателя нет никаких сомнений, что Я этого письма – великий немецкий писатель Т. Манн.
Главной особенностью публицистики также является, как уже упоминалось, совпадение производителя речи с авторским Я.
Итак, речь от 1-го лица – I тип речи – используется в разговорно-обиходном стиле, в письмах, дневниках, в публицистике. И во всех этих случаях производитель речи совпадает с субъектом речи – с тем, кто говорит (пишет). Такое употребление можно назвать прямым: местоимение я прямо и непосредственно обозначает говорящего, который и есть производитель речи. Однако возможно и относительное употребление I типа речи, когда производитель речи и ее субъект (говорящий) не совпадают. Обратимся к начальному фрагменту повести А.С. Пушкина «Выстрел»:
«Мы стояли в местечке ***. жизнь армейского офицера известна. Утром ученье, манеж; обед у полкового командира или в жидовском трактире; вечером пунш и карты. В *** не было ни одного открытого дома, ни одной невесты; мы собирались друг у друга, где, кроме своих мундиров, не видали ничего».
Возникает вопрос: кто это мы, которым открывается повесть? Кто Я, от лица которого ведется далее рассказ? В художественной литературе Я – субъект речи, говорящий, рассказывающий – и автор не совпадают. Речь от 1-го лица, как правило, имеет характер стилизации. Автор может отождествлять себя с каким-либо персонажем и вести повествование от его имени, что делает рассказ более правдоподобным, красочным, глубоким. Рассказчик, по словам академика В.В. Виноградова, речевое порождение автора, и образ рассказчика, который выдает себя за автора, – это форма литературного артистизма писателя. Как актер творит сценический образ, так писатель создает образ рассказчика. В результате в произведении перекрещиваются несколько речевых слоев: образ автора, образ рассказчика, речевые образы персонажей. Они сложно и разнообразно взаимодействуют, создавая богатую в стилистическом отношении, полифоническую канву.
Выбор формы речи от 1-го лица, когда автор «передоверяет» повествование рассказчику, позволяет дополнительно, изнутри охарактеризовать героя-рассказчика, передать его непосредственный взгляд на окружающее, его эмоции, оценки, интонации. Такая форма изложения может придавать рассказу искренность, исповедальность – прием, которым часто пользовался Ф.М. Достоевский. Вот пример из романа «Подросток» (свидание героя романа Аркадия с Ахмаковой):
«Я здесь до вашего приезда глядел целый месяц на ваш портрет у вашего отца в кабинете и ничего не угадал. Выражение вашего лица есть детская шаловливость и бесконечное простодушие – вот! Я ужасно дивился на это все время, как к вам ходил. О, и вы умеете смотреть гордо и раздавливать взглядом: я помню, как вы посмотрели на меня у вашего отца, когда приехали из Москвы... Я вас тогда видел, а, между прочим, спроси меня тогда, как я вышел: какая вы? – и я бы не сказал. Даже росту вашего бы не сказал. Я как увидел вас, так и ослеп. Ваш портрет совсем на вас не похож: у вас глаза не темные, а светлые, и только от длинных ресниц кажутся темными. Вы полны, вы среднего роста, но у вас плотная полнота, легкая, полнота здоровой деревенской молодки. Да и лицо у вас совсем деревенское, лицо деревенской красавицы, – не обижайтесь, ведь это хорошо, это лучше – круглое, румяное, ясное, смелое, смеющееся и... застенчивое лицо! Право, застенчивое! Застенчивое у Катерины Николаевны Ахмаковой! Застенчивое и целомудренное, клянусь! Больше, чем целомудренное – детское! – вот ваше лицо! Я все время был поражен и все время спрашивал себя: та ли это женщина?»
Форма исповеди очень характерна для метода Достоевского. Она позволяет раскрыть внутренний мир героя через него самого непосредственно, а не через авторские характеристики. Герой сам объясняет, раскрывает свои душевные переживания, и при этом читатель ощущает индивидуальную интонацию героя.
Для Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, как и для большинства писателей-реалистов середины и второй половины ХIХ века, как полагает исследователь стиля Достоевского Н.М. чирков, характерна форма рассказа, а следовательно, и психологического изображения от имени автора. Герой берется в 3-м лице, Достоевский же прибегает к приему введения рассказчика в повествование. И каждый новый рассказчик – новая точка зрения, новое истолкование душевного мира других персонажей, стоящих вне рассказа.
Итак, в художественной литературе I тип речи употребляется относительно: я субъекта речи, повествования не совпадает с производителем речи. При этом в зависимости от рода художественной литературы, от жанра меняется функция I типа речи. Так, очень своеобразно использование его в лирике, здесь тоже нет совпадения я субъекта речи и автора. Но это я лирической поэзии весьма специфично.
Т.И. Сильман в интересной книге «Заметки о лирике» пишет: «В центре лирического стихотворения стоит лирический герой («лирическое Я»), который чаще всего именует себя с помощью местоимения первого лица, обращаясь либо к другому я (лирическое Т ы или Вы), либо рисуя свое отношение к миру, ко вселенной, к общественной жизни и т.п.». Роль местоимения в лирическом стихотворении очень существенна, оно выступает как необходимый и универсальный его элемент, оно является средством сохранения безымянности лирического субъекта и обобщенного изображения героя лирического стихотворения. Так достигается отрыв лирического героя от личности поэта, вообще от конкретных имен и персонажей. Как замечает Т.И. Сильман, в стихах редко встречается точное имя возлюбленной поэта, хотя в посвящениях – сколько угодно. что касается таких имен, как Беатриче, Лаура, Лейла и т.д., то это имена отчасти условные и, во всяком случае, вымышленные.
Содержание лирического стихотворения намного более абстрактно и обобщенно, чем содержание любого романа, новеллы, драмы. Там нам сообщают, как звали героев, пусть вымышленных, кем они были, где жили и т.п. От всего этого лирический жанр свободен, он устремлен к одной цели – к краткой обрисовке лирического сюжета и того, какой душевный сдвиг переживает в связи с этим лирический герой.
Таким образом, I тип речи (от 1-го лица) выполняет многообразные функции и отличается богатейшими стилистическими ресурсами.
II тип речи («Ты рассказываешь...»).
II тип речи – высказывания, строящиеся от 2-го лица: Ты ошибаешься; Вы играете с огнем; Ваш самолет отправляется в 19.00.
Главная особенность этих высказываний – несовпадение фактического производителя и субъекта речи. Высказывания принадлежат я (1-му лицу), а строятся от 2-го лица. Ты ошибаешься означает: «Я думаю (полагаю, считаю), что ты ошибаешься». Ты по самой своей природе не может быть производителем речи, так как ты – слушающий, адресат. Однако вследствие тесной координации ты и я первое сразу отсылает ко второму (ты к я). Мы слышим или читаем ты и воспринимаем в то же время как бы находящееся за кадром, за сценой я. Ты в смысловом отношении двойственно: высказывание строится от 2-го лица, но одновременно подразумевается и 1-е лицо. Благодаря относительной самостоятельности субъекта речи появляется возможность строить во 2-м лице не только отдельные высказывания, но и отрывки различной протяженности, например: Вы идете по пустыне, перед вами знойное небо и пески без конца и без края. Вы смотрите вокруг и т.д.
Подобные отрывки характерны для очерковой прозы, для публицистики и обладают ярким стилистическим эффектом. Суть приема – в использовании вместо авторского я местоимений 2-го лица – ты или вы. Автор приглашает читателя представить себя на его (автора) месте и испытать те же чувства, переживания. Такой прием приближает изображаемое к читателю, делает описываемое более ярким, наглядным, достоверным. читатель как бы сам оказывается в гуще, в центре событий и собственными глазами смотрит на происходящее.
Иной стилистический характер имеет этот прием в художественной литературе. Представителями «нового романа» во Франции создан необычный, довольно редкий тип повествования во 2-м лице, который получает все же некоторое распространение. Вот, например, отрывок из романа польского писателя Ю. Кавалеца «Танцующий ястреб»:
«После первого визита, нанесенного тебе в городе сельским учителем, минуло порядочно времени, и многое произошло, и ты, Михаил Топорный, снова значительно продвинулся вперед и многого достиг, и уже сидишь среди бела дня в одной из комнат квартиры Веславы; а рядом с тобой сидит ее отец, мужчина дородный и видный, и вы оба нетерпеливо поглядываете на двери другой комнаты, за которыми твоя вторая жена, Веслава Топорная, урожденная Яжецкая, разрешается от бремени».
Как видим, весь отрывок построен от 2-го лица. Авторское Я устранено, но «голос» автора все равно слышен, ведь ты теснейшим образом связано с я, и ты может сказать только говорящий, автор. И это как бы прямое обращение автора к герою (Ты уже сидишь...) создает особую доверительную интонацию, особые отношения между автором и героем. Получается, что автор рассказывает герою о нем самом, а читатель оказывается невольным свидетелем, слушателем. Такая манера дает своеобразный стилистический эффект: герой как бы находится на сцене под яркими лучами софитов, но он не действует, его поступки, переживания, впечатления описывает и комментирует голос всеведущего автора (как хор в древнегреческой трагедии).
Это повествование резко отлично как от I типа речи с его исповедальностью, так и от объективного рассказа, характерного для III типа речи (от 3-го лица – см. ниже). чтобы убедиться в различных стилистических эффектах, переделаем этот отрывок от 1-го и от 3-го лица и сравним полученные варианты.
От 1-го лица:
После первого визита, нанесенного мне в городе сельским учителем, минуло порядочно времени, и многое произошло, и я, Михаил Топорный, снова значительно продвинулся вперед и многого достиг, и уже среди бела дня сижу в одной из комнат квартиры Веславы; а рядом со мной сидит ее отец, мужчина дородный и видный, и мы оба нетерпеливо поглядываем на двери другой комнаты, за которыми моя вторая жена, Веслава Топорная, урожденная Яжецкая, разрешается от бремени.
От 3-го лица:
После первого визита, нанесенного ему в городе сельским учителем, минуло порядочно времени, и многое произошло, и он, Михаил Топорный, снова значительно продвинулся вперед и многого достиг, и уже сидит среди бела дня в одной из комнат квартиры Веславы; а рядом с ним сидит ее отец, мужчина дородный и видный, и они оба нетерпеливо поглядывают на двери другой комнаты, за которыми его вторая жена, Веслава Топорная, урожденная Яжецкая, разрешается от бремени.
Переделка отрывка очень проста: достаточно было заменить местоимения 2-го лица местоимениями 1-го или 3-го лица и изменить соответственно глагольные формы. Однако стилистические различия, связанные с разными типами речи, очень велики. Меняется интонация, тон рассказа, меняется авторский угол зрения. В первом случае (от 1-го лица) герой рассказывает о самом себе, все мысли, переживания принадлежат герою. Авторские оценки отсутствуют, они передоверены герою-рассказчику, персонаж характеризует себя сам. Общая интонация – интонация доверительности, искренности.
Во втором отрывке (от 3-го лица) перед нами повествование автора о человеке по имени Михаил Топорный. Из субъекта повествования (сам рассказывает о себе) он превращается в объект изображения (о нем рассказывает автор). И тон рассказа резко меняется. Это объективное изложение обстоятельств жизни, поступков, мыслей героя (значительно продвинулся вперед, многого достиг). Герой изображается и оценивается со стороны, отстраненно.
И наконец, в оригинале (от 2-го лица) герой и автор соединены особыми узами. Герой – центр изображения, субъект и объект речи одновременно. Если упрощенно и кратко сформулировать различия между тремя типами речи с точки зрения отношений «автор – герой – действительность», то I тип речи представляет изображаемое глазами героя, II тип – глазами автора и героя одновременно, а III тип – глазами автора. В цитированном отрывке из романа Ю. Кавалеца есть характерная деталь: рядом с героем сидит отец его жены – мужчина дородный и видный. Возникает вопрос: чьими глазами увиден отец? Если перед нами I тип речи, то таким увидел отца Веславы сам герой-рассказчик. И возможно, эта деталь – предмет гордости персонажа, что характеризует его мировоззрение. Во II типе речи (как в оригинале) дородный и видный – это взгляд и героя, и автора, а в III типе речи (от 3-го лица) – авторская оценка.
Таким образом, II тип речи довольно редкий, но оригинальный, стилистически изысканный и изощренный способ построения литературных текстов, имеющий распространение в художественной литературе и в публицистике (в виде небольших контекстов). Он реализует структурные возможности русского языка, связанные со 2-м лицом личных местоимений (ты, вы).
III тип речи («Он рассказывает...»).
III тип речи – высказывания от 3-го лица: Ученик рисует; Снег лежит на полях; Завод выпускает комбайны. Здесь, как и в высказываниях II типа, фактический производитель речи не совпадает с ее субъектом. В высказывании Ученик рисует субъект речи – ученик (он), а производитель речи – некий говорящий, который может назвать себя я. Поэтому Ученик рисует можно интерпретировать так: «Я (говорящий) вижу (полагаю, считаю), что он (ученик) рисует». Я рисую есть действие, выполняемое мной, говорящим. Я – это субъект речи, от лица которого строится высказывание, и в то же время фактический производитель речи. Ученик рисует есть описание говорящим действия, которое производит не говорящий и не участвующий в акте речи он (ученик).
Если высказывания I типа вносят вместе с я в высказывание, в речь интонации непосредственного разговора, свойственную ему естественность, эмоциональность, то высказывания III типа по самой своей природе более сдержанны, спокойны, лишены непосредственного чувства (иначе говоря, субъективной модальности). Поэтому они предназначены для описания, повествования, рассуждения.
Широкое распространение имеет III тип речи в научной и деловой литературе, где роль Я говорящего не столь существенна и где важно описать эксперимент, обосновать вывод, изложить статью закона и т.д. При этом эмоции автора текста как бы остаются за скобками. Научная и деловая речь вырабатывают даже специальные глагольные временные формы, превращая высказывания III типа в обезличенные (полностью) и обобщенные: Земля вращается вокруг солнца; Площадь треугольника равняется произведению основания на высоту. По поводу таких высказываний даже не возникает вопроса, кто производитель речи, кому она принадлежит, это общие высказывания.
Широко используется III тип речи и в художественной литературе, в публицистике. По-видимому, это самый распространенный тип речи. Везде, где возникают задачи описания, рассказа, рассуждения, вообще передачи какой-либо информации, используется речь от 3-го лица.
В художественной литературе, по сравнению с научной прозой, официально-деловым стилем, использование III типа речи имеет более сложный характер, оно сопряжено с художественно-эстетическими задачами и очень часто стилизовано. Характер изложения зависит от предмета изображения, от отношения к нему автора. Вот, например, фрагмент «Сценок из деревенской жизни» В. Пьецуха:
«У среднего окошка сидит Толик Печонкин и смотрит на улицу, подперев голову кулаком.
Этот самый Толик Печонкин представляет собой круглолицего, не по-деревенски упитанного мужчину, лет пятидесяти с небольшим, который, видимо, не совсем здоров, ибо во всякое время года он носит стеганые штаны. Печонкин кладет всей округе печи, вяжет оконные рамы, мастерит двери с филенками и отличные обеденные столы, – одним словом, он человек сручный и деловой, но иногда на него нападает стих, некая непобедимая меланхолия, и тогда душа его требует праздника, как в другой раз требует покоя истерзанная душа. Эльвира Печонкина, жена Толика, женщина крупная, набожная и туговатая на ухо, сильно не любит такие дни, поскольку муж ее, случается, так усердно заливает свою тоску, что потом гоняется за ней с бензопилой по усадьбе, как говорят местные, «по плану».
Итак, Толик Печонкин сидит у окошка, подперев голову кулаком, а в глазах его светится непобедимая меланхолия, словно ему только что привиделся смертный сон. По полу в горнице ходит, вкрадчиво цокая, злющий петух Титан, любимец Печонкина, заклевавший на своем веку несколько поколений хозяйских кур, на дворе время от времени принимается брехать одноглазый кобель, окривевший по милости петуха, да сердито похрюкивает в сарае пятимесячный боров Борька».
Такое описание невозможно в научной или деловой речи, ибо оно индивидуализировано, окрашено легкой, беззлобной иронией (непобедимая меланхолия; душа его требует праздника; смертный сон). Разумеется, описание стилизовано, Автор стремится изобразить героя, так сказать, изнутри, используя его представления о мире, его слова и выражения (нападает стих; заливает тоску), но при этом слегка иронизируя. Серьезность, строгость, почти научность описания вступает в противоречие с сущностью изображаемых чувств и переживаний (этот самый Толик Печонкин представляет собой...). Ср. также уменьшительное Толик применительно к мужчине лет пятидесяти с небольшим. Вот это несоответствие формы и содержания в совокупности с другими художественными деталями и рождает ироническую интонацию.
Стилистические ресурсы, заложенные в III типе речи, практически неисчерпаемы. Общее его структурное свойство (несовпадение фактического производителя речи и ее субъекта) позволяет бесконечно варьировать стили изложения – от объективно-бесстрастного до торжественно-поэтического. При этом используются самые разнообразные приемы и средства индивидуализации повествования. В принципе III тип речи используют почти все писатели, но под пером каждого мастера он принимает неповторимые выразительные формы. И полностью охарактеризовать использование III типа речи в художественной литературе – значит описать творчество всех писателей, проанализировать все индивидуальные стили. Задача по своим масштабам громадная и вряд ли выполнимая.
Иной характер имеет III тип речи в публицистике. Здесь возможны самые разнообразные варианты: обезличенное, насыщенное цифрами и фактами изложение и повествование, пронизанное авторскими эмоциями, оценками, комментариями, причем в отличие от художественной литературы эти оценки (сарказм, ирония и т.д.) носят прямой и открытый характер, принадлежат конкретной личности – автору.
Итак, в русском языке речь может вестись от всех трех лиц: 1-, 2– и 3-го. Каждый из типов речи обладает определенными стилистическими особенностями и может встречаться как в «чистом виде» (только I тип, или II, или III), что бывает довольно редко, так и совместно с другими (наиболее частый случай), чередуясь, перекрещиваясь, взаимодействуя с ними и создавая различные стилистические структуры, речевые формы, жанры.
Так, I тип речи используется в разговорно-обиходном стиле, в художественной литературе, в публицистике; II тип – в художественной литературе и отчасти в публицистике; III тип имеет универсальный характер и используется практически везде, меняя, разумеется, свои функции, строй, особенности. В художественной литературе III тип речи взаимодействует, как правило, с I типом.
Также совместно используются III и I, а также II тип речи в публицистике. Однако I тип используется своеобразно; для публицистики характерно прямое его употребление, составляющее одну из важных особенностей этого стиля. Если в художественной литературе Я автора и рассказчика не совпадают, то для публицистики закономерна противоположная ситуация: Я говорящего это и есть фактический производитель речи. Отсюда публицистическая речь – открытая, прямая, авторская, эмоциональная, призванная убедить, склонить на свою сторону.
Таким образом, с точки зрения строя речи тексты на русском языке, подразделяющиеся на три типа, взаимодействуют, порождая стилистическое многообразие текстов.
4.3. Автор как стилеобразующая категория текста
Типы речи демонстрируют структурное многообразие текстов. При этом роль текстовой модальности заключается в семантическом «согласовании» высказываний, в формировании строя, тональности речи. Личные местоимения не только создают строй речи, но и, как было показано, определяют во многом стилистический облик текста. Уже говорилось о важнейшем для определения стилевой сущности текста, его модальности соотношения «производитель – субъект речи». Если субъект речи определяет непосредственно строй речи (от 1-, 2-, 3-го лица) и в связи с этим модальность текста, то фактический производитель речи – автор, выбирая тот или иной тип речи (или чередуя их), вносит окончательные штрихи в общую модальность текста. Текстовая модальность связана прежде всего с автором текста. Рассмотрим более подробно – сначала на материале публицистического текста – роль производителя речи автора.
Разумеется, и без комментариев ясно, что создающий текст автор определяет все его черты, в том числе и стиль. Однако возникают важные вопросы: какие именно черты авторской личности оказывают воздействие на стилистический облик текста? Каков механизм взаимосвязи, взаимодействия авторской личности и стилевых качеств текста? Достаточно поставить эти вопросы, чтобы обнаружился сложный, многомерный характер понятия «автор». Речь идет не о несомненно важных личностных чертах (талант, темперамент, эрудиция и др.), но прежде всего о родовом понятии «автор», характеризующем всех (или многих) создателей, творцов текстов.
В качестве общей характеристики, общих черт следует выделить те функциональные и сущностные особенности, которые составляют необходимую, неотъемлемую принадлежность понятия, категории «автор». Важно раскрыть природу и структуру этой категории, т.е. выделить идеологические, социальные, стилевые и другие черты производителя речи, во многом определяющие черты этой речи.
Применительно к художественной речи эта проблематика разрабатывалась академиком В.В. Виноградовым, который ввел в научный обиход широко употребительный теперь термин “образ автора”: «В композиции целого произведения динамически развертывающееся содержание, во множестве образов отражающее многообразие действительности, раскрывается в смене и чередовании разных функционально-речевых стилей, разных форм и типов речи, в своей совокупности создающих целостный и внутренне единый “образ автора”. Именно в своеобразии речевой структуры образа автора глубже и ярче всего выражается стилистическое единство целого произведения»[45].
Для художественной литературы, в которой несовпадение производителя речи и ее субъекта можно считать законом, этот термин вполне уместен[46]. Именно образ автора является средоточием, фокусом, создаваемым всеми языковыми и речевыми средствами.
Иное положение в публицистике. Здесь важен не образ автора, а сам автор как личность – его взгляды, устремления, общественная позиция, в известной мере личные качества. Если в художественной литературе лицо, от которого ведется повествование, и личность писателя, лирический герой и автор принципиально неотождествимы, то в публицистике автор, каким он предстает в произведении, это подлинная, конкретная личность. Между ним и текстом нет посредствующих звеньев. Поэтому применительно к публицистике представляется рациональным предпочесть термин автор.
Разумеется, и в публицистике нет полного совпадения личности автора и его языкового выражения в тексте. Но здесь причины этого явления иные, объясняемые природой категории автора (о чем подробнее ниже). Принципиальным же остается главное положение: производитель речи и ее субъект – одно и то же лицо.
Близок к развиваемому здесь пониманию категории автора получивший широкое распространение термин «языковая личность»[47]. Но в этом случае акцент делается на конкретном человеке, многогранно проявляющем себя в языке. Термин же автор ориентирован прежде всего на текст (публицистический), речепроизводство, стиль и на общие, родовые черты этой категории. Автор – более широкая категория, чем языковая личность. Они соотносятся как родовое и видовое понятия. А. Герцен, А. Аграновский, А. Стреляный – языковые личности, объединяемые общим понятием «автор-публицист».
что же представляет собой эта категория, что входит в это понятие?
Когда мы говорим об авторе как о стилеобразующей категории публицистического текста, то имеем в виду не физические, психологические, стилевые и другие особенности конкретного автора (языковой личности), хотя они тоже имеют важное значение, но прежде всего те стороны понятия «автор», которые составляют его сущность (независимо от конкретной личности, выступающей как автор), т.е. родовые, типичные черты категории «автор», создаваемые временем. Для каждой эпохи характерен свой тип автора.
Как известно, сущность любого понятия проявляется в его связях, отношениях. Автора – в нашем случае человека, умеющего создавать публицистические тексты, – характеризуют отношение к действительности и связанное с ним отношение к текстам (речи). чтобы создавать тексты, которые так или иначе относятся к действительности, необходимо понимание этой действительности, прежде всего социальной, и умение создавать, оформлять публицистические тексты. Это две стороны, две главные составляющие категории автора. Каждое отношение предполагает определенные черты, грани, что ведет к довольно сложной структуре анализируемой категории.
Таким образом, понятие “автор” можно свести к пучку отношений, в котором главными, определяющими выступают отношение к действительности и тесно связанное с ним отношение к тексту (речи). Отношение к действительности предполагает целый спектр граней, сторон, качеств категории автора, среди которых определяющее значение имеет дихотомия «автор – человек социальный» – «автор – человек частный». Это две антонимичные и в то же время тесно связанные, взаимозависимые полярные черты, определяющие сущность анализируемой категории, стиль публицистического текста и подразделяемые в свою очередь на более частные разновидности.
Само понятие «публицистика» (от лат. publicus – общественный) подразумевает, что автор обязательно касается социальных вопросов или рассматривает частные проблемы, но непременно с социальных позиций. Иначе говоря, о чем бы ни писал публицист, он всегда выступает как человек социальный. Разумеется, эта важнейшая сторона, ипостась автора предполагает целый спектр разновидностей, многообразие проявлений, различные меру и степень социальности в подходе к действительности. Это может быть открытая, энергичная защита (или опровержение) каких-либо тезисов, положений, мнений с использованием разнообразных средств интеллектуального и эмоционального воздействия или сдержанное, почти нейтральное изложение (рассуждение, анализ) и т.д. Спектр проявлений человека социального в тексте многообразен, практически неисчерпаем. Однако независимо от меры, степени проявления, нередко маскируемого, социальность позиции – неотъемлемая сторона, принадлежность категории автора.
Важнейшая роль этой категории заключается в том, что она определяет не только стиль конкретных текстов, но и стиль эпохи, того или иного периода. Каждое время характеризуется общим, совокупным представлением об авторе, идеальным его образом. Так, в застойные годы в структуре категории автора преобладал человек сугубо социальный. Характерно, что в смене авторского «мы» авторским «я» в перестроечные годы И. Клямкин увидел культурную революцию: «30 лет назад авторы газетных статей и очерков вместо обязательного “мы” стали писать “я”. Это был гигантский шаг вперед – от коллективной безликости к личному мнению. Это была своего рода культурная революция, переворот в мышлении. Но переворот – это всегда итог и начало, “Я” родилось. Ему предстояло развиться, пройти школу исторического воспитания, наполниться живым национальным и общечеловеческим содержанием»[48].
Таким образом, человек социальный – одна из важнейших, существенных граней категории автора-публициста.
Другая важнейшая грань категории автора – человек частный. Сама отличительная особенность публицистики, в которой производитель речи совпадает с ее субъектом, делает эту сторону категории автора исключительно важной, резко выдвигает на первый план личность публициста, которая в большей или меньшей мере проявляется в тексте.
Выражая социальные или групповые партийные интересы, публицист говорит в то же время от собственного имени, проявляет себя как человек частный, т.е. имеющий такие же интересы, как и его читатели, погруженный в быт, не чурающийся земных потребностей и т.д.
В проблеме «человек частный» как важнейшей грани категории автора можно выделить два аспекта: чисто литературный, стилистический, когда автор, используя специальные приемы интимизации, стремится выглядеть близким читателю человеком, грубо говоря, «своим парнем», и сущностный аспект, заключающийся в том, что интерес к частному человеку, частной жизни становится определяющей приметой времени, важной политической, идеологической тенденцией. Можно сказать, что современный период нашего развития характеризуется сменой структуры категории автора – формированием тенденции к преобладанию в ней человека частного, что объясняется складывающимися новыми общественными идеалами. Вот характерные свидетельства:
«Мы не делаем главную работу по осмыслению своей жизни, – пишет Светлана Алексиевич, – и все наши проблемы из-за того, что у нас нет пространства личности. Тем не менее, как мне кажется, сейчас человек меняется, он уходит от идеи, он становится, что ли, более частным человеком, то есть на первом месте стоит “я”. Я чувствую, что люди сейчас больше говорят о себе, появляется какая-то ценность дома, своей жизни»[49].
А вот мнение современного журналиста: «Коллективные кумиры сейчас опаснее коллективных идей. Время частных интересов, частных устремлений, частной собственности наконец настало в измученной соборностью и общинностью России. Срок окончания этого времени явно еще не настал.
Нам рано произносить горьковские слова о человеке (разумеется, про себя, вслух такие вещи вообще не произносятся) применительно к собственной персоне. Тем более применительно к российскому обществу. Нам категорически противопоказано увлекаться другими сильными личностями. Нам категорически показано заниматься собой»[50].
Так намечается новая тенденция, новая форма, структура категории автора, в которой значительное место занимает человек частный.
человек частный – одна из важнейших ипостасей автора-публициста. Публицистический текст по определению, по природе должен содержать в себе в большей или меньшей степени черты, приметы авторской личности. В этом суть и специфика публицистики – речи непосредственно авторской, личностной, субъективной, документальной, подлинной. И здесь намечается целая гамма разновидностей – от максимально обезличенного рассказа, информации до исповедальной прозы. При этом на первый план в качестве меры проявления прежде всего человека частного выходит образ читателя. В художественной литературе писатель смотрит на мир глазами воображаемого читателя, и это во многом определяет манеру изложения. Так, для Л.Н. Толстого читатель – «естественный человек», который должен объяснить себе смысл и значение каждой детали (отсюда подробность и отстраненность описаний)[51].
читатель в публицистике – это зеркало, в котором отражается автор. Моделируя образ читателя, автор моделирует (или корректирует, трансформирует) и свой собственный образ, ставя себя на место читателя, но не отождествляя себя с ним полностью. «Если ты профессионал, ты должен уметь писать статьи по заказу редакции и говорить на языке того читателя, к которому обращена газета»[52].
Степень близости с читателем – важнейшее качество автора-публициста. Для читателя очень важно знать, что автор – один из многих, такой же, как он («одной крови»). Это резко усиливает убедительность публицистического текста, его воздействующий потенциал. Если иметь в виду фонд знаний, когнитивный уровень, то отношения «автор – читатель» условно и упрощенно можно свести к трем разновидностям:
1) автор = читатель,
2) автор > читатель,
3) автор < читатель.
Разумеется, наиболее эффективна и перспективна вторая разновидность. Хотя бы в одном каком-либо отношении фонд знаний автора должен быть больше читательского фонда.
Проблема «автор – читатель» широко известна. Эти категории тесно и сложно взаимодействуют. Расширяя фонд знаний читателя, изменяя, обогащая его картину мира, автор в известном смысле создает читателя. Однако эта проблема имеет и более глубинный характер, не сводится к моделированию образа читателя.
Не менее важно и воздействие читателя на автора. Механизм этого воздействия имеет имплицитный и косвенный характер, растянут во времени. Изменяющийся образ читателя стимулирует изменения в содержании, в форме подачи информации, идей и в конечном итоге в когнитивном уровне публицистики. В этом смысле можно сказать: читатель создает автора. По глубокой мысли Д.С. Лихачева, самый прогресс в искусстве есть прежде всего прогресс восприятия произведений искусства, позволяющий и искусству подниматься на новую ступень, благодаря расширению возможностей сотворчества ассимилировать произведения различных культур, искусств, народов. Таким образом, взаимодействие категорий автора и читателя имеет сложный и глубокий характер.
Возвращаясь же к проблеме частного человека как составляющей категории автора, важно подчеркнуть, что эта составляющая во многом зависит от образа читателя. Фактически человек частный, несущий в себе также некоторые черты человека социального, – это и есть потенциальный читатель.
Итак, две грани составляют сущность категории автора – человек социальный и человек частный. И хотя в чистом виде они не встречаются (или встречаются крайне редко), но сущность авторского я определяется соотношением именно этих граней. Это крайние точки, два полюса, между которыми располагается огромное количество переходных случаев.
Полярные (по сути) грани не разделены абсолютно, напротив, они тесно взаимосвязаны, являются разными сторонами одной и той же личности: человек социальный всегда является и частным человеком. Речь может идти лишь о преобладании социальности или личностности. Однако в теоретическом плане выделение этих полярных граней исклюительно важно, так как определяет глубинные черты публицистики и структуру, характер ее речи.
Так, человек социальный в структуре категории автора обязательно предполагает социальный анализ (анализ социальных проблем), объективно-субъективное отношение к действительности, что, как правило, проявляется в слабой авторской модальности, в преобладании мы-предложений и некоторых других чертах. человек частный в структуре категории автора предполагает соответственно анализ с позиций частного человека, субъективно-объективное отношение к действительности, что отражается в речи обычно в высокой авторской модальности, преобладании я-предложений и т.д.
Совместное действие названных граней в структуре категории автора выражается в оценочном или безоценочном отношении к действительности, каждое из которых в сочетании с другими факторами формирует многообразные специализации (типы) автора: пропагандист (агитатор), полемист, репортер, летописец, художник, аналитик, исследователь и др. Структура категории автора показана на схеме.
Структура категории автора
Разумеется, схема отмечает лишь крайние позиции, очерчивает главное, существенное и не в состоянии охватить все многообразие публицистического творчества, все тона, полутона, нюансы, переходы.
В действительности происходит постоянное, непрекращающееся взаимодействие между гранями автора, между специализациями (художник, репортер и т.д.), которые в чистом виде, как правило, не встречаются.
Однако как составляющие стиля публицистического произведения они весьма существенны. В каждом выделенном нами типе автора-публициста выражаются, проявляются практически все отношения, составляющие суть публицистики, при этом на первый план выступает какая-либо одна черта (реже – две или более). Рассмотрим в качестве примера фрагмент публицистической статьи.
«Как ни странно, менее всего осознают особенности своего времени его обитатели. Нам не дано понять суть настоящего, не выйдя, пусть даже мысленно, за его пределы, не познав альтернатив и горизонтов истории. Не вдохнув воздуха иного. Однако, хотя мы и способны строить сценарии событий, но все-таки не можем изучать будущее таким же образом и теми же средствами, какими привычно реконструируем прошедшее время. Тут требуется иная логика, другая методология.
Вместе с тем и прошлое, и будущее не существуют сами по себе как полностью автономные пространства, они слиты в одном потоке времени, стянуты берегами истории, объединены единым субъектом исторического действия – человеком. Разделяют же историческое время на крупные сегменты, эпохи – меняющийся строй ума, «большие смыслы» судьбы людей, различным образом толкуемые ими цели бытия. Мы не увидим будущего и не поймем происходящих на планете изменений, если не ощутим, не опознаем резонирующих со временем длинных волн истории» (Александр Неклесса. Конец эпохи Большого Модерна).
Перед нами текст автора-аналитика. Рассуждение построено по преимуществу с точки зрения человека социального. Речь идет о времени, о восприятии его людьми. В тексте проявляются все особенности публицистической речи, но преобладают те черты, которые связаны с аналитической публицистикой. Рассуждение тщательно выстроенное – композиционно и синтаксически – имеет подчеркнуто литературный характер. Обращают на себя внимание метафоры («стянуты берегами истории»; «резонирующие со временем длинные волны истории»), смысловой ритм (чередование длинных и коротких предложений, смысловые акценты. Характерная черта стиля – стремление к афористичности. Текстовая модальность проявляется слабо (преобладают мы-предложения), однако авторский голос ощутимо заметен в литературной отделке, подчеркнутом внимании к форме изложения: смысловые акценты, метафоры, противопоставления и т.д. Это не научное, а именно публицистическое рассуждение, убеждающее не только аргументами, но и литературной формой их подачи.
Иной характер речи дает исповедальная публицистика, резко усиливающая присутствие авторского я, общую текстовую модальность. Выражая себя, свои чувства, мысли, публицист обогащает текст оригинальным взглядом, делает изложение человечным, эмоциональным. Исповедальность – это сгусток субъективности и в конечном счете публицистичности. При этом может возникнуть вопрос об искренности, правдоподобии выражаемых мыслей и чувств. Однако он нерелевантен, связан скорее с журналистской этикой. Речь же идет о стилевой манере. И здесь главное – степень профессионализма, мера литературного артистизма, убедительность изложения.
Совершенно иную природу и стилевой облик имеет так называемая стебная подача информации. Здесь автор выступает в качестве ироничного, стороннего наблюдателя. Важно подчеркнуть, что эта манера нивелирует мысль и стиль, опошляет общение журналиста с аудиторией. Если все подвергается осмеянию, то ценность сообщаемой информации стремится к нулю.
Соотношение граней категории автора может быть постоянным, характеризовать специализацию, сформировавшийся тип автора, но может и изменяться от произведения к произведению в зависимости от темы, жанра, замысла и т.п. Выступая в разных ипостасях (полемист, аналитик, репортер и т.д.), публицист, естественно, меняет характер, манеру речи, изобразительные средства. Но эти вариации вряд ли верно рассматривать как речевые маски, свойственные в большей степени художественной литературе. Можно говорить, по-видимому, лишь о некоторой доле перевоплощения, литературного артистизма.
Многообразие типов, разновидностей категории автора в публицистике неисчерпаемо. В этом плане публицистика не уступает художественной литературе. Но если в художественной литературе многообразные речевые маски рассказчиков, персонажей и т.п. отделены от автора, неотождествимы с ним (повествование может идти от имени человека, животного, даже неодушевленного предмета), то в публицистике все ипостаси автора – это разновидности самого автора – реальной, подлинной личности. В основе же этого многообразия находятся два главных типа, две грани – человек социальный и человек частный. Богатство и разнообразие граней автора определяют стилевое и стилистическое многообразие публицистики.
С категорией автора во многом связаны и жанры публицистики – как существующие, так и формирующиеся. Можно полагать, что развитие категории автора стимулирует процессы зарождения, изменения и развития системы публицистических жанров.
Таким образом, дальнейшее изучение граней автора-публициста представляется весьма перспективным во многих аспектах. Это автор как стилеобразующая категория публицистических текстов, это воздействие на развитие системы жанров и это более широкая проблема – автор как воплощение важнейших стилевых и языковых тенденций эпохи.
В качестве примера, иллюстрирующего центральную роль категории автора, рассмотрим очерк А. Аграновского «Долгий след».
«Есть прекрасный рассказ о крестьянине, который строил дом из камня. Его спросили, почему не из кирпича: было бы красивее. «Да, – сказал он, – но кирпич держится только восемьсот лет».
Мысль о будущем, умение видеть жизнь дальше своего предела – свойство людей».
Так начинается очерк. Он построен на чередовании фрагментов из рассказов выдающегося конструктора космической техники, рассказов живых, ярких, самобытных (ср.: «В субботу сидел дома, черкал по бумаге. Никак не выходило у нас. Убили на птичку все выходные, все вечера отпуска: сто вариантов – сто неудач. Главное сделали, он сделал, мой друг, но тяжесть. Не тянул наш движок! Шеф косился: мы хоть в свободное время, но ему не часы нужны, а наши головы...») и авторских комментариев – раздумий, размышлений, обобщений, своеобразных авторских отступлений, разнообразных по стилистической форме.
Иногда это комментарий к одной фразе, к одному слову:
«Был я молод, прост, пристрастий не имел» – так начинается рассказ об этой жизни. что поделать, не имел он смолоду особых пристрастий. Разве что мечты о дальних плаваниях, вместе с другом, Юркой Беклемишевым, собирался Исаев на остров Таити».
Иногда – короткие размышления о собственной работе, о путях познания героя:
«Давно мне хотелось написать о нем, да я и пробовал, фамилию придумывал герою, но есть такие судьбы, которые «сочинять» грех. Есть такая правда, которую жаль отдавать вымыслу».
Авторский комментарий может характеризовать лаконично и метко манеру рассказа героя:
«Рассказывал Исаев, посмеивался, сидел, поджав ноги, на тахте (одна из его излюбленных поз). Ему тогда стукнуло пятьдесят, был плотен, но в движениях ловок, веселый, лобастый, шумный, волосы темные, без седины, и замечательно умные живые глаза. Я теперь понимаю, что был он в ту пору по-настоящему молод, да и главные дела его были еще впереди. А истории, которые я узнавал от него, они так и просились в повесть, в фильм».
Авторская речь вбирает в себя и диалог, спор с воображаемым оппонентом о нравоучительности истории жизни А.М. Исаева:
«Странная жизнь. Совсем не хрестоматийная. Я уже слышу строгий голос: что тут поучительного для нашей замечательной молодежи? Научили тебя – работай. Назначили – служи. А если все станут бегать с места на место, то до чего мы вообще дойдем? Так же нельзя! И я спешу согласиться: нельзя. Но потом я начинаю думать не вообще, не о всех («все», кстати, не станут бегать с места на место), а об одном человеке, о данном, конкретном Исаеве, с его упрямством, житейской неуклюжестью, со всеми его недостатками и со всеми достоинствами, я думаю о нем и убеждаюсь: прав».
И рассуждение о типичности пути конструктора космической техники:
«Я не хочу сказать, что путь Исаева типичен, он совсем не типичен. Другие творцы космических кораблей смолоду нашли свое призвание, им в этом смысле повезло, для них, для большинства, характерна как раз последовательность, фанатичная преданность единожды избранному делу. Исаев своеобразен, не похож на других, может, оно и хорошо, что люди разные, но тут важно понять мотивы, смысл исканий».
И попытку разобраться в духовной сущности героя, во внутренних стимулах его фанатичной преданности делу:
«Какая сила гнала его? Ясно, что не погоня за материальными благами: тут он всякий раз терял, а не приобретал. Тщеславие? Но вот уже устроен он в столичном институте – сбежал рядовым на стройку. Соображения карьеры? Но вот уже дорос, мальчишка еще, до начальника отдела – опять все бросил... человек искал себя. Совершить ошибку в выборе ремесла может каждый, слишком многое тут зависит от случая. Но далеко не каждый решится ломать свою жизнь. Исаев решался, да не один раз».
Последняя мысль вызывает по ассоциации рассуждение о неудачниках («Есть такой род неудачников, себе и другим в тягость. Весь мир перед ними виноват, и они тоже “ищут”, а покуда ищут, толку от них нет»), которое влечет за собой новую мысль – рассуждение о рационализме:
«И еще: среди некоторой части молодежи, и не только молодежи, распространен сейчас некий рационализм. Я не о деньгах, не о положении, хотя и это многих греет. Я о «здравомыслии». Как-то слишком быстро смекают люди, какое дело перспективнее, какая специальность престижнее, какая тема проходимее: «Эту не стоит брать, на нее жизни не хватит». Исаев как раз и искал себе дела, на которое не хватит жизни...».
Авторская мысль течет широко, свободно, не скованно, не связанная хронологическими вехами жизни героя. Но это кажущееся внешне стихийным, прихотливым течение мысли подчиняется строгой внутренней логике – стремлению показать становление характера выдающегося конструктора, формирование его высоких гражданских качеств. И главная роль в организации материала очерка, в том, что делает произведение публицистическим (хотя торжественных, пафосных слов в очерке очень мало), – это глубоко эмоциональная авторская мысль, комментирующая, сопоставляющая, оценивающая.
Авторский комментарий развивается постепенно – вширь и вглубь: сначала это короткие реплики – замечания к рассказам героя (пояснение бытовых деталей, эпизодов из жизни, замечания к словам, выражениям и т.д.). Затем авторские отступления «набирают силу», приобретают глубинный характер (и соответственно расширяются, занимают больше места). Появляются рассуждения о смысле бытия, о гражданственности, своеобразии характера. Происходит характернейшее для публицистики обобщение, типизация характера. Таким публицистическим обобщением и заканчивается очерк:
«Вот так этот человек жил, так тратил свою жизнь – без расчета, без оглядки, и был, когда нашел себя, по-настоящему счастлив – в замыслах, в работе, в семье, в своих детях, в учениках и соратниках, которые ныне продолжают его дело. Он оставил по себе долгий след. Заложил многое, что отзовется через годы... что ж, люди, покуда они люди, всегда будут затевать долгие дела. Будут, по ленинскому выражению, людьми с размахом, с загадом. Может быть, масштаб личности более всего и определяется тем, как далеко и в какой мере человек способен видеть жизнь дальше своего предела».
Авторский комментарий, разнообразный по стилистической форме, составляет суть, живую душу очерка. Выразительны, самобытны «вставные рассказы» героя («Был всегда заразительно ярок; говорят, весь завод перенял его лексикон»). Стилистически и по содержанию они противопоставлены авторской речи. Бытовой характер, будничность, юмор этих «вставных новелл» контрастирует с важностью и серьезностью предметов, о которых идет в них речь и которые полностью раскрываются в авторских комментариях. При всей композиционной важности рассказов А.М. Исаева главную – цементирующую, организующую роль в очерке играет авторская речь, движение, развитие авторской мысли. «Поэзия личности пишущего явственно ощущается в очерке, зерном, основой которого всегда выступает запавшая в душу автора картина, факт, группа фактов. Если убрать этот цемент, очерк рассыплется»[53]. Авторская мысль, точнее, категория автора – это центр, фокус, к которому сходятся и которым определяются все главные черты стиля очерка.
4.4. Текстовая модальность в языке художественной литературы
Не меньшую (если не большую) роль играет категория автора и связанная с ней текстовая модальность в художественной речи. Здесь текстовая модальность значительно усложняется, трансформируется в зависимости от особенностей мировоззрения, художественного видения писателя.
Художественная речь заключает в себе явные и существенные отличия от других видов речи. Но содержатся эти отличия, эта специфика именно в речи, а не в языке. «Художественная речь отличается от других типов, – писал В.В. Кожинов, – не только тем, что она развертывает, опредмечивает перед нами специфическую содержательность; эта речь своеобразна и сама по себе. Точнее говоря, художественная речь лишь потому и может опредметить образы искусства, что она обладает специфической природой»[54].
Автор в художественном произведении, как известно, не говорит от собственного имени. Пушкин – это не Онегин, Л. Толстой – не Левин или другие его герои. Автор может доверить свои мысли близкому персонажу, но и в этом случае автор и герой не отождествляются. Специфика художественного произведения заключается в том, что непосредственно повествование ведут рассказчик или персонажи, составляющие созданный писателем мир. И только через этот мир, косвенно писатель выражает свои мысли, свое отношение к действительности. Если же ему становится тесно в рамках этого мира, если ему необходимо напрямую обратиться к читателю, на свет появляются публицистические, лирические отступления, не случайно называемые именно отступлениями. Закон художественной речи – обязательное присутствие в ней субъекта речи. что же представляет собой субъект речи?
«Несколько лет тому назад в одном из своих поместий жил старинный русский барин, Кирилла Петрович Троекуров».
Это начало «Дубровского» А.С. Пушкина. Другой пример:
«Утром пришло письмо».
Так начинается рассказ А.П. чехова «У знакомых».
Возникает вопрос: кто это говорит? Кому принадлежат цитированные слова? Если бы они принадлежали непосредственно Пушкину или чехову, то перед нами была бы публицистика или документальная проза. И автор поневоле должен был бы сказать, как он познакомился с героем, как узнал о нем то, что рассказывает читателю. Но этого нет. И в то же время повествование ведется так, что рассказчик знает о герое больше, чем знает о себе сам герой. Откуда такое знание?
Здесь и заключается то, что мы называем условностью художественной литературы. Автор формирует фигуру рассказчика, в большей или меньшей степени обозначенного в повествовании, от имени которого ведется рассказ и который наделяется всеведением. Любое высказывание в произведении (кроме, разумеется, прямой речи) принадлежит субъекту речи – рассказчику. Кто бы ни говорил в рассказе, повести, романе, это говорит рассказчик, но не автор. Так, в упомянутом рассказе «У знакомых» повествование ведет не сам герой Подгорин, но неназванный рассказчик, знающий о нем больше, чем сам герой.
Фигура рассказчика, его присутствие в произведении – это не только литературная техника, это принцип художественной речи, ее обязательное условие. Именно благодаря рассказчику фраза приобретает объемность, полифоничность и в конечном счете художественность. «Утром пришло письмо». Это сообщение о факте без признаков эмоциональности, оценок. Фраза имеет объективированный характер, который выдерживается в дальнейшем. Но в то же время она имеет и субъективный смысл. Если сообщается, что пришло письмо, значит, это ведет к цепи событий. Ключевое слово письмо таит в себе загадку, содержит зерно развития сюжета. Внешне бесстрастная форма предложения противопоставлена внутреннему драматизму ситуации, что создает сюжетное напряжение и имеет субъективную направленность, связанную с присутствием рассказчика.
Так уже в зачине оформляется модальность рассказа. Повествование ведется со стороны (объективно) и изнутри (субъективно). И оба эти начала органично объединяются в образе рассказчика, который выступает то как сторонний свидетель событий, объективный регистратор фактов, то как alter ego персонажа, чутко понимающий его тончайшие душевные движения.
Таким образом, событие (факт) получает двойное, объективно-субъективное освещение, что и придает фразе художественность. Слово в художественной речи обладает двойной референтностью: оно обращено к миру вещей, обозначает то же, что и в языке, и одновременно обращено к рассказчику. Художественное слово не ограничивается простым наименованием реалии. Оно пропущено через восприятие рассказчика, окрашено его эмоциями; оно может приобретать окраску загадочности, таинственности, реалистичности и т.п. Прав Г.О. Винокур: «Язык со своими прямыми значениями в поэтическом употреблении как бы весь опрокинут в тему и идею художественного замысла, и вот почему не все равно, как назвать то, что он видит и показывает другим»[55].
Однако при всей глубине и тонкости анализа представляется некоторым преувеличением мысль о том, что слова старик, рыбка, землянка, корыто из сказки А.С. Пушкина приобретают особые поэтические значения. Смысловые приращения появляются у слов лишь в метафорическом употреблении, как в названии повести «Хлеб» А. Толстого (пример Г.О. Винокура). В остальных же случаях слова сохраняют, как правило, свое языковое значение. Ср., например, уже приводившееся начало рассказа А.П. чехова «Утром пришло письмо».
Механизм приобретения словом художественности связан прежде всего с фигурой рассказчика. Поэтому точнее, может быть, говорить не о смысловых приращениях слова, а об особом восприятии его читателем, что обусловлено структурой речи с центральной ролью в ней рассказчика.
С точки зрения восприятия большое значение имеет категория читательского ожидания. В самом широком смысле читатель ждет от художественного произведения рассказа – рассказа о жизни, смерти, событиях – обо всем. Это ожидание не имеет предметного, конкретного характера. Оно общо, аморфно, но главное в нем ясно – ожидание рассказа, рассказывания.
читательское ожидание – один из движущих факторов художественного повествования. Писатель проектирует восприятие произведения, корректирует его. Как писал шутливо Пушкин, «читатель ждет уж рифмы розы, На, вот, возьми ее скорей!». Так или иначе, все стилистические приемы (например, ретардация, ускорение темпа рассказа) направлены на определенное восприятие. Художественное произведение должно оправдывать восприятие читателя, да оно и существует прежде всего в восприятии читателя.
Но нас интересует читательское ожидание до встречи с художественным произведением. И здесь, повторимся, мы ждем прежде всего рассказа. Тема может быть любой, но главное – ожидание рассказа. Вообще «художество» – это изначально рассказывание историй.
Вот характерное начало рассказа И.А. Бунина «История с чемоданом»:
«Начинается эта ужасная история весело, просто и гладко.
Дело происходит в доброе старое время, однажды весною».
Характерно, что многие исследователи функциональных стилей выделяют такую категорию, как установка, подразумевая, что выбор языковых и речевых средств в том или ином функциональном стиле подчиняется внутренним задачам этого стиля. Но установка – это не что иное, как реализация читательского ожидания, пресуппозиции функционального стиля, осуществление эстетического идеала стиля.
Специфика пресуппозиции художественной речи – ее теоретическая и практическая неограниченность: рассказывать можно все и обо всем. Подобная пресуппозиция обусловливает бесконечное разнообразие речевых форм – как существующих, так и потенциальных, возможных. Единственное условие этого разнообразия – все они должны содержать элемент рассказывания.
В связи с категорией читательского ожидания большое значение приобретает субъект речи, фигура рассказчика, повествователя. Это две диалектически взаимосвязанные категории. читатель ждет рассказа. Для реализации этого ожидания нужен рассказчик.
Рассказчик – непременный и главный компонент художественной речи. Именно он реализует в конечном счете идею художественности, организует, ведет повествование, т.е. выполняет главную функцию в произведении. Процесс создания художественного произведения – это во многом конструирование образа рассказчика. Рассмотрим этот процесс на примере некоторых рассказов А.П. чехова.
Уже упоминавшийся рассказ «У знакомых»[56] начинается так:
«Утром пришло письмо:
“Милый Миша, Вы нас забыли совсем, приезжайте поскорее, мы хотим Вас видеть. Умоляем Вас обе на коленях, приезжайте сегодня, покажите Ваши ясные очи. ждем с нетерпением.
Та и Ва.
Кузьминки, 7 июня”.
Письмо было от Татьяны Алексеевны Лосевой, которую лет десять – двенадцать назад, когда Подгорин живал в Кузьминках, называли сокращенно Та, Но кто же Ва?»
Цитированное начало рассказа сразу задает его тональность: с одной стороны, объективность изложения, даже документальность (приводится текст письма, сохраняющий индивидуальные черты писавших его), с другой стороны, субъективность, обнаруживающая близость рассказчика к герою. Так, следующая после объективного комментария фраза «Но кто же Ва?» плавно меняет речевой план рассказа. Она может принадлежать самому герою (несобственно-прямая речь) и рассказчику. Речевые планы рассказчика и персонажа тесно сливаются, например: «Уже со станции был виден лес Татьяны...» (с. 267). Здесь очень характерно слово виден: всем виден и виден Подгорину. Слово как бы двоится: дается от имени рассказчика (объективно) и в то же время от имени героя (неявно). Объективное изложение пронизано прямыми и непрямыми выражениями чувств и мыслей героя (внутренняя речь, несобственно-прямая и т.п.). В итоге получается единый речевой сплав – субъективно-объективная речь.
Таким образом, главная черта повествования: оно ведется от имени рассказчика, но в субъективном, эмоциональном поле героя. Такая структура речи расширяет возможности повествования – заключает в себе объективную констатацию и раскрытие внутреннего мира персонажа. И это определяет основные стилевые черты рассказа, модальность речи.
Рассказчик как личность никак не проявляет себя в повествовании. Он не назван (у него нет имени), не охарактеризован, не участвует в действии, но ему ведомо все, что касается событий, персонажей, их дум, переживаний. Он как бы незримо присутствует в происходящем, в мыслях и чувствах персонажей. Он находится над событиями и в то же время внутри них. Но это не конкретная личность, это как бы абстрагированное знание о событиях, не нуждающееся в одушевлении, персонификации. Перед нами распространенный у чехова, да и вообще в художественной литературе, может быть самый распространенный тип рассказчика. Его можно назвать анонимным рассказчиком. Анонимность придает повествованию объективность, основательность, непреложность: рассказ ведет не какое-либо конкретное лицо, но рассказчик, владеющий истиной, поэтому и не называющий себя. Но это далеко не единственное качество повествования, связанное с анонимным рассказчиком.
Анонимный рассказчик – весьма гибкая и пластичная форма организации художественной речи. Она позволяет тонко менять модальность повествования, по-разному объединяя речевые планы рассказчика и персонажа, усиливая то объективность изложения, то его субъективную сторону. Тонко и разнообразно использует повествование с анонимным рассказчиком А.П. чехов.
Значительный интерес в этом плане представляют рассказы «человек в футляре», «Крыжовник» и «О любви», составляющие, по словам самого писателя, серию[57]. В этих рассказах сходны и структура речи, и функция анонимного рассказчика. Роль последнего заключается в обрисовке обстановки происходящего, само же повествование отдано персонажам-рассказчикам, которые обстоятельно характеризуются и «рассказывают разные истории».
«На самом краю села Мироносицкого, в сарае старосты Прокофия, расположились на ночлег запоздавшие охотники. Их было только двое: ветеринарный врач Иван Иваныч и учитель гимназии Буркин. У Ивана Иваныча была довольно странная, двойная фамилия – чимша-Гималайский, которая совсем не шла ему, и его во всей губернии звали просто по имени и отчеству; он жил около города на конском заводе и приехал теперь на охоту, чтобы подышать чистым воздухом. Учитель же гимназии Буркин каждое лето гостил у графов П. и в этой местности давно уже был своим человеком» (с. 285).
Истории рассказывают Буркин («человек в футляре»), Иван Иваныч («Крыжовник»), Алехин («О любви»). Так чехов усложняет и развивает функцию анонимного рассказчика, который не повествует непосредственно о событии, но характеризует рассказчиков – свидетелей или участников событий, слушателей, их реакции на происходящее. Так создается внешняя рамка рассказываемой истории, в итоге получается рассказ в рассказе. При этом комментарии анонимного рассказчика касаются и внешнего облика тех, кто рассказывает истории, их тонких душевных движений.
«Было похоже, что он хочет что-то рассказать. У людей, живущих одиноко, всегда бывает на душе что-нибудь такое, что они охотно бы рассказали. В городе холостяки нарочно ходят в баню и рестораны, чтобы только поговорить, и иногда рассказывают банщикам или официантам очень интересные истории, в деревне же обыкновенно они изливают душу перед своими гостями. Теперь в окна было видно серое небо и деревья, мокрые от дождя, в такую погоду некуда было деться и ничего больше не оставалось, как только рассказывать и слушать» («О любви». С. 311).
Такая структура речи обладает изначальным художественным потенциалом. Слушатели выражают свое отношение к рассказываемой истории и становятся ее косвенными участниками:
«Пока Алехин рассказывал, дождь перестал и выглянуло солнце. Буркин и Иван Иваныч вышли на балкон; отсюда был прекрасный вид на сад и на плес, который теперь на солнце блестел, как зеркало. Они любовались и в то же время жалели, что этот человек с добрыми, умными глазами, который рассказывал им с таким чистосердечием, в самом деле вертелся здесь, в этом громадном имении, как белка в колесе, а не занимался наукой или чем-нибудь другим, что делало бы его жизнь более приятной, и они думали о том, какое, должно быть, скорбное лицо было у молодой дамы, когда он прощался с ней в купе и целовал ей лицо и плечи. Оба они встречали ее в городе, а Буркин был даже знаком с ней и находил ее красивой» («О любви», с. 319).
В результате история – центральный сюжет – получает многогранное освещение: глазами ее главного героя, глазами слушателей, воспринимающих не только рассказываемое, но и самого рассказчика, его поведение, мысли. Так внешний рассказ сливается с внутренним (историей любви). Фактически на фоне рассказываемого развивается новое повествование. Рассказчик становится героем и центром новых событий. Строится довольно сложная структура: анонимный рассказчик ведет повествование о персонажах, один из которых рассказывает историю, составляющую стержень всего произведения, и в то же время сам становится персонажем, объектом анализа. Рассказывает Иван Иваныч («Крыжовник», с. 307):
«Я уехал от брата рано утром, и с тех пор для меня стало невыносимо бывать в городе. Меня угнетают тишина и спокойствие, я боюсь смотреть на окна, так как для меня теперь нет более тяжелого зрелища, как счастливое семейство, сидящее вокруг стола и пьющее чай. Я уже стар и не гожусь для борьбы, я неспособен даже ненавидеть. Я только скорблю душевно, раздражаюсь, досадую, по ночам у меня горит голова от наплыва мыслей, и я не могу спать... Ах, если б я был молод!»
Можно полагать, что такая структура художественной речи, такое использование анонимного рассказчика – важное художественное открытие А.П. чехова. Рассказ в рассказе позволяет делать социальные обобщения, возможно близкие автору, но даваемые не прямо от автора, а косвенно, от рассказчика.
И еще одна важная особенность стилевой манеры чехова связана с типом анонимного рассказчика. В рассказе «Случай из практики» описывается поездка ординатора Королева к больной на фабрику. Повествование ведет анонимный рассказчик:
«Нужно было проехать от Москвы две станции и потом на лошадях версты четыре» (с. 339).
«Въехали в фабричные ворота» (с. 340).
«Пошли к больной» (с. 341).
Короткие, как правило, фразы намечают вехи повествования, каждая из которых сопровождается картиной, открывающейся взору персонажа:
«Въехали в фабричные ворота. По обе стороны мелькали домики рабочих, лица женщин, белье и одежда на крыльцах. “Берегись!” – кричал кучер, не сдерживая лошадей. Вот широкий двор без травы, на нем пять громадных корпусов с трубами, друг от друга поодаль, товарные склады, бараки, и на всем какой-то серый налет, точно от пыли. Там и сям, как оазисы в пустыне, жалкие садики и зеленые или красные крыши домов, в которых живет администрация» (с. 340).
Такая картина представляется герою, но такой она видится и рассказчику. Повествование объективировано, однако события представлены так, как мог увидеть их Королев. Анонимный рассказчик близок персонажу, но мысли и чувства героя воспроизводятся не непосредственно им самим, а передаются рассказчиком. Так достигается объективность описываемого и в то же время сохраняется субъективность, индивидуальность восприятия персонажем происходящего. В этой манере, которую можно назвать драматизацией повествования, анонимный рассказчик как бы сопровождает героя и делает мгновенные снимки того, что видит герой, или того, что он чувствует. Объективированное описание и субъективные впечатления, также переданные объективировано, сливаются в единой структуре речи, образуемой фигурой анонимного рассказчика. Драматизация близка анонимному рассказыванию, органична для него и широко используется в рассказах А.П. чехова. Драматические элементы (сценки) разнообразят словесную ткань, дополняя повествование изображением. Драматизация делает рассказ двуплановым, полифоничным.
Итак, в рассмотренных рассказах действует анонимный рассказчик. Это, по-видимому, самый распространенный в художественной литературе способ построения речи. Он представляет собой гибкую, пластичную форму рассказывания, является посредником между автором – производителем речи – и читателем. Основные качества анонимного рассказчика можно определить следующим образом.
1. Всеведение. Он знает о герое все, но никак не проявляет себя в речи. У читателя даже не возникает вопроса, откуда рассказчику известны подоплека событий, поступки героев и т.п. Специфика читательского ожидания в том, что читатель ждет рассказа, но источник знаний о событиях в компетенцию читателя не входит. Он судит о правдоподобии или неправдоподобии рассказываемого, руководствуясь жизненным опытом, вкусом. Правдоподобие же, убедительность изображаемого во многом зависит от мастерства писателя.
2. «Голос» анонимного рассказчика имеет особую, непререкаемую авторитетность. Он принадлежит не какому-либо конкретному человеку, но всезнающему рассказчику. Его рассказ не подвергается сомнению. Так было. Так протекали события. И знание это объективно по определению. Анонимный рассказчик объективирует события.
3. Присутствие анонимного рассказчика придает речи объемность, полифоничность. В повествовании кроме анонимного рассказчика говорят и персонажи. Используется прямая речь (диалоги), несобственно-прямая, реплики слушателей и т.п. Весь этот комплекс и создает впечатление объемности, полнокровной жизненной картины. Не случайно в рассказах чехова широко используется драматизация, органичная для повествования с анонимным рассказчиком.
4. С присутствием анонимного рассказчика связана модальность речи. Повествование может быть объективированным (но чистая объективированность практически не встречается) и субъективированным. Рассказ скользит между двумя этими полюсами. В одних преобладает объективированность, другие обнаруживают тенденцию к субъективированности (рассказ близок к персонажам).
Выше была рассмотрена самая распространенная разновидность рассказчика – анонимный рассказчик. Есть и другие разновидности, например рассказчик-персонаж (А.П. чехов «Моя жизнь. Рассказ провинциала»). Повествование ведется от имени персонажа, рассказывающего о том, что попадает в поле зрения героя. Такому повествованию часто свойственна исповедальность, эмоциональность.
Полная типология рассказчиков, что составляет актуальную задачу стилистики, возможна лишь при значительном расширении круга исследуемых источников. В данном же разделе важно было показать, что субъект речи (независимо от типа рассказчика) – обязательная принадлежность художественной речи, составляющая ее специфику.
Специфика художественной речи заключается в ее структуре, главная особенность которой состоит в несовпадении производителя речи (автора) и ее субъекта. Слово художественной речи принадлежит субъекту – рассказчику и только в конечном счете автору. Художественное произведение представляет собой повествование, объективированное рассказчиком. Художественная речь всегда по меньшей мере двуслойна: она представлена эксплицитно субъектом речи (анонимным или персонифицированным) и имплицитно производителем речи. Структура художественной речи определяет и свойственные ей особенности текстовой модальности. Рассмотрим разновидности текстовой модальности на примере некоторых текстов Л.Н. Толстого, Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина.
У каждого большого писателя существует более или менее постоянный (хотя бы для отдельного периода или произведения) тип организации большого контекста, тесно связанный с его художественным методом, способом познания и видения действительности. Для одного писателя важно выразить мысль наиболее компактно, наиболее собранно и концентрированно, с четким выделением самых существенных и глубинных сторон предмета с первого упоминания об этом предмете. Другой дает серию мимолетных, как бы случайных впечатлений, каждое из которых умещается в одном предложении, а существенное представление о предмете возникает лишь в результате суммирования, интеграции всех этих впечатлений. Для такого писателя контекст и переходы от одной фразы к другой, а иногда и «перекличка» далеко друг от друга стоящих предложений чуть ли не важнее, чем отдельное, изолированное предложение.
Для Л.Н. Толстого, например, характерно стремление вместить в предложение все богатство, всю сложность, все оттенки мысли или переживания, дать мысль в ее динамике, развитии. Для него важна не только сама мысль, но и ее причины и следствия, обстоятельства, сопутствующие ее появлению. Отсюда тенденция к аналитизму, что в синтаксическом плане выражается в расширении рамок отдельного предложения, в значительном повышении его удельного веса, в обилии сложных синтаксических построений с большим количеством сложно и тесно взаимосвязанных частей, в широком использовании периодов, играющих весьма значительную роль в структуре художественного целого. Достаточно вспомнить период, открывающий роман «Анна Каренина», или обратиться к периоду, которым начинается рассказ «Два гусара» и который содержит картину целой эпохи:
«В 1800-х годах, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни стеаринового света, ни пружинных низких диванов, ни мебели без лаку, ни разочарованных юношей со стеклышками, ни либеральных философов-женщин, ни милых дам-камелий, которых так много развелось в наше время, – в те наивные времена, когда из Москвы, выезжая в Петербург в повозке или карете, брали с собой целую кухню домашнего приготовления, ехали восемь суток по мягкой пыльной или грязной дороге и верили в пожарские котлеты, в валдайские колокольчики и бублики, – когда в длинные осенние вечера нагорали сальные свечи, освещая семейные кружки из двадцати и тридцати человек, на балах в канделябры вставлялись восковые и спермацетовые свечи, когда мебель ставили симметрично, когда наши отцы были еще молоды не одним отсутствием морщин и седых волос, а стрелялись за женщин и из другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно и не нечаянно уроненные платочки, наши матери носили коротенькие талии и огромные рукава и решали семейные дела выниманием билетиков; когда прелестные дамы-камелии прятались от дневного света, – в наивные времена масонских лож, мартинистов, тугендбунда, во времена Милорадовичей, Давыдовых, Пушкиных, – в губернском городе К. был съезд помещиков и кончались дворянские выборы».
Предложение Толстого стремится вместить в себя не готовую мысль или ее результат, а мысль в ее динамике и становлении. Оно сложно, аналитично и самостоятельно в смысловом отношении. Для Толстого связи между предложениями даже менее важны, чем связи между мыслями внутри предложения. Весьма характерно, что прозаические строфы Толстой строит нередко по модели предложения. Рассмотрим вступительную строфу рассказа «Севастополь в мае»:
«Уже шесть месяцев прошло с тех пор, как просвистало первое ядро с бастионов Севастополя и взрыло землю на работах неприятеля, и с тех пор тысячи бомб, ядер и пуль не переставали летать с бастионов в траншеи и с траншей на бастионы и ангел смерти не переставал парить над ними.
Тысячи людских самолюбий успели оскорбиться, тысячи успели удовлетвориться, надуться, тысячи – успокоиться в объятиях смерти... Сколько розовых гробов и полотняных покровов! А все те же звуки раздаются с бастионов, все так же – с невольным трепетом и суеверным страхом – смотрят в ясный вечер французы из своего лагеря на желтоватую взрытую землю бастионов Севастополя, на черные движущиеся по ним фигуры наших матросов и считают амбразуры, из которых сердито торчат чугунные пушки; все так же в трубу рассматривает с вышки телеграфа штурманский унтер-офицер пестрые фигуры французов, их батареи, палатки, колонны, движущиеся по Зеленой горе, и дымки, вспыхивающие в траншеях, и все с тем же жаром стремятся с различных сторон света разнородные толпы людей, с еще более разнородными желаниями, к этому роковому месту.
А вопрос, не решенный дипломатами, еще меньше решается порохом и кровью».
Хотя строфа состоит из нескольких самостоятельных предложений, она построена как одно сложное предложение.
Зачин представляет собой по форме сложное предложение смешанной структуры, но благодаря наречию уже, приближающемуся по своей роли к уступительному союзу, он воспринимается как синтаксически незаконченный (значение уступительности не реализовано, нет ожидаемого противопоставления: уже шесть месяцев прошло, а ...). Второе предложение усиливает значение уступительности (тысячи людских самолюбий успели оскорбиться, тысячи успели удовлетвориться...). Особенно характерно в этом плане единство видо-временных форм сказуемых первого и второго предложений и прямой порядок слов с подлежащим на первом месте во втором предложении. Затем следует короткое неполное восклицательное предложение, доводящее ожидаемое противопоставление до кульминации и знаменующее конец первой части строфы. И лишь после этого разрешается синтаксическое напряжение первой части, но появляется новая «тема»: четвертое предложение начинается с противительного союза а и состоит из нескольких параллельных анафорических частей с замыкающим союзом и перед последней частью. Здесь постепенно, с каждой новой анафорической частью усиливается синтаксическое значение противопоставления, заканчивающееся последней частью с союзом и. Характерно при этом, что во второй части строфы меняется видо-временной план: на смену глаголам прошедшего времени совершенного вида приходят глаголы в настоящем описательном времени. Завершается строфа сравнительно коротким предложением, снова с противительным союзом а; концовка подводит итог второй части и строфы в целом.
Обрисованное синтаксическое движение внутри строфы точно соответствует развитию и движению художественной мысли: несмотря на то что война уносит тысячи жизней, она продолжается, продолжается ужасное кровопролитие.
Благодаря такому строению (по модели сложноподчиненного предложения) вся строфа воспринимается как единое (художественное и синтаксическое) целое – настолько тесны связи между предложениями строфы. Использование периодической речи придает строфе высокое, патетическое звучание и мотивировано глубоким содержанием, предельной идейно-художественной нагрузкой вступления. Роль этой начальной строфы, строфы-аккорда, исключительно велика в художественной концепции (и композиции) рассказа.
Весьма характерно, что следующая строфа, открывающая непосредственно повествование, резко меняет текстовую модальность, стиль изложения сообразно с новой художественной задачей: «В осажденном городе Севастополе, на бульваре, около павильона играла полковая музыка, и толпы военного народа и женщин празднично двигались по дорожкам».
Иной тип синтаксической организации текста, иной вид текстовой модальности находим у Н.В. Гоголя:
«В двенадцать часов на Невский проспект делают набеги гувернеры всех наций с своими питомцами в батистовых воротничках. Английские Джонсы и французские Коки идут под руку с вверенными их родительскому попечению питомцами и с приличною солидностию изъясняют им, что вывески над магазинами делаются для того, чтобы можно было посредством их узнать, что находится в самых магазинах. Гувернантки, бледные миссы и розовые славянки, идут величаво позади своих легеньких, вертлявых девчонок, приказывая им поднимать несколько выше плечо и держаться прямее; короче сказать, в это время Невский проспект – педагогический Невский проспект. Но чем ближе к двум часам, тем уменьшается число гувернеров, педагогов и детей: они, наконец, вытесняются нежными их родителями, идущими под руку с своими пестрыми, разноцветными, слабонервными подругами. Мало-помалу присоединяются к их обществу все, окончившие довольно важные домашние занятия, как то: поговорившие с своим доктором о погоде и о небольшом прыщике, вскочившем на носу, узнавшие о здоровьи лошадей и детей своих, впрочем показывающие большие дарования, прочитавшие афишу и важную статью в газетах о приезжающих и отъезжающих, наконец выпивших чашку кофею и чаю; к ним присоединяются и те, которых завидная судьба наделила благословенным званием чиновников по особым поручениям. К ним присоединяются и те, которые служат в иностранной коллегии и отличаются благородством занятий и привычек. Боже, какие есть прекрасные должности и службы! как они возвышают и услаждают душу! Но, увы! Я не служу и лишен удовольствия видеть тонкое обращение с собою начальников. / Все, что вы ни встретите на Невском проспекте, все исполнено приличия: мужчины в длинных сюртуках, с заложенными в карманы руками, дамы в розовых, белых и бледно-голубых атласных рединготах и шляпках. Вы здесь встретите бакенбарды единственные, пропущенные с необыкновенным и изумительным искусством под галстук, бакенбарды бархатные, атласные, черные, как соболь или уголь, но, увы, принадлежащие только одной иностранной коллегии. Служащим в других департаментах провидение отказало в черных бакенбардах, они должны, к величайшей неприятности своей, носить рыжие».
Перед нами часть фрагмента из повести «Невский проспект», который представлен как один абзац, легко и естественно членимый на строфы. Фрагмент у Гоголя – это, как правило, значительный отрезок текста с тесными связями между предложениями. Многочисленные разнообразные синтаксические связи, восклицательные «авторские» предложения, присоединительные союзы создают богатую, причудливую «вязь» предложений, неповторимый синтаксически пестрый и многоцветный мир гоголевской прозы. Синтаксическое движение здесь сложно, прихотливо и многообразно. Ироническая мысль писателя движется стремительно, захватывая все новые и новые лица, предметы, картины. Неожиданны ее повороты, внезапны переходы, нередко ассоциативные. Тесное синтаксическое единство прозы достигается посредством разнообразных цепных и параллельных связей, усиленных союзами.
В художественной манере Гоголя отдельное предложение – это лишь штрих, мало значащий вне целостной словесной картины. Даже прозаическая строфа играет роль лишь слагаемого картины. Для писателя наиболее значимы в художественном отношении фрагменты (далеко не случайно, что писатель выделяет абзацами обычно не строфы, а фрагменты), заключающие законченные по смыслу описания, эпизоды, картины.
Описанные особенности синтаксиса Гоголя («вязь» предложений, объединенных в крупные фрагменты) объясняют большую роль в его прозе зачинов фрагментов. Они наиболее самостоятельны в смысловом отношении и вполне понятны вне контекста; они служат своеобразными вехами повествования и позволяют выдерживать единую сюжетную линию. Выписанные подряд, они составляют четкий конспект содержания произведения. Для иллюстрации достаточно привести несколько зачинов из анализируемого «Невского проспекта»:
«Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге, для него он составляет все...»
«В двенадцать часов на Невский проспект делают набеги гувернеры всех наций с своими питомцами в батистовых воротничках...»
«С четырех часов Невский проспект пуст, и вряд ли вы встретите на нем хотя одного чиновника...»
«Но как только сумерки упадут на домы и улицы и будочник, накрывшись рогожею, вскарабкается на лестницу зажигать фонарь, а из низеньких окошек магазинов выглянут те эстампы, которые не смеют показаться среди дня, тогда Невский проспект опять оживает и начинает шевелиться».
Резкий контраст текстам Гоголя и Толстого составляет проза Пушкина. По сравнению с живописными гоголевскими фрагментами и сложным аналитическим синтаксисом Толстого, лаконичная по выражению и емкая по содержанию проза Пушкина представляется графичной. Синтаксис его предельно прост, ясен, прозрачен. Преобладают простые короткие предложения, реже встречаются сложные простой структуры. Периоды отсутствуют. Связи между предложениями тесны, но достигается это наиболее экономным и естественным отбором: чаще всего используются цепные связи с личными местоимениями он, она, оно и т.д., а также параллельные связи.
Как и в синтаксисе Толстого, большую роль играет отдельное предложение. Но в отличие от толстовской фразы предложение у Пушкина не стремится вместить в себя максимальное содержание, не стремится к широкому охвату явлений, оно не живописует и не анализирует. Фраза у Пушкина стремится выделить и очертить в предмете главное и существенное, оставляя за своими пределами, перенося в подтекст подробности, детали, обстоятельства. Поэтому лаконичная фраза Пушкина оказывается семантически емкой, гибкой и гармоничной. Назначение пушкинской фразы – не психологический анализ и не живописание событий. Ее стихия – это прежде всего рассказ, повествование, потому так много повествовательных и «временных» зачинов (Прошло несколько лет; На другой день). Не случайна также особая роль рассказчика, повествователя в прозе Пушкина. Лаконичная фраза Пушкина как бы специально приспособлена для рассказа, позволяя выразить и динамику событий, и спокойное их течение, и напряженность, тревожность обстановки. И все это в форме синтаксически простой, предельно экономной и спокойной, нередко даже контрастирующей с изображаемым предметом.
Гармоничность пушкинского синтаксиса проявляется и в структуре прозаической строфы, совпадающей, как правило, с абзацем. Хотя предложение и играет большую роль в синтаксическом строе прозы Пушкина, но не меньшая роль в ней принадлежит и прозаической строфе. Экспрессивно-семантическая нагрузка предложения точно соответствует ее композиционной роли в строфе (зачин, средняя часть, концовка). Произведения Пушкина являют образцы классически ясных и выразительных прозаических строф. Вот, например, начало неоконченной повести «Кирджали»:
«Кирджали был родом булгар. Кирджали на турецком языке значит витязь, удалец. Настоящего его имени я не знаю.
Кирджали своими разбоями наводил ужас на всю Молдавию. чтоб дать о нем некоторое понятие, расскажу один из его подвигов. Однажды ночью он и арнаут Михайлаки напали вдвоем на булгарское селение. Они зажгли его с двух концов и стали переходить из хижины в хижину. Кирджали резал, а Михайлаки нес добычу. Оба кричали: “Кирджали! Кирджали!”. Все селение разбежалось».
Обе приведенные начальные строфы поражают четкостью и ясностью синтаксического рисунка, структурной стройностью и цельностью.
Особенно важна роль первой строфы как начальной, задающей тон всему произведению. Предельно проста ее структура, минимально число составляющих ее предложений, отчетливо выражены все ее части. Зачин с прямым порядком слов содержит лаконичную характеристику главного действующего лица и энергично вводит в действие. Второе предложение, несколько большее по объему, расширяет характеристику героя. Параллельное первому, начинающееся с того же подлежащего, оно оформлено как средняя часть строфы. Третье предложение, благодаря сильной инверсии и введению авторского «я», резко завершает строфу. Короткие предложения строфы, читающиеся отрывисто, задают тон суровый, тревожный, даже несколько таинственный.
Вторая строфа – это переход к непосредственному рассказу, строфа носит повествовательный характер. Предложения становятся распространеннее, меняются ритм и стиль повествования – текстовая модальность. Синтаксис чутко реагирует на изменения художественной задачи. Но структура строфы сохраняет четкость и стройность. Зачин составляют два предложения, имеющие вводящий характер и использующие авторское «я». Средняя часть состоит из четырех предложений, рассказывающих об одном из «подвигов» Кирджали. Последнее предложение – самое короткое в строфе, состоящее из трех слов – завершает эпизод.
Анализ текстов Л.Н. Толстого, Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина показывает разнообразие стилей, особенности индивидуальной художественной манеры писателей. Но если говорить об общих истоках идиостилей, то они заключены в текстовой модальности. Строй речи, стилевая тональность при внешнем разнообразии, непохожести определяются прежде всего избранной автором для воплощения художественной мысли текстовой модальностью. Каждый писатель создает прежде всего образ, фигуру рассказчика (анонимного или персонифицированного), определяющего во многом тональность повествования – объективированного или субъективированного, нейтрального или эмоционального (например, ироничного), пафосного или сдержанного. Нюансы здесь бесконечно многообразны. Но именно рассказчик, близкий автору, нередко совпадающий с производителем речи, или сторонний, обусловливает строй речи, ее тональность, языковые особенности. Можно сказать, что в основе любого художественного произведения лежит текстовая модальность.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Задача данной работы заключается в обосновании необходимости нового раздела синтаксиса – модального синтаксиса. Антропоцентрический характер языка, декларируемый теоретически, нуждается в непосредственной разработке, и прежде всего на материале синтаксиса. Будучи одним из важнейших ярусов языка, синтаксис организует речь. Соединяя слова в словосочетания и предложения, а последние в текст, синтаксис формирует конечную языковую реальность – речь, создавая правила, нормы ее построения. Можно говорить об успешном изучении синтаксиса слова, словосочетания, предложения, текста, если иметь в виду его структурный аспект. Однако в семантическом плане за пределами внимания остаются многообразные проблемы роли человека говорящего в синтаксисе.
Структурный синтаксис рассматривает отношение языка к миру вещей (действительности). Это одна, хотя и очень важная, сторона синтаксиса. Но не менее важная сторона – отношение синтаксиса к человеку говорящему. Отображая многообразные ситуации, их фрагменты, синтаксис не может не отразить и роль в них производителя и субъекта речи. Последние активно участвуют в формировании речи, ее отрезков, фрагментов. Поэтому полное значение синтаксических единиц, прежде всего предложений-высказываний, складывается из их объективной семантики и субъективно-модального значения, отражающего присутствие человека говорящего.
Категория субъективной (и текстовой) модальности пронизывает весь язык и речь, объединяя эти две ипостаси единого языка-речи и обусловливая превращение языковых единиц в речевые.
Субъективная модальность, будучи универсальной категорией, охватывает все уровни языка, а в рамках морфологии все части речи. Язык обращен к внешнему миру – служит для обозначения его предметов, явлений, действий. Эту системность можно назвать внешней. Однако язык – это и система знаков, существующая для говорящего, используемая говорящим, находящимся в центре языка (я, здесь, сейчас).
Обозначая, называя элементы внешнего мира, говорящий так или иначе выражает и свое отношение к ним, что получает воплощение во всех единицах языка. Это внутренняя системность, опирающаяся на отношение языковых единиц к Я (говорящему). Так, можно выстроить систему частей речи, в центре которой находится Я (говорящий). В такой системе части речи расположатся по степени субъективной модальности: личные местоимения (прежде всего Я, а также Мы, Ты) составят ядро системы. К ним будут примыкать вводно-модальные слова, частицы, междометия как непосредственные проявления Я. Далее расположатся прилагательные и наречия, косвенно выражающие модальность. Периферию же системы составят существительные и глаголы, обладающие потенциальной модальностью, проявляемой в зависимости от лексического выражения, от контекста и т.д. В этом плане весьма перспективно и реально создание «грамматики говорящего», призванной изучать разнообразные проявления модальности на всех языковых уровнях и в речи, организацию языковых средств в аспекте модальности. В синтаксисе субъективная модальность – непременный компонент общей семантики предложений. Без субъективно-модального компонента значение конструкции предстает неполным, односторонним, ущербным.
Любая отражаемая в языке ситуация – это ситуация, воспринимаемая человеком. Он отмечает изменение состояния, пространственное расположение предметов, характеризует положение вещей, речь, комментирует, объясняет и т.д. человек присутствует (но необязательно проявляет себя) в любой ситуации – как наблюдатель, говорящий. Поэтому во всех элементах речи – от слова и словосочетания до текста – субъективная (текстовая) модальность выступает как важнейший компонент образования речи, ее элементов, значения, стиля, тональности. Изучение модального значения синтаксических конструкций важно не только для синтаксиса, но и для стилистики, лингвистики текста. В целом изучение субъективной (текстовой) модальности – этой важнейшей универсальной категории – необходимо для более полного и глубокого понимания устройства языка и речи.
Разумеется, автор не претендует на исчерпывающее изложение всего комплекса проблем модального синтаксиса. Задача данной работы значительно скромнее – привлечь внимание к этому важнейшему разделу синтаксиса, очертить его контуры, наметить пути анализа.
Примечания
1
См.: Кондаков Н.И. Логический словарь. – М., 1971. С. 311.
(обратно)2
Хинтикка Я. Логико-эпистемологические исследования. – М., 1980.
(обратно)3
Петренко В.Ф. Основы психосемантики. 2-е изд. – М., 2005. С. 20 – 21.
(обратно)4
«...Язык есть семиотическая система, основные референционные точки которой непосредственно соотнесены с говорящим индивидом. Э. Бенвенист называет это свойство «человек в языке» [...]. Иначе всю эту черту лингвистической концепции можно назвать антропоцентрическим принципом» (Демьянков В.З. Личность, индивидуальность и субъективность в языке и речи //Я, субъект, индивид в традициях современного языкознания. Сборник научно-аналитических обзоров. – М., 1992. С. 26). См. также: Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. – М., 1975.
(обратно)5
См.: Клобуков Е.В. Семантика падежных форм в современном русском литературном языке (Введение в методику позиционного анализа). – М., 1980.
(обратно)6
Русская грамматика. Т. II. Синтаксис. – М., 1980. С. 215.
(обратно)7
См.: Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. – М., 1975.
(обратно)8
Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. – М., 1974. С. 79.
(обратно)9
Там же. С. 83.
(обратно)10
См.: Петренко В.Ф. Основы психосемантики, 2-е изд. – М., 2005. С. 51.
(обратно)11
Сергеева Е.Н. Образование усилительных элементов на основе качественных прилагательных и наречий // Стилистико-грамматические черты языка научной литературы. – М., 1970. С. 23.
(обратно)12
Подробнее см.: Солганик Г.Я. Лексика газеты (функциональный аспект). – М., 1981.
(обратно)13
См.: Русская грамматика. Т. 2. Синтаксис. – М., 1980. С. 91.
(обратно)14
В дальнейшем будем говорить в этом случае о текстовой модальности (см. главу 4).
(обратно)15
Дальнейший анализ см. в главе 4.
(обратно)16
Субъективно-модальное значение слова рассматривается в лексикологии.
(обратно)17
Мельчук И.А. Курс общей морфологии. Т. 3. – М.; Вена. С. 159 – 160.
(обратно)18
Русская грамматика. Синтаксис. Т. 2. – М., 1980. С. 91.
(обратно)19
Винокур Г.О. Филологические исследования. Лингвистика и поэтика. – М., 1990. С. 125.
(обратно)20
Для краткости употребляем термин «модальный», подразумевая «субъективно-модальный».
(обратно)21
Науменко А.В. Координаты локации («субъект», «пространство», «время») в семантической организации газетного текста. АКД. – Харьков, 1990. С. 14.
(обратно)22
Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. – М., 1985. С. 10.
(обратно)23
Там же. С. 27.
(обратно)24
См.: Хрящева Н.П. Семантика оценочных лексем при описании действия и ситуации // Семантика языковых единиц. – М., 1996. С. 39.
(обратно)25
Диброва Е.И., Касаткин Л.Л., Щеболева Н.Н. Современный русский язык. Анализ языковых единиц. – М., 1995. С. 122.
(обратно)26
Вольф Е.М. Указ. соч. С. 203.
(обратно)27
Апресян Ю.Д. Образ человека по данным языка. Попытка системного описания // Вопросы языкознания, 1989, № 1. С. 64 – 65.
(обратно)28
Арутюнова Н.Д. Функции определений в бытийных предложениях // Русский язык. Текст как целое и компоненты текста. Виноградовские чтения. ХI. – М., 1982. С. 38.
(обратно)29
Вольф Е.М. Грамматика и семантика прилагательного. На материале иберо-романских языков. – М., 1978. С. 9.
(обратно)30
Вольф Е.М. Функциональная семантика. – М., 1985. С. 94.
(обратно)31
Русская грамматика. Т. II. Синтаксис. – М., 1980. С. 27.
(обратно)32
Русская грамматика. Т. II. Синтаксис. – М., 1980. С. 276 – 277.
(обратно)33
Мы опираемся прежде всего на книгу: Солганик Г.Я. Толковый словарь. Язык газет, радио, телевидения. – М., 2008.
(обратно)34
Кожина М.Н. Некоторые аспекты изучения речевых жанров в нехудожественных текстах // Стереотипность и творчество в тексте. Межвузовский сборник научных трудов. – Пермь, 1999. С. 35.
(обратно)35
Аверинцев С. Гете и Пушкин // Новый мир. 1999. С. 196.
(обратно)36
Поспелов Н.С. Синтаксический строй стихотворных произведений Пушкина. – М., 1960. С. 30.
(обратно)37
Виноградов В.В. О категории модальности и модальных словах в русском языке // Труды Института русского языка. 1950. С. 76.
(обратно)38
Сильман Т.И. Проблемы синтаксической стилистики (на материале немецкой прозы). – Л., 1967. С. 29.
(обратно)39
Кручинина И.Н. Текстообразующие функции сочинительной связи // Русский язык: Функционирование грамматических категорий. Текст и контекст. – М., 1984. С. 175.
(обратно)40
Кручинина И.Н. Указ. соч. С. 207.
(обратно)41
Там же. С. 208.
(обратно)42
Шведова Н.Ю. Очерки по синтаксису разговорной речи. – М., 1960. С. 19.
(обратно)43
Троянская Е.С. Некоторые особенности функционирования грамматических моделей в стиле научной речи (на материале немецкого языка) // Стилистико-грамматические черты языка научной литературы. – М., 1970. С. 49.
(обратно)44
Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». – М., 1975. С. 203.
(обратно)45
Виноградов В.В. Язык художественного произведения // В.В. Виноградов. Проблемы русской стилистики. – М., 1981. С. 296.
(обратно)46
Однако интересна критика этого термина М.М. Бахтиным: «Абсолютно отождествить себя, свое “я” c тем “я”, о котором я рассказываю, так же невозможно, как невозможно поднять себя самого за волосы. Изображенный мир, каким бы он ни был реалистичным и правдивым, никогда не может быть хронически тождественным с изображающим реальным миром, где находится автор – творец этого изображения. Вот почему термин «образ автора» кажется мне неудачным: все, что стало образом в произведении и, следовательно, входит в хронотопы его, является созданным, а не создающим. «Образ автора», если понимать под ним автора-творца, является contradictio in adjecto, всякий образ – нечто всегда созданное, а не создающее. Разумеется, слушатель-читатель может создать себе образ автора (и обычно его создает, то есть как-то представляет себе образ автора), при этом <...> он создает только художественно-исторический образ автора <...>» (Бахтин М.М. Формы времени и хронотопов в романе: Очерки по исторической поэтике // М.М. Бахтин. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет. – М., 1975. С. 405.
(обратно)47
См.: Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М., 1987.
(обратно)48
Клямкин И. Улица ведет к храму // Новый мир. 1987. С. 159.
(обратно)49
Алексиевич Светлана. Художнику долго оставаться на баррикадах опасно // Известия. 2000. 11 сент.
(обратно)50
Новопрудский Семен. че – это звучит го... // Известия. 2000. 11 окт.
(обратно)51
Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. – М., 1983. С. 62 – 63.
(обратно)52
Мурзин Д. // Мир за неделю. 2000. № 12. С. 16.
(обратно)53
Журбина Е.И. Теория и практика художественно-публицистических жанров. – М., 1969. С. 97.
(обратно)54
Кожинов В.В. Слово как форма образа // Сб. статей. – М., 1964. С. 38.
(обратно)55
Винокур Г.О. Филологические исследования. Лингвистика и поэтика. – М., 1990. С. 47.
(обратно)56
Рассказы А.П. чехова цитируются по изданию: Чехов А.П. Собр. соч.: В 12 т. Т. 8. – М., 1956.
(обратно)57
Чехов А.П. Собр. соч. Т. 8. Примечания. С. 534.
(обратно)



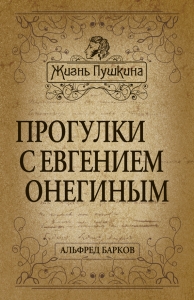



Комментарии к книге «Очерки модального синтаксиса», Григорий Яковлевич Солганик
Всего 0 комментариев