Александр Тимофеевич Хроленко, Василий Данилович Бондалетов Теория языка: учебное пособие
Предисловие
В теоретической подготовке филолога любого профиля – русиста, слависта, германиста, романиста и т. д., а также учителя-словесника средней общеобразовательной школы, гуманитарных гимназий и лицеев центральное место занимает курс «Теория языка» (прежнее название «Общее языкознание»), Читаемый обычно на старших курсах, он не только подводит итог всей лингвистической подготовке студента, но и поднимает его на новый уровень понимания языка как исключительного феномена, сыгравшего в становлении человека и общества решающую роль. Являясь важнейшим средством общения, язык выступает в качестве составной части, продукта и базы культуры, особенно ее словесно-художественной разновидности.
Определяя содержание книги, ее концептуальные положения, форму и способы подачи материала, авторы руководствуются современным пониманием сущности языка как естественно возникшей и закономерно развивающейся системы с социальной предназначенностью быть основным средством общения. Теория языка – это учебная дисциплина, призванная показать студенту-филологу длительную историю изучения языка, сложившееся к настоящему времени целостное представление о феномене языка, его знаковый характер, внутреннее устройство, структуру и систему, его связи с индивидуумом, этносом и обществом, мышлением и культурой.
В отличие от учебных пособий по этой дисциплине, в которых излагаются сведения по одному или двум разделам этой науки, данная книга содержит все три части, предусмотренные программой курса: I. История лингвистических учений; II. Теория языка; III. Методы изучения и описания языка. Объединение трех частей науки о языке в одной книге продиктовано не только удобством пользования ею, но и концептуально важным положением, что без истории предмета не может быть его полноценной теории, а без теории, без научного осмысления исторического пути языкознания, без анализа разнообразных концепций и направлений, а также полученных конкретных результатов непонятными и вряд ли оправданными покажутся сменявшие или дополнявшие друг друга методы и приемы лингвистических исследований.
Излагая сложнейшие проблемы происхождения человека и его языка, связи языка с мышлением и культурой в их современном состоянии и истории развития, авторы стремились к тому, чтобы книга выполняла не только информативную, но и развивающую функцию, побуждающую студентов, аспирантов, молодых ученых и творчески работающих учителей к освоению науки о языке в контексте других общественных и естественных наук. В связи с этим вполне своевременным представляется введение государственного стандарта образования второго поколения, включающего, помимо собственно предметного блока (русский язык и литература, филология и т. д.), три других блока: I. Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины (среди которых – культурология, философия, история и др.); II. Общие математические и естественнонаучные дисциплины (концепции современного естествознания, общая математика и информатика); III. Общепрофессиональные дисциплины (психология, педагогика, теория обучения языку, литературе).
Авторы убеждены, что курс «Теории языка» способен объединить знания студентов, полученные не только в процессе изучения дисциплин предметного цикла (по языку и литературе, по истории языка и по истории литературы), но и выступить в качестве дисциплины более высокого – интегративного уровня. Именно такое понимание назначения предмета побудило авторов обратиться к теоретическим положениям и конкретным фактам ряда современных наук: социально-политических, гуманитарных, биологических (физиология, генетика, бионика), особенно к новым идеям и открытиям в ближайших к языкознанию науках – в теории информации, семиотике, культурологии, психолингвистике, биолингвистике, нейролингвистике, когитологии, паралингвистике и др.
В первой части дается очерк поступательного развития научных воззрений на язык. Сжато описываются основные этапы: филология древности, языкознание Нового времени (XVII–XVIII вв.), возникновение самостоятельной науки о языке в связи с появлением сравнительно-исторического языкознания (конец XVIII – начало XIX вв.), возникновение общего языкознания (философия языка В. Гумбольдта), дальнейшее развитие сравнительного языкознания, появление в XIX в. новых направлений – логико-грамматического, психологического, младограмматизма, социологии языка; в XX в. – структурализма, этнолингвистики, социолингвистики, психолингвистики, лингвосемиотики, когнитивной лингвистики, ареальной лингвистики, логической лингвистики, универсализма. Делается попытка охарактеризовать проблематику лингвистических исканий на грани XX–XXI вв.
Изложение лингвистических учений, взглядов, наиболее продуктивных положений как в первой – историографической части книги, так и во второй – собственно теоретической ведется в предельно сжатой форме: соблюдая объективность в освещении реальной истории нашей науки, ее трудного пути (чаще всего в виде преодоления противоречий между ранее принятыми положениями и новыми воззрениями), мы отдавали предпочтение освещению идей и конкретных достижений, которые вошли в теоретический фонд и «базу данных» современной науки о языке. Иными словами, отбирая из истории науки идеи, положения и выводы, созвучные лингвистике сегодняшнего дня и полезные для практики, в частности, для работы учителя-словесника, мы руководствовались принципом актуального историзма, видя в этом реализацию сформулированной выше концепции учебной дисциплины «Теория языка» и теоретических установок книги. Поэтому всё изложение истории языкознания дается преимущественно в общелингвистическом и культурологическом планах, предваряя развертывание и развитие этих аспектов во второй части книги.
«Теория языка» – вторая, центральная и самая значительная часть книги. Здесь читатель найдет как традиционные, но остающиеся актуальными, так и новые темы общего языкознания: происхождение человека и его языка; знаковость как основа коммуникации; язык и мышление; язык и речь; язык и этнос; язык и культура; предмет, задачи и проблемы современной социолингвистики; система языка, ее ярусная организация; основные ярусы языка и их единицы; промежуточные ярусы; контакты языков; эволюция языка; стихийное и сознательное в развитии языка; языковая политика; прикладные проблемы науки о языке; проблемы экологии языка.
В третьей части дается понятие о лингвистических методах и характеризуются наиболее продуктивные из них – описательный, таксономический, лингвогенетические, количественные.
Авторы – профессора педагогических университетов, зная, как читатель ценит простое и доходчивое слово, стремились к ясности изложения даже самых сложных вопросов теории языка.
Работа между авторами распределена так: А.Т. Хроленко принадлежат части II и III, В.Д. Бондалетову – Предисловие, часть I, а также научное редактирование всей книги. Библиография и предметный указатель составлены совместно в пропорции, подсказанной соответствующими частями книги.
Авторы благодарят своих рецензентов докторов наук Е.Б. Артеменко, Г.А.Богатову, В.К. Харченко, С.П. Щавелёва, старшего научного сотрудника Института русского языка РАН Л.Ю. Астахину, а также доцента кафедры общего языкознания Московского педагогического государственного университета С.А. Полковникову за конкретные замечания и ценные советы, способствовавшие улучшению книги.
Отзывы и критические замечания на учебную книгу просим присылать по любому из адресов: 440011, Пенза, ул. 8 Марта, д. 21, кв. 334, профессору Бондалетову Василию Даниловичу, E-mail: lingua@pspu. penza ru;
305004, Курск, ул. Гоголя, д. 25, кв. 19, профессору Хроленко Александру Тимофеевичу, E-mail: khrolenko@hotbox. ru.
Часть 1 История лингвистических учений
История лингвистических учений в составе курса «Теория языка»
История языкознания мыслилась как первая часть курса «Общее языкознание», вводившегося в вузовские планы в 1961 г. С тех пор стали появляться учебные пособия трех видов:
а) по всем трем частям курса, напр., Кодухов В.И. Общее языкознание. – М.: Высшая школа, 1974;
б) в отдельности по первой части, напр.: Кондратов Н.А. История лингвистических учений. – М.: Просвещение, 1979; Березин Ф.М. История лингвистических учений. – М.: Высшая школа, 1975, 1984; Алпатов В.М. История лингвистических учений. – М.: Языки русской культуры, 1999), ПановД.А. Общее языкознание. – Пермь, 1973;
в) только по второй части (напр., Общее языкознание / Под общей редакцией А.Е. Супруна. – Минск: Вышэйшая школа, 1983);
г) только по третьей части (иногда с ограничением хронологического характера), напр., Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. – М., 1975, 2000);
д) в различных комбинациях частей и тем. Так, в книге Ф.М. Березина и Б.Н. Головина «Общее языкознание» (М.: Просвещение, 1979) две части: первая – «Язык», соответствующая программной «Теории языка», и вторая – «Лингвистические направления и методы XX века», в которой отражено содержание первой и третьей частей программы.
Справедливости ради следует сказать, что вузовское преподавание общего языкознания (по современной номенклатуре Государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования – теории языка) насчитывает более 100 лет и начиналось оно с изложения основных моментов истории науки о языке. Мы имеем в виду книгу знаменитого датского лингвиста Вильгельма Томсена (1842–1927) «История языковедения до конца XIX века» (русский перевод: М., 1938, с послесловием профессора P.O. Шор), в основу которой положена часть его курса «Введение в языкознание», изданного в Дании в 1902 г.
Кстати заметим, что небольшие экскурсы в историю языкознания делались многими авторами, читавшими общелингвистические курсы, например, Головин Б.Н. Введение в языкознание и др.
Вопрос о периодизации истории языкознания
История наблюдений и профессиональных суждений о языке, или науки о языке, насчитывает более двух с половиной тысячелетий. Ясно, что за столь длительное время она прошла множество периодов, различающихся предметом, содержанием и методами изучения, не говоря уже о конкретных причинах и факторах возникновения интереса к языку в целом и его конкретным практическим и теоретическим проблемам. Не могло быть одинаковым и место языковедческой тематики среди научных дисциплин на разных этапах развития общечеловеческих знаний. Всё это ставит задачу хотя бы самой общей периодизации науки о языке. Задача эта не простая. И ее постановка имеет свою историю. Например, представители сравнительно-исторического языкознания, осуществившие в начале XIX в. перелом в изучении языка, перейдя от простого наблюдения над его фактами к его сравнительному и историческому исследованию, считали, что подлинно научное познание языка началось с них. Всё, что было сделано до них и без применения их метода, объявлялось подготовительным и, следовательно, донаучным этапом в истории языкознания. И такое мнение держалось весь XIX и едва ли не весь XX в.
Ознакомление с лингвистическими традициями древности, средневековья и Нового времени не позволяет становиться на точку зрения безоговорочного деления всей истории языкознания на два периода – донаучного (до формирования в Европе сравнительно-исторического языкознания) и научного (ознаменовавшегося появлением сравнительно-исторического метода в трудах Боппа, Гримма, Раска, Востокова). Мы согласны с проф. Н.А. Кондрашовым, считающим такую точку зрения неправильной: «интерес к языку возник у человечества задолго до XIX в., по крайней мере до V в. до н. э. К истории языкознания следует отнести его развитие в Древней Индии, в эпоху античности (в Древней Греции и Риме), в средневековье и в эпоху Возрождения. Не случайно в последнее время повысился интерес к языковедческим работам древнеиндийских грамматиков, к трудам мыслителей древности, средневековья и философов XVI–XVII вв.» [Кондратов 1979: 4]. Об этом же говорил один из первых историков языковедения датчанин В. Томсен: «Высота, которую достигло языкознание у индусов, совершенно исключительна, и до этой высоты наука о языке в Европе не могла подняться вплоть до XIX в., да и то научившись многому у индийцев» [Томсен 1938: 10].
Еще решительнее и определеннее свидетельство Н. Хомского, создателя «порождающей грамматики», о том, что его предшественниками по синтетическому подходу к языку (от смысла к тексту) была грамматика Панини, а в разграничении поверхностной и глубинной структур он идет за А. Арно и К. Лансло, авторами всеобщей «Грамматики Пор-Рояля» (1660), написанной тоже в «донаучный» период, кстати, авторами, отлично знавшими французский и латинский, а также привлекавшими факты испанского, древнегреческого и древнееврейского языков (Лансло) и владевшими логикой (Арно, автор труда «Логика, или искусство мыслить»). Подробнее о перекличке идей Хомского с грамматиками «донаучного» периода в книге [Алпатов 1999: 50, 314–316, 322]. Термин «донаучный» некорректен и в педагогическом плане: стоит ли тщательно изучать «донаучный» период? Кстати, почти любое новое направление, отрицая предшествующее, критикуя его, называет его ненаучным, что невольно ассоциируется с «донаучным» и вносит путаницу.
Существует несколько периодизаций истории языкознания. Воспроизведем две из них. Проф. Ленинградского пединститута В.И. Кодухов в указанной выше книге выделял пять этапов:
1) от филологии древности к языкознанию XVIII в.;
2) возникновение сравнительно-исторического языкознания и философии языка (конец XVIII – начало XIX в.);
3) логическое и психологическое языкознание (середина XIX в.);
4) неограмматизм и социология языка (последняя треть XIX – начало XX в.);
5) современное языкознание и структурализм (30—60-е гг. XX в.).
Критерии выделения – учет «актуальных, утверждающихся знаний, господствующих в поступательном движении языкознания» [Кодухов 1973: 5].
Ю.В. Рождественский и Б.А. Ольховиков выделяют шесть периодов, в которых учитываются «типы языковой теории», т. е. «изображение», или «моделирование», языка, которое «может исходить из разных отправных положений, разного эмпирического материала и может иметь разные применения». Названия разделов у них довольно пространны и имеют целью дать «общую картину периодизации в развитии лингвистического мышления» (мы воспроизведем их с некоторыми сокращениями).
«I. Теория именования в античной философии языка, устанавливающая правила именования и возникающая в рамках философской систематики. <…>
II. Античные грамматические традиции, представленные античными и средневековыми грамматиками Запада и Востока. <…>
III. Универсальная грамматика, вскрывающая общность систем языков и открывающая собой языкознание нового времени (первый этап научного языкознания). Заметим, что в этой классификации научное языкознание возникает раньше – с появления Грамматики Поль-Рояля (1660), а не с рождением в XIX в. исторического языкознания.
IV. Сравнительно-историческое языкознание, которое включает в себя три области: 1) сравнительно-историческое языкознание; 2) сравнительно-типологическое языкознание…; 3) теоретическое языкознание… дающее начало теории общего языкознания…
V. Системное языкознание, формулирующее в своем разделе философии языка концепции психолингвистики и социолингвистики.
VI. Структурная лингвистика, которая 1) исследует внутреннюю организацию языка, устанавливает отношения между языком и другими знаковыми системами; 2) формулирует теорию лингвистических методов и методик, дает основания для лингвистического моделирования» [Амирова и др. 1975: 28–29].
Как видим, здесь уже иной подход к выделению этапов, другой их набор (в качестве особого этапа выделена «универсальная грамматика» 1660 г.). Однако ключевые понятия для характеристики этапов в двух приведенных периодизациях во многом совпадают – см. «сравнительно-историческое языкознание», «психологическое языкознание», «социология языка» у Кодухова и «психолингвистика» и «социолингвистика» во второй периодизации, «современное языкознание и структурализм» у Кодухова и «структурная лингвистика» в книге Амировой и др.
Иначе подошел к хронологической и проблемно-тематической организации материала проф. В.М. Алпатов. Владея более свежими и обширными материалами, в частности, по лингвистическим теориям Востока (Китая, Японии и др.), он, по существу, отказывается от схематического выделения проблемно-хронологических периодов (этапов). Древние лингвистические традиции излагаются им по тематическим блокам, в европейской лингвистике XVI–XVII вв. выделяется «Грамматика Поль-Рояль», в лингвистике XVIII в. и первой половине XIX в. – становление сравнительно-исторического метода и отдельно дается концепция Вильгельма фон Гумбольдта и Августа Шлейхера, развитие гумбольдтовских идей, научные искания «диссидентов индоевропеизма» Н.В. Крушевского и И.А. Бодуэна де Куртенэ. Специальным разделом дан Ф. де Соссюр и тоже отдельно показано развитие его концепции в школах «структурализма» – женевской, датской (глоссематика), пражской, в дескриптивизме. В особых разделах охарактеризованы советское языкознание 20—50-х гг. и французская лингвистика 40–60 гг. XX в.; персонально освещена научная деятельность лишь трех лингвистов – Ежи Куриловича, Романа Якобсона и Ноама Хомского.
Конечно, возможны и другие варианты периодизации истории науки о языке. Важно, чтобы они служили главному – лучшей организации материала, выявлению реального вклада каждого направления и каждой крупной личности в теорию языкознания.
В истории языкознания прошлого специалисты склонны выделять пять очагов, или пять лингвистических традиций: индийскую, европейскую (первоначально как греко-римскую), арабскую, китайскую и японскую. Первая из них (индийская) сформировалась почти две с половиной тысячи лет тому назад, в V в. до н. э., а пятая, японская, много позже – в основном во 2-м тысячелетии н. э. Конечно, и до возникновения индийского языкознания были какие-то зачатки знаний о языке, в частности, в Месопотамии (территория современного Ирака), Сирии, Палестине, Вавилоне (где распространялась клинопись – в 3–2 тысячелетии до н. э. и велись наблюдения над шумерским и аккадским языками), а также в Египте (где существовала иероглифическая письменность и обучение ей). Однако уровня теоретических представлений и конкретных учений достигли лишь вышеуказанные традиции.
Индийская языковедческая традиция
Стимулом к возникновению индийского языкознания была потребность в правильном произношении слов (текстов) санскрита – литературного языка, на котором были написаны священные книги индусов (Веды), созданные во 2–1 тысячелетии до н. э., и который сильно отличался от разговорно-бытового языка более позднего времени. Индийскую традицию представляли Панини (приблизительно V–IV вв. до н. э.), Яска (возможно, современник Панини), Катьяяна (III в. до н. э.), Патанджали (II–I вв. до н. э.). Вершинным произведением этого направления было «Восьмикнижие» Панини. Название трактата – от восьми глав («книг»). Каждая книга членится на разделы, разделы – на правила (сутры). Правила сформулированы кратко, часто рифмованно и рассчитаны на запоминание (с опорой намнемотехнические приемы). Напр., «правило iko yanaci» в русской передаче читается так: перед звуками a, i, и, г°, 1°, е, о, ai, аи, которые названы символом ас, вместо звуков i, и, г°, /", которые названы символом ik, должны соответственно ставиться звуки у, v, г, 1, которые названы символом уад» [Амирова и др. 1975: 77–78]. Всего подобных правил около четырёх тысяч. Предполагают, что Панини не владел письменной формой речи, и составленные им правила вначале передавались изустно от учителя к ученику. Считают, что формулировки правил и их последовательность нацелены на создание (порождение) правильных слов. Поражает скрупулёзность характеристики звуковой, точнее, звукобуквенной стороны языка. Панини и идущая от него традиция четко различает согласные и гласные (они писались в разных строках – в основной строке согласные, в «надписной» или «подписной» – гласные). Расположение букв в алфавите показывает разграничение звуков по способу и по месту их образования. Для звуков (в равной мере для согласных и гласных) существовала четко градуированная классификация по степени раскрытия рта (звуки полного контакта – смыкания языка с пассивными органами, легкого контакта, закрытые, полузакрытые, открытые). В зависимости от образования «контакта» (преграды) различали проточные и резонансные, вокализованные и невокализованные, придыхательные – непридыхательные, назализованные – неназализованные. Учитывались звуковые изменения – комбинаторные (ассимиляция, аккомодация), позиционные и др.
В морфологии центром внимания были не части речи (хотя разграничиваются имя и глагол), а структура слова – корень и аффиксы. Учитывалось влияние соседних морфем друг на друга («сандхи»). Порядок следования правил детерминирован: сначала даются (называются) явления, затем – правила их применения. «У Панини последовательность правил ориентирована на изустное их заучивание с целью порождения по этим правилам, как по абстрактной схеме, хранящейся в памяти, конкретных высказываний: предложений, слов и их частей» [Амирова и др. 1975: 88]. Строгое следование сути правил и их порядку обеспечивает правильное построение высказываний, что и предусмотрено грамматистом и соответствует правильному пониманию канонических текстов.
Гамматика Панини отражала специфику индийской культуры, которой свойственно «ясное понимание нормативности, системности, экономности, инвариантности» [Амирова и др. 1975: 91]. Порождающий принцип индийской грамматики, сохраненный последователями Панини Катьяяной, Патанджали и их комментаторами почти без изменений, был востребован лингвистикой XX в., в частности, как показано выше, оказал определенное влияние на появление генеративной (порождающей) грамматики Н. Хомского.
Античная (греко-римская) языковедческая традиция
Её представителями были Демократ (род. около 470 г. до н. э.), Гераклит Эфесский (род. около 544–540 гг. до н. э.), Платон (427–347 гг. до н. э.), Аристотель (384–322 гг. до н. э.), философы-стоики: Хрисилл (около 281–209 до н. э.); Кратет Малосский (сер. II в. до н. э.), Аристарх Самофракийский (217–145 до н. э.), Дионисий Фракийский (170—90 до н. э.), Аполлоний Дискол (II в. н. э.) – греки, а также римляне Марк Теренций Варрон (116—27 до н. э.), Квинт Реммия Палемон (ок. 10–75 до н. э.), Элий Донат (IV в. до н. э.), Присциан (VI в. до н. э.).
Греческие воззрения на язык складывались под влиянием более древней культуры Египта и Малой Азии (греческий алфавит – продолжение финикийского), но в силу конкретных причин (надо было толковать древнегреческий эпос IX–VII вв. – «Илиаду» и «Одиссею») получили филологическое, а затем и отчетливо выраженное философское содержание. Так, философы спорили «о правильности (по существу– о природе) имен». Гераклит полагал, что имена-названия даются по природе вещей (теория «фюсей»), Демокрит и философы-скептики держались другого мнения – они даны по закону, по установлению, по положению (теория «тесей»).
Детальное обсуждение проблемы связи между вещью, языком и мыслью иллюстрирует диалог Платона «Кратил», где два собеседника – Гермоген и Кратил придерживаются разных взглядов, а «третейский судья» Сократ (сам Платон!) не соглашается ни с тем ни с другим, оставляя вопрос открытым. Впрочем, Платон устами Сократа пытается выявить «истинный» смысл ряда греческих слов – наименований богов, «героев» и др.
Философы древности размышляли о происхождении языка, касались его структуры. Так, в работе Аристотеля «Об именовании» изложено учение о частях речи; стоики разграничили имена нарицательные и имена собственные, дали названия падежей, дошедшие до нашего времени в виде калек с латинских обозначений, приступили к изучению синтаксиса. Разумеется, всё это проводилось на базе логики и во имя ее.
В эпоху эллинизма центром культуры и научных знаний стала Александрия. Здесь создается грамматика древнегреческого языка как учение о языке в целом, идут споры об аномалиях (почему одно слово ёchlön – черепаха обозначает мужскую и женскую особь, а для других живых существ имеется по два слова) и аналогиях. Так, Аристарх видел в языке доминирование «единообразия», Кратес – аномалии. Систематизация фактов нормы и исключений из нее привела к формированию учения о частях речи, созданного Дионисием Фракийским, учеником Аристарха. В греческом языке выделено восемь частей речи (имя, глагол, причастие, член, местоимение, предлог, наречие, союз), пять падежей, три рода. Аполлоний Дискол (уже в II в. н. э.) исследует синтаксические функции выделенных частей речи.
Достижения александрийских грамматиков были восприняты римскими грамматистами Варроном, Донатом, Присцианом, которые добавили «латинские» категории, в частности междометие, падеж аблятив, а также сведения по фонетике, стилистике, стихосложению. Книга Доната «Грамматическое руководство в Европе» стала настольной в течение ряда веков и оказала воздействие на принятую во многих странах грамматическую терминологию, в конечном счете восходящую к греческому источнику. Вместе с тем заметим, что ни греческие, ни римские ученые не вывели науку о языке из объятий философии и логики: еще очень долго она будет оставаться в составе наук, так высоко поднятых великим Аристотелем, – философии и логики.
Китайская языковедческая традиция
Индийское и европейское (греко-римское) грамматические учения возникали и развивались, как известно, независимо друг от друга. Так же складывалась и история китайской лингвистической традиции. И здесь зарождение и основное содержание науки о языке было обусловлено самим характером китайского языка и его рано (в середине 2-го тысячелетия до н. э.) возникшей иероглифической письменности.
Корневой (изолирующий) строй китайского языка, имеющий в качестве доминирующей фонетический единицы слог, границы которого в большинстве случаев совпадали с границами морфем и слов, определили предмет китайского языкознания и основные единицы, оказавшиеся в поле зрения ученых на протяжении более двух тысячелетий. Слог и стал главным отправным пунктом и «героем» едва ли не всех языковых штудий на протяжении всего классического периода китайской филологии с древнейшей поры до конца XIX в. Слоги распределяли (классифицировали) по рифмам (по фонетическому сходству), по тонам, по характеру инициалии (начальному согласному) и финалии (по конечному звуку – их делили на «открытые» и «закрытые»), по рядам, или «дэнкам» (при составлении таблиц и размещении в них слогов). Так, уже с III в. н. э. стали составлять словари рифм; в изданном в 1008 г. словаре «Гуань юнь» было зафиксировано 206 рифм. Кроме слога, с V в. начали выделять тон, находя в нем четыре разновидности: ровный, восходящий, падающий и «входящий». Рифмы в зависимости от входящих в них звуков и тонов размещали в фонетические таблицы, которые дают представление о противопоставленности звуков, т. е. о фонологической системе языка. Дошедшая до нас таблица 1161 г. «Юнь дзин» («Зеркало рифм») включает 43 таблицы.
Интересен набор инициалей; они разделены на пять категорий: губные, язычные (по нашей терминологии – это переднеязычные взрывные), переднезубные (переднеязычные аффрикаты и щелевые), заднезубные (заднеязычные) и гортанные. Одни из звуков вызывали повышение тона (их называли «чистыми»), другие – понижение («мутные»), В последующие века отмечается другое число таблиц и иное распределение в них слогов, что можно принять за свидетельство утраты различий между некоторыми из слогов, по крайней мере в отдельных диалектах китайского языка. Старая система рифм (106 единиц) устойчиво сохранилась лишь в классической поэзии.
В 1642 г. был составлен словарь, впервые отразивший фонетику северного (пекинского) диалекта, которая «во всем существенном совпадает с «национальным произношением» (го инь), принятым в 1913 г. специальным Комитетом по унификации чтения иероглифов» [История лингвистических учений. Средневековый Восток: 237].
Кроме чтения иероглифов, китайские языковеды, начиная с конца 1-го тысячелетия до н. э., занимались толкованием значений слов и достигли высоких результатов. В 121 г. Сюй Шень закончил труд «Шо вень» («Толкование имен»), в котором описал почти 10 тыс. иероглифов с указанием их значений и происхождения, причем принятая им классификация, несмотря на разные ее истолкования, дожила до XX в. В наше время в китайском языке насчитывается более 50 тыс. иероглифов.
Вторым направлением в исследованиях китайских ученых была фонетика. С помощью изобретенного уже во II в. метода привлечения для чтения иероглифа двух других, созвучных с инициалью и финалью и ее тоном, облегчалось чтение иероглифов. Помогали и фонетические таблицы с их фонологической направленностью. С начала нашей эры китайское языковедение испытало заметное влияние Индии как в принятии буддизма (в Китае он назывался словом «фо»), так и в грамматическом учении, особенно в описании фонетики – звуков и интонации. Достижения индийской науки помогли китайцам при группировке инициалей. И всё же, как отмечают исследователи, китайской филологии не удалось выйти на отдельный звук и его фонетико-фонологическую характеристику. Звук был заслонен слогом и связанными с ним явлениями.
В XVII в., вникая в сложный комплекс «иероглиф, обозначенная им морфема и слог» и сопоставляя комплексы разных хронологических срезов, чаще всего синхронный моменту наблюдения и отстоящий от него несколько веков в прошлое, отраженных в рифмах древней поэзии, фонетисты сумели реконстируировать фонетическую, а по существу, фонологическую систему древнего китайского языка. Так была преодолена врожденная «молчаливость» китайского письма: иероглифы открыли не только заключенные в них понятия, но и свое звучание. Родоначальником исторической фонетики и метода реконструкции древнекитайских рифм был Гу Яньу (1613–1682), его метод усовершенствовали Дзян Юн (1681–1762) и Дуань Юйцай (1735–1815), дополнившие классы рифм с 10 до 17 и открывшие, что иероглифы с общим фонетическим показателем некогда входили в общий для них класс рифм. Это открытие позволило узнать о звучании огромного числа слов, не стоявших в позиции рифмы.
Много внимания было уделено группировке рифм с учетом тона и характера слога. Дай Чжень, составивший фонетические таблицы древнекитайского языка, установли, что входящий тон выступает в функции оси всей фонологической системы.
Сильной стороной китайской традиции было учение о письменности (грамматология), зародившееся в II в. до н. э. и окрепшее в I–II в. н. э.) Письменность формировалась тоже независимо от посторонних воздействий (в частности, учение о «стилях» письма – уставном, полууставном, скорописи, составлении словаря иероглифов).
Средние века и новое время в Китае отмечены расцветом лексикографической деятельности. Так, в начале XVIII в. здесь был составлен словарь, включавший более 49 тыс. иероглифов и их вариантов. Крупнейшими языковедами Китая этого периода были Ван нянь Сунь (1744–1832) и его сын Ван Инь Джи (1766–1834), они занимались грамматикой и лексикой (в частности, знаменательными («значимыми») и служебными (незначимыми, «пустыми») словами). Чжан Бин Линь (1868–1936) разработал нормативную фонетику и на ее базе проект алфавитного письма. В последние 100 лет наметились контакты между китайской наукой о языке и европейской лингвистикой. Контакты, а также памятники, открытые в 1899 г., оказавшиеся на полторы тысячи лет старше ранее известных, вдохнули новую жинь в китаистику, обновив ее приоритеты и включив в контекст мировой науки. В России крупными специалистами по китаистике являются Н.Н. Драгунов, Н.Н. Короткое, И.М. Ошанин, Е.Д. Поливанов, В.М.Солнцев, С.Е. Яхонтов.
Арабская языковедческая традиция
Она возникла как самостоятельная и во многих отношениях оригинальная хотя бы потому, что а) ее предметом был язык семитской семьи – классический арабский язык с VII в. по XIV в.) для нее была характерна практическая направленность – отражение основных канонов ислама – Корана и распространение этого учения среди многонационального населения обширного Арабского халифата (на территории Аравии, Передней Азии, Северной Африки, Пиренейского полуострова) только на классическом литературном языке с весьма сложной морфологией (перевод священного Корана на туземные языки запрещался). Политики и деятели религии были заинтересованы в точном воспроизведении Корана при обучении верующих. Считается, что халиф Али, зять Мухаммеда, предложил, опираясь на взгляды Аристотеля, «основной принцип систематики арабской грамматики, указав на основные классы слов: имя, глагол, частица» [Амирова и др. 1975: 148].
Интерес к научному иследованию арабского языка, подогреваемый практической необходимостью, возник почти одновременно в г. Басре, расположенном на берегу Персидского залива, и в г. Куфе, центре завоеванной арабами области (территория современного Ирака). Быстро набирая экономический и культурный потенциал, в том числе и в исследованиях арабского языка, Басра и Куфа начали полемику по теоретическим проблемам грамматики. Филологи Басры ревностно оберегали чистоту и нормы классического языка Корана, куфийцы (куфцы), ориентировавшиеся на разговорный язык, допускали некоторые отклонения от строгих норм классического литературного языка. Однако главным расхождением между ними стал выбор единицы для целей словообразования: басрийцы стояли за имя действия, куфийцы предлагали глагольную форму прошедшего времени. С возникновением Багдада (в 762 г.), третьего иракского центра культуры и науки, возникла новая, смешанно-эклектическая школа с установками на логическую ясность и лаконизм.
В VII в. басриец Абу-аль-Асуад ад-Дуали ввел в арабское письмо графические знаки для обозначения гласных фонем, которые служат выражению словоизменения. В начале VIII в. языковеды Басры осуществили описание норм классического арабского языка, их работу продолжил аль-Халиль ибн Ахмед. Он создает теорию метрического стихосложения, в которой находят свое место и описание морфологии арабского слова. За кратчайшую единицу рассмотрения принимается речевой отрезок (харф), состоящий из согласного и краткого гласного. Однако в отличие от китайцев и европейской традиции здесь не возникло учения о слоге. Халилем был составлен и словарь «Книга айна», названная так потому, что начиналась с графемы «айн», а слова располагались по артикуляционным характеристикам корневых согласных в последовательности от наиболее заднего к переднему месту образования: гортанные, язычные, зубные, губные (что было свойственно и индийской традиции). Арабские фонетисты насчитывали шестнадцать «месторождений» звуков, причем три группы звуков – в области гортани: 1) у голосовых связок, 2) в середине гортани, 3) в верхней части гортани [Амирова и др. 1975: 159]. Аль-Халиль четко разграничил такие фонетические явления, как исходные речевые сегменты, их позиционные варианты и изменения, вызванные образованием грамматических конструкций; им же была улучшена диакритика (для обозначения кратких гласных фонем вводились «огласовки», используемые и теперь в Коране, поэтических и учебных текстах).
Основоположник Куфийской школы Абу Джафар Мухаммед ар-Руаси создает трактат «Книга о единственном и множественном числе», а басриец Сибавейхи (Сибаваихи) трактат «ал-Китаб» («Книга»), ставший основным и самым авторитетным теоретическим и нормативным руководством по арабской филологии. Его достоинства – в характеристике языковых единиц (корня, частей речи и др.) с трех сторон – содержательно-семантической, внешне-языковой (план выражения), коммуникативной. Здесь содержалось подробное научное описание синтаксиса, морфологии, словообразования и фонетики древнеарабского литературного языка. По характеру изложения положений и материала этой книги стало ясно, что у Сибавейхи были предшественники, в частности Халиль (ум. в 791 г.), и немалый опыт изучения стихосложения, грамматики и фонетики. Сам он сосредоточился на словоизменении имени и глагола, словообразовании и фонетических изменениях в процессе образования грамматических конструкций. И после труда Сибавейхи не останавливалось исследование арабского языка, в особенности в трактатах о частях речи, корнях слов и флексиях. Флективный характер арабского языка побуждал исследователей самым тщательным образом описывать его корни и модифицирующие их аффиксы, и здесь они достигли больших успехов. Крупнейший американский лингвист Л. Блумфилд указывал на влияние арабской науки на европейскую науку о языке. Проф. В.А. Звегинцев в «Истории арабского языкознания» (М., 1958) говорит, что у европейских предшественников сравнительно-исторического языкознания и у Ф. Боппа понятия о корнях и флексии было воспринято от арабских языковедов.
Любопытны названия трактатов арабских языковедов конца VIII–IX вв.: «Трактат о грамматических ошибках простого народа», показывающий внимание ученых к ненормативно-диалектной речи, «Классифицированная устарелая лексика», а также отразивший полемику двух школ – басрийской и куфийской – «Беспристрастное освещение вопросов разногласия между басрийцами и куфийцами», где багдадский филолог Ибн аль-Анбари на правах третейского судьи проанализировал 121 проблему, среди которых метод аналогии, выбор базовой единицы при слово-и формообразовании, опора при описании грамматики на слово у басрийцев и на предикативное словосочетание у куфийцев и др.
В X в. усилиями багдадских филологов формируется грамматическое направление, изучающее словообразовательную структуру слова, его употребление. Ибн Джинни задается вопросом, в каком объеме арабский язык реализовал теоретически возможные комбинации харфов (минимальных речевых сегментов). Ибн Фарис в своих трудах по лексике ставит вопросы о ее группировке по частоте употребления, о лексических нормах, о «своих» и заимствованных словах, о многозначности, о прямом и переносном употреблении слов, о синонимии и антонимии и др.
В последующие века больших успехов достигла арабская лексикография: многотомный словарь, составленный ширазским персом Фирузабади (1329–1414) под названием «Камус» («Океан»), стал синонимом любой словарной книги.
Исключительным достижением было составление в рамках арабской традиции Махмудом аль-Кашгари (Кашгарский) в 1073–1074 гг. словаря тюркских языков («Диван турецких языков»), а также сравнительной грамматики этих языков с показом звуковых соответствий между ними, с наблюдениями над морфемами, тюркским сингармонизмом. Но он не создал традиции из-за того, что его труд пролежал втуне почти тысячу лет: он был опубликован в Стамбуле лишь в 1912–1915 гг. «Диван» мог бы стать прецедентом для составления словарей-тезаурусов (с помещением как литературных, так и диалектных слов) в европейской лексикографии средневековья и эпохи Возрождения, но этого, к сожалению, не случилось.
Современный период арабистики, хотя и базируется на классическом этапе, превратившимся в самостоятеьный предмет изучения, заметно расширил и обновил проблематику, а также исследовательскую методологию, используя, в частности, фонологию Н.С. Трубецкого, приемы структурного, а также типологического языкознания. Подробнее об этом, а также о вкладе российских ученых в арабистику (А.Е. Крымского, Н.В. Юмашева, И.Ю. Крачковского и многих других) можно узнать в книге «История лингвистических учений. Средневековый Восток» (Л., 1981 [История 1981]), а также по статьям «Лингвистического энциклопедического словаря» (М., 1990 [ЛЭС 1990]), энциклопедии «Ведущие языковеды мира» (сост. Анатолий Юдакин, М., 2000).
Японская языковедческая традиция
В истории японского языкознания выделяются два крупных периода – первый, начавшийся с возникновения японской письменности (в VIII–X вв.) и длившийся до середины XIX в., и второй (со второй половины XIX в. до нашего времени), связанный с творческим освоением европейского языкознания. В первый период была создана национальная письменность (кана), состоялось знакомство с иероглификой и приспособлением ее к японскому языку, освоение некоторых идей китайского и индийского языкознания» [История 1981: 263]; в период с конца X по XVII в. в связи с изучением и комментированием древнеяпонских памятников развиваются лексикология (особенно семасиология и этимологизирование слов) и история орфографии. Затем, в период расцвета традиционной японистики (с конца XVII до второй половины XIX в.) продолжалась деятельность по комментированию классического наследия, созданию исторической фонетики, а также оригинального учения о грамматическом строе японского языка. Синтез этих достижений с тем, что было воспринято во второй половине XIX и в XX в. из языкознания Европы, привел к формированию в японском языкознании своей грамматической концепциии (в учении о частях речи и особенно в спряжении глаголов), ряда других «оригинальных и своеобразных черт» (В.М. Алпатов).
Крупнейшими представителями второго периода японской лингвистической школы были Мотоори Норинага (1730–1801), теоретик нового подхода к морфологии японского языка, и Тодзё Гимон (1786–1843), «окончательно сформировавший традиционную японскую систему частей речи и глагольного спряжения» [Алпатов 1999: 16]. В XX в. ведущим лингвистом Японии, получившим мировую известность, был Мотоки Токи-эда (1900–1967) – специалист по общему языкознанию, социолингвистике (теоретик школы языкового существования), истории и стилистике языка, Председатель общества японского языкознания, автор более десяти монографий. Основной теоретический труд его – «Основы японского языкознания» (1941) – в русском переводе (сокращенном) вышел в 1983 г.
М. Токиэда не принимает учения Ф. де Соссюра о langue (языке), считая, что это не языковая и не психическая категория, а нейрофизиологический процесс. По мнению ученого, существуют два крупных направления в языкознании в зависимости от позиции, с какой осуществляется описание языка: описание с позиции исследователя (она представлена идеями Ф. де Соссюра) и с позиции субъекта. Второй подход, с позиции пользующегося языком субъекта, по мнению М. Токиэда, более соответствует природе языка и именно он принят японским языкознанием, ориентированным на изучение конкретных языковых ситуаций, в которых и совершается непрерывная речевая деятельность. В концепции Соссюра и лингвистики XX в. он видит отход от антропоцентризма, увлечение схематизмом, отрыв от языковой деятельности. Исследователи теоретических положений японского ученого находят, что они перекликаются с гумбольдтовской традицией и психологическими концепциями И.А. Бодуэна де Куртенэ и Е.Д. Поливанова.
Языкознание в средние века и в XVII–XVIII вв
Средневековье – тысячелетний период, обрамленный в начале и в конце такими знаковыми событиями, как разграбление в 476 г. варварами Рима и открытие в 1492 г. Колумбом Америки. Обычно считают, что это время «умственного застоя во всех областях, в том числе и в языкознании» [Кондратов 1979: 20]. Это так. Но вспомним, что христианизация многих народов Европы принесла им письменность – причем не только в готовом виде (на греческом или латинском алфавите), но и в виде гениальных изобретений, связанных с прекрасным знанием фонологического строя ранее бесписьменных языков. Так, в Византии около 862 г. Константин (Кирилл) составляет глаголицу, буквенный состав которой и алфавитное расположение, а также начертание букв и их элементов (форма креста, треугольника и др.) свидетельствуют о высочайшем по исполнению семиотическом подходе к созданию системы знаков, предназначенных для воплощения идеи Евангелия. Преподавание только латинского языка во всех странах католического вероисповедания сначала по грамматикам Доната и Присциана, а затем по их эпигонским эрзацам тоже не прошло даром. За грамматикой закрепилось назначение – учить «правильно говорить и писать». Изучение языка связывалось с развитием логического мышления при опоре на философию рационализма и вело к представлению о том, что понятийно-категориальное содержание всех языков примерно одинаково, а различия затрагивают лишь их внешнюю сторону (звучание, отдельные участки структуры). Наконец, были разграничены имена – на существительные и прилагательные, продвинулось обсуждение вопросов соотношения предметов (вещей) и общих понятий (спор реалистов и номиналистов в XI–XII вв.), составлялись глоссарии (толкования слов, ставших непонятными), наконец, проводилась собирательская работа.
Крутой перелом в социально-экономической и духовной жизни Европы произошел в эпоху Возрождения (XV–XVIII вв.), совпавший с наступлением капитализма и проявлением трех умственных и культурных течений – Ренессанса, Реформации и Просвещения. «Ренессанс означал крушение феодальной церковной культуры и замену ее культурой светской, опирающейся на античность. Реформация разрушила папскую власть и создала простор для развития национальных сил европейских государств. Просвещение связало всю духовную жизнь Европы с философией рационализма и наукой. Новая эпоха выдвинула подлинных первооткрывателей и энциклопедистов – Колумба, Галилея, Коперника, Декарта, Ньютона, Лейбница, Ломоносова» [Кондратов 1979: 23]. Рационализм порождает логическую, или универсальную, грамматику. Но появляются грамматики и национальных языков. Создаются сопоставительные словари многих, в том числе и вновь открытых языков. Так, в России в 1787—89 гг. выходит четырехтомный труд академика Петра Симона Палласа. В этом словаре приведено на русском языке 280 наиболее распространенных понятий и дан их перевод на 200 языков и диалектов Европы и Азии, а через 2–3 года число сопоставляемых языков возросло до 272 (за счет подключения экзотических языков Америки и Африки). Примеру Российской академии последовали в Испании (в Мадриде в 1800–1804 гг. вышел «Каталог языков известных народов, их исчисление, разделение и классификация…», включавший уже 307 языков и наречий), в Германии (в Берлине) в 1806–1817 гг. Аделунг и Фатер напечатали труд «Митридат, или Общее языкознание», включавший лексику 500 языков и перевод на них молитвы «Отче наш». И всё же основным завоеванием характеризуемого периода было создание «Общей и рациональной грамматики».
«Общая и рациональная грамматика» Поль-Рояля
Её написали и издали два монаха монастыря предместья Пор-Рояль близ Парижа в 1660 г. Один из них, Клод Лансло (1615–1695), был грамматистом и филологом, второй – Антуан Арно (1612–1694) – философом и логиком. Опираясь на рационалистическую философию Рене Декарта (Картезий) (1596–1650) и следуя индуктивным путем, они решили, что все языки основываются на одной и той же общечеловеческой логике и в принципе сходны между собою. Отличия же считаются отступлениями от логики и признаются ошибками. Авторы формулировали свою задачу следующим образом: определить «естественные основы искусства речи», «общие всем языкам принципы встречаемых в них различий». Их интересовали способы отражения в языке таких логических категорий, как понятие, суждение, умозаключение. Эти категории переносились на языковые, шло отождествление языковых единиц (слов, предложений) с логическими и придание языковым категориям свойства всеобщности. Однако в этой грамматике, синхронической по своей направленности, немало и таких наблюдений, особенно над фактами французского языка, которые обнаруживали расхождения между языковыми формами и логическими категориями. Так, анализируя фразу «Невидимый Бог создал видимый мир», Арно и Лансло демонстрируют несовпадения между суждением (суждениями) и предложением: «В моем сознании, – пишут они, – проходят три суждения, заключенные в этом предложении. Ибо я утверждаю: 1) что Бог невидим; 2) что он создал мир; 3) что мир видим. Из этих трёх предложений второе является основным и главным, в то время как первое и третье являются придаточными… входящими в главное как его составные части… Итак, подобные придаточные предложения присутствуют лишь в нашем сознании, но не выражены словами, как в предложенном примере» [Грамматика общая 1990].
Судьба «Грамматики Пор-Рояля» была сложной – сначала массовое подражание (в XVII и XVIII вв.), потом хула (со стороны крупнейших лингвистов конца XIX и первой половины XX в.), а затем реабилитация и высокая оценка как первого теоретического труда по общей лингвистике, не потерявшего своей значимости и поныне (Р. Лакофф, Н. Хомский и др.). Об этом свидетельствуют и два её новых издания – в Москве (1990) и Ленинграде (1991) с подробными разборами и комментариями. В предисловии к ленинградскому изданию проф. Ю.С. Маслов писал: «Грамматика Арно и Лансло – великое творение человеческой мысли на пороге нового времени. И книга эта важна для нас не своими несовершенствами, а прозрениями, проложившими (а отчасти лишь задолго предсказавшими) новые пути в науке» [Арно, Лансло 1991: 11]. Это общая оценка. А среди конкретных теоретических достижений этой книги он называет то, что в ней «довольно четко вырисовывается разграничение «синтетического» и «аналитического» строя языка, хотя самих этих терминов, разумеется еще нет», что в ней «уже отчетливо прослеживается становление лингвистической типологии» [Арно, Лансло 1991: 7]. Следует напомнить и о том, что резонанс «Общей и рациональной грамматики» Поль-Рояля был столь велик, что даже в XIX в. по ее образцу, но с опорой на разные философские категории (кантианские, гегелевские и др.) создавались научные и учебные сочинения (в Германии – Г.Я. Германом, К.Ф. Беккером, в Дании – Ланге, в России – Ф.И. Буслаевым (см.: Буслаев Ф.И. Историческая грамматика. М., 1858). И в наши дни не без учета опыта Грамматики Поль-Рояля идет возрождение логической грамматики как одного из направлений современной лингвистики.
Подступы к сравнительно-историческому языкознанию
Уже в XVIII в. зарождается взгляд на общество как явление историческое – меняющееся и развивающееся, а вместе с ним и на язык. Особенно четко «философию истории» выразил итальянский философ Джамбатиста Вико в работе «Новая наука» (1725). Идеи Вико на материале языка и культуры развивали Шарль де Брос, Жан-Жак Руссо, Монбоддо, Гердер и многие др. Так, Гердер издает двухтомник «Старые народные песни» (1778–1779), демонстрируя ценность народного языка и фольклора. В поле зрения попадают группы (ветви) европейских языков. М.В. Ломоносов говорит о родстве пяти индоевропейских языков (русского, курляндского (латышского), греческого, латинского, немецкого), относящихся к разным ветвям, что наводило на мысль о происхождении их из какого-то древнего языка. Были и более убедительные факты, свидетельствовавшие о родстве индоевропейских языков. Однако решающим толчком к поискам в этом направлении оказалась деятельность В. Джонса, английского востоковеда. В его речи «Азиатские исследования» (1786), по существу, уже демонстрировалось грамматическое родство санскрита и индоевропейских языков: «Санскритский язык при всей своей древности обладает изумительным строем. Он совершеннее греческого, богаче латинского и утонченнее обоих, в то же время он обнаруживает столь близкое родство с греческим и латинским языками как в глагольных корнях, так и в грамматических формах, что оно не могло сложиться случайно; родство это так поразительно, что ни один филолог, который желал бы эти языки исследовать, не может не поверить, что все они возникли из одного общего источника, которого, может быть, уже не существует» (цит. по [Кондратов 1979: 30]). Еще определеннее о родстве санскрита с указанными языками говорилось в книге Ф. Шлегеля «О языке и мудрости индийцев» (1808).
Немалый вклад в подготовку исторического и сравнительного изучения языков внесли слависты – продолжатели славных деяний Кирилла (Константина) и Мефодия, а также таких грамматистов, как Лаврентий Зизаний, Мелетий Смотрицкий, Юрий Крижанич, уже названный выше М.В. Ломоносов, в особенности же Иосиф Добровский (1753–1829), снискавший славу отца славянской филологии. Он написал «Историю чешского языка и литературы» (1792), «Немецко-чешский словарь» (1809), изучал старославянский язык («Глаголица» (1807)), «Кирилли Мефодий, славянские апостолы» (1823), дал классификацию славянских языков.
Дополнительная литература
Амирова Т.А., Ольховиков Б.А., Рождественский Ю.В. Очерки по истории лингвистики. – М., 1975. С. 16—256.
Античные теории языка и стиля. – СПб., 1996 (и др. изд.)
Алпатов В.М. История лингвистических учений. Учебное пособие. 2-е изд., исправленное. – М., 1999. С. 7—53.
Алпатов В.М. «Грамматика Пор-Рояля» и современная лингвистика (К выходу в свет русских изданий) // Вопросы языкознания, 1992. № 2. С. 57–62.
Алпатов В.М. О сопоставительном изучении лингвистических традиций (К постановке проблемы) // Вопросы языкознания. 1990. № 2. С. 13–25.
Березин Ф.М. История лингвистических учений. – М., 1975. С. 5—30.
Березин Ф.М. История русского языкознания. – М., 1979. С. 3—63.
История лингвистических учений. Средневековый Восток. – Л, 1981. С. 130–142, 224–247, 262–299.
История лингвистических учений. Средневековая Европа. – Л., 1985.
Кодухов В.И. Общее языкознание. – М., 1974. С. 4—20.
Кондратов Н.А. История лингвистических учений. – М., 1979. С. 3—36.
1. Сравнительно-историческое языкознание. Первый период: 20—70-е годы XIX века
Исподволь готовившееся открытие, связанное с объединением новых методов исследования языка – сравнительного и исторического – и подкрепленное подоспевшим к этому времени знакомством с санскритом, состоялось. Санскрит стал отдаленной, но ясной целью сравнения языков, углубления в далёкое прошлое, до «исходного» языка. В нем стали видеть основу если не всех, то по крайней мере главнейших из них – греческого, латинского, германского. Для реализации назревшего открытия требовались учёные, гениальные по интуиции и широте взглядов. И они явились. Это были Бопп, Раек, Гримм и Востоков – разные по конкретно-языковой подготовке и материалу изучения, но поразительно схожие по общей устремлённости и по моменту появления.
1.1. Франц Бопп (1791–1867)
Открытие сравнительно-исторического метода стало ярким и долго светящимся научным явлением, определившим главное содержание лингвистической работы многих десятков языковедов Европы почти на полстолетие (с 20-х по 70-е годы XIX в.), а затем, правда в несколько иных формах, и на многие последующие десятилетия. Пионерские труды необычайно одарённых учёных явились краеугольным камнем величественного здания, которое созидалось после 1816 г. – года выхода в свет первой книги Ф. Боппа с длинным, но точным названием «О системе спряжения санскритского языка в сравнении с таковым греческого, латинского, персидского и германских языков с эпизодами из Рамаяны и Махабхараты в точном метрическом переводе с оригинального текста и с некоторыми извлечениями из Вед». Ф. Бопп привлёк внимание к санскриту, к его глагольной флексии и, показав её сходство с перечисленными в названии книги языками, высказал мысль об общности происхождения этой грамматической черты и самих этих языков. Идею, высказанную в первой, иногда называемой «юношеской» работе, «он выполнил позднее в грандиозном масштабе для всего языкового строя индоевропейских языков» в своем новом трёхтомном труде, вышедшем в Берлине в 1833–1852 гг., «Сравнительная грамматика санскрита, зендского, армянского, греческого, латинского, литовского, старославянского, готского и немецкого языков» [Томсен 1938: 60]. Этот капитальный труд был переведён на французский язык лингвистом М. Бреалем под названием «Сравнительная грамматика индоевропейских языков» (1866–1874) и вышел в свет с прекрасным предисловием переводчика.
Главная ценность труда Ф. Боппа – в методе исследования и в принятой им концепции. Считая санскрит самым древним из сравниваемых языков, он допускал, что в этом языке корни слов состояли из одного слога и были двух видов – глагольные (as – быть, tan – растягивать), из которых образовывались глаголы и существительные, и местоименные – типа ta-, та-, лежащие в основе местоимений и некоторых частиц.
Допускалось, что флексии как склоняемых, так и спрягаемых слов в прошлом были самостоятельными корнями местоименного типа, в частности, флексия 1 л. – mi из личного местоимения та (меня), а 3 л. ti из ta (ср. греч. то – это), которые прибавлялись на правах агглютинативных элементов к основным корням.
Аналогично объяснено и у в латинском перфекте amavi (я любил), якобы возникшее из корня bhu, лат. fu-i (я был). Бопп предпринимал попытки и более широких языковых сравнений, например, в работе «О родстве малайско-полинезийских языков с индоевропейскими» (1840). Но всё же его основной успех был в санскритологии, в обосновании основных положений для изучения грамматических систем родственных индоевропейских языков. Он дали название впервые изученной им семьи языков – «индоевропейские языки».
1.2. Расмус Раек (1787–1832)
Расмус Кристиан Раек в хронологическом отношении мог бы занимать первое место среди основоположников сравнительно-исторического языкознания, так как раньше Боппа сказал о главенствующей роль грамматического строя в «устройстве» языка (в «Руководстве по исландскому или древнесеверному языку», 1811) и уже в 1814 г. написал «Исследование происхождения древнесеверного или исландского языка», в котором определил сущность этимологии, её задачи и метод не как объяснение слов, а как «объяснение языка», понимая под этим объяснение слов, их склонения, спряжения и все строения языка [Томсен 1938: 52].
Это сочинение, в котором Раек, поставив в центр сопоставления языков исландский и сравнив его с гренландским, кельтским, баскским, «финским» (финским и лапландским), показывает, что у исландского языка нет черт родства с ними, зат.е. грамматическая и лексическая общность с греческим и латинским (с «фракийскими языками», которые и «должны рассматриваться как источники этого (исландского) языка» [Томсен 1938:54]).
В. Томсен, датский историограф языкознания, младограмматик по лингвистической концепции, восхищаясь гениальными способностями Раска, объясняя его многочисленные заблуждения в отношении ряда «азиатских» языков и высказывая сожаление, что учёный основные труды писал без обращения к санскриту, тем не менее утверждает: «Надо решительно признать, что в отношении метода сравнения языков Раек находится на вполне правильном пути, в особенности, поскольку целью сравнения является доказательство соотношения между различными языками, их родства и степени родства; таким образом, ясно, что этот метод мог быть освоен также без знания санскрита» [Томсен 1938: 54]. Специалисты ценят Раска за его чёткие и ясные классификации языков. Напомним и то, что он является основателем скандинавской филологии и одним из первых отделил балтийские языки от славянских, а также начал изучение финно-угорских языков.
1.3. Якоб Гримм (1785–1863)
Якоб Гримм, обогативший сравнительно-историческое языкознание рядом исследований конкретных языков и проблем, известен своей самой крупной работой «Немецкая грамматика», первый том которой вышел в 1819 г., а последний, четвертый, в 1837 г. Это не грамматика немецкого языка, а, по словам В. Томсена, «это скорее построенное на исторической основе, изложенное в виде сравнений, описание строя всех, как более древних, так и более новых, готско-германских языков…< >. В этой области языкознания работа Гримма, без сомнения, составила эпоху и ещё до сих пор является главным произведением, независимо от того, сколько бы деталей ни нуждалось в исправлении…< >. Она оказала очень сильное влияние на развитие сравнительно-исторического языкознания» [Томсен 1938: 63]. В трудах Гримма самым ценным является историзм. Так, он убедительно показывает, как в готско-германских языках на месте бывших глухих р, t, с, стоявших в начальном слоге, возникли f, р, h, а на месте прежних звонких d и g возникли глухие t и к. И хотя на эти «передвижения согласных» (термин Гримма) до него было обращено внимание Р. Раска, он многократно увеличил количество примеров и, что особенно важно, проследил судьбу этих звуков до верхненемецкого, т. е. показал и «второе передвижение согласных» как строгий фонетический закон (закон Гримма) [Томсен 1938: 64].
Касаясь общетеоретических вопросов, Я. Гримм следующим образом сформулировал свое ви́дение возникновения и развития языка: «Язык…не мог быть результатом непосредственного откровения, как он не мог быть врожденным человеку; врожденный язык сделал бы людей животными, язык-откровение предполагал бы божественность людей. Остается только думать, что язык по своему происхождению и развитию – это человеческое приобретение, сделанное совершенно естественным образом. Ничем иным он не может быть; он – наша история, наше наследие» (цит. по [Хрестоматия 1956: 58]). Из всего созданного человеком язык выделяется как самое ценное достояние: «Из всех человеческих изобретений… язык, как кажется, является величайшим, благороднейшим и неотъемлемейшим достоянием». И достоянием этим как наследием могут распоряжаться все: «… язык стал общим достоянием и наследием всех людей, без которого они не могут обойтись <…> Язык принадлежит нам всем» (с. 64).
Познакомившись с приведенными словами Гримма, можно подумать, что он считает язык явлением общественным, но это не так. Для него язык – явление природное. И это особенно заметно, когда он говорит о его развитии. «В языке, как природном организме, налицо три стадии («ступени») жизни: первая – создание, так сказать, рост и становление значений слов; вторая – расцвет законченной в своем совершенстве флексии третья – стремление к ясности мысли…». И далее автор поясняет: «Это подобно периодам развития листвы, цветения и созревания плода, которые по законам природы… сменяют друг друга в неизменной последовательности» (с. 60); затем еще определеннее и ярче: в первый период «язык живет почти растительной жизнью» (с. 61), во второй период он еще «эмоционально насыщен, но в нем всё сильнее проявляется мысль и всё, что с нею связано (гибкость флексии благоприятствует росту новых средств выражения, расцветает поэзия, напр., в Греции)», в третий период язык приобретает «б?о?льшую свободу мысли», а мысль «может быть выражена более многообразно».
Романтически настроенный Я. Грим (как и его брат Вильгельм), по достоинству ценящий народное творчество и речь, радуется быстрому развитию языков… под влиянием общественных факторов, которые оказываются сильнее природных. «Языки очутились не под властью вечного и неизменного закона природы, подобного законам света и тяжести, но попали в умелые руки людей; они то быстро развивались с расцветом народов, то задерживались в своем развитии в результате варварства тех же народов» (с. 63). Он по-юношески восхищен тем, что, в истории языка «…повсюду видны живое движение, твердость и удивительная гибкость, постоянное стремление в высь и падения, вечная изменчивость» (с. 63).
Знакомясь с дальнейшей историей нашей науки, мы убедимся в том, что Я. Грим не только создатель исторической грамматики и исторического метода изучения языка, но и провозвестник идей натуралистической школы (А. Шлейхера и его последователей) и антиномий В. Гумбольдта и Ф. де Соссюра.
1.4. Александр Христофорович Востоков (1781–1864)
А.Х. Востоков в 1820 г. опубликовал «Рассуждение о славянском языке», в котором путем сопоставления славянских языков – русского, украинского, белорусского, польского, сербского и др. сделал ряд крупных лингвистических открытий: уточнил отношения между церковнославянским (старославянским), русским, польским и сербским языками (через анализ разных рефлексов древнейших сочетаний tу, dj, к перед е, i, определил звуковое значение юсов через сравнение фактов «Остромирова Евангелия» и польского языка (сохраняющего носовое произношение гласных). Его открытия в области славянской фонетики, признанные отцом славянской филологии И. Добровским (1753–1829), были поразительными и вместе с его «Русской грамматикой» (1831) подключали славистику к индоевропейскому языкознанию в качестве ее неотъемлемой части.
Итак, четыре гениальных ученых, находясь в разных местах и занимаясь во многом разными языками, но в одном аспекте, явились создателями исключительно плодотворного сравнительно-исторического языкознания.
1.5. Вильгельм Гумбольдт (1767–1835) – создатель общего языкознания
Общую оценку Вильгельма Гумбольдта как «величайшего» человека Германии и его широчайшей эрудиции, в особенности в области знания языков и постановки масштабных проблем, и вместе с тем его сложной формы изложения – «дебрей его языковой философии» и «мистики», не позволяющих нам полностью оценить значение его работ или даже понять то влияние, которое они якобы оказали на развитие языкознания», – дал Вильгельм Томсен сто лет назад, в 1902 г. [Томсен 1938: 69–70] Как видим, оценка противоречива и скорее отрицательна. Признавая «чрезвычайно обширные познания языков, познания, охватывающие языки от баскского до североамериканских языков в одном полушарии и до малайско-полинезийских языков в другом, этот тонкий мыслитель рассматривает в ряде своих работ <…> с философской (кантианской) точки зрения различные стороны языка, языковые группы и языковые индивидуальности в их отношении к человеческому духу и человеческому мышлению и культуре. Без сомнения, все это означает очень большой шаг вперёд по сравнению с поверхностной языковой философией и «всеобщей грамматикой» предыдущих веков; и не без основания Гумбольдт рассматривается в Германии как основоположник «общего языкознания» нового времени <…> И все же, несмотря на всю признательность за это, несмотря на всё восхищение этой гениальной умственной работой, нельзя отделаться… – после того, как с трудом пытаешься пробраться сквозь дебри его языковой философии, – от впечатления чего-то такого, что очень далеко лежит от нас, от более эмпирического понимания языка нашего времени (конца XIX– начала XX вв. – В.Б.).
Перед нами нередкий, но, несомненно, самый яркий пример того, как непросто и нескоро приходит понимание того, что сделано гениальным первооткрывателем и как узко и явно субъективно, в зависимости от своих научных позиций, оцениваются его непривычно свежие и глубокие мысли.
Начнем с «влияния», т. е. с последователей: тут можно опереться на конкретные факты.
Известно, что младший современник Гумбольдта Ф. Бопп говорил о нём с большим уважением, а учениками и научными последователями Гумбольдта считали себя Штейнталь, Шлейхер, Фосслер, Потт, Курциус, Бодуэн де Куртенэ и Потебня. Это первое.
Второе. Гумбольдт был не только и не столько компаративистом (работавшим сравнительно-историческим, в частности «эмпирическим», методом, с позиции которого младограмматик В. Томсен пытался охарактеризовать его огромное и разностороннее творчество), сколько основоположником нового направления в лингвистике. Он был первым, кто заложил основы общего языкознания, направления, которое по праву называют философией языка и которое «охватывает высшие лингвистические обобщения и далеко идущие выводы» [Лоя 1968: 52]. Вспомним и о неогумбольдтианстве – течении, возникшем в XX в.
Гумбольдт не углублялся в праязыки и не делал скоропалительных выводов о родстве языков. Он изучал их в живом состоянии и сопоставлял на синхронном уровне, из чего вырастали его широкие классификации типологического свойства.
1. Почти планетарный кругозор В. Гумбольдта позволил ему стать родоначальником классификаций и научных идей, переросших впоследствии, особенно в XX в., в целые научные направления. Так, до сих пор в учебниках по теории языка излагается схема его типологических классификаций – морфологической и синтаксической. Правда, в ряде случаев к этим классификациям даются добавления и уточнения, особенно после работы американского учёного Э. Сепира. Гумбольдта и историко-сравнительное языкознание упрекают в преувеличении роли флексии (в «зафлексованности», как мы бы сказали сейчас). И это правильно, поскольку грамматические значения могут быть выражены (и не хуже флексии) другими способами – порядком слов, служебными словами и т. п.
2. Его доклад «О сравнительном изучении языков», прочитанный в Берлинской академии в 1820 г., подводил философскую базу под только что появившиеся сугубо лингвистические труды Ф. Боппа и Я. Гримма, способствовал укреплению выдвинутого ими сравнительно-исторического метода и тем самым подчеркивал необходимость целенаправленного его применения в самостоятельной науке: «Сравнительное изучение языков только в том случае сможет привести к верным и существенным выводам о языке… если оно станет самостоятельным предметом, направленным на выполнение своих задач и преследующим свои цели» [Гумбольдт 1984: 307].
3. Затрагивая вопрос о соотношении индивидуального и общественного в языке уже в этом докладе, а также более основательно в своем основном, трёхтомном труде «О языке кавн на острове Ява» (особенно ценным своим Введением «О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человеческого рода» (1836–1839), Гумбольдт подчеркивал: «Создание языка обусловлено внутренней потребностью человечества» [Гумбольдт 1984: 54], причём язык нужен людям не только как «внешнее средство общения людей в обществе», но и для образования мировоззрения, которого человек «только тогда может достичь, когда своё мышление поставит в связь с общественным мышлением» [Гумбольдт 1984: 51]. Связывая язык с мышлением, с «инстинктом разума», заложенным у человека от природы, Гумбольдт подчёркивает общественный, надличностный, характер его функционирования: «язык поднимается над их (человеческих индивидуальностей. – В.Б.) обособленностью», – подчеркивал он [Гумбольдт 1984: 68]. Итак, и язык, и «общественное мышление» по своему назначению социальны.
4. Касаясь проблемы возникновения языка, Гумбольдт, опять-таки помня об «общественном мышлении», говорит о целостном характере языка, разделяющего «природу всего органического»: «…языку в каждый момент его бытия должно быть свойственно всё, что делает его единым целым», т. е. самодостаточным «организмом». Но это не тот организм, о котором позднее будет говорить Август Шлейхер с биологической позиции. «Организм языка, – по Гумбольдту, – возникает из присущей человеку способности и потребности говорить, в его формировании участвует весь народ» [Гумбольдт 1984: 311].
5. Поскольку язык создается многими индивидами, а в совокупности «всем народом», то в ходе этого длительного творческого акта в нём отражается «дух» народа, его культура, а сам он становится душой народа. Так организм языка оказывается категорией не только социальной, но и психологической – «душой народа».
6. Уровень развития языка, порождаемого и развиваемого через отдельные личности «всем народом», соответствует уровню культуры народа, но вместе с тем любой из языков способен стать выразителем самой высокой (общечеловеческой) культуры. Инстинкт человека менее связан, а потому представляет больше свободы индивидууму, поэтому продукт инстинкта разума (т. е. язык) может достигнуть разной степени совершенства, тогда как проявление животного инстинкта всегда сохраняет постоянное единообразие [Гумбольдт 1984: 314]. Говоря так, Гумбольдт как бы дает шанс «примитивным и неразвитым» языкам достичь совершенства.
7. Язык – продукт творчества народа, а не отдельного индивидуума. Эта мысль им выражена убедительно и доходчиво: «Язык не является произвольным творением отдельного человека, а принадлежит всегда целому народу; позднейшие поколения получают его от поколений предыдущих. В результате того, что в нём смешиваются, очищаются, преображаются способы представления всех возрастов, каждого пола, сословия, характера и духовного различия данного племени, в результате того, что народы обмениваются словами и языками, создавая в конечном счёте человеческий род в целом, – язык становится великим средством преобразования субъективного в объективное, переходя от всегда ограниченного индивидуального к всеобъемлющему бытию» [Гумбольдт 1984: 318].
8. Гумбольдт уловил двусторонность языка по отношению к человеку. С одной стороны, язык как продукт народа является «чем-то чуждым для человека» (уже готовым, не своим), с другой стороны, человек «обогащён, укреплён и вдохновлён» этим объективным наследием и творчески пользуется им. Получается, что субъект придаёт языку субъективное существование. Полагают, что именно этот тезис Гумбольдта породил младограмматизм, поставивший своей целью изучение языка отдельной личности.
9. Размышление над индивидуальным и общим в языке Гумбольдт вел в разных аспектах – историческом, функциональном, психологическом, культурологическом. Так, для него язык – явление общеисторическое, а речь – конкретно-индивидуальное пользование им. Для разграничения этих явлений учёный использует разные термины (греческого происхождения: эргон – это язык как продукт деятельности, энергейа – сама речевая деятельность) и поясняет: «под языком можно понимать только всю совокупность актов речевой деятельности» [Гумбольдт 1984: 70]. Для более точного уяснения вводимых Гумбольдтом понятий приведем его буквальные формулировки. Первая: «Язык – не мертвый продукт (Erzeugtes), а созидающий процесс (Erzeugung) [Там же, с. 69]. Вторая: «Язык есть не продукт деятельности (Ergon), а деятельность (Energeia). Его истинное определение поэтому может быть только генетическим» (с. 70).
Понимая язык-эргон как систему материальных знаков, как фиксированную, а потому статичную форму, Гумбольдт поднимает вопрос о соотношении языка и мира представлений, или содержания мысли. Язык по отношению к мысли является формой. Он связан с духом народа. «Постоянное и единообразное в этой деятельности духа, возвышающей членораздельный звук до выражения мысли, взятое во всей совокупности своих связей и систематичности, – разъясняет ученый, – и составляет форму языка» (с. 71). Язык «всеми тончайшими нитями своих корней сросся поэтому с силой национального духа, и чем сильнее воздействие духа на язык, тем закономернее и богаче развитие последнего» [Гумбольдт 1984: 47].
Понимая язык-эргон как систему материальных знаков, Гумбольдт поднимает вопрос о соотношении языка и мира представлений, или содержания мысли. Язык по отношению к мысли является формой, он связан с духом народа. Язык «всеми тончайшими нитями своих корней сросся поэтому с силой национального духа, и чем сильнее воздействие духа на язык, тем закономернее и богаче развитие последнего» [Гумбольдт 1984: 47].
В статье «О возникновении грамматических форм и их влиянии на развитие идей» (1822) высказываются мысли о зависимости грамматического строя языка от психического склада народа, а также о зависимости мышления от особенностей конкретного языка и отраженном в нём национальном «духе».
Интересны мысли Гумбольдта о формах языка – внешней (звуки, грамматические формы) и внутренней, отражающей духовный мир народа и его историю через специфику образования представлений и понятий в словах и грамматических формах (категориях). Он приводит пример с обозначением одного предмета (слона) через разные понятия: в санскрите было три обозначения слона – «двузубый» (наличие бивней), «однорукий» (наличие хобота), «дважды пьющий» (слон сначала берёт воду хоботом, потом отправляет её в рот).
10. Гумбольдту принадлежит честь обнаружения на материале языка (языков) антиномий. Так, им сформулировано неразрешимое противопоставление (антиномия) всеобщего (универсального) и индивидуального, специфического для каждого из языков. Напомним, что грамматика Пор-Рояля выделяла лишь первую, общую, сходную, универсальную часть сопоставляемых языков, истолковывая всё остальное как «отступление» от нормы, неправильность, как своего рода нелогичность. Современный американский лингвист Н. Хомский в своей порождающей грамматике через введение понятий внешней и внутренней грамматики в последней видит лишь универсальное. В. Гумбольдт поясняет, что универсальное в языках – это логикоязыковая система, образуемая общими логическими положениями, являющимися и не логическими, и не языковыми.
Указанная антиномия Гумбольдтом разрешается введением двух видов грамматик – логической и реальной. Реальная – это грамматика конкретного языка; она делится на частную и общую. Частная должна заниматься соотношением категорий конкретного языка с логическими, а общая должна указать, какие из этих логических категорий встречаются в других языках мира.
11. Гумбольдт намечал широкие перспективы для развития типологии языков – выявление и описание всех лексических значений и составление каталога всех грамматических форм, встречающихся в языках мира.
12. Идейное влияние В. Гумбольдта на языкознание XIX в. шло по многим направлениям (историко-сравнительному, социологическому, логическому, психологическому, типологическому и др.). По этим же направлениям оно продолжалось и в XX в., давая не только новые разветвления, но и вполне самостоятельные отрасли знаний – этнолингвистику (нео-гумбольдтианство), структурализм, современную логическую лингвистику и генеративную лингвистику, когнитологию и лингвистику дискурса.
1.6. Август Шлейхер (1821–1868)
Деятельность этого немецкого лингвиста «в течение некоторого времени означает высшую точку и в то же время завершение первого периода истории нового сравнительного языкознания» [Томсен 1938: 80–81].
Первой работой, ставшей программной для всей его короткой, но исключительно интенсивной исследовательской жизни, было «Исследование языков с точки зрения сравнительного языкознания» (1848). В её первой части («О зетатизме») рассматривается воздействие j на согласные (в 13 разных языках: родственных – греческом, древнеперсидском, латинском, готском, литовском и др. и неродственных – манчжурском, китайском, венгерском, тибетском и др.), а во второй части («Языки Европы») дано обозначение древних и новых языков Европы и их распространения по другим континентам с точки зрения организации их грамматического строя. Накопив знания по славянским («Морфология церковно-славянского языка», 1856–1857) и балтийским языкам («Руководство по изучении литовского языка»), в 1861–1862 гг. он публикует свое главное произведение «Компендиум сравнительной грамматики индоевропейских языков», которое за 15 лет выдержало четыре издания (4-е вышло в 1877 г.). Книга содержала оригинальное описание всей совокупности индоевропейских языков и вызвала «целый переворот в языкознании» [Томсен 1938: 81]. Затем была издана «Хрестоматия индоевропейских языков» (1868) с краткими описаниями всех языков, рассмотренных в «Компендиуме». Всё внимание Шлейхера как исследователя было направлено на сравнение языков с целью реконструкции исходного источника – праформы и праязыка. Процедура сравнения и углубления в историю была отточена до мельчайших деталей как в фонетике (ею мало занимались Бопп и другие старшие индоевропеисты), так и в морфологии. Например, сравнив название пашни в четырёх языках, Шлейхер допускает праформу *agras. Поиск «пра-» (первоначальной системы индоевропейских гласных, первоначальной системы согласных, первоначального вида корня, первоначального значения «первобытных» корней и, наконец, первоначального праязыка как коммуникативной системы) так захватил Шлейхера, отточили изощрил его исследовательский метод, что сделался образцом при изучении родственных языков и их истории. Конструируемый таким методом праязык для самого Шлейхера казался такой реальностью, хотя и предполагаемой, гипотетической, что он даже не отказал себе в удовольствии сочинить небольшую басенку на индоевропейском праязыке (см.: [Звегинцев 1964: 110]).
Методологической основой праязыковых увлечений и других общелингвистических взглядов Шлейхера явилось понимание языка как природного, почти биологического организма. Увлекшись ещё в студенческие годы естествознанием (он родился в семье берлинского врача), Шлейхер переносит в науку о языке и терминологию естествознания (грамматический термин морфология введён им вместо прежнего этимология), но – что ещё существеннее – и… ошибочные истолкования строения и жизни языка, будто бы сходного с жизнью и функционированием живого организма.
Восприятие языка как живого организма у Шлейхера ещё более усиливается и расширяется, переносится на новые предметы анализа после знакомства с книгой Ч. Дарвина «Происхождение видов». Одну за другой Шлейхер пишет книги «Теория Дарвина и наука о языке» (1863) и «Значение языка для естественной истории человека» (1865). Сравнив язык с естественным организмом, он старается найти в языке и его развитии подтверждение этому. «Природная» концепция языка дополняется у Шлейхера некритическим восприятием философской триады Гегеля (тезиса, антитезиса и синтеза), якобы свойственной всеобщему духу и, в частности, духу языка.
В результате одновременного воздействия материалистического, дарвиновского естествознания и идеалистической схемы-триады, которая, по Гегелю, присутствует во всём объективном мире и в сознании человека, у Шлейхера формируется установка повсюду видеть модель из трёх составляющих. Так, в фонетике он находит звук, форму и функцию, для индоевропейского праязыка допускает три гласных a, i, и (поскольку в санскрите, считавшемся если не праязыком, то ближайшим к праязыковому состоянию, налицо только эти краткие гласные). Наидревнейшими корнями, по Шлейхеру, были односложные (однослоговые) комплексы, не имевшие морфологических показателей и дифференцирующие свою семантику (именную, глагольную и др.) в зависимости от места в речи, а также от прибавления к ним других слов-корней – глагольных или местоименных (например, в латинском перфекте amavi (я любил) основной корень ата-, а дополнительный – форма перфект от глагола esse (быть) fui; ama+fui > amavi). «В этом наидревнейшем периоде жизни языков, – допускает автор, – в звуковом отношении нет ни глаголов, ни имён, ни спряжений, ни склонений и т. д.» (см.: [Звегинцев 1964: 119]). Подтверждением такого представления о первичных корнях для Шлейхера стали разные типы слов в языках мира. Кстати, вслед за Фр. Шлегелем и В. Гумбольдтом типы слов становятся основанием для классификации и у А. Шлейхера, тоже трёхчленной, в которой выделены языки: 1) изолирующие (слова-корни без аффиксов; китайский язык); 2) склеивающие, в которых к неизменяющимся корням прибавляются другие корни (языки тюркские, финно-угорские – татарский, финский); 3) флектирующие (индоевропейские, семитские), в которых соединяющиеся элементы подвергаются более значительным изменениям (особенно конечный – в индоевропейских языках).
Указанные три типа языков истолковываются им как три ступени развития. Так, в рубрике «Место в общем развитии языка» напротив «Строя языка» указывается: 1) изолирующий, а рубрика «Формулы строения слова и выражения его отношений в предложении» получает формулу: А – чистый корень, А + AN – корневое слово + служебное слово (напр.: китайский (древний поэтический), намаква, бирманский), даётся определение «Архаические виды». Против пункта 2 – агглютинирующего строя (в языках «тюркско-татарских», монгольском, венгерском), а также против несколько иных по формуле строения (тушского и тибетского) значится «Переходные виды». Флективный тип (с внутренней, как в семитских языках, и внешней, как в индоевропейских, флексией) квалифицируется как наиболее развитый вид. Отдельно дан «аналитический строй» (новые индоевропейские языки), он снабжён характеристикой «Выветривания и стирания форм в период упадка». Надо ли говорить о том, что классификация Шлейхера – это шаг назад по сравнению с Гумбольдтом?!
Ещё больше биологизма и отхода от реальной истории языка в его схеме «Родословного древа», в котором иллюстрируется деление на языковые семьи (или ветви), группы, языки и т. д. Так, индоевропейский праязык (его нахождение, или прародина, Шлейхером предполагается на Балканском полуострове) сначала членится на две ветви: 1) славяно-балто-германскую, 2) индо-ирано-греко-албано-италийскую: затем первая (возьмём её как наиболее близкую к нам географически. – В.Б.) распадается на славяно-литовскую (балтийскую) и германскую.
Популярность Шлейхера объяснялась чёткостью и наглядностью его изложения (доходчивые таблицы и схемы, удачная диакритика: им введены знаки > и < (направления развития), астериск – знак * («звёздочка») для обозначения гипотетической формы.
Исключительная чёткость и схематизация концепций доходила до крайности, что делало уязвимыми едва ли не все положения его теории и сам метод работы. Против Шлейхера независимо друг от друга и с разных позиций выступали датчанин Мадвиг (1842), немцы Макс Мюллер (1861) и Курциус (1964), русско-украинский учёный А.А. Потебня (1962), русско-польский лингвист А.И. Бодуэн де Куртенэ, Ф.Ф. Фортунатов и многие др. Особенно неприемлемым было приравнивание языка к живому организму, схематизм типологической классификации (в одной «флективной» группе оказались очень разные языки – индоевропейские и семитские), сведение богатого индоевропейского вокализма к трём «основным» гласным, неучёт слогообразующей функции r и l и др.
* * *
Мы остановились на вершинных достижениях первого периода в области сравнительно-исторического и общего языкознания. Конечно, здесь было немало и менее значительных фигур и научных находок и даже направлений (в частности, языковед-теоретик Гейман Штейнталь и А.А. Потебня – основоположники психологического направления, Макс Мюллер – отличный систематизатор, призывавший к изучению живых языков и диалектов). Но подчеркнём главное – к концу этого периода, а точнее, к моменту появления младограм-матизма, знаменовавшего собой начало второго периода в истории языкознания, новым методом анализа были охвачены все ветви индоевропейской семьи: индийская (Т. Бенфей, М. Мюллер), славянская (И. Добровский, А.Х. Востоков, П. Шафарик, Ф. Миклошич, А. Лескин), балтийская (Р. Раек), германская (Я. Гримм, Р. Раек, И. Цейсс), романская (Ф. Диц, И. Асколи), кельтская (Ф. Бопп, Р. Раек), а также языки финно-угорские, тюркские и ряд иносистемных.
Первый период обнаружил во взаимной борьбе мнений и явные недостатки. О части из них мы сказали попутно с показом достижений. Подробнее будет сказано при характеристике второго периода, наступившего в ходе преодоления ошибок и упущений первого (1816–1870 гг.) и учёта его общих достижений. В общей теории языка еще предстояло изучить язык как общественное явление (социология языка), как явление психики и как явление культуры.
1.7. Гейман Штейнталь (1823–1899)
Находясь, подобно Шлейхеру, в русле гумбольдтовского языкознания и истолковывая его, Г. Штейнталь решительно выступил против всё ещё дававшей о себе знать логической грамматики и биологизма Шлейхера. Позиция, с которой велась критика, сформировалась под сильным воздействием ассоциативной психологии Ф. Гербарта. Внедряя в познание языка ассоциации, перцепции (восприятия), апперцепции (соотнесение нового восприятия с прежними), сознание, память и другие психологические категории и понятия, Г. Штейнталь, особенно после издания книги «Грамматика, логика и психология» (Берлин, 1855), стал родоначальником и пропагандистом психологического направления в науке о языке, а вместе с психологом и языковедом Вильгельмом Вундтом, автором десятитомной «Психологии народов», – основоположником также этнопсихологического направления.
Опираясь на взятое у Гумбольдта понятие внутренней формы языка, отражающей особый «психологический склад» и «строй мысли» каждого из народов, Штейнталь стал искать это своеобразие не в содержании речи и даже не в значении слов, а в особом членении каждым языком окружающего мира через анализ грамматических форм языка и особенно через анализ момента зарождения и возникновения слов (ныне этим занимается особый отдел лексикологии – ономасиология). Если раньше учёных интересовала первоначальная, обычно древняя, этимология слов, то Штейнталем ценится знание «живой этимологии» слов и грамматических форм.
Если Гумбольдт смотрел на язык как на орган, образующий и закрепляющий мысль, то Штейнталь видит в нём орудие формирования мысли (от вещи к образу вещи, затем к обобщённому представлению о ней и, наконец, к понятию). Апперцепция занимает едва ли не центральное место в формировании семантики слова. Апперцепции классифицируются, среди них выделяют устойчивые (зависящие от принадлежности к народу с его особым психическим складом, от мировоззрения, от образования человека) и временные (обусловленные целевой установкой, психическим состоянием человека в данный момент, его настроением и т. п.).
Размышляя над проблемой происхождения языка и этапами его развития, Штейнталь и последовавшие за ним этнопсихологи заинтересовались языком детей: детская речь позволяет проследить онтогенез – индивидуальное развитие особи (в отличие от филогенеза – развитие рода, народа, общества). Кстати, и в последующее время, даже во второй половине XX в., на детский язык как на один из источников, полезных при обсуждении проблемы зарождения языка (первоязыка, праслова, прапредложения), возлагали надежды лингвисты и психологи (Р. Якобсон и др.). Им казалось, что основные моменты появления и развития языка младенца повторяют филогенез – историю развития языка всего человечества.
Уже при жизни Штейнталя началась критика его учения как в целом, причём с самых разных позиций, так и отдельных уязвимых мест его концепции: невнимание к грамматической структуре языка, пренебрежение к логике в языке, сведение причин развития языка лишь к психике индивидуума вместо поиска их в развитии общества, фактическая передача языкознания в ведение психологических наук. В целом же его деятельность была положительной: колебания между индивидуальной психологией и пониманием общественного использования языка («Ведь индивидуум говорит в обществе») обостряли внимание к этой проблеме, способствовали её более адекватному решению.
1.8. Александр Афанасьевич Потебня (1835–1891)
Александр Афанасьевич Потебня, как и Г. Штейнталь, принадлежал к психологическому направлению и был не только лингвистом, но филологом и фольклористом, одним из проницательнейших умов XIX столетия. Начав с популяризации психологического взгляда на язык («Мысль и язык», 1862) и с историко-фонетических исследований («О звуковых особенностях русских наречий», 1865), он перешёл к углубленному изучению синтаксиса восточнославянских и балтийских языков («Из записок по русской грамматике», т. 1, 1874, и последующие тома), теории литературы и поэтики литературного и народного творчества (сборник «Из записок по русской словесности», 1905).
Критикуя логицизм Ф.И. Буслаева и биологизм, в частности теорию Шлейхера о двух периодах (роста и «распада» в развитии языка), Потебня осуществил системный анализ грамматических категорий языка, учитывая взаимодействие содержания и формы. Он подробно анализирует виды форм – простые, описательные, аналитические.
Интересно его учение о двояком статусе формы в языке. Обычно форма выступает как обозначение содержания, т. е. как означающее. Потебня увидел в ней и другое – она может быть обозначаемым, следовательно, иметь самодовлеющую ценность (напр., в художественно-поэтическом тексте).
Большую теоретическую и практическую ценность, до сих пор не вполне реализованную лексикологами, лексикографами и семасиологами мира, представляет его учение о двух значениях знаменательных слов – ближайшем и дальнейшем. Ближайшее – это общенародное, обиходное, «доступное» значение (именно оно должно отражаться в толковых словарях), дальнейшее – это энциклопедическое значение, находящееся за пределами обихода и нужное лишь специалистам и тем, кто желает знать о предмете больше и точнее.
Ближайшее значение «составляет действительное содержание мысли во время произнесения слова» (выделено мною. – В.Б.). Для общения бывают достаточны лишь «намёки» назначения, а не их полные представления. «Другими словами, ближайшее значение слова народно, между тем дальнейшее, у каждого различное по качеству и количеству элементов, лично. Ближайшее значение соприкасается «с областью чисто личной, индивидуально-субъективной мысли», дальнейшее – «с мыслью научной, представляющей наибольшую в данное время степень объективности» [Хрестоматия 1956: 127].
Вполне вероятно, что мысль об использовании при общении лишь «формальных», «ближайших» значений слов – «этикеток», слов – «клавиш» навеяна А.А. Потебне чтением трудов В. Гумбольдта, писавшего: «Люди понимают друг друга не потому, что передают собеседнику знаки предметов… а потому, что взаимно затрагивают друг в друге одно и то же звено чувственных представлений и начатков внутренних понятий, прикасаются к одним и тем же клавишам инструмента своего духа, благодаря чему у каждого вспыхивают в сознании соответствующие, но не тождественные смыслы. Лишь в этих пределах, допускающих широкие расхождения, люди сходятся между собой в понимании одного и того же слова» [Гумбольдт 1984: 165–166]. Приведенное сопоставление может служить иллюстрацией того, как образы, возникшие в голове одного гениального ученого, через несколько десятилетий подхватываются другим и обретают форму чеканно-ясных формулировок о двух значениях слов и их различии.
Актуально учение Потебни о поэтической функции языка, о средствах создания образности текста. «Элементарная поэтичность языка, т. е. поэтичность отдельных слов и словосочетаний, как бы это ни было ощутимо, ничтожна по сравнению со способностью языка создавать образы как из образных, так и из безобразных сочетаний слов» [Потебня 1958: 9].
Научные интересы учёного были очень широки: общефилософские вопросы о языке, мышлении, психике носителей языка; почти все стороны языка – синтаксис, семантика, этимология, фонетика; диалектология и этнография, литературная и народная словесность. Во всём этом его острый ум находил неисследованные области и грани. По всем этим направлениям его дело продолжили многочисленные ученики – русский и украинский филолог и историк языка А.И. Соболевский, филолог-славист Б.М. Ляпунов, русский филолог-славист и педагог М.А. Колосов, языковед и теоретик литературы Д.Н. Овсянико-Куликовский и др.
Дополнительная литература
Алпатов В.М. История лингвистических учений. Учебное пособие. 2-е изд., исправленное. – М., 1999. С. 54–93.
Амирова Т.А., Ольховиков Б.А., Рождественский Ю.В. Очерки по истории лингвистики. – М., 1975. С. 257–414.
Березин Ф.М. История лингвистических учений. – М., 1975. С. 31—108.
Березин Ф.М. История русского языкознания. – М., 1979. С. 62—182.
Зубкова Л.Г. Из истории языкознания. Общая теория языка в аспектирующих концепциях. – М., 1882. С. 6—45.
Кодухов В.И. Общее языкознание. – М., 1974. С. 20–49.
Кондратов Н.А. История лингвистических учений. – М., 1979. С. 37–70.
Лоя Я.В. История лингвистических учений. – М., 1968. С. 43–76.
Хрестоматия по истории языкознания XIX–XX веков. Сост. В.А. Звегинцев. – М., 1956. С. 25–143.
2. Младограмматизм. Второй период сравнительно-исторического языкознания: 1870—1900-е годы
Блистательно начатый первый период применения сравнительно-исторического метода к середине 70-х гг. стал обнаруживать слабые стороны. Появились сомнения в его основополагающих установках (сравнение языков ради восстановления их первоосновы, «праязыка»; абстрактность и неясность в понимании языка как организма; отнесение языкознания к естествознанию – в биологической концепции Шлейхера – и психологии – в учении Штейнталя), что порождало чувство неудовлетворённости у основной массы языковедов, а у наиболее молодой и решительной её части – бунтарское настроение.
И бунт назрел. В 1876 г. в Лейпцигском университете выходит книга А. Лескина «Склонение в балтийско-славянских и германских языках», содержавшая установку не на конструирование становившегося всё более призрачным праязыка, а на то, чтобы сосредоточиться на звуковых соответствиях как родственных языков, так и разных периодов в истории одного языка. Установление фонетических соответствий в морфемах (корнях и флексиях) невольно подчиняло морфологию фонетике. Этому же способствовало и нахождение звуковых изменений под воздействием аналогий. «Два момента – закономерные звуковые изменения и влияние аналогии объясняют наличные в определённый период формы языка и только с этими двумя моментами надо считаться», – писал Лескин.
А через два года (1878) бунт разразился: была опубликована книга двух молодых лингвистов Германа Остгофа и Карла Бругмана «Морфологические исследования», первая часть которой (особенно Предисловие) содержала декларацию основных принципов исследования языка. Предисловие явилось манифестом лейпцигских языковедов. В максималистских формулировках они призывали лингвистику «прочь из затуманенного гипотезами душного круга, где куются индогерманские праформы, на свежий воздух осязаемой действительности и современности» [Звегинцев 1964: 191]. Их иронически назвали младограмматиками («Junggrammatiker»). Слово это понравилось молодому Бругману и стало названием небольшой группы молодых лейпцигских лингвистов, а затем было перенесено на учёных из разных стран и разных возрастов, разделявших (полностью или частично) их новые исследовательские принципы.
Ряды почитателей сравнительного языкознания из ученых старшего поколения («стариков», каких называли младограмматики) редели, особенно уменьшилось число поклонников Шлейхера и Штейнталя, а ряды сторонников и созидателей младограмматизма росли. К ним относятся, прежде всего, составитель Предисловия Карл Бругман (1849–1919), профессор сравнительного языкознания в Лейпцигском университете, издатель журнала «Индогерманишен форшунген» – основного органа сравнительно-исторического языкознания, автор пятитомного сочинения «Основы сравнительной грамматики индоевропейских языков» (в соавторстве с Б. Дельбрюком); Герман Остгоф (1847–1909), соавтор упомянутого выше Предисловия к «Морфологическим исследованиям»; Август Лескин (1840–1916), автор «Грамматики древнеболгарского (древнецерковнославянского) языка»; Герман Пауль (1846–1921), профессор Мюнхенского университета, автор широко известной книги «Принципы истории языка» (1880); Карл Вернер (1846–1896), профессор Копенгагенского университета, автор знаменитого закона об изменении согласных в германских языках (закон Вернера), сформулированного им в статье «Исключение из первого передвижения согласных» (1877); Мишель Бреаль (1832–1916), французский специалист по романской ветви языков, автор «Очерков по семантике» (1897); Фердинанд де Соссюр (1857–1913), профессор Парижского, а затем Женевского университета, автор работ «О первоначальной системе гласных в индоевропейских языках» (1879), книги «Курс общей лингвистики» (1916), сделавшей его, уже после смерти, основоположником и знаменем нескольких лингвистических направлений; Грациадио Асколи (1829–1907), автор книги «Сравнительная фонология санскритского, греческого и латинского языков» (1870), родоначальник неолингвистики и автор теории субстрата.
К младограмматикам относят, хотя он гораздо шире и глубже как теоретик и исследователь, чем правоверные младограмматики, академика Филиппа Фёдоровича Фортунатова (1848–1914), главу московской лингвистической школы, основателя формального направления в лингвистике, автора «Сравнительной фонетики индоевропейских языков» (1901), крупнейшего специалиста по акцентуации, автора закона Фортунатова – Соссюра, а также его ученика, талантливейшего историка русского языка академика Алексея Александровича Шахматова (1864–1920). Младограмматизм стал явлением общеевропейским и даже шире: в Америке младограмматических взглядов на задачи языковедов придерживался такой крупный ученый, как Вильям Дуайт Уитни (1827–1894).
Что не устраивало молодых филологов в теориях, концепциях и взглядах представителей старшего поколения сравнительно-исторического языкознания? Им казалось, что не устраивало всё: и обращённость в прошлое, назад, к праязыку, и «туманные» гипотезы, основанные на представлении о языке как природном организме, и ограниченный круг проблематики (структура индоевропейского корня, состав его гласных, состав согласных и т. п.), и круг используемых источников (только письменные памятники, причём по преимуществу санскрита, классических и германских языков).
Но особенно неприемлемым для них был биологизм Шлейхера (родословное древо, учение о периодах в жизни языка) и психологизм Штейнталя. Именно на это были направлены стрелы критики, эти недостатки «стариков» стремились преодолеть полные задора и таланта лейпцигские бунтари и их сообщники-единомышленники.
Прямо против схематизма шлейхеровского индоевропейского «древа» были направлены «теория географического варьирования» Г. Шухардта (1870), а ещё с большей силой и новизной «волновая теория» И. Шмидта (1872), по которой сходство ветвей объяснялось близостью (смежностью) их расположения.
Вместо открытого психологизма и индивидуализма Штейнталя стали подчёркивать историзм языка и происходящих в нём процессов. Главный теоретический труд Г. Пауля, видимо, с этой целью был назван полемически заострённо: «Принципы истории языка» (1880) – всё языкознание, по его мнению, является историческим. Сочинение о языке вне историзма им признаётся ненаучным. Кстати, эта мысль не нова: она родилась вместе с появлением сравнительно-исторического языкознания и некоторыми учёными разделяется и ныне.
Центральными темами младограмматиков были звуковые законы и аналогия. Здесь они добились больших успехов, проявив настойчивость, изящество в обработке материала и учёте значительного числа факторов. Были учтены индивидуальный характер мыслительной и психической деятельности индивидуума, пользующегося языком (они и предпочитали изучать язык не коллектива, народа, а отдельного человека); предпочиталось изучать конкретное языковое явление как самостоятельное, изолированное, что позволяло использовать возможно больший материал – письменный и устный – и создать исчерпывающее представление о предмете анализа; расширялось поле деятельности за счёт добавления к рассмотрению звуков просодии (ударения, тона), а также более систематического учёта фактов морфологии (особенно при объяснении исключений из звуковых законов, вызванных влиянием парадигматического выравнивания). Действие звукового закона мыслилось как непреложное, не знающее исключений. «Непреложность звуковых законов» – таков принцип младограмматизма, а некоторые реально встречавшиеся отклонения от этого правила объяснялись действием других (более общих или, наоборот, частных законов).
Второй принимаемой и отыскиваемой закономерностью была аналогия. Сначала она нужна была для объяснения «исключений» из «слепо действующих» фонетических законов, затем обрела ценность для объяснения новообразований как в исконных парадигмах грамматики, так и в заимствованных словах.
Не объединённые достаточно чёткой и всеобъемлющей теорией и непререкаемым научным авторитетом, представители младограмматической школы свободно выходили за пределы своих главных тем и принципов, углублялись в решение частных вопросов, обогащали науку открытиями, что в совокупности продвигало языкознание вперёд и накапливало идеи и силы для следующего, третьего периода.
Большая часть открытий, естественно, касалась фонетического уровня языка и связанных с ним просодии (ударения) и морфологии. Было установлено много законов, названных по именам их авторов-открывателей.
Выше названы основоположники младограмматизма и ведущие его представители. Но много было и других – разной силы, разного дарования; о них надо сказать хотя бы обобщённо, так как это позволит показать как общие, так и конкретные достижения в развитии теории языка. Так, за период с 1870 по 1900 г. внимание учёных было сосредоточенно на следующих проблемах, в разработке которых получены существенные результаты. Начнем с главнейших открытий в области сравнительно-исторического языкознания.
1. Уточнение прежних и открытие новых законов в области фонетики и акцентуации (просодии): законы Гримма, Вернера, Фортунатова, Соссюра, Коллица, «закон диссимиляции придыхательных» в индоевропейском праязыке Грасмана (1863).
Так, Карл Вернер уточняет закон Раска – Гримма о первом передвижении согласных в германских языках относительно перехода р, t, к в глухие фрикативные f, th, h, указав на воздействие древнейшего, праязыкового ударения, которое переводило их в звонкие – b, d, g, если оно стояло после согласного. Соссюр (1877) предвосхищает закон Коллица, который в 1879 г. убедительно доказывает наличие в праязыке не трёх: а, i, u (как думали Бопп, Гримм, Шлейхер) и не четырёх – a, i, u, а также е (Курциус), а пяти гласных (а, е, i, о, u), опираясь на «закон смягчения заднеязычных», закон их палатализации. Кстати, по поводу открытия закона палатализации, сыгравшего огромную роль в познании индоевропейского вокализма, долгое время не было полной ясности. В 1983 г. М. Майрхофер в статье «Санскрит и языки древней Европы (Два века открытий и диспутов)» называет шесть исследователей, открывших этот закон «независимо друг от друга», – это Соссюр, Тегнер, Томсен, Вернер, Коллиц и Йог. Шмидт. [Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. XXI. Новое в современной индоевропеистике. – М.: «Прогресс», 1998. С. 516].
Ф.Ф. Фортунатов открывает два вида долготы сонантов в индоевропейских языках – нисходящую (акутовую) и длительную, восходящую (циркумфлексовую).
Соссюр доказывает перенос ударения в литовском языке со слога с восходящей интонацией на последующий слог с нисходящей (акутовой) интонацией («закон Соссюра» – 1894). В том же году А. Мейе допускает приложимость этого закона и к славянским языкам.
Фортунатов пишет статью «Об ударениях и долготе в балтийских языках» (1895), а в 1899 г. применяет закон Соссюра к литовско-славянскому языку. Он констатирует: длительная долгота ещё в литовско-славянском языке (имеется в виду балто-славянский праязык. – В.Б.) переносила на себя ударение с предшествующего слога, если последний не имел сам длительной долготы.
2. Индоевропейский праязык, его фонетическая структура, соотношение корня и аффиксов (чаще флексий), его общее состояние как коммуникативной системы. Г.И. Асколи в 1870 г. предполагает наличие в индоевропейском праязыке не одного, а трёх рядов заднеязычных согласных. И. Шмидт впервые ставит под сомнение монолитность праязыка, допуская в нём наличие диалектов (1872), Бодуэн де Куртенэ, Фортунатов и Богородицкий заявляют об этом же. К. Бругман в 1876 г. обосновывает наличие в праязыке в безударной позиции слоговых (сонантов) то и по (они получались из звуковых сочетаний am и ал), чем доказывает воздействие ударения на чередование простых гласных, а также слогообразующих сонорных с дифтонгами.
Производится классификация индоевропейских языков с учётом поэтапной их дифференциации (выделение гр. centum и satsm). Так, Г. Гюбшман, опираясь на то, что армянский язык обладает самостоятельной лексикой, приходит к заключению что армянский язык – самостоятельная ветвь в семье индоевропейских языков.
3. Введение понятия «относительная хронология» (Бодуэн де Куртенэ – 1871, Ф.Ф. Фортунатов – 1875, В.А. Богородицкий – 1890, 1899, а позднее Бремер, Мейе, Бенвенист, Курилович и др.).
4. Наблюдения над семантикой (нарицательных и собственных) слов, появление семасиологии. А. Фрикк пишет о происхождении греческих личных имён (1894), а позднее (1905) топонимов. Знаток латинского и греческого языков М.М. Покровский публикует «Семасиологические исследования в областях древних языков» (1895).
5. Достижения в области морфологических изменений (опрощение, переразложение, дифференциация, аналогия) представлены в трудах Бодуэна де Куртенэ и Богородицкого. Так, Бодуэн в 1870 г. устанавливает основную тенденцию в изменении морфологической структуры слова – «сокращение основ в пользу окончаний» (сообщение об открытии печатается лишь в 1902 г.). Оценивается важность аналогии для объяснения звуковых изменений, в особенности тех, которые не соответствовали фонетическим законам (первым об этом заговорил датский языковед Бредсдорф, 1821).
6. Привлечение данных живых диалектов: И.А. Шмеллер – о говорах Баварии (1821), Асколи (1861–1872) – о диалектах Италии, И.А. Бодуэн де Куртенэ дает классическое по точности описание фонетики резьянских говоров (1875); Г. Вернер приступает к составлению атласа – рассылает анкеты (1876), а учитель Вентелер описывает свой родной говор на территории немецкой Швейцарии (1876).
7. Появляются первые работы по синтаксису: Ф.И. Буслаев «Историческая грамматика» (1858); Бертольд Дельбрюк, «Suntaktische Forschungen» (1871); А.А. Потебня «Из записок по русской грамматике» (1874), в которой критикуется логическая концепция Ф.И. Буслаева. Фр. Миклошич выпускает «Сравнительный синтаксис славянских языков» (1874), а Бругман и Дельбрюк публикуют «Сравнительный синтаксис индоевропейских языков» (1893).
8. Начинают учитывать в изменении языков пространственный фактор. Г. Шухардт выдвигает «теорию географического варьирования языков» (1870), Иоганн Шмидт – «волновую теорию» (Wellentheorie) (1872).
9. Были созданы компендиумы (своды, обобщения) по большинству ветвей индоевропейской семьи языков – германской (Г. Пауль, 1888), романской (Г. Гребер, 1888 и др.), индоарийской (Г. Бюллер и Кильгорн, 1895 и др.), а также по некоторым неиндоевропейским языкам, напр., по семитской семье (К. Брокельман – уже в начале XX в.)
10. Создана экспериментальная фонетика: В.А. Богородицкий в 1880 г. в «Русском филологическом вестнике» опубликовал результаты своего лабораторно-инструментального исследования «Гласные без ударения в русском языке».
11. Более строгими и широкими стали исследования о заимствованиях, о взаимных связях родственных и неродственных языков (напр., балтийских и финских – В. Томсен, 1890), Г. Габеленц (1891).
12. Младограмматики ввели знаки для краткого и наглядного обозначения а) изменение звуков: > «изменился в…», < «произошел из…» и некоторые др.
О хронологической последовательности этих и ряда других открытий сказано в книге [Лоя 1968: 87–96].
Дополнительная литература
Алпатов В.М. История лингвистических учений. Учебное пособие. 2-е изд., исправленное. – М., 1999. С. 94–93.
Амирова Т.А., Ольховиков Б.А., Рождественский Ю.В. Очерки по истории лингвистики. – М., 1975. С. 415–478.
Березин Ф.М. История лингвистических учений. – М., 1975. С. 109–128.
Звегинцев В.А. История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. Ч. I. – М., 1964. – Изд. третье, дополненное. С. 184–232.
Кодухов В.И. Общее языкознание. – М., 1974. С. 50–54.
Кондратов Н.А. История лингвистических учений. – М., 1979. С. 71–81.
Лоя Я.В. История лингвистических учений. – М., 1968. С. 77—113.
Томсен В. История языкознания до конца XIX века. – М., 1938. С. 90–102.
Хрестоматия по истории языкознания XIX–XX веков. Составил В.А. Звегинцев. – М., 1956. С. 144–190.
Шпехт Ф. Индоевропейское языкознание от младограмматиков до первой мировой войны // Общее и индоевропейское языкознание. – М., 1956.
3. Третий период истории языкознания Конец XIX – первая четверть XX века
Несмотря на то что разные авторы по-своему членят историю языкознания (В. Томсен, В.И. Кодухов, В.А. Звегинцев, В.М. Березин, Д.А. Панов и др.) на периоды, этапы и др. и дают им разные названия, нет сомнения в том, что после младограмматиков (а их время пришлось на 1870–1900 гг.) начинается короткий, но явно новый период, который многие называют «поисками новых путей», а у В.И. Кодухова он связывается с возникновением «неограмматизма и с социологией языка». Я.В. Доя помещает его между 1900 и 1916 гг. – временем опубликования «Курса общей лингвистики» Ф. де Соcсюра, а В.И. Кодухов датирует несколько иначе – «последняя четверть XIX века и начало XX столетия». Если пренебречь незначительными расхождениями в хронологии, можно принять, что выделение небольшого, но важного этапа в «поиске новых путей» вполне оправданно.
3.1. Гуго Шухардт (1842–1927)
И.А. Бодуэн де Куртенэ языковедов Европы периода после смерти А. Шлейхера (1868 г.) делил на три группы: 1) верные ученики Шлейхера (среди них самый видный И. Шмидт, критик шлейхеровского «родословного древа» и автор «теории волн»), 2) младограмматики (В. Шерер, А. Лескин, К. Бругман, Г. Остгоф и Г. Пауль) и 3) «один крупный лингвист с самостоятельной позицией – Гуго Шухардт».
Об И. Шмидте и младограмматиках нами сказано выше (впрочем, Шмидта к «верным ученикам» можно отнести лишь с натяжкой), сейчас – о Шухардте.
Мы уже упомянули его «теорию географического выравнивания» (1870), нанесшую первый удар по «родословному древу» Шлейхера. Но он прославился и другим – созданием нового направления «слова и вещи» (автор книги «Sachen und Worter» /«Вещь и слово»/ 1912), активнейшей борьбой за подлинную науку с обоснованной теорией и знанием фактов многих разных языков (сам он был специалистом по романским и кельтским языкам, албанскому, баскскому, языкам Кавказа, знал финно-угорские языки и др.), с верой в социальную природу языка (язык – «продукт социальной жизни»). Само направление «слова и вещи» было ориентировано на тщательный учёт значения и происхождения слов, разграничение характера их семантики (слова – вещи, слова – процессы, слова – отношения). Однако особенно интересны его наблюдения над рождением внутренней формы слова, опирающейся на разное видение предмета. «Пусть читатель вспомнит об исключительном обилии синонимов среди названий растений – и он без труда убедится, что в одном случае решающая роль принадлежит сравнению с другими растениями, в другом случае – восприятию красоты, в третьем оценке полезности, в четвёртом – суеверию и т. д.» (цит. по: [Панов 1973: 198]). Думается, что здесь проницательный учёный подчеркивал разницу в предмете изучения между двумя ныне существующими науками о значении слова – ономасиологии (путь: от вещи к значению слова) и семасиологии (путь: от значения к вещи).
Бескомпромиссный в отстаивании своих научных убеждений перед противниками и друзьями, Г. Шухардт доводил до крайности и свои научные взгляды и формулировки. Так, например, занимаясь заимствованиями и вообще контактами между языками, он не только считал, что нет и не было ни одного чистого языка, свободного от заимствований, но и вообще выделил смешение как основной закон, по которому возникает сходство между языками. В этом смысле он даже преуменьшил роль их врождённого сходства. Конечно, в лексике это могло быть и так. А в грамматике? Бескомпромиссность, ироничность острого на язык и поступки Шухардта отпугивали от него даже близких друзей. Он так и остался одним «отдельным крупным учёным», не оставив после себя школы и верных последователей.
Московская лингвистическая школа
3.2. Филипп Фёдорович Фортунатов (1848–1914)
Ф.Ф. Фортунатов известен в научном мире как 1) создатель «Московской лингвистической школы», воспитавшей большую плеяду отечественных учёных (в их числе А. А. Шахматов, В.К. Поржезинский, Н.Н. Дурново, Д.Н. Ушаков, М. Пешковский и др.) и первоклассных зарубежных исследователей (среди них А. Белич, Э. Бернекер, X. Педерсен и др.), 2) основатель формального направления в языкознании; 3) один из самых проницательных исследователей в области индоевропеистики, славистики и балканистики (автор фонетического закона Фортунатова – Соссюра).
Можно без преувеличения сказать, что именно с Ф.Ф. Фортунатова начался выход российского языкознания на мировую арену и перемещение центра лингвистических достижений из Германии (Лейпцига) в Россию.
Московский университет был его alma-mater, здесь он учился на историко-филологическом факультете в 1864–1868 гг. и после научных поездок в Литву, Германию, Францию и Англию, давших ему широкие знания в области санскрита, пали (язык буддистов Южной Индии), греческого, литовского и других языков Европы, четверть века (с 1876 по 1902 гг.), вплоть до переезда в Петербург в связи с избранием академиком, занимался преподавательской деятельностью.
Не отличаясь красноречием при чтении лекций по древнейшим периодам индоевропейских языков, он не мог сделать их яркими и увлекательными. Но всех покоряла его математическая выверенность и точность формулировок, ювелирная обработанность приводимых фактов, безукоризненная логичность и последовательность изложения. И аудитория его слушателей ширилась. «Языковед-математик» – так характеризуют его поразительную способность к логике и абстракции мышления.
Будучи младограмматиком по университетской подготовке (лингвистические дисциплины он слушал у Ф.И. Буслаева) и дальнейшему образованию (в Лейпциге посещал лекции Лескина, Курциуса и Вебера), он отказался от их психологизма, заменив его грамматическим формализмом – учением о форме слов, доведя его до крайности. Его последователи, проф. Н.М. Петерсон, а применительно к школьной практике – А.Б. Шапиро, превратили положения его концепции, как показалось многим учёным и методистам, в подобие абсурда.
По существу, отменив традиционное, идущее от александрийцев, учение о частях речи, Фортунатов разделил все слова на два больших класса – слова изменяемые и слова неизменяемые. В класс изменяемых попали «падежные слова» (существительные), «родовые» (прилагательные), «личные» слова (изменяющиеся по лицам, т. е. глаголы), а в класс неизменяемых – не только союзы, предлоги, частицы (но, в, – ка и др.), но и несклоняемые существительные типа депо, какаду, кенгуру. Так, вместо лексико-грамматических объединений, каковыми являются части речи с множеством оригинальных грамматических и словообразовательных категорий, были предложены классы (разряды) слов, выделенных по формальным показателям.
Сложнее было с выделением «классов» в синтаксисе. Но и здесь был произведён пересмотр. Главной единицей синтаксиса было признано не предложение, а словосочетание. Сила Ф.Ф. Фортунатова не в анализе синхронного состояния языка, а в его истории, хотя и с гипертрофированным вниманием к форме. Здесь он превосходил современных ему европейских исследователей. «Предметом языкознания, – писал он, – является человеческий язык в его истории» [Фортунатов 1956: I: 23]. Главнейшими трудами Фортунатова были «Сравнительное языковедение. Общий курс» (1897), «Сравнительная фонетика индоевропейских языков» (1901–1902), «Лекции по фонетике старославянского церковнославянского) языка» (1919 – посмертное издание). В 1956 г. вышли «Избранные труды» Ф.Ф. Фортунатова в двух томах, где, кроме перечисленных работ, напечатана также «Сравнительная морфология индоевропейских языков (склонение и спряжение». Издание открывается очерком «Академик Ф.Ф. Фортунатов», написанным М.Н. Петерсоном.
В кратком изложении может показаться, что все открытия Фортунатова сосредоточены в отдельных праязыках (индоевропейском, балто-славянском). Но это не так. Безусловно ценным явилось его учение о словосочетаниях (его считают родоначальником изучения этой единицы синтаксиса), о нулевых формах, анализ структуры односоставных предложений; слависты обязаны ему открытием появления на месте заднеязычных г, к, х под влиянием гласных и j шипящих ж, ч, ш (первая палатализация), а перед новыми е и «ять», возникшими из дифтонгов, свистящих з, ц, с (вторая палатализация). Кстати, верное объяснение этим смягчениям можно было дать лишь при учёте разновременности этих процессов, т. е. опираясь на принцип относительной хронологии.
На примере Ф.Ф. Фортунатова и его учения, в частности о форме слова, можно видеть, сколь превратна бывает судьба новых идей. Фортунатова критиковали уже при жизни за его формализм. В советские годы слово «формализм» применительно к грамматической теории Фортунатова звучало как ругательство. Но вот проходит время и поруганный формализм получает наивысшую оценку у одной из ветвей структурализма (датская глоссематика). И на наших глазах подхватываются его «крамольные» идеи инженерно-компьютерным языкознанием как весьма полезные в области информатики, где требуется предельно формализованный метаязык.
3.3. Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ (1845–1929) и его школы
В лице И.А. Бодуэна де Куртенэ (Ignaci Niecislaw Badouin de Courtenau), самой крупной фигуры в истории языкознания, наука может испытывать гордость за то, что время от времени в ней появляются гении, а многие страны – за причастность к происхождению и жизни такой личности. До сих пор размышляют, с какого момента и с какого учёного наука о языке стала международной, явлением мировым. Думается, что языкознание (особенно теория языка) стало такой наукой благодаря продолжительной, разносторонней и на редкость перспективной деятельности И.А. Бодуэна де Куртенэ.
Его фамилия говорит о том, его предками были французы. Как явствует из других антропонимов (Ян Игнац Нечислав) – по рождению он поляк. А по жизни и работе – он принадлежит многим народам, и все они вправе называть его своим учёным. «Бодуэн жил и работал среди русских, поляков, немцев (в Юрьеве). Писал он на польском, русском, словенском, чешском, немецком, французском, итальянском, литовском и новоеврейском (идиш) языках» [Лоя 1968: 233], работал с 30 до 84 лет в качестве профессора в пяти университетах: Казанском (1875–1883), Юрьевском (Дерптском, ныне Тартуском, 1883–1893), Краковском (1894–1900), Петербургском (1901–1918) и Варшавском (1918–1929). Большая часть его жизни прошла в России, здесь он создал две лингвистические школы (Казанскую и Петербургскую), здесь вырастил плеяду талантливых учёных, ставших академиками, профессорами, зачинателями многих научных направлений. К его ученикам по Казани относят Н.В. Крушевского (1851–1887), В.А. Богородицкого (1857–1941), С.К. Булича (1859–1921), А.И. Александрова 1861–1917), В.В. Раддова; по Петербургу —
Л.В. Щербу, Е. Д. Поливанова, Л.П. Якубинского, Б.В. Владимировцева, А.Д. Руднева, С.И. Бернштейна, Б.А. Ларина, В.В. Виноградова, М. Фасмера и др. К ним следует добавить поляков Г. Улашина, Витольда Дорошевского и многих др.
Бодуэн после окончания университета (Варшавской высшей школы) с 1875 г. находится в научных командировках – в Праге, Йене, Берлине, Петербурге (здесь он занимается под руководством И.И. Срезневского), Лейпциге, Милане, Австрии, Литве; зачастую с котомкой за плечами записывает живую речь крестьян. В частности, на собственных записях основана его докторская диссертация «Опыт фонетики резьянских говоров» (защищена в 1875 г. в Петербурге).
Уже в первой печатной работе по проблеме аналогии (1868 г.) он выступил как новатор, ошеломивший своих учителей теоретическим введением, называвшимся «Сокращение основ в пользу окончаний». Это введение было столь смелым, что редактору журнала, знаменитому А. Шлейхеру, пришлось изъять его, и оно увидело свет лишь в 1902 г. На фоне почти исключительно фонетических штудий младограмматиков анализ развития морфологической структуры слова был почти дерзостью и, естественно, не мог быть оценён по достоинству. Кстати, эта проблема получит продолжение у его казанских учеников (В.А. Богородицкого и др.).
Наиболее сильной стороной Бодуэна как учёного была обострённая интуиция, одинаковое владение как анализом, так и синтезом колоссального исследуемого материала. Казалось бы, учёному-мыслителю надо было только генерировать идеи и передавать их на доработку другим. Но И.А. Бодуэн де Куртенэ отличался и огромным трудолюбием. Он взялся за подготовку нового издания «Толкового словаря великорусского языка» В.И. Даля, в корне переработав этот труд всей жизни Даля (придав алфавитный порядок 200 тыс. словам и добавив к ним ещё 20 тыс. слов). Правда, не пометив особым знаком многие из включённых им слов-арготизмов, он тем самым исказил критерий В.И. Даля: слова-арготизмы («офенские») не вносить в словарь, а если вносить, то обязательно с соответствующей пометой. (Подробнее об этом см.: [Бондалетов 1987: 32–38]).
Бодуэн де Куртенэ не принял биологизма младограмматиков, не устраивал его и их историзм, со временем он освободился также от их индивидуализма (согласно которому признавалось существование языка только отдельного человека) и психологизма. Особенно наглядна эволюция его взглядов в направлении признания социального характера языка в истолковании фонемы – понятия, ставшего крупнейшим достижением лингвистики XIX в. и положившего начало системному подходу к изучению языка. Сначала ему казалось, что фонема лишь психическое представление («психический эквивалент звука»), а не социально детерминированная категория. И лишь через десяток лет, после попыток объединения психического и социального начала, Бодуэну удалось утвердиться в социальной сущности этой единицы и языка в целом.
Академик Л.В. Щерба, лучше других знавший научное творчество И.А. Бодуэна, в особенности его теорию фонем, писал, что заслуга этого учёного не в психологизме, а в гениальном анализе языковых явлений и в не менее гениальной прозорливости, с которой он усматривал причины их изменений.
Бодуэн де Куртенэ обогатил лингвистику многими открытиями общего и частного характера. Новизна характерна для всех его работ – общелингвистических и конкретнограмма-тических. Сам Бодуэн совокупность своих разноплановых трудов называлнеограмматизмом. Остановимся на основных его идеях и достижениях.
1. Занимаясь проблемой существования языка и методами его изучения, Бодуэн де Куртенэ подчеркивал: «В языковедении ещё, может быть, более, чем в истории, следует строго держаться требований географии и хронологии» [Бодуэн де Куртенэ 1963:1: 439].
2. Он разграничивал понятия «история» и «развитие». Отличаясь от растений и животных, которые развиваются, язык имеет лишь историю со своими хронологическими периодами и этапами.
3. Бодуэн де Куртенэ смог взглянуть на язык не только как на явление историческое (динамическое), но и «статическое»: «В языке нет ничего неподвижного. Статика языка есть частный случай его динамики». «Статика», являясь частным моментом динамики, заслуживает внимания. В этом плане понятно, почему Бодуэн настаивал на различении описательного (статического) и исторического аспектов изучения языка и, в частности, говорил не о звуковых законах, а об их результатах – чередованиях, или альтернациях, звуков (типа рука – ручка и др.). В этом подходе угадываются будущие категории Ф. Де Соссюра: синхрония и диахрония.
4. Бодуэну принадлежит первенство в исследовании процессов, протекающих в морфологической структуре слова (опрощение, переразложение и др.), тезис о «сокращении основ в пользу окончаний», а также о роли аналогии в фонетических и морфологических изменениях и в развитии языка в целом.
5. По существу, с казанской школой Бодуэна связаны такие новшества, как изучение фонетики экспериментальным способом, наблюдение над речью детей, над речевой патологией (афазия), использование транскрипции для записи устной речи и др.
6. Мировая наука обязана И.А. Бодуэну де Куртенэ целым рядом ныне употребляемых понятий и терминов: фонема (как звук-тип), морфема, лексема, графема, кинема, синтагма, морфологизация, семасиологизация, звуковая корреспонденция, корреляция, гаплология и др.
7. И.А. Бодуэна де Куртенэ можно считать предтечей социальной диалектологии (изучение «блатной музыки» и тайных языков, арго и других социолектов).
8. Наконец, надо отдать должное его работе по составлению учебных программ университетских курсов. Напр., «Подробная программа лекций Бодуэна де Куртенэ в 1877–1878 учебном году, Казань – Варшава», 320 с. Столь же тщательно готовились лекции («Из лекций по латинской фонетике», 463 е., 1898).
3.4. Фердинанд де Соссюр (1857–1913)
В жизни гениев обычно не бывает периодов ученичества. Так было и у Соссюра, француза по национальности, родившегося в Женеве и сделавшего свое открытие в 19 лет, будучи студентом первого курса знаменитого тогда Лейпцигского университета (в 1876 г.). Занимаясь индоевропейскими языками, в частности истоками гласного а, он предвосхитил закон Коллица (1879), доказавшего, что в праязыке было не три (а, г, u), а пять гласных (а, е, /, о, и). И это было сделано в Лейпциге, в цитадели младограмматизма, на глазах у знаменитых профессоров – Лескина, Бругмана и Остгофа. Через год он пишет «Трактат о первоначальной системе гласных в индоевропейских языках» (напечатан в 1879 г.), который так и не был превзойдён его именитыми учителями. В книге речь шла о «сонантическом коэффициенте», приведшем к учению о редуцированном э (шва) и ларингалам. С 1881 по 1891 гг. он работает в Париже, публикует статьи по сравнительной грамматике, анализирует метод исследования младограмматиков (преимущественно индуктивный, атомарный, без учёта системных связей). Его учениками в этот период были А. Мейе, ставший ведущим учёным в области сравнительно-исторического, а затем и социологического языкознания, и М. Граммон, лучший фонетист в Европе, и др.
Вернувшись в родную Женеву, с 1891 г. он становится экстраординарным, а через пять лет ординарным профессором. В 1906 г. ему поручают кафедру общего языкознания, где он с 1906 г. трижды читает новый для него курс, давший название его посмертно изданной книге «Курс общей лингвистики». Соссюр умер в 1913 г., а книга вышла в 1916 г. Её подготовили Балли и Сеше по тем записям, которые сохранились у слушателей лекций Соссюра, прочитанных им в 1906–1911 гг.
Книга была воспринята как откровение. В 1931 г. она вышла на немецком языке, в 1933 г. на русском. Началось её триумфальное шествие по всем лингвистическим центрам мира. К непосредственным ученикам и последователям (Мейе, Граммон, Буайе, Балли, Сеше и др.) добавились другие – француз Вандриес, бельгиец Соммерфельт, англичанин Гардинер, голландец Схрейнен, русский Карцевский и др. С каждым десятилетием их число увеличивалось. В книге было так много свежего, что едва ли не каждое принципиальное положение могло послужить основой для появления целого направления в языкознании, и не только в нём. Так и случилось. Привлекали идеи – неожиданные и простые. Завораживали одни формулировки – чёткие и образные, ставили в тупик другие – противоречивые и непонятные. Все это возбуждало интерес и желание согласиться или спорить с главным, а неясное объяснять дефектами записи его лекций студентами.
Показательно, что сначала были восприняты отдельные положения, и скоро, уже через десяток лет, они дали начало новым подходам к языку (социальному, структурно-системному, синхронно-современному, семиотически-знаковому и др.). И лишь к середине XX в. была осмыслена вся концепция и все причинно-следственные её составляющие. Как абсолютно правильное и ценное было воспринято следующее.
1. Ф. де Соссюр с предельной точностью указал на предмет лингвистики: «Единственным и истинным объектом языкознания является язык, рассматриваемый в самом себе и для себя». В этой формулировке, кстати, приведённой в заключительной части книги, содержатся три важных положения, два из которых верны, а третье вызывает недоумение и некоторыми комментаторами труда великого женевца считается не «соссюровской», а порожденной либо домысливанием издателей, либо (если это слова Соссюра) приёмом лектора: для простоты и большей чёткости всё доводить до крайности.
Первое положение: язык должен изучаться в самостоятельной науке, а не становиться попеременно объектом то биологии, то физиологии, то психологии, то социологии и т. д., которые, конечно, способны изучить его отдельные стороны, но далеко не весь язык, причём только с позиций и только методами своих наук. Второе положение – о содержании языкознания: оно должно считать изучение языка самым главным, даже «единственным», своим предметом («объектом») и не делить это право и эту обязанность ни с какой другой наукой, если не желает получить отрывочные суждения об этом сложнейшем достоянии отдельного человека и всего человечества.
2. Соссюр осознал, как нужна и важна для языка система, т. е. организация всех элементов по принципу взаимной обусловленности. Именно такое понимание устройства языка помогло ему сделать праязыковые открытия, не доступные его талантливым предшественникам.
3. В безграничной массе создаваемой, передаваемой и сохраняемой языком информации (текстах), для чего он и существует, Соссюр сумел увидеть главное, специфическое для него: «язык есть форма, а не субстанция». Он может выразить и выражает любое содержание (бытовое, научное, словесно-художественное), но сам остаётся всё-таки формой (формой выражения «означаемого»). Языковая форма имеет, таким образом, системную организацию.
4. Системная организация языковых форм возможна потому, что каждая из таких форм является знаком – знаком чего-то («означаемого, или, как потом скажет структуралист Л. Ельмслев, «плана содержания»). Связь между планом выражения, или означающего, и планом содержания, обозначаемым, мыслится как произвольная, условная, в широком смысле слова – случайная. Если соотнести это с древнегреческими теориями о появлении названий «по природе» и/или «по установлению», получается, что Соссюр придерживается второго мнения, подняв понимание слова до уровня знака. Разъясняя сущность языкового знака, он для наглядности сопоставил знаковую систему языка с другими такими системами – «письмом, азбукой глухонемых, символическими обычаями, формами приличия, военными сигналами и т. д.». Родилась идея о необходимости особой науки о знаках – семиологии, или семиотике. Так, как бы мимоходом, был указан ещё один аспект изучения языка и… ещё один повод для лингвистики в очередной раз потерять свою самостоятельность. К счастью, гораздо громче прозвучали слова Соссюра о языке как единственном «объекте» языкознания и аргументы о его специфическом назначении и общественной обусловленности.
5. Прирождённый аналитик и любитель антитез, Соссюр расщепил единую науку о языке на две противоположные: внешнюю и внутреннюю (видимо, не без влияния учения Бодуэна де Куртенэ о внешней и внутренней истории языка – см. магистерскую диссертацию Бодуэна «О древнепольском языке до XIV столетия», 1870). К внешней отходили условия функционирования языка: историческая обстановка, географическая среда, общественные факты цивилизации и других общественных явлений, к внутренней – изучение самой структуры языка, её системной организации.
6. В пользовании языком, в речевой практике людей (language) Соссюр усмотрел два явления, осознанные им как противоположные – язык (langue) и речь (parole). Язык – это система элементов языка и правил их использования в речи. Речь – конкретная, индивидуальная реализация языка. Хотя в этом разграничении легко почувствовать гумбольдтовские «ergon» (язык) и «energeia» (речевая деятельность, речь), но Соссюр довёл их противопоставление до непримиримой антиномии, связав с ней а) ещё одну антиномию – противоречие между диахронией и синхронией, б) выделение в качестве особых наук «лингвистики языка» и «лингвистики речи».
7. Оценив основополагающее значение системы для организации языка и пользующихся им людей, Ф. де Соссюр связал её с одним хронологическим моментом в жизни языка: «не может быть системы, охватывающей одновременно несколько периодов». Из этого следовало, что а) необходимо строго разграничивать и даже противопоставить синхронию и диахронию; б) для говорящих единственную реальность и ценность представляет живое состояние языка, т. е. синхрония; в) систему можно изучать и обнаружить только в единовременном (лучше всего в современном) состоянии языка. «Вполне ясно, – подчеркивал он, – что синхронический аспект важнее диахронического, так как для говорящей массы только он – подлинная реальность» [Соссюр 1933: 95]. Вопрос о системности при историческом (диахроническом) изучении языка оставался открытым.
8. Наконец, назовем ещё одно важное новшество в концепции Соссюра – валентность (valeur), или значимость, элементов языка. Её Соссюр видит на всех уровнях (ярусах) языка, но понятнее всего демонстрирует на звуках (различительных признаках фонем, как мы сказали бы теперь): «Существенное в языке чуждо фонетической природе языкового знака», и «важен в слове не звук как таковой, но звуковые различия, позволяющие отличать это слово от всех других, так как только эти звуковые различия значимы». Зерно, заключённое в этой конкретной формулировке относительно коммуникативной «ценности» не столько материальной стороны языкового факта (здесь звука!), сколько его оппозитивной противопоставленности, даст такие дружные всходы и мощное кущение, что станет методологическим принципом анализа всех сторон как структуры, так и функционирования языка.
Подобно В. Гумбольдту, Ф. де Соссюр с его разносторонними интересами и острым умом после выхода «Курса» стал кумиром и знаменем нового периода языкознания, родоначальником по крайней мере четырёх его направлений: 1) структурализма, 2) социологии языка, 3) нового этапа сравнительно-исторических исследований, 4) общей теории языка.
Много содержательного и спорного породили его антиномии: языка и речи, внутреннего и внешнего, синхронии и диахронии, «статики» и динамики и др. До сих пор образцовым является метод его работы – по возможности полнее учитывать системное строение языка в целом и его отдельных ярусов.
3.5. Неограмматика
Термин неограмматика употребил Бодуэн де Куртенэ для обозначения того направления (в изучении грамматики и языка в целом), которое возникло как оппозиция к младограмматикам и было представлено его собственными трудами и работами его учеников по Казанскому университету (Н.А. Крушевским, А.И. Александровым, С.К. Буличем, В.А. Богородицким), трудами академика Ф.Ф. Фортунатова и его московской школой, а также Ф. де Соссюром и его последователями в России и ряде других стран. В этих трёх течениях, идущих от Фортунатова, Бодуэна и Соссюра, есть единое формально-структурно-системное начало, которое и позволяло, не дифференцируя это общее, относить их к неограмматическому языкознанию. Показателен такой факт: ознакомившись с вышедшей книгой Ф. де Соссюра «Курс общей лингвистики» (1916 г. – на французском языке), Л.В. Щерба сказал: «Очень многое у Соссюра нам было давно известно от Бодуэна».
Дополнительная литература
Алпатов В.М. История лингвистических учений. Учебное пособие. 2-е изд., исправленное. – М., 1999. С. 116–141.
Амирова Т.А., Ольховиков Б.А., Рождественский Ю.В. Очерки по истории лингвистики. – М., 1975. С. 478–540.
Березин Ф.М. История лингвистических учений. – М., 1975. С. 129–198.
Звегинцев В.А. История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. Ч. I. – М., 1964. – Изд. третье, дополненное. С. 233–411.
Кодухов В.И. Общее языкознание. – М., 1974. С. 56–78.
Кондратов Н.А. История лингвистических учений. – М., 1979. С. 92– 116.
Лоя Я.В. История лингвистических учений. – М., 1968. С. 114–141, 221–228, 230–241.
Слюсарева Н.А. Теория Ф. де Соссюра в свете современной лингвистики. – М., 1975.
Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. – М., 1998.
Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. – М., 1977.
Томсен В. История языкознания до конца XIX века. – М., 1938. С. 90–102.
Хрестоматия по истории языкознания XIX–XX веков / Сост. В.А. Звегинцев. – М., 1956. С. 191–363.
Шпехт Ф. Индоевропейское языкознание от младограмматиков до первой мировой войны // Общее и индоевропейское языкознание. – М., 1956.
4. Четвёртый период языкознания. Возникновение новых направлений, их проблематика (с 20-х до 70-х годов XX века)
Начало этого периода связывают с публикацией «Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюра (1916) и расшифровкой чешским учёным Б. Грозным хеттской клинописи (1915–1917), подтвердившей правоту Соссюра относительно праиндоевропейских ларингалов, предсказанных им ещё в 1877 г. Это событие лишний раз показало значение дедуктивно-системного исследования языковых явлений, вводимых Соссюром взамен индуктивно-атомистического их рассмотрения. Работа Грозного «Язык хеттов, его структура и принадлежность к индоевропейской семье языков» (1916–1917) всколыхнула всю индоевропеистику, открыла перед ней новые горизонты, требовавшие более широких подходов и более совершенных методов обработки материала.
Для работы по-новому как нельзя лучше подходил тезис Соссюра о том, что язык есть «система, подчиняющаяся своему собственному порядку»; он освобождал язык от вмешательства в его изучение логики, психологии, социологии и других наук с их чуждых языку позиций, с применением категорий и терминологии. Размежевание между языкознанием и «сопутствующими» науками обострило необходимость постановки и решения междисциплинарных проблем, почти не ставившихся в предыдущие периоды.
Всеобщая методологическая перестройка всего отчетливее сказалась в углублении традиционной индоевропейской тематики.
4.1. Углубление традиционной индоевропейской тематики
Представление о строении древнейшего корня, о разновременности ряда фонетических и морфологических явлений (относительная хронология), об акцентуации и интонации, о семантике, синтаксических конструкциях, степени близости языковых ветвей и конкретных языков – все это стало тематикой индоевропеистики на новом этапе ее развития.
Почти весь четвёртый период языкознания не сходили с повестки дня такие вопросы, как хеттские и анатолийские языки, теория ларингалов (особых согласных – h, hh и др., в своё время названных Соссюром «сонантическим коэффициентом»), реконструкция праиндоевропейской системы вокализма в наидревнейшее и в более позднее время, теория корня и всей морфологической структуры слова, общий облик индоевропейского праязыка в древнейшей и позднейшей (накануне распада) стадиях.
По мере расширения и углубления сравнительно-исторического языкознания возникали новые проблемы и даже направления. Среди них ареальная лингвистика, глоттохронология, научная этимология, теория семантического поля и некоторые др. Первоначально эти проблемы обсуждались и решались на материалах только индоевропейских языков, их прошлого и современного состояния. Потом они были распространены на неиндоевропейские семьи – финно-угорскую, семитскую, тюркскую и ряд других.
Вовлечение в зону исследования новых данных по казалось бы хорошо изученной к этому времени индоевропейской семье (по тохарско-лувийскому и особенно хеттскому языкам) рождало сомнения в правильности уже полученных решений и выводов (в частности, относительно ряда «промежуточных» праязыков). Это вынуждало вновь и вновь обращаться к таким «дежурным» темам, как распределение языков по группам centum и sat3m («возмутителями» устоявшегося было спокойствия оказались хеттские языки – иероглифический и клинописный), выяснение истинных причин более заметного сходства между отдельными ветвями языков (в частности, между балтийской и славянской, для которых А. Шлейхер предполагал «ступенчатый» праязык, а теперь отрицалась его реальность. То же было и с италийской и кельтской ветвями: причину их сходства видели не в родстве, а в территориальной близости, в «свойстве».
Появляются работы о родстве крупнейших семей – индоевропейской, уральской, алтайской и др., объединяемых в ностратическую макросемью.
4.2. Социология языка и социолингвистика
Критикой психологического индивидуализма младограмматиков и утверждением идеи Соссюра о противопоставленности языка (общественного явления) и речи (индивидуально-психической сущности) было обусловлено зарождение в начале XX в. «социологического языкознания». Название это встречаем у самого Соссюра, хотя более развёрнутое наполнение его дали французские и швейцарские последователи Соссюра Мейе, Вандриес, Сеше, Балли и позднее примкнувший к ним бельгиец Соммерфельт.
К общественным явлениям относят почти всё, что не является природным, или биологическим. Поставить язык в один ряд со всеми другими общественными явлениями, изучавшимися в начале XX в. Дюркгеймом, Леви-Брюлем и другими социологами и этнографами – значило бы растворить его и науку о нём в социологии. Кстати, такая опасность становилась реальностью, особенно в связи с тем, что направлению давали название «социология языка».
Однако ещё Соссюр подчёркивал, что язык – особое общественное явление, отличное от многих других, особенно политических, юридических и т. п. Отличен он и от психических явлений, хотя и хранится в голове отдельных личностей и реализуется ими индивидуально.
Своеобразие языка в том, что он представляет собой систему знаков, причем знаков особого рода – и материальных (слово звучит, слово пишут), и идеальных (с ним связывают какое-то значение). Но это ещё не всё. Языковой знак (слово) не одинаков по отношению к называемому предмету и по отношению к говорящему человеку, обществу. Как название предмета знак условен, случаен, произволен и чаще всего бывает разным по языкам (напр., «стол»: русск. стол, нем. Tisch, норвеж. bord, фр. table, англ. table, коми-зырянск. пызан). Однако в отношении усвоившего его человека, говорящего, коллектива знак как бы теряет свою произвольность и становится обязательным. Именно в этом обязательном для меня и для других значении он употребляется в данное время членами этого социума и передаётся последующим поколениям.
А как быть с индивидуальном творчеством? Пожалуйста, творите, сочиняйте слова. Но помните, что язык примет в свою систему только то, что не противоречит ей, и только то, что обогатит её. Бесталанных поделок или выкрутасов язык не принимает.
Язык обществен не только по своему назначению и использованию, социальная природа проявляется и в его изменении. Периоды более быстрого и замедленного роста, более активных и менее интенсивных контактов с другими языками обусловливают характер, темпы и направления заимствований – словарных, а при длительных контактах и грамматических.
На первых этапах социологическое языкознание находилось под воздействием «социальной психологии» и потому не могло стать подлинно научным. Мешала и практика лёгкой «сдачи» языка тем дисциплинам, которые могут иметь в нём свой предмет, но не в качестве основного, а побочного. В этом плане мнение Антуана Мейе, что языкознание – часть социологии, конечно, ошибочно.
Не менее прямолинейным было и объяснение изменений в словах и фразеологии, данное Полем Лафаргом, видевшим в них (изменениях) «отражения» изменений «общественных форм и общественной идеологии, классовой борьбы и классовой психологии» (П. Лафарг «Экономический детерминизм К. Маркса», 1884; «Языки революция», 1889). И всё же, социальный аспект видения и объяснения языка проступает повсюду – и при рассмотрении культурно-исторических причин передвижения слов (лингвистическая география, или неолингвистика), и в осознании «социальной дифференциации языка», когда выявляется «социальная природа литературного языка (koine, tongue, commune) и в поле зрения и изучения попадает язык города, «специальные языки», арго и жаргоны. Большой вклад в изучение французского языка с этих позиций внёс Марсель Коэн, автор книги «Pour la socioloqie du lanqaqe» (1956).
Примерно в эти же годы (20—40-е) активизируется социологическое изучение языка и в СССР (Е.Д. Поливанов, P.O. Шор, Н.М. Каринский, Л.П. Якубинский и др.) Книга В.М. Жирмунского «Национальный язык и социальные диалекты» (1936) – лучшая среди публикаций этого периода. Но и она не свободна от крайностей и принятых в те годы формулировок вроде «язык пролетариата», «язык крестьянства», «язык господствующего класса». Эти вульгарно-социологические обозначения провоцировались так называемым «новым учением» академика Н.Я. Марра, официально поддерживаемым и господствовавшим в стране до 1950 г., до дискуссии по вопросам языкознания в газете «Правда» – дискуссии, завершившейся выступлением И.В. Сталина и изданием его брошюры «Марксизм и вопросы языкознания» (1950).
Политический авторитет Сталина, выигравшего всемирно-историческую битву с фашизмом, был так велик, что автоматически переносился на философию, социологию, на все общественные науки, в особенности же на языкознание, по которому он выступил не как рядовой участник дискуссии, а как законодатель, изрекающий истину в последней инстанции. И хотя его «гениальная» брошюра о марксизме и языке ничего принципиально нового не содержала (в лучшем случае она восстанавливала давно известные и принятые во всём мире суждения о языке как средстве общения, о его отличии от других общественных явлений: от политики, культуры и других надстроечных явлений – вспомним хотя бы Соссюра, подчеркивавшего отличие языка от политических и юридических явлений, особенно об его устойчивости и т. п.) – все равно обстановка в СССР, крупнейшей стране мира и передовой во многих отраслях науки и техники, изменилась к лучшему. Языкознанию был дан зелёный свет. И оно стало развиваться энергично, восстанавливая упущенное в годы «сумерек лингвистики» (20—40-е гг.) и ставя перед собой задачи, для решения которых имелись благодатные условия – материал почти двухсот разных языков.
Истосковавшиеся по свободному изъявлению своих научных интересов, лингвисты России и других союзных республик (ныне оказавшихся в ближнем зарубежье) быстро наверстали отставание от передовых лингвистических центров и уже в 1958 г. провели в Москве IV Международный съезд славистов, а в 1968 г. представили десятки докладов на X Международный конгресс лингвистов: и на пленарные заседания, и на секцию социолингвистики. Автору этих строк посчастливилось выступать на этой секции с докладом «Сравнительно-сопоставительное изучение социальных диалектов (на материале индоевропейских, финно-угорских и тюркских языков)».
Большим событием явилось создание Институтом русского языка труда «Русский язык и советское общество. Социолого-лингвистическое исследование в четырёх томах» (1968), а Институтом языкознания – трехтомника «Общее языкознание», первая часть которого посвящалась формам существования, функции, истории языка (1970), вторая – внутренней структуре языка (1972), третья – методам лингвистических исследований (1973).
Издавались книги и по теории языка – монографического и учебного содержания: Звегинцев В.А. История языкознания XIX–XX вв. в очерках и извлечениях. —Ч. I – М., 1964, Ч. II. – М., 1965; Кондратов И.А. Общее языкознание (курс лекций). – Ч. I. История языкознания. – М., 1972; Березин Ф.М. Очерки по истории языкознания в России (конец XIX– начало XX в.). – M.r 1968; Головин Б.Н. Введение в языкознание. – М.г 1966; Реформатский А.А. Введение в языковедение (1967); Перетрухин В.Н. Введение в языкознание (курс лекций). – Белгород, 1968; Фигуровский И.А. Введение в общее языкознание (1969); Звегинцев В.А. Очерки по общему языкознанию (1962); его же: Теоретическая и прикладная лингвистика (1968); Солнцев В.М. Язык как системно-структурное образование (1971).
В русском переводе вышли книги социологического направления европейских языковедов XX в.: Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка (1955); Вандриес Ж. Язык (1937) и др., а также общелингвистического характера: Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка // Новое в лингвистике. Вып. I, 1960; Мартине А. Основы общей лингвистики (1950); Пауль Г. Принципы истории языка (1960); Сепир Э. Язык (1934); Соссюр де Ф. Курс общей лингвистики (1933); Шухардт Г. Избранные статьи по языкознанию (1950), Есперсен О. Философия грамматики (1958) и др.
Были опубликованы труды классиков отечественной и мировой лингвистики: Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. – Т. 7. Труды по филологии. – М.; Л., 1952; Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию. Т. 1–2. 1963; Поливанов Е.Д. Статьи по общему языкознанию (1968); Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Т. 3 (1968); Фортунатов Ф.Ф. Избранные труды. Т. 1, 2. 1956–1957; Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. Изд. 2-е (1941); ЩербаЛ.В. Избранные работы по языкознанию и фонетике. Т. 1. 1958.
Выходившие с 1960 г. выпуски серии «Новое в лингвистике» ознакомили наших языковедов с макро-и микросоциологией языка (социолингвистикой) США; стали известны имена У. Брайта, У. Лабова, Дж. Гамперца, Д. Хаймса, Э. Хаугена и др. американских социолингвистов и этнолингвистов.
В России и союзных республиках занялись изучением национальных языков («языков социалистических наций»), В 60-е гг. были изданы книги: Белодед И.К. Развитие языков социалистических наций СССР. – Киев, 1969; Дешериев Ю.Д. Развитие младописьменных языков народов СССР. – М., 1958; Дешериев Ю.Д., Протченко И.Ф. Развитие языков народов СССР в советскую эпоху. – М.г 1968, тематические сборники «Язык и общество» – 1968, «Взаимодействие и взаимообогащение языков народов СССР» – М., 1969 и др., а также статьи: Денисов П.Н. Социолингвистика как наука об общественном существовании и общественных условиях развития языка // РЯШ. 1967. № 6; Аврорин В.А. Ленинские принципы языковой политики //ВЯ, 1970. № 2.
Время от времени обращалось внимание на международные вспомогательные языки: Горький М. За эсперанто //Вестник работников искусства. 1921. № 7–9; Жирков Л.И. Почему победил эсперанто? – М., 1930; Дрезен Э. Основы языкознания, теории и истории международного языка. Изд. 3-е. – М., 1932; Ахманова О.С. и Бокарев Е.А. Международный вспомогательный язык как лингвистическая проблема //ВЯ. 1956. № 6; Пей Марио. Единый язык для всех//Курьер ЮНЕСКО. 1963. № 11.
Об актуальности проблемы свидетельствует издаваемый с 1904 г. журнал «Эсперанто» и формирование на наших глазах нового направления – интерлингвистики.
Рост науки и техники диктовал лингвистическое осмысление терминологии, появление терминоведения (в трудах: Лотте Д. С. Некоторые принципиальные вопросы отбора и построения научно-технических терминов. – М.; Л., 1941; Сухов Н.К. Об основных направлениях современной терминологической работы в технике. – М., 1959).
К социальной проблематике описываемого периода имеет отношение и так называемая «Школа языкового существования», созданная японскими учёными Хаттори, Токиеда и их последователями. Подробнее о ней – в разделе 5.
4.3. Структурализм и его направления
Появление структурализма датируют 1926 годом, когда чешский лингвист Вилем Матезиус основал «Чешский лингвистический кружок». Через два года на Первом международном конгрессе лингвистов (Гаага, 1928) был оглашен манифест структуралистов, а с 1929 г. вплоть до начала Второй мировой войны издаются труды пражан соответствующей ориентации. Быстрому распространению структуралистских воззрений способствовал и основанный в Дании (Копенгаген, 1939) В. Брендалем и Л. Ельмслевым журнал «Акты лингвистики», ставший международным органом нового направления.
К середине XX в. в разных странах оформилось несколько направлений структурализма, различающихся тематикой и концептуальным своеобразием. Они получили «двойные» обозначения – по странам (центрам) и по теоретическим установкам: Пражский структурализм (функциональная лингвистика), Копенгагенский структурализм (глоссематика), Американский структурализм (дескриптивная лингвистика); свои варианты структурализма появились в Швейцарии (Женева), Англии (Лондон), в СССР.
Необычайно быстрому восхождению структурализма и изначальному его разнообразию способствовали два обстоятельства: 1) его идеи и базовые положения присутствовали в лингвистических теориях Бодуэна де Куртенэ и Фердинанда де Соссюра, 2) каждая школа из богатейшего арсенала идей своих предшественников облюбовала для дальнейшей проработки определенную часть и, не «разбрасываясь» и не размениваясь, четко определила для себя главные ориентиры и центральные направления исследовательской деятельности.
Из учений Бодуэна де Куртенэ и Фердинанда де Соссюра и их прямых последователей были взяты: положение о полной самостоятельности языкознания, которое имеет своим главным предметом язык и должно заниматься только им (причем изучать его «в самом себе и для себя»); системная организация языка в целом (как замкнутой системы) и отдельных его ярусов, звеньев, подсистем, парадигм и более мелких ячеек; установка на синхронию, на изучение языка в какой-то определенный период, в одновременном горизонтальном срезе.
Не отрицая возможности структурного изучения языка в диахронической перспективе (что было осуществлено в более позднее время), структуралисты-первопроходцы сосредоточились на синхронии, а некоторые из них даже на пан-хронии (напр., представители глоссематики).
Соссюр виделв каждой единице языка означающее (напр., в слове – его внешний облик, звучание) и означаемое (значение слова, его внутреннее содержание); в дальнейшем структуралисты и их последователи эти две стороны языкового знака обычно называли «планами»: «план выражения», «план содержания» (термины, предложенные Л. Ельмслевым). «Целеустановкой в употреблении слова является, конечно, функция (по мнению «пражцев»), а не зависимость» [Лоя 1968: 185], как считают математики и отразил в своей «глоссематике», или «алгебраической лингвистике», Л. Ельмслев.
Пражский структурализм
Представителями Пражского структурализма, или функциональной лингвистики, являлись Вилем Матезиус (1882–1945), Богуслав Гавранек (1893–1978), Йозеф Коржинек (1899–1975), выходцы из России Николай Сергеевич Трубецкой (1890–1938), Роман Осипович Якобсон (1896–1982), Сергей Осипович Карцевский (1884–1955), а также ученики В. Матезиуса – Б. Трнка, И. Вахек и др.
Основными достижениями пражского направления структурализма являются: 1) тщательная разработка учения о фонеме – ее определение, описание дифференциальных признаков, оппозиций, нейтрализаций (Н.С. Трубецкой); 2) учение о литературном языке и его нормах; 3) разграничение обычного языка («автоматизированного») и языка поэтического, анализ механизма поэтической функции языка; 4) показ того, что возможна не только синхроническая, но и историческая фонология (P.O. Якобсон), а также возможно системно-историческое изучение и других сторон языка – лексики, морфологии и синтаксиса; 5) Н.С. Трубецкой в дополнение к существовавшим понятиям «семья языков» и «ветвь языков» вводит понятие «языкового союза», обозначая им сходство языков, вызванное соседством расположения и тесными контактами их носителей (Балканский языковой союз); 6) глубокий интерес к функциональной стороне языка позволил пражанам продвинуться в изучении синтаксиса и стать родоначальниками учения об «актуальном членении предложения» (В. Матезиус, Ф. Данеш). Подробнее об этой разновидности см. в сборнике «Пражский лингвистический кружок», М., 1967).
Американский структурализм (дескриптивная лингвистика)
Название «дескриптивный» дано по методу (описательному!), которым работали американские языковеды и этнографы, находясь в окружении множества бесписьменных языков индейцев Америки. Патриархом дескриптивизма является выдающийся этнограф и лингвист США Франц Боас (1858–1942). К открытию нового метода, принципиально синхронного и объективного, Ф. Боаса и его последователей подтолкнули два обстоятельства: 1) большие структурные отличия языков Северной Америки от языков Европы и отсутствие письменности на них (все подлежавшие изучению языки аборигенов Америки существуют в устной форме), 2) полное отсутствие традиции их научного описания. Дело Ф. Боаса продолжили двое выдаюихся ученых – Эдуард Сепир (1884–1939) и Леонард Блумфилд (1887–1949). Если Э. Сепир соединил изучение языка с культурой народа и заложил основы этнолингвистики (о ней см. далее), то Л. Блумфилд, попробовав воспользоваться методами сравнительно-исторического языкознания, вынужден был искать новые методы. «При полевом исследовании незнакомых языков, когда значения языковых форм лингвисту не известны, для установления и различения единиц языка был необходим формальный критерий – сочетаемость единиц, их место в речи относительно других единиц, получивший название дистрибуции (распределение)» [АЭС 1990: 130].
В своем основном труде «Язык» (1933) Л. Блумфилд критикует младограмматизм с его психологизмом и «ментализмом» и считает, что для превращения лингвистики в точную науку необходим формальный критерий. Намечались уровни языка и уровни его «дистрибутивного анализа» (морфем, фонем, синтаксических конструкций). Приоритетной единицей признается морфема, а не слово. Основные этапы анализа фонем, морфем и более протяженных единиц-сегметов языка у дескриптивистов схожи, следовательно, наблюдается изоморфизм метода рассмотрения языка – от его мельчайших единиц до построения общей модели.
В опыте дескриптивной лингвистики ценны: 1) предложенный объективный, последовательный и обычно непротиворечивый метод описания языка, 2) описание разных типов дистрибуций, особенно «контрастирующей – неконтрастирующей», 3) разработка методов анализа фонем и суперсегментных явлений – ударения, тона и др. – в трудах Ю. Найды, 3. Харриса, Дж. Гринберга, Ч. Хоккета и др., 4) предложен метод непосредственно составляющих.
Из литературы, переведенной на русский язык важно упомянуть следующие книги: Глисон Г. Введение в дескриптивную лингвистику. – М, 1959; Хэррис З.С. Метод в структуральной лингвистике // Звегинцев В.А. История языкознания XIX–XX вв. в очерках и извлечениях. – Т. 2. – 1965; Арутюнова Н.Д., Климов Г.А., Кубрякова Е.С. Американский структурализм // Основные направления структурализма. – М., 1964.
Копенгагенский структурализм (глоссематика)
Зародившись почти одновременно с пражской, копенгагенская разновидность структурализма была представлена такими учеными, как Луи Ельмслев, В. Брёндаль, X. Ульдалль; эта школа и самим названием, и терминологией порывала связи с традиционным языкознанием. Ее принципы изложены в книге Ельмслева «Основы лингвистической теории» (1943). Главное для этих лингвистов – отношения между знаками языка, а не сами знаки: структура – это «чистые отношения чистых форм» (по учению логического позитивизма Р. Карнапа). Глоссематиков не интересует ни жизнь и история естественных языков, ни разница между естественными и искусственными языками, далеки они и от решения прикладных задач. Кажется, что в этом направлении нет ничего хорошего, но это не совсем так: «Положительное в глоссематике: 1) ведущая роль теории; 2) обобщение конкретных языковых структур; 3) глоссематика впервые указала путь синтеза языкознания с символической логикой и семиотикой» [Лоя 1968: 195].
Структурализм входил в научный обиход быстро и решительно, хотя не все принимали его безоговорочно (см., напр., критику в адрес Соссюра и структуралистов в брошюре Р.А. Будагова «Из истории языкознания. Соссюр и сосюрианство». Изд-во МГУ, 1954. с. 25–32). Совсем не принят Соссюр и структурализм японской традицией. До сих пор нет единого мнения о том, что способствовало его выдвижению в число «главных» [Лоя 1968: 178] направлений языкознания XX в. и чем объяснить его скорый закат, спустя всего полстолетия. Так, В.А. Виноградов, автор аналитической статьи о «Структурной лингвистике» в «Лингвистическом энциклопедическом словаре» пишет: «Структурная лингвистика сложилась в 20—30-х гг. 20 в. как особое направление, отличное от господствовавшего в конце 19 в. младограмматического направления». В своем развитии она прошла два этапа: первый – с момента ее возникновения и примерно до начала 50-х гг., который характеризовался преимущественным вниманием к «структуре плана выражения как более доступной строгому описанию»; второй – с 50-х до 70-х гг. (для которого характерен «поворот к изучению плана содержания и к динамическим моделям языка, в частности, развивается трансформационный анализ в грамматике»). Но с 70-х гг. она «перестает существовать как обособленное направление, противостоящее «традиционному» языкознанию» [ЛЭС: 497].
Главным в учении Соссюра и в структурализме, начавшем свое шествие в 20-е гг. и, как сказано выше, прекратившем существование в 70-е гг., было положение о системности языка. Конечно, системная организация языка замечалась и ранее. Нельзя отказать в таком подходе к описанию языка авторам «Всеобщей и рациональной грамматики» 1660 г. А. Арно и К. Лансло и даже Панини, создателю древнеиндийского «Восьмикнижия» (V в. до н. э.). И если как-то фиксировать вполне сознательный учет системного строения языка и его отдельных звеньев (подсистем), то надо вспомнить И.А. Бодуэна де Куртенэ, который за полстолетия до организационно оформившегося структурализма, в 1870 г., в вступительной лекции Петербургского университета говорил о системе и о фонеме как функциональной единице языка, а восемь лет спустя Ф. де Соссюр в своем «Мемуаре…», т. е. «Исследовании о первоначальной системы гласных в индоевропейских языках» подчеркивал: «…в поле нашего зрения оказывается система гласных в целом и что она-то и должна быть обозначена на заглавной странице нашего труда» (выделено мною. – В.Б. [Соссюр 1977: 303]). Скромно обозначив свою проблему «индоевропейским а», он подчеркнул, что «вопрос об а связан с рядом проблем фонетики и морфологии, одни из которых всё ещё ждут своего разрешения, а другие даже не поставлены» (с. 303). Речь идет о том, что решение одного вопроса связано с множеством других – как фонетических, так и морфологических, т. е. исследование всегда системно. Напомним, что именно в этой работе 21-летний Соссюр (1878) сделал открытие, ставшее эпохальным (оно подтвердилось в 1916 г. при прочтении тохарских текстов).
Почему бы не появиться структурному (структуральному) языкознанию в 70-е гг. XIX в.? Не подошло время. Гении опередили его. Симптоматично, что в 1911 г., за пять лет до выхода «Курса общей лингвистики» Соссюра, В. Матезиус, устраняя фактор времени и связанные с ним изменения, выходил на синхронное изучение языка, т. е. на системно-структурную лингвистику. Но его начинание не было подхвачено: «массовая» лингвистика еще не созрела.
Потребовался толчок и вспышка такой силы и яркости, какой мог получиться лишь от соединения «системности» и «синхронности» с включением третьего компонента – «функции». Всё это соединилось в небольшом по объему «Курсе» Соссюра, написанном просто, образно, захватывающе. Книга стала бестселлером: ее издают в 1922 г., затем в 1931-м, 1942-м, 1954-м и (в шестой раз!) в 1962 г. В 1928 г. ее переводят на японский язык и к 1950 г. издают четырежды, в 1931 г. переводят на немецкий и издают дважды. В 1933 г. появляется русский перевод (A.M. Сухотина), в 1945 г. – курс выходит в Аргентине на испанском, где его переиздают пять раз, в США – на английском (1959), в 1961 г. в Варшаве на польском (перевод Кр. Каспшик, предисловие Витольда Дорошевского), в 1967 г. – на итальянском (в переводе и с комментариями Туллио де Мауро) и на венгерском, в 1969 г. на сербохорватском, в 1970 г. на шведском (с предисловием Б. Мальмберга).
В Советской России идеи «Курса общей лингвистики» стали известны уже в 1918 г. через С. Карцевского, сделавшего в Москве доклад на диалектологической комиссии Академии Наук, и С.И. Бернштейна, выступившего в Петрограде в декабре 1923 г. на лингвистической секции Института литератур и языков Запада и Востока [Соссюр 1977: 28–29]. В последующие сорок лет единственным источником суждений о взглядах Ф. де Соссюра для большинства отечественных лингвистов был первый перевод его «Курса» на русский язык, сделанный в 1933 г.
У структурализма, как и у сосюрианства, во всех странах были сторонники и противники. Чаще всего их критиковали за методологию, за отказ от исторического подхода к языку (см. упомянутую выше работу Р.А Будагова, а также книгу А. А. Ветрова «Методологические проблемы современной лингвистики. Критический анализ основных направлений структурализма», М., 1973). Но и позже было немало публикаций как «за», так и «против» структурализма в целом и отдельных его школ. Одним из последних было выступление В. Живова и А. Тимберлейк «с тезисами для дискуссии» – «Расставаясь со структурализмом» [Вопросы языкознания 1997: № 3: 3—14].
Конечно, логически стройного и концептуально четкого, хотя и одностороннего, структурализма, каким он был в первые пять-шесть десятилетий, не стало. Но сохранился и усовершенствовался его метод, используемый ныне в теории оппозиций (оппозитивный метод – Ю.С. Степанов), в генеративной грамматике, в функциональной лингвистике, в компонентном анализе. Чтобы обозначить новый период, а, по существу, новое содержание системно-структурных исследований, стали употреблять термин структурная лингвистика, а ее метод стал использоваться не только в сравнительно-историческом языкознании, социолингвистике, психолингвистике, но и в литературоведении (ср. «французский структурализм» Леви-Строса, Барта и пр.) и других гуманитарных науках – в истории, социологии, этнологии.
4.4. Диалектология и диалектография
Внимание к диалектам было свойственно для всех периодов истории языкознания. Разница лишь в понимании их специфики и ценности для науки. В первом периоде (Бопп, Гримм и Гумбольдт) не делалось различия между письменными источниками (литературным языком) и говорами. Показательно, что первая работа немецкого диалектолога Иоганна Шмеллера вышла в 1821 г., а вторая, в четырёх частях, в 1827–1837 гг. В период младограмматизма данные живых говоров оцениваются выше литературных, поскольку диалекты существуют в естественных условиях и лучше отражают жизнь языка как природного организма. Не случайна высокая оценка, данная младограмматиками описанию родного говора, выполненному в 1876 г. Вентлером, учителем из немецкой Швейцарии. О значимости диалектных материалов свидетельствует и факт их целенаправленного сбора анкетным способом, предпринятого в том же году Г. Венкером для составления атласа. К 1886 г. (за десять лет) народные учителя прислали в Дюссельдорф-на-Рейне 40 тысяч анкет, содержащих в основном ответы по фонетике (сам «Немецкий атлас» составил шесть томов и был напечатан только в 1926–1932 гг.). Преемник Венкера Ф. Вреде организовал описание местных говоров методом бесед с говороносителями, занявшее 42 тома (они выходили с 1908 по 1942 г. под его редакцией). Так что немецкие диалекты изучались активно не только во второй, но и в третий, и в четвёртый периоды истории языкознания. От Вреде эстафету принял Т. Фрингс, выпустивший свой первый труд в 1913 г., а последующие в 1948 и др. годы.
Иначе подошли к делу французы. Начав работу позже немцев, но применив более разреженную сетку (639 пунктов на всю Францию), Ж. Жильерон и Э. Эдмон, сосредоточив главное внимание на лексике, сумели составить 12-томный лингвистический атлас Франции и опубликовать его намного раньше немцев – в 1902–1910 гг. Вслед за французским и немецким атласами пошли другие европейские атласы – Италии, Швейцарии и т. д.
В России идея составления географических карт языков вынашивалась с середины XIX в. И.И. Срезневским и В.И. Ламанским, в 80-е гг. Бодуэном де Куртенэ, но осуществить её было суждено лишь в 1915 г. («Диалектологическая карта русского языка в Европе»),
В 1945 г., сразу после окончания Великой Отечественной войны, началось невиданное по масштабам изучение русских народных говоров для «Диалектологического атласа русского языка» (ДАРЯ), которое завершилось публикацией одного из тринадцати запланированных томов («Атлас русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы», 1957), а затем сведением собранных материалов по центральной части России и изданием трёх томов «Диалектологического атласа русского языка. Центр Европейской части СССР (ДАРЯ). Первый выпуск (Альбом первый. Фонетика. Карты) вышел в 1986 г., второй выпуск, посвященный морфологии, – в 1989 г., а по третьему выпуску издан «Указатель» и первый полутом с картами по лексике (1997). Полутом с картами по синтаксису находится в печати. Часть лексических карт в упрощенном варианте издана в книге «Язык русской деревни. Школьный диалектологический атлас. Пособие для общеобразовательных учреждений» (М., 1994).
Белорусы обследовали всю территорию своей республики и издали образцовый «Диалектологический атлас Белоруссии», отмеченный Государственной премией. Работой над русским и белорусским атласами руководил чл. – корр. АН СССР Р.И. Аванесов, редактор книги «Вопросы теории лингвистической географии» (1962). За период работы над атласом сотни научных сотрудников академических институтов, преподавателей вузов и студентов прошли отличную школу научно-исследовательской работы. И так было во всех республиках необъятной страны.
Несколько позднее, но параллельно с ДАРЯ, шла работа над «Общеславянским лингвистическим атласом» (ОЛА), а также над «Лингвистическим атласом Европы» (ЛАЕ). Ни тот ни другой пока не завершены. С их окончанием будет сделан реальный (в теоретическом и практическом плане) шаг к осуществлению мечты выдающегося французского лингвиста-энциклопедиста, историка языка, социолингвиста и диалектолога Антуана Мейе.
Диалектология имеет несколько аспектов изучения своего объекта – говоров. Их описывают а) монографически – как самостоятельную коммуникативную единицу, как средство общения сельских жителей (диалектный язык); б) их изучают как совокупность говоров, имеющих одинаковые черты (на карте они показываются тем или иным цветом и/или изоглоссами); в) их группируют по степени сходства – различия в наречия, в диалектные группы; г) диалектография по отдельным чертам вычленяет диалектные зоны, по пучкам изоглосс – менее крупные, но более сходные группы и т. д.; д) изучают их историю и современное состояние, применяя описательный, сравнительно-исторический, структурный и другие методы современной лингвистики.
4.5. Неолингвистика
Неолингвистика, как и многие другие направления и концепции, возникла в противовес догмам младограмматизма и первоначально была представлена работами итальянских языковедов – Гранцо Исайя Асколи (1829–1907), автора теории субстрата, выдвинутой им ещё в 70-е гг. XIX в., Джулио Бертони (1878–1942), Маттео Бартоли (1873–1946), Витторе Пизани (род. В 1899), Джулиано Бонфанте (род. в 1904).
Как направление неолингвистика существует с середины 20-х гг. XX в. Суть этого направления изложена в статье Д. Бонфанте «Позиция неолингвистики» (1947). Подробнее об этом направлении будет сказано при освещении пятого, современного периода языкознания (в разделе «Ареальная лингвистика»), А сейчас укажем на её истоки.
В самом начале 70-х гг. XIX в. два ученика Шлейхера – Г. Шухардт и И. Шмидт, не удовлетворённые его «родословным древом», выступили со своими оригинальными теориями: первый – с теорией «географического выравнивания» языков (в лейпцигской лекции, 1870), второй – с «волновой теорией» (1872). Эти теории объединяло то, что в объяснение сходства между языками они включили пространственно-географический фактор. Этот же фактор учитывался и диалектологией, особенно диалектографией, оперирующей такой реалией, как изоглосса. Близко проходящие изоглоссы («пучки» изоглосс) интерпретируются как границы диалектов; переплетения разных изоглосс показывали сложные и разновременные сближения и расхождения между диалектами и диалектными областями (зонами). Больше стали верить в реальность изоглосс, чем в единство языков и местных говоров.
По мнению Бонфанте, в языке есть «только огромное количества диалектов, изоглосс, переходов и разного рода волнообразных движений – безграничное и бурное море борющихся друг с другом сил и течений» (цит. по: [Звегинцев 1964: 339]). Постоянные движения приводили к обмену лексикой между контактирующими языками и даже к их более глубокому смешению. «С бесконечным дроблением языка идёт рука об руку бесконечное языковое смешение», – подчеркивал Г. Шухардт.
Постепенно «волновая» и «изоглоссная» концепции были спроецированы в индоевропейское прошлое. Заговорили о неоднородности, о диалектном членении праязыка, о пёстрой картине его изоглосс. Оказалось, что он не монолитен (И. Шмидт, А. Мейе и др.) и не однослоен. Это открытие поставило под сомнение реальность «промежуточных» праязыков (балто-славянского, италийско-кельтского и др.). Уточнились связи между языками групп centum (западной зоны) и satam (восточной зоны).
Картина ветвящегося языкового «древа» сменилась представлениями о сходстве языков по совместному, «союзному» существованию. Установление связей одного языка с соседними языками, а их, в свою очередь, с другими соседними открывало такие перспективы, что некоторым из неолингвистов (М. Бартоли, А. Тромбетти) захотелось выявить их связи в мировом масштабе. Не разделяя идеи о глобальных связях и смешанности характера всех языков, отметим, что умеренные неолингвисты дали немало полезного для реальной истории образования индоевропейских языковых ветвей и отдельных языков (см.: Порциг В. Членение индоевропейской языковой области. – М., 1964). В частности, «изоглоссная» аргументация оказалась убедительнее, чем поспешные заявления типа: «вопрос об общности балто-славянских языков… ныне можно считать разрешенным в положительном смысле» (Т. Лер-Сплавинский). «По вопросу об отношениях славянских и балтийских языков, – возражал ему Я.В. Лоя, – остаётся в полной силе сказанное одним из основоположником языкознания – Раском, что обе ветви являются совершенно самостоятельными ветвями, между которыми нет никакого особого родства, за исключением их общего происхождения из индоевропейского праязыка, но в силу географической близости возможны те или другие позднейшие сближения» [Лоя 1968: 165]. Со временем неолингвистика переросла в ареальную лингвистику.
4.6. Синхроническое языкознание
Весь XIX в. можно считать периодом, когда господствовал подход к изучению языка с исторических позиций. Лишь историческое, или, говоря словами Соссюра, диахроническое, языкознание признавалось научным. Даже младограмматизм с его призывом к исследованию живых языков и диалектов по существу делал это не ради них, а для того, чтобы полученные таким образом данные обратить на пользу восстанавливаемого праязыка или интересовавших младограмматиков звуковых законов.
А в XX в., следуя призыву Бодуэна де Куртенэ, прозвучавшему в 1904 г., начали различать в теоретическом и в практическом плане грамматику историческую и грамматику «одновременного языкового состояния» [Бодуэн де Куртенэ 1963: II: 101]. Этот момент можно условно принять за официальное рождение неограмматизма как особого направления в языкознании, хотя у его родоначальников, стремившихся выделить в языке исходную единицу, она не совпадала: Фортунатов исходил из формы слова, Бодуэн – из учения о морфеме, позднее – фонеме и морфеме, Соссюр – из понятия парадигмы.
Недостаточность одного сравнительно-исторического подхода к изучению даже исключительно индоевропейских языков стала очевидной. Поиски более широкой теории, приложимой к языкам разных систем (семей), привёл к типологической теории, ориентированной на изучение структуры языка, имеющей системную организацию.
Лучше всего структура и система уясняются в одновременном, горизонтальном разрезе языка. Удобнее всего для этого – состояние языка в момент его описания, т. е. современное исследователю. Так логика науки подвела к возникновению лингвистического модернизма, доказавшего, что современный язык – такой же законный предмет языкознания, как и его история. Скоро были обнаружены огромные практические достоинства синхронного языкознания – учения о литературном языке, его нормах, стилях, формах функционирования, об использовании в средствах массовой информации, в художественной литературе, в школе, в культурной жизни человека и всего народа.
Модернизм сформировался в Петербурге в 1910–1920 гг. под влиянием идей Бодуэна де Куртенэ. Его представителями стали Л.В. Щерба, А.А. Шахматов, А.А. Пешковский. В 1911–1912 гг. Шахматов впервые начинает чтение университетского курса по современному русскому литературному языку, вскоре издаётся его «Синтаксис русского языка» (1925, 1927). Несколько раньше выходит «Русский синтаксис в научном освещении» А.М. Пешковского. В 1941 г. опубликован «Очерк современного русского литературного языка» А.А. Шахматова.
Возникают периодические журналы («Родной язык в школе» – 1914 г., переименованный в 1936 г. в «Русский язык в школе»), серии («Русская речь», «Язык и мышление»), научно-популярный журнал «Русская речь» (с 1967 г.).
Открываются академические институты: Институт языка и мышления, преобразованный в 1944 г. в Институт русского языка, Институт языкознания (1952).
В 1947 г. В.В. Виноградов, ученик Л.В. Щербы, издает монументальный труд «Русский язык (Грамматическое учение о слове)», вошедший в золотой фонд русской и мировой грамматической мысли. На базе трудов В.В. Виноградова и его учеников возникает новая университетская дисциплина «История русского литературного языка».
Возродилась практика подготовки и издания академических трудов. Так, в 1952–1954 гг. выходит двухтомная «Грамматика русского языка»; в 1970 г. – «Грамматика современного русского литературного языка»; монографии: «Исследования по общей теории грамматики» (1968); Мещанинов И.И. Эргативная конструкция в языках различных типов (1967); Обнорский С.П. Очерки по истории русского литературного языка старшего периода (1946); Солнцев В.М. Язык как системно-структурное образование (1971), Звегинцев В.А. Семасиология (1957); сборники: «Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие» (1969); «Фонетика, фонология, грамматика» (1971); а также пятитомный труд «Языки народов СССР» под ред. акад. В.В. Виноградова (1966–1968).
О содержании лингвистических исследований за период с 1917 по 1967 и по 1977 г. дают представление обзоры типа: Чемоданов Н.С. 50 лет советского языкознания // РЯШ. 1967. № 5.
Синхронное описание языка полнее всего реализовались в области лексикологии, семасиологии и особенно в лексикографии. Во многих странах мира были изданы большие словари (кстати, типологию лексикографических трудов дал Л.В. Щерба в статье «Опыт общей теории лексикографии»: Изв. АН СССР, ОЛЯ, 1940. Вып. 3); у нас – «Толковый словарь русского языка» под ред. Д.Н. Ушакова (1934–1940), «Словарь русского языка» С.И. Ожегова (1949 г. и с большими добавлениями в последующие годы), «Словарь современного русского литературного языка» в 17-и томах (1950–1965), «Словарь русского языка» в 4-х томах (1957–1961), «Словарь синонимов русского языка» в 2-х томах под ред. А.П. Евгеньевой (1970).
Почти во всех крупных странах мира в это время шло изучение стилистики, языка художественной литературы, ортологии и риторики (неориторики).
Ещё А.А. Потебня, крупнейший лингвист-теоретик, литературовед и любитель народной поэзии, в магистерской диссертации «О некоторых символах в славянской народной поэзии» (1880) обратил внимание на образность и поэтичность слова. Этот момент учитывал он и в занятиях по семантике, этимологии, по языку фольклора, при рассмотрении связи языка с мышлением и психикой человека. Ценно то, что Потебня говорит об образности не только языковых единиц (элементов), но об огромных, безграничных возможностях образности, рождающейся в речи из сочетания таких элементов. «Элементарная поэтичность языка, т. е. поэтичность отдельных слов и словосочетаний, как бы это ни было ощутимо, ничтожно по сравнению со способностью языка создавать образы как из образных, так и из безобразных сочетаний слов» [Потебня 1958:1 —II: 9].
Идеи А.А. Потебни об экспрессивной функции языка нашли отклик в трудах русских и ряда европейских учёных. Так,
Шухард писал о том, что язык, порождённый необходимостью, достигает своей вершины в искусстве [Шухардт 1950].
С учением о символическом мышлении Г. Штейнталя и А.А. Потебни и их последователей, видевших в образности слов прототипы художественных произведений, связывают «лингвистический эстетизм» немецкого филолога Карла Фосслера (1872–1949). Вслед за ними, а также за итальянским философом-интуитивистом Б. Кроче (Сгоссе, 1866–1952), Фосслер смотрит на язык как на продукт индивидуального творчества. Стремление к экспрессии и эстетике и сам акт творчества талантливых людей признается за стимул и отправной момент в развитии языка. Рядовые носители языка («масса»), принимая созданное писателями, лишь шаблонизируют его и распространяют в пространстве и времени. В аспекте этой концепции отодвигается на второй план общественно-коммуникативная функция языка. Её замещает экспрессивно-эстетическая. Вместо изучения всех форм существования языка внимание сосредоточивается на литературных произведениях, их стилистике, выявлении роли отдельных писателей в формировании общих и стилистических норм языка литературного.
В России своеобразным продолжением идей Потебни и Бодуэна стало «Общество изучения теории поэтического языка» (ОПОЯЗ), существовавшее в 1916–1926 гг. в Петербурге и Москве. Правда, своими непосредственными теоретиками опоязовцы считали Л.П. Якубинского и Е.Д. Поливанова, их учение о поэтической речи. Суть учения: обычный язык автоматизируется, превращается в клише, в штамп, поэтический язык актуализирует, подчеркивает внимание к форме (из означающего она становится обозначаемым). Между тем связь идей ОПОЯЗА с концепцией «образности» текста (Потебня), с учением о сознательном и «бессознательном» в мышлении человека (Бодуэн де Куртенэ) и даже с учением о форме слова и формализмом Ф.Ф. Фортунатова несомненна.
Гораздо большими успехами, чем у опоязовцев, отмечены труды В.В. Виноградова по истории литературного языка («Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX веков», 1938), по языку писателей («Язык Пушкина», «Стиль Пушкина»), по языку художественных произведений («О языке художественных литературы» (1959), «О теории художественной речи» (1971), по лингвостилистике – «Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика» (1963), «Проблема авторства и теория стилей» (1961).
На теорию языковой образности А.А. Потебни, филологические толкования поэтических произведений А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, труды акад. В.В. Виноградова и проф. Б.А. Ларина о языке художественной литературы опирались составители программ и методических разработок по новому практикуму – лингвистическому (а по существу, филологическому) анализу художественного текста, введенному в вузовское преподавание в 1973 г.
4.7. Порождающая грамматика
Порождающую грамматику считают частью генеративной лингвистики и одной из ветвей формального направления в науке о языке. Ее возникновение связано с работами американского лингвиста Н. Хомского, предложившего в 50—60-е гг. описание языка по формальным моделям. Сердцевиной этого направления являются различение компетенции – знания языка и употребления – использования его в речевой деятельности. Названную грамматику интересуют три компонента: синтаксический, семантический и фонологический. Главным является синтаксический, так как он содержит механизм порождения предложений. В предложении различают два уровня «синтаксического представления»: поверхностный и глубинный. Содержательную сторону описания синтаксиса составляет, во-первых, «исчисление всех глубинных и поверхностных структур», и, во-вторых, установление соответствий между ними. Глубинных меньше, чем поверхностных. Они принимаются за прототипы поверхностных структур (предложений). Внутри глубинных структур выделяют «именную группу» (будущая группа подлежащего) и «глагольную группу» (сказуемое).
Анализ соответствий между глубинными и внешними структурами осуществляется с использованием большого количества символов, помогающих получить детально обозначенное и размеченное «дерево непосредственно составляющих». В процедуре анализа используется и так называемый «лексикон порождающей грамматики», представляющий собой семантический компонент. Глубинная структура обычно включает целую систему вставленных друг в друга предложений, т. е. она иерархически организована. «С формальной точки зрения благодаря трансформациям могут совершаться четыре типа операций над символами: добавление, опущение, перестановка и замена символов». Трансформации выявляют регулярные соответствия, например, между синонимическими предложениями (типа Хомский создал теорию порождающих грамматик и Хомским создана теория порождающих грамматик), а также между близкими по смыслу и структуре синтаксическими конструкциями. РаботыХомского «Синтаксические структуры», «Аспекты теории синтаксиса» и др. и его последователей, несмотря на определенные недостатки, а) привлекли внимание к описанию обычно «ненаблюдаемых» объектов синтаксиса, б) способствовали более четкому эксплицированию описываемых явлений и подготовки их для обработки с помощью ЭВМ. Указанные выше работы переведены на русский язык (1962, 1972). Доступное описание сути генеративной лингвистики с приведением «Схемы устройства трансформационной порождающей грамматики» дано в статье А.Е. Кибрика [АЭС: 98–99].
О современном состоянии генеративной лингвистики, ее приложении к материалу русского и других языков, а также о ее связях с психолингвистикой, функциональной и когнитивной лингвистикой можно узнать из обзоров, сделанных российскими и американскими авторами «Фундаментальные направления современной американской лингвистики. Сборник обзоров» (1997).
Дополнительная литература
Алпатов В.М. История лингвистических учений. Учебное пособие. 2-е изд., исправленное. – М., 1999. С. 142–226.
Амирова Т.А., Ольховиков Б.А., Рождественский Ю.В. Очерки по истории лингвистики. – М., 1975. С. 541–549.
Арутюнова Н.Д., Климов Г.А., Кубрякова Е.С. Американский структурализм // Основные направления структурализма. – М., 1964.
Березин Ф.М. История лингвистических учений. – М., 1975. С. 214–301.
Глисон Г. Введение в дескриптивную лингвистику. М., 1959;
Хэррис 3. С. Метод в структуральной лингвистике // Звегинцев В.А. История языкознания XIX–XX вв. в очерках и извлечениях– Т. 2. 1965.
Кодухов В.И. Общее языкознание. – М., 1974. С. 78–98.
Кондратов И.А. История лингвистических учений. – М., 1979. С. 117–162.
Лоя Я.В. История лингвистических учений. – М., 1968. С. 178–195.
«Пражский лингвистический кружок». – М., 1967.
Слюсарева Н.А. Теория Ф. де Соссюра в свете современной лингвистики. – М., 1975.
Сумерки лингвистики. Из истории отечественного языкознания. Антология / Сост. В.Н Базылев и В.П. Нерознак / Под общей ред. д-ра филол. наук проф. В.П. Нерознака. – М.: Academia, 2001.
Фундаментальные направления современной американской лингвистики. Сб. обзоров / Под ред. А.А. Кибрика, И.М. Кобозевой и И.А. Секериной. Изд-во МГУ, 1997.
Хрестоматия по истории языкознания XIX–XX веков / Сост. В.А. Звегинцев. – М., 1956. С. 408–443.
Шпехт Ф. Индоевропейское языкознание от младограмматиков до первой мировой войны // Общее и индоевропейское языкознание. – М., 1956.
5. Современный период в истории языкознания. 70-е гг. XX в. – начало XXI в.
5.1. Особенности современного периода лингвистики
Современный, пятый, период в истории языкознания, если отсчет вести от возникновения подлинно научной теории языка в XIX в., отличается рядом существенных черт.
1. Он характеризуется сосуществованием многих направлений без явных признаков монополии одного из них, что однако не исключает доминирования нескольких теорий по сравнению со многими остальными. Ниже мы остановимся на основных направлениях лингвистики конца XX в. и начала XXI в. и лишь назовем менее распространенные.
2. В качестве главного объекта изучения продолжает оставаться естественный язык (языки), который, как и в оба периода XIX в. и в два предыдущих периода XX в., исследуется комплексно – в четырех основных аспектах, подсказанных его сущностью (язык – система знаков, предназначенных для общения) и объективными условиями его жизни; он исследуется в пространстве, во времени, в структуре и в функции. Конечно, интенсивность исследований в названных аспектах была разной, не равны и полученные результаты. Их соотношение было динамичным и зависело от представлений о теоретической и практической важности каждого.
3. Ощущалась определенная зависимость и от проблематики первой трети XX в., а также направлений и школ, сформировавшихся к 70-м гг. XX в. Можно констатировать, что и в описываемый период, несмотря на его своеобразие, особенно из-за множества сосуществующих, взаимно дополняющих, а иногда и явно контрастирующих теорий и концепций, во многом сохранялись от предыдущих периодов и аспекты, и предметные области, и методы их изучения. Ни одно из серьезных достижений начала и середины XX в. не было отброшено.
4. Однако иной стала языковая ситуация в большинстве регионов и стран мира, другими, более прагматичными стали требования к лингвистической науке: от нее ждут большей объяснительной силы. Исследователи, «встав на плечи» своих многоопытных учителей, стали точнее, осмотрительнее и изощреннее. Эти и многие другие обстоятельства, к которым следует отнести и логику самой науки, обусловили наступление нового этапа не только в языкознании отдельных стран, но в лингвистике всего мира.
5. Наиболее заметная черта лингвистики конца XX – начала XXI вв. – это параллельное и нередко одновременное изучение языка в нескольких направлениях и аспектах, как вполне традиционных, существовавших ранее (в одном или нескольких предшествующих периодах), но несколько модифицированных на новом витке восходящей спирали, так и совершенно новых, по крайней мере без прямых связей с направлениями рассмотренных выше периодов.
Общее представление о тематическом разнообразии науки о языке данного периода можно составить по тематике Международной конференции «Лингвистика на исходе XX века: итоги и перспективы», проведенной в феврале 1995 г. на базе Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. По количеству представленных докладов (заявлено 370 докладов, состоялось 290), разнообразию тематики секций и докладов, по географии участников (кроме российских докладчиков более чем из 50 городов, в конференции участвовали ученые 30 зарубежных стран – Германии, США, Великобритании и др.) эту конференцию можно считать вполне репрезентативной.
Тематика пленарных докладов в принципе соотносилась с тематикой секций, которых было около 20, в том числе: 1. Лингвистическая историография; 2. Общие проблемы языкознания; 3. Лингвистика XXI века; 4. Фонетика и фонология; 5. Морфология; 6. Морфемика и словообразование; 7. Синтаксис; 8. Семантика; 9. Лексикология и лексикография; 10. Лингвистика текста и структура дискурса; 11. Когнитивная лингвистика; 12. Компаративистика и типология; 13. Психолингвистика; 14. Социолингвистика; 15. Этнолингвистика; 16. Малые языки; 17. Компьютерная лингвистика; 18. Лингводидактика.
6. Современный этап характеризуется не только сосуществованием разных школ и направлений, но и наличием междисциплинарных направлений вроде указанных выше в названиях секций социолингвистики, психолингвистики, этнолингвистики, а также когнитивной лингвистики, не менее «сборной» социопсихолингвистики и ряда других лингвистик. Они представляют собой не механическое объединение (сложение) двух наук или их методов, а качественно новые направления – с выделением новых предметов исследования, выработкой нового понятийно-терминологического аппарата, получением новых научных результатов.
7. Приметой современного периода можно считать и изучение языка с позиций разных наук, причем без игнорирования его самобытности как особого явления и без покушения на самостоятельность науки (наук) о нем – лингвистики в ее разных ипостасях.
8. В конце XX в. наука о языке приобретает подлинно международный характер, что проявляется: а) в коллективной разработке больших научных тем, таких, как Лингвистический атлас Европы (ЛАЕ), Общеславянский лингвистический атлас (ОЛА), национальные диалектологические атласы типа «Диалектологического атласа русского языка» (ДАРЯ) и др.; б) в регулярном проведении масштабных международных конгрессов, съездов, а также проблемно-тематических симпозиумов; в) в создании компьютерных баз данных о языках отдельных территорий и всего мира; г) в оперативной передаче научной информации, в обмене ею на всех стадиях разработки проблемы (через использование компьютеров, факсов, оргтехники, новых типографских технологий, ускоряющих издание книг и передачу заключенной в них информации на значительные расстояния); д) в использовании интернета как мощнейшего фактора интернационализации науки, получения коллективных результатов и возможности их использования в прикладных целях; напомним, что уже теперь некоторые международные конференции проводятся по интернету.
9. Отличительная черта науки нашего времени – множественность лингвистических центров: а) международных – они появились во всех цивилизованных странах и б) национальных (например, в России центры сложились почти во всех крупных городах Европейской и Азиатской части страны, причем некоторые из них – по качеству получаемой продукции и ее востребованности мировым сообществом работают на уровне международных центров). Так, наука о русском языке в его современном состоянии и истории (русистика) представлена не только академическими институтами Москвы, Петербурга, Новосибирска и кафедрами ведущих вузов России, но и ближнего (Белоруссия, Украина и др.) и дальнего зарубежья – славянских (Польши, Словакии, Чехии, Болгарии, Югославии и входивших в ее состав республик) и неславянских стран (Германии, Венгрии, Франции, Испании, Италии, многих англоязычных стран – США, Великобритании, Канады, Австралии, скандинавских стран – Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, в азиатском регионе – Китая, Индии, Вьетнама, Японии и др.).
10. Особенно активно росли исследовательские региональные центры в России и других странах в связи с разработкой местных архивных материалов и изучением народных говоров, фольклора и этнографии регионов. Сбору полевого и архивного материала и его систематизации способствовала и получившая широкое распространение практика выпуска областных энциклопедий. Так, в «Пензенской энциклопедии» помещено около 50 статей лингвистического содержания.
11. Привлечению внимания к вопросам лингвистики, филологии и культуры способствовало и проведение общественно-культурных мероприятий (типа «Дней славянской письменности»), а также собственно научных конференций, например: «Кирилл и Мефодий. Духовное наследие», Калининград, май 2001 г.
12. При всеобщей активизации лингвистической работы изменилась и роль ее лидеров: они перестали быть кумирами и единоличными создателями больших направлений и школ, хотя роль авторитета в науке сохраняется. Так, в России заметно благотворное воздействие трудов акад. Ю.С. Степанова, Б.А. Серебренникова, Вяч. Вс. Иванова, О.Н. Трубачева, Н.И. Толстого, чл. – корр. РАН В.М. Солнцева, Ф.П. Филина, проф. А.Ф. Лосева, М.В. Панова, А.В. Бондарко и ряда др.
13. Усложнились методы исследования, к традиционным добавились новые: индуктивно-дедуктивные, многооперационные, инструментальные, особенно в связи с инженеризацией некоторых отраслей лингвистики и смежных с нею наук, и т. п.
14. На наших глазах происходит филиация ранее единых наук и направлений (славистика выделяет в качестве самостоятельных отраслей палеославистику, дешифровку письменностей и др.; интерлингвистика, помимо занятий вспомогательными языками (типа эсперанто, новиаль), начинает интересоваться вопросами языкового планирования, воздействия человека на язык, международной стандартизацией терминологии [Кузнецов 1984]). Растет число предметных областей, ощущающих себя самостоятельными направлениями и нередко претендующих на статус особых лингвистик: онтолингвистика, тендерная лингвистика, квантитативная лингвистика, юрислингвистика, лингвистика цветообозначений, а также речевая коммуникация, межкультурная коммуникация, лингвокультурология, вариантология, герменевтика.
Определенную дифференциацию в науку о языке вносят научные школы. Например, как о развивающейся и в наше время говорят о Московской лингвистической школе (МАШ), создателем которой был акад. Ф.Ф. Фортунатов (ниже будет сказано о нескольких поколениях этой школы, придерживающихся единых научных принципов); есть основания говорить о Петербургской, а также, хотя и с меньшими основаниями, о Казанской лингвистических школах. Одной из крупнейших в отечественном и мировом языкознании является Виноградовская школа (о В.В. Виноградове и его школе см. [ЭРЯ: 69–71]), возникшая в 40—50-е гг. XX в. и активно функционирующая в настоящее время, причем во всех разделах и подразделах языкознания – в области историко-лингвистических дисциплин, стилистики в ее нормативной (культура речи и др.) и историко-функциональной разновидностях (функциональные и авторские стили), в области дисциплин, дающих системное описание литературного языка (фонетики, лексики, фразеологии и др.), языка художественной литературы и языка писателей, в истории филологических учений. Идеи творчески разрабатывали его ближайшие коллеги по Институту русского языка (ныне носящего его имя), а также расширяют и углубляют ныне здравствующие ведущие ученые России и Европы (В.Г. Костомаров, Е.М. Верещагин, А.В. Бондарко, Е.А. Земская, Н.Ю. Шведова, Н.М. Шанский, Л.П. Крысин, В.В. Лопатин, И.С. Улуханов, Г.А. Золотова и др.). Кроме общелингвистических школ (типа Московской, Пражской, Виноградовской) имеются школы в пределах разработки отдельных проблем (напр., Московская и Ленинградская (Петербургская) фонологические школы), а также концептуальные школы (японская школа «языкового существования»), 15. Интенсификации научных исследований способствуют правительственные фонды поддержки авторских и издательских проектов (например, Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ), Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), совместные фонды Министерства образования Российской Федерации и РГНФ), конкурсы альтернативных учебников, авторских программ, интегрированных курсов; получают развитие и неправительственные фонды.
Возрастает и роль издательств в объединении творческого потенциала ученых и преподавателей вузов при подготовке новых учебников и целых учебных комплексов по филологическим наукам для вузов и школ (например, издательства «Наука» и «Флинта» в 2001–2002 гг. выпустили более десятка книг по языкознанию).
5.2. Краткая характеристика основных направлений лингвистики нашего времени
История языкознания
Осмысление истории языкознания. У нас эта традиция была заложена «Очерками истории языкознания в России» (1904) С.К. Булича и с небольшими перерывами продолжается и поныне, причем с более широким охватом во времени – начиная с истоков науки о языке в древности – ив пространстве (см. систематические обзоры «Новой литературы…» по отечественному языкознанию и выпуски серии «Новое в (зарубежной) лингвистике», реферативные обзоры и сборники). Этому способствовали и крупномасштабные конференции, особенно активизировавшиеся к концу XX столетия, которые подвели итоги ушедшего столетия и представили прогнозы на новое время. Так, в 1979 г. Институт научной информации по общественным наукам подготовил научно-аналитический обзор «Проблемы советской историографии науки о языке», в котором дано описание 216 монографических работ и статей историографического содержания как по отечественному, так и по зарубежному языкознанию в основном с середины 30-х гг. XX в. до 1972 г.
Были изданы труды таких языковедов, как М.В. Ломоносов, А.Х. Востоков, И.И. Срезневский, Ф.И. Буслаев, А.А. Потебня, Ф.Ф. Фортунатов, А.И. Бодуэн де Куртенэ, Н.В. Крушевский, Е.Д. Поливанов, и других отечественных ученых. Не были забыты и зарубежные классики. В научных журналах печатались статьи, например, о трактате Данте «О народном языке», статьи (часто в связи с изданием их работ или юбилейными датами) о Галилео Галилее, о Э. Сепире, статьи-анализы о Ф. де Соссюре, Ж. Вандриесе, А. Мейе, Г. Шухардте,
Ш. Балли, Н. Трубецком, Г. Глисоне, Л. Блумфилде, Э. Бенвеиисте, У. Чейфе, а с началом выхода серии «Новое в лингвистике» (позднее – «Новое в зарубежной лингвистике») – о М. Сводеше, Б. Уорфе, Л. Ельмслеве, С. Ульмане, Ч. Фризе, Р. Якобсоне, А. Мартине, Н. Хомском и др. Кругозор расширялся благодаря изданию хрестоматий: «Античные теории языка и стиля» (1936) И.М. Тройского, «Хрестоматия по истории языкознания XIX–XX веков» (1956) и «История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях» (1964, 1965) В.А. Звегинцева; сборников типа «Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике», «Основные направления структурализма» (1964). Были опубликованы материалы о В.А. Богородицком, И.В. Ягиче, А.И. Соболевском, Н.Я. Марре, И.И. Мещанинове, М.Н. Петерсоне, Л.В. Щербе, В.В. Виноградове.
Анализом лингвистических взглядов отдельных авторов и направлений (школ, кружков типа «Пражского лингвистического кружка») занимались чаще всего крупные ученые, а также опытные преподаватели высшей школы (Р.А. Будагов, А.М. Сухотин, P.O. Шор, Ю.С. Степанов, В.Н. Ярцева, М.М. Гухман, А.В. Десницкая, П.Я. Черных, С.Д. Кацнельсон, Н.А. Кондратов, Вяч. Вс. Иванов, В.И. Кодухов, Ф.М. Березин, В.А. Кочергина, Н.Д. Арутюнова, Т.А. Дегтерева, Н.А. Слюсарева, Э.А. Макаев, А.А. Леонтьев и др.).
Следует оценить и труд создателей учебных книг по истории лингвистических учений – В.И. Кодухова, Н.А. Кондрашова, Я.В. Лой, В.М. Алпатова, Т.А. Амировой, Б.А. Ольховикова, Ю.В. Рождественского, Б.П. Ардентова, Б.Н. Головина и др.
Почти одновременно с публикациями книг отечественных лингвистов-историографов выходили книги и зарубежных историков языкознания. Среди них назовем такие солидные сборники, как: Arens Н. Sprachwissenschaft (Der Gang ihrer Entwicklung von der Antike bis zur Gegenwart). Freiburg-Alber, 1955. – 567 s.; Coseriu E. Die Geschichte der Sprachphilosophie von der Antike bis zur Gegenwart. – Stuttgart, 1969. Teil 1. – 161 s., Stuttgart, 1972. Teil 2. – 250 s.; Studies in the histori of linguistics (Traditions and paradigms) / Ed. by D. Hymes). – Bloomington-London, Indiana univ. press, 1974. – 519 p.
В последний период глубже осознана ценность научного опыта предшественников. Именно на этот период пришлось включение в учебные планы курсов «Общее языкознание» и «Истории лингвистических учений». Появились общие курсы по истории языкознания, монографии по отдельным периодам в истории науки, по направлениям и национальным школам (например, о проблемах индоевропейских, славянских, романских и других семей и ветвей языков).
Примером прослеживания истории отдельных школ и направлений может служить статья: [Панов М.В. Московская лингвистическая школа (МАШ). 100 лет» //Русистика сегодня. 1995. № 3]. В ней анализируется лингвистическая концепция выдающегося ученого Ф.Ф. Фортунатова и показано воздействие его теории на несколько поколений учеников. «Наиболее глубоко восприняли его взгляды и дали им дальнейшее развитие Д.Н. Ушаков, Н.Н. Дурново, М.Н. Петерсон, В.К. Поржезинский, первое поколение фортунатовцев»; «Второе поколение МАШ: Р.И. Аванесов, А.М. Сухотин, А.А. Реформатский, В.Н. Сидоров, И.С. Ильинская, Г.О. Винокур, П.С. Кузнецов». Автор не только перечисляет последователей, но и кратко характеризует направление их работы: «создание московской теории фонем (Аванесов, Сидоров, Реформатский, Кузнецов), изучение диалектов и создание теории диалектного языка (Аванесов, Кузнецов), формирование теории словообразования на фортунатовских основах (Винокур), изучение функциональных связей, создающих стилистические градации (Сухотин), продолжение ушаковских лексикографических традиций (Винокур, Сидоров, Ильинская, Григорьева), изучение с функциональной точки зрения истории русского языка (Аванесов, Сидоров, Винокур, Ильинская), фрагменты позиционной теории синтаксиса (Аванесов)». Рассмотрев сделанное названными учеными, М.В. Панов заключает: «Как видно, второе поколение фортунатовцев работало хорошо, развивало и изменяло учение МЛШ, оставаясь верным ему». Далее – «третье поколение (послевоенное): К.В. Горшкова, К.Ф. Захарова, С.В. Бромлей, В.А. Робинсон, Р.И. Лихтман, Л.Н. Булатова, Т.Ю. Строганова, В.Д. Левин, М.В. Панов.
Четвертое поколение: Е.А. Земская, С.М. Кузьмина, Н.Е. Ильина, Р.Ф. Касаткина, Л.Л. Касаткин, Г.А. Баринова. Сейчас основная работа МЛШ лежит на плечах этого поколения. И следующего: сейчас в МЛШ немало молодежи» (С. 32).
Особенно ценно для нас то, что в этой статье, написанной одним из ярчайших представителей Московской лингвистической школы, перечислены ключевые понятия этой школы: «Понятия, центральные для МАШ: позиционная зависимость, позиционные и непозиционные чередования, функциональное отождествление позиционно чередующихся единиц, «протекание» единой языковой сущности через сеть позиций, нейтрализация единиц, закрепленные в языке возможности переорганизации единиц, соединение на разных уровнях языка дискретности и нечленимости знаковых образований, связь между частями единств, вызванная преобразованием одной части под влиянием другой, – вот область изучения МЛШ. Все это – явления, относимые к внутреннему состоянию языка, к отношениям в самом языке.
Отсюда и взгляд МЛШ: язык – это отношение. Единицы, взятые вне отношений, – не языковые единицы, они теряют себя» [Панов М.В. Русистика сегодня. 1995: 37].
Это о русской, отечественной школе. В такой же мере уделяется внимание западноевропейским и американским школам. В частности, о Гумбольдте, Штейнтале и их последователях пишет О.А. Радченко в статье «Лингвофилософские опыты В. фон Гумбольдта и постгумбольдтианство» [ВЯ. 2001. № 3: С. 96—125], см. его же: «Язык как миросозидание. Лингвофилософская концепция неогумбольдтианства. Т. 1–2. (М., 1997); В.И. Постовалова («Язык как деятельность. Опыт интерпретации концепции В. Гумбольдта (М., 1982); В.М. Алпатов «История лингвистических учений» (1999, 2000).
Выходят биобиблиографические словари и справочники о филологах отдельных стран, например, трехтомник: Булахов М.Г. Восточнославянские языковеды. – Минск (1976–1978), справочное пособие: Смирнов С.В. Отечественные филологи-слависты середины XVIII – начала XX в. – М.: «Флинта», «Наука», 2001.
Проходят научные чтения и конференции, посвященные крупнейшим языковедам (например, Пятые поливановские чтения: Сборник научных статей по материалам докладов и сообщений. – Смоленск, 2000, включающий темы: «Общее и сопоставительное языкознание. Социолингвистика», «История славянских языков и диалектология» и др.; международная конференция «Языковые средства в системе, тексте и дискурсе» к 110-летию со дня рождения крупного русского языковеда и педагога, чл. – кор. Академии педагогических наук A. Н. Гвоздева (Самара, 2002).
Подведены общие итоги лингвистики прошедшего века (см.: Лингвистика на исходе XX века. Тезисы международной конференции. Т. I–II. – М., 1995 – в докладах В.М. Алпатова, И.К. Архипова, Н.Д. Арутюновой, М.А. Кронгауза и др. Так,
B. В. Гуревич полагает: новый вид языкознанию XX в. «придала семантизация большинства лингвистических подходов и направлений»); по горячим следам идет анализ современных лингвистических концепций (Демьянков В.З. Доминирующие лингвистические теории в конце XX века // Язык и наука в конце 20 века. М., 1995), делятся прогнозами наXXI в. – Н.Ю. Бокадорова, А.Е. Кибрик («Куда идет современная лингвистика?»), А.Д. Дуличенко («Некоторые соображения о перспективах лингвистики после XX века») и др. Хотелось бы согласиться с двумя мыслями общего прядка Дуличенко: 1) о важности преемственности как фундаментальном принципе науки и о необходимости сохранять и совершенствовать подходы к языку, выработанные предыдущими поколениями исследователей; 2) «в перспективе не должно быть «господствующего», почти «единственного» направления и подхода, как это было в XIX в. со сравнительно-историческим, в XX в. – со структурными методами, «затмевавшими» или же «отталкивающими» все другие» (Лингвистика на исходе XX века: итоги и перспективы; 1995: I: 162–163). Из прогнозируемых черт на XXI в. автор называет: лингвистическую интерпретацию человека, возрождение интереса к глоттогенезу и, видимо, как отдаленный подступ к этой проблеме – развитие лингвоностратики, поиск специфического («идиоэтнического») и универсального в языках мира, создание социолингвистической стратегии для научной управляемости языком, закраска «белых пятен» на языковой карте мира, всё еще занимающих половину этой карты.
В последнем десятилетии XX в. появились справочники: «Лингвистический энциклопедический словарь» (1990), повторенный позже под названием «Большой энциклопедический словарь. Языкознание» (1998), «Энциклопедия. Русский язык» (1997), в которых можно найти полезную информацию по многим направлениям теории языкознания и о крупнейших ученых. Появилась самая широкая по хронологическому и географическому охвату лингвистическая энциклопедия (Юдакин Анатолий. Ведущие языковеды мира. Энциклопедия. – М.: Советский писатель, 2000).
Конечно, пока у нас нет ни полного биобиблиографического словаря ведущих и просто рядовых лингвистов мира, ни полной истории лингвистических направлений, учений и школ. Поэтому огромную ценность представляют суждения наиболее авторитетных ученых о конкретных достижениях каждого направления и школы и даже каждого выдающегося лингвиста, о его влиянии на языкознание своей страны и мира.
В этом плане заслуживает внимания и объективной оценки информация, содержащаяся в статьях сборника, изданного Институтом языкознания Российской академии наук «Язык: теория, история, типология». ЭдиториалУРСС. – М., 2000, в частности, в статье В.К. Журавлева «Истоки лингвистического мировоззрения XX века». В ней сообщается о том, что Эдвард Станкевич, один из редакторов сборника «Current Trends», неоднократно повторял: «Как учил нас Роман Якобсон, свет лингвистических идей идет с востока, из России». У В.К. Журавлева эти слова Э. Станкевича и некоторые другие формулировки, встречающиеся в обзоре современного состояния лингвистики, в частности, такая: «наука о языке стала истинной наукой XX века в Европе, Америке и Японии лишь тогда, когда там ознакомились с идеями и достижениями русских ученых» [Указ. соч.: 83], вызвали удивление. Но какое? Думается, что приятное. Рядом с этой констатацией сообщается: «В последнем, XII томе обзора, посвященном проблеме соотношения языкознания с другими науками, С. Маркус назвал лингвистику «Pilot Science» [Marcus, 1974] «наукой-штурманом» для всех гуманитарных наук. По его наблюдениям, «лингвистика оказала революционизирующее влияние на многие отрасли знания, как смежные, так и относительно отдаленные: теорию письма, стиховедение, стилистику и литературоведение, театро-и фильмологию, историю культуры и этнологию, антропологию и психологию, археологию и социологию, символическую логику, теорию чисел, комбинаторную геометрию, теорию кода, кибернетику и теорию информации, даже генетику» [Указ. соч.: 83]. Это тоже приятные, вдохновляющие слова. И в значительной мере справедливые. Но полностью принимать как первое, так и второе утверждение пока рано. Чтобы согласиться с такой оценкой российской лингвистики в целом, надо подвергнуть ее историю и современное состояние самому тщательному исследованию. Пока же порадуемся тому, что о нашей науке и наших языковедах говорят хорошо.
Дополнительная литература
Березин Ф.М. История языкознания и историография языкознания // Язык: теория, история, типология». Эдиториал УРСС. – М., 2000: Российская академия наук. Институт языкознания. С. 96–97. Большой энциклопедический словарь. Языкознание [БЭС] / Главный редактор В.Н. Ярцева. – М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия». Издательский дом «Дрофа», 1998.
«Горячие точки» в лингвистике // Вопросы языкознания. 1996. № 2. С. 118–191.
Журавлев В. К. Истоки лингвистического мировоззрения XX века // Язык: теория, история, типология. Эдиториал УРСС. – М., 2000: Российская академия наук. Институт языкознания. С. 83–95.
Зубкова Л.Г. Язык как форма. Теория и история языкознания. – М.: Изд-во Российского университета дружбы народов, 1999. – 238 с.
История отдельных направлений лингвистики // Вопросы языкознания. 1996. № 2. С. 68–117.
Лингвистика на исходе XX века: Итоги и перспективы. Тезисы международной конференции. Т. I–II. – М., 1995.
Кибрик А.Е. О международной конференции «Лингвистика на исходе XX века: итоги и перспективы // Вопросы языкознания. 1996. № 2. С. 3–6.
Кобозева И.М. Обзор проблематики конференции // Вопросы языкознания. 1996. № 2. С. 6–18.
Никитин О.В. Пятые поливановские чтения: Сборник научных статей по материалам докладов и сообщений // Вопросы языкознания. 2001. № 3.
Общая динамика развития лингвистической теории // Вопросы языкознания. 1996. № 2. С. 19–67.
Русский язык. Энциклопедия / Главный редактор Ф.П. Филин. – М.: Изд-во «Советская энциклопедия», 1979. Русский язык. Энциклопедия. – Изд. 2-е, переработанное и дополненное / Главный редактор Ю.Н. Караулов. – М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия». Издательский дом «Дрофа», 1997.
Фундаментальные направления современной американской лингвистики. Сборник обзоров / Под ред. А.А. Кибрика, И.М. Кобозевой и И.А. Секериной. – Изд-во МГУ, 1997.
Юдакин Анатолий. Ведущие языковеды мира. Энциклопедия. – М.: Советский писатель, 2000.
Язык и наука конца 20 века: Сборник статей. – М.: Российский государственный гуманитарный университет, 1995.
5.3. Сравнительно-историческое языкознание на современном этапе
Расширение проблематики сравнительно-исторического языкознания шло не только за счет переноса его методов на новые языковые семьи (семитскую, китайско-тибетскую, манчжурскую и др.), но и за счет дифференциации и углубления проблематики в пределах индоевропеистики, в частности, в области диахрониии: изучался словарный состав всех индоевропейских языков, тематические группы словаря, шли поиски прародины через углубление лингвистических аргументов и их соотнесение с данными археологии и культурологических наук, предпринимались попытки доказать существование если не генетического родства, то каким-то образом возникших соответствий в лексическом фонде древнейших тематических групп ряда языковых семей – индоевропейской, семитской, тюркской и др. Шло издание этимологических словарей праязыков ветвей индоевропейской семьи (славянской, кельтской, германской и др.) – словари под редакцией О.Н. Трубачева, Ф. Славского и др., увидели свет словари древних языков – «Старославянский словарь», «Словарь древнерусского языка XI–XVII вв.» (издано уже 26 выпусков), вторым изданием вышел труд Черных П.Я. «Историко-этимологический словарь современного русского языка». Т. 1–2. М., 1993. Продолжается изучение праславянской лексики с опорой на «Этимологический словарь славянских языков» (под ред. О. Н. Трубачева) и с использованием количественных методов [ВЯ. 1992. № 3:106–118].
Не сходит с повестки дня вопрос о возникновении славянской письменности, в частности, об истоках глаголицы (Уханова Е.В. У истоков славянской письменности (Москва, 1998), Карпенко Л.Б. Глаголица – славянская священная азбука (Самара, 1999), о ее первичности.
Привлечено внимание к изучению недавней истории русского языка (языка «Совдепии»), к характеристике источников ее описания (см.: Добродомов И.Г. Проблема источников для русской исторической лексикологии нового времени // ВЯ. 1995. № 1; КрысинЛ.П., Дуличенко А.Д. Русский язык конца XX столетия //ВЯ. 1995. № 6). Продолжалось изучение разговорной речи (Девкин В.Д. Немецко-русский словарь разговорной речи //ВЯ. 1995. № 5, рец. Маковского).
Под пристальным вниманием оказалась семантика. Ее анализируют во многих аспектах. Наиболее продвинутые разработки и ощутимые результаты ее изучения подводятся в форме лексикографических обобщений (см.: Русский семантический словарь: Толковый словарь, систематизированный по классам слов и значений. Т. 1. М.: Азбуковник, 1998).
Открывается новое в понимании языкового закона (условий его действия, соотношения звукового закона и аналогии), проверяется воздействие на фонетические изменения фактора пространства, всё настойчивее и строже учитывается системный (подсистемный) подход, выявляются маркированные/немаркированные члены оппозиции, внедряются методы структурной лингвистики, дивергенция дополняется исследованием процессов конвергенции (использованием понятия языкового «союза», или «второго» родства), возникает сравнительно-историческая грамматика так называемых больших семей (индоевропейско-семитской, урало-алтайской) и групп языков, исследуются макросемьи и связи между ними (ностратика), создаются капитальные исторические (Г.А. Богатова и ее коллектив) и этимологические словари (П.Я. Черных), появляются глубокие исследования по реконструкции текстов и культур (В.Н. Топоров).
Совершенствование приемов работы идет за счет использования статистики, глоттохронологии (пришло убеждение, что время может измеряться языком, его единицами – фонемами, морфемами, лексемами, синтаксическими конструкциями), а также привлечения фактов других семей – родственных и неродственных. Выявляется специфика изменений на разных ярусах языка – в фонетике (уровень фонем, их дифференциальных признаков и более мелких квантов, ударения и интонации), грамматике (категории рода, времени и вида, структуры предложения), лексике, фразеологии – также с учетом взаимосвязей между уровнями языка. Например, реконструкции индоевропейского синтаксиса посвящена книга акад. Ю.С. Степанова «Индоевропейское предложение» (1989).
В связи с поисками прародины индоевропейцев и прародины славян строже отбирается репрезентативная лексика: общая (предметная – названия моря, животных, растений), культурная (связанная с цивилизацией, культурой – она легче заимствуется) и ономастическая (топонимическая). Идет поиск универсальных закономерностей, свойственных языкам разных типов (семейств), уточняется идея континуальности индоевропейской языковой области, ее незамкнутости в пространстве.
Современный уровень и состояние сравнительно-исторического языкознания полнее всего отразился в индоевропеистике и в ностратической лингвистике, в частности, в трудах О. Семереньи («Введение в сравнительное языкознание», перевод с нем. М., 1980), в сборнике «Сравнительно-историческое изучение разных семей. Современное состояние и проблемы» (М., 1981); в монографии Т. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова «Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и пракультуры». Кн. 1–2. Тбилиси, 1984; в выпусках «Этимологического словаря славянских языков» (издается с 1974 г. под ред. акад. О.Н. Трубачева); в его книге «Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования» (Изд. 2-е. – М.: Наука, 2002) и статье «Из истории и лингвистической географии восточнославянского распространения» (2002). Делаются попытки реконструкции языков изолированного типа (Климов Г.А., Эдельман Д.И. К перспективам реконструкции истории изолированного языка (на материале языка бурушаски) // ВЯ. 1995. № 5). В целом можно констатировать, что сравнительно-историческое языкознание не исчерпало своего ресурса и продолжает оставаться ведущим направлением современного языкознания.
Дополнительная литература
Богатова Г.А. И. И. Срезневский и славянская историческая лексикография // И.И. Срезневский и современная славистика: наука и образование. Сборник научных трудов. – Рязань, 2002. С. 118–129.
Бурлак С.А. Старостин С.А. Введение в лингвистическую компаративистику: Учебник. – М., Эдиториал УРСС, 2001.
Гамкрелидзе Т., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и пракультуры. Кн. 1–2. Тбилиси, 1984.
Иванов Вяч. Вс. Современное индоевропейское сравнительно-историческое языкознание // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. XXI. Новое в современной индоевропеистике / Составление, вступительная статья и общая редакция доктора филологических наук Вяч. Вс. Иванова. – М.: «Прогресс», 1988. С. 5—23.
Карпенко Л. Б. Глаголица – славянская священная азбука. – Самара, 1999. Приложения. С. 197–202.
Уханова Е.В. У истоков славянской письменности. – М.: Муравей, 1998.
Трубачев О.И. Вятичи-рязанцы среди восточных славян (к проблеме этногенеза) // И.И. Срезневский и современная славистика: наука и образование. Сборник научных трудов. – Рязань, 2002. С. 11–17.
Трубачев О.И. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. – Изд. 2-е. – М.: Наука, 2002. С. 432–442.
Трубачев О.И. Славистика на XII Международном съезде славистов. Краткий обзор // Вопросы языкознания. 1999. № 6.
Улуханов И. С. О некоторых перспективах изучения истории русского языка // Русский язык и современность. – М., 1991. Ч. 1.
5.4. Типологическое языкознание
В системе языковедческих дисциплин выделяют общее языкознание, или теорию языка, изучающую «общие законы строения и развития языка», и частные области языкознания, представленные различными направлениями. Видное место среди них занимает типологическое языкознание, или типология языка, изучающее наиболее общие явления в языках мира, а также сами языковые типы, что сближает его с общим языкознанием, или теорией языка, и отличает от других частных областей языкознания. Зародившись почти одновременно с сравнительно-историческим языкознанием в начале XIX в. (как морфологическая классификация языков), типология языка не сходила с научной сцены весь XX в. (как синтаксические и фонетические, а также функциональные, квантитативные, структурные, понятийные типологии-классификации языков), более того – она и теперь переживает состояние расцвета. Ее современная проблематика – классификации языков по противопоставлениям субъекта – объекта (в номинативных языках), агентива – фактитива (в эргативных), активности – инактивности (в активных языках) и т. п. Выработанные типологией подходы к языку и методы исследования находят применение не только по прямому назначению – при описании типов языков, но и оплодотворяют другие направления, в частности, сравнительно-историческое языкознание, ареальную лингвистику и т. п., нередко порождая комбинированные классификации вроде структурно-исторической (диахронической), структурно-функциональной, функционально-стилистической и т. п. и соответствующие методы исследования, например, генетико-этимологический. Число работ по типологии языков к началу XXI в. возросло, причем наряду с рассмотрением относительно частных категорий и явлений (см.: Онипенко Н.К. Сложное предложение на фоне коммуникативной типологии текста // ВЯ. 1995. № 2; Шафиков С.Г. Типология лексических систем и лексико-семантическихуниверсалий. – Уфа, 2000), в некоторых поднимаются более широкие проблемы (Мечковская Н.Б. Общее языкознание. Структурная и социальная типология языков. Учебное пособие. – М.: Флинта: Наука, 2001). Есть основания ждать от типологической лингвистики новых результатов.
Дополнительная литература
Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и пракультуры. – Тбилиси, 1984.
Журавлев А.Ф. Из квантитативно-типологических наблюдений над лексикой славянских языков (Праславянское наследие) // Вопросы языкознания. 1992. № 3. С. 106–118.
Климов Г.А. Принципы контенсивной типологии. – М.,1983.
Климов Г.А. Типологические исследования в СССР (20–40 гг.). – М., 1981.
Лингвистическая типология. – М., 1985.
Общее языкознание. Внутреняя структура языка. – М., 1972.
Теоретические основы классификации языков мира. – М, 1980.
Типологическая классификация языков. Типология // Лингвистический энциклопедический словарь / Главный редактор В.Н. Ярцева. – М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 511–514.
Степанов Ю.С. Языкознание // Энциклопедия. Русский язык. Изд. 2-е, перераб. и доп. / Главный редактор Ю.Н. Караулов. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1997. С. 673–676.
Языковые универсалии и лингвистическая типология. – М., 1969.
5.5. Социальная лингвистика
Последняя четверть XX в. прошла под знаком расширения и углубления проблематики, которую разрабатывали последователи Ф. де Соссюра и А. Мейе в Европе, а также тематики американской социолингвистики середины XX в., занимавшейся проблемами макро-и микросоциолингвистики, а также проблемами социальной и ситуативной стратификации речи (см. раздел о социальной лингвистике в четвертом периоде).
В центре внимания оказались:
а) уточнение предмета социолингвистики (ее предмет, а лучше сказать, предметная область расширилась за счет включения в сферу анализа новых объектов – всех форм существования языка, или социально-функциональных разновидностей языка);
б) вопросы корреляции социальных категорий (параметров) и языковых (речевых) явлений;
в) использование социологических методик сбора и обработки полевого материала и математико-статистических методов его обработки и представления (таблицы, графики и т. п.);
г) применение метода моделирования, учитывающего варьирование социальных, социокультурных и ситуативных, т. е. внеязыковых параметров и категорий языково-речевых;
д) проблемы языковой политики, особенно в условиях двуязычия и многоязычия. Эти и другие вопросы обсуждены в книгах: Аврорин В.А. Проблемы изучения функциональной стороны языка (К вопросу о предмете социолингвистики). – Д., 1975; в сборнике зарубежных авторов «Новое в лингвистике», Вып. 7. Социолингвистика – М., 1975; Никольский Л.Б., Швейцер А.Д. Введение в социолингвистику. – М., 1978; Никольский Л.Б. Язык в политике и идеологии стран зарубежного Востока. М., 1986; Бондалетов В.Д. Социальная лингвистика. – М., 1987; Принципы и методы социолингвистических исследований. – М., 1989; Крысин Л.П. Социолингвистические аспекты изучения современного русского языка. – М., 1989.
Внимание зарубежных и российских социолингвистов в последние годы привлекли:
1) варианты языков (Швейцер А.Д. История американского варианта английского языка: дискуссионные проблемы // ВЯ. 1995. № 5; он же: Американский вариант литературного английского языка: пути формирования и современный статус – по полицентрической модели – с несколькими центрами – такими, как Бостон, Нью-Йорк, Филадельфия, Чарльстон и Ричмонд //ВЯ. 1995. № 6);
2) языковые ситуации едва ли не во всех странах – больших и малых. Например, «Русский язык в современной социокультурной ситуации» (Воронеж, 2001);
3) международные языки – естественные (Домашнев А.И. К вопросу о международном статусе немецкого языка (К выходу в свет кн. U. Ammon. Die internationale Stellung der deutschen Sprache) и искусственные, или плановые, типа эсперанто (Дуличенко А.Д. Международные искусственные языки: объект лингвистики и интерлингвистики //ВЯ. 1995. 5);
4) литературные языки, как с многовековой традицией, так и молодые. Из славянских литературных языков самым молодым является македонский язык, возникший в 1945 г. Изучается его грамматика, словарный состав (составлен новый «Македонско-руски речник. Македонско-русский словарь» под ред. Р.П. Усиковой (Скоще, 1997), в котором 65 тыс. заглавных слов: «В него включено большое число фразеологизмов и он хорошо освещает современную македонскую лексику» [ВЯ. 2001. № 3: 41];
5) написаны сотни работ о социальной, профессиональной, возрастной, половой и функционально-стилистической дифференциации языков: в разных странах выходят словари некодифицированных разновидностей языка (социолектов) – жаргонов, арго и сленга (например, «Большой словарь русского жаргона» В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитиной (2000, 2001), включающий 25 тыс. слов и 7 тыс. фразеологических единиц; «Словарь русского арго: Материалы 1980—1990-х гг.» B.C. Елистратова (2000), «Словарь жаргона уголовного мира. Словарь-справочник» О.П. Дубягиной и Г.Ф. Смирнова (2001). Кроме сводных, общерусских словарей арго и жаргонов, стали появляться и региональные словари, например «Словарь уфимского сленга» С.В. Вахнтова (Уфа, 2001). Снова оживился интерес к городской речи (ВЯ. 1995. № 5). Издаются работы о речевых жанрах современного города (рекламе, о микродиалогах), об особенностях современной номинации городских объектов и т. п.
Продолжается изучение языка и функциональных стилей и подстилей в средствах массовой коммуникации, в газете, на телеэкране).
6) Особенно много публикаций связано с состоянием крупнейших мировых языков на рубеже XX и XXI вв. Назовем для примера книгу «Русский язык конца XX столетия (1985–1995)» (1996), подготовленную Институтом русского языка РАН. В этом труде имеется параграф «Мы не нормализаторы», немыслимый в условиях тоталитарного режима недавнего прошлого. Новый и хорошо документированный материал, записанный с использованием совершенной аппаратуры, позволяет ставить и решать вопросы не только социально-детерминированного, но и жанрового, стилистического, окказионального и даже патологического варьирования языка.
7) В России на календарную смену веков наложилась смена идеологических и социально-политических ориентиров, появилась возможность писать научные и научно-публицистические работы о языке тоталитарного периода (Н.А. Купина, А.Т. Хроленко), публиковать лексикографические труды о новшествах, в том числе и неудачных, вроде «новоязовских» поделок. См. «Толковый словарь языка Совдепии» (1998).
В этих и им подобных публикациях отражена динамика языка, связанная не только с социально-экономическими переменами, но и с другими факторами – профессиональными, возрастными, половыми, жанровыми, стилистическими, окказиональными и даже патологическими [ЭРЯ: 488], что существенно расширило языковую базу социолингвистики.
Стали выходить новые учебники и учебные пособия для вузов: Беликов В.И., Крысин Л.П. Социолингвистика. – М., 2001; Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика. – М., 1996, 2000; ее же: Общее языкознание. Структурная и социальная типология языков. М.: Флинта: Наука, 2001.
8) Судя по прогнозам, социолингвистике и ее многочисленным ответвлениям (вроде интерлингвистики, геолингвистики, языковому планированию и т. п.) хватит работы и в начавшемся XXI в., в частности, по социальному управлению языком, его экологии, по освоению огромных социальных массивов в науке, технике и культуре и внедрению в них «лингвистических технологий».
«Нет сомнения в том, что в качестве важнейшей задачи лингвистики будущего столетия должна стать проблема выработки социолингвистических стратегий, что способствовало бы гармоничному развитию всех языков, исключало бы так называемые конфликты и языковые войны; в этой связи первоочередной задачей была бы разработка универсальных и локальных моделей сосуществования больших и малых языков, а также моделей выживания всех языков Земли» [Лингвистика на исходе XX века..: 63–64]. Именно для реализации таких масштабных и благородных задач могли бы служить начинания государств – членов Совета Европы, принявших «Европейскую хартию о региональных языках или языках меньшинств» (Конвенция открыта для подписания 5 ноября 1992 года. Серия «Европейские договоры», № 148).
Дополнительная литература
Беликов В.И., Крысин Л.П. Социолингвистика: Учебник для вузов. – М.: 2001.
Бондалетов В.Д. Социальная лингвистика. – М.: 1987.
Крысин Л.П. Социолингвистические аспекты изучения современного русского языка. – М., 1989.
Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика. – М., Изд. 2-е, испр., 1996.
Михальченко В.Ю. От редактора // Крючкова Т.Б., Нарумов Б.П. Зарубежная социолингвистика: Германия. Испания. – М., 1991. – С. 3–6.
Никольский Л.Б. Язык в политике и идеологии стран зарубежного Востока. – М., 1986.
Принципы и методы социолингвистических исследований». – М., 1989.
Русский язык конца XX столетия (1985–1995). Коллективная монография. «Языки русской культуры». – М., 1996.
Социальная лингвистика в Российской Федерации (1992–1998). – М., 1998.
Социолингвистика // Энциклопедический словарь юного филолога. – М., 1984. С. 293–295.
Швейцер А.Д., Никольский Л.Б. Введение в социолингвистику. М., 1978. ЭРЯ – Энциклопедия. Русский язык. – М., 1997.
5.6. Ареальная лингвистика
Продолжались исследования языка в аспекте пространства с опорой на положения, сформулированные представителями лингвистической географии (в русской традиции) и тезиса итальянских неолингвистов: «каждое слово имеет не только свою историю, но (как и каждая форма, звук, предложение, поговорка) также и свою географию» (Дж. Бонфанте). Поскольку чистых языков, свободных от влияния других, включая и иносистемные языки, не так уж много, то шло скрупулезное изучение таких явлений, как субстрат, суперстрат, адстрат, языковой центр и языковая периферия на базе конкретных языков (даже их отдельных ярусов – фонетического, морфологического, лексического и еще уже – отдельных пластов лексики, в частности, лексики «культурной» и антропонимической (чаще всего подвергающейся заимствованию), топонимической (чаще всего сохраняющейся от языка-предшественника на данной территории – отсюда значительное число работ по субстратной топонимии во многих регионах мира), групп языков, языковых ветвей, семей и даже макросемей.
Ареальная лингвистика в зависимости от аспекта изучения и описания представлена двумя направлениями – синхроническим и диахроническим. Синхронический аспект реализуется в диалектографии – при картографировании чаще всего синхронно-современного состояния территориальных диалектов. Но этот же аспект представлен и при составлении атласов языковых ветвей (например, в «Общеславянском лингвистическом атласе» – ОДА) и языковых семей и совокупностей разносистемных языков (например, в «Лингвистическом атласе Европы» – ЛАЕ – представлены семь языковых семей: индоевропейская, уральская, тюркская, монгольская, семитская, кавказская, баскская, в которые входят двадцать две языковые группы: абхазо-адыгская, албанская, арабская, армянская, балтийская, баскская, кельтская, прибалтийско-финская, германская, греческая, иранская, калмыцкая, лапландская, нахско-дагестанская, пермская, романская, самоедская, славянская, тюркская, венгерская, волжская, цыганская [ВЯ: 1993: № 3: 122]). Цель – выявление областей (ареалов) межъязыковых и междиалектных взаимодействий с опорой на изоглоссы и другие наглядные показатели языковых контактов и – при их длительности – определение ареальных общностей (языковых союзов) с общими, обычно благоприобретенными, структурными признаками.
Диахроническая ареология (лингвистическая, а также этническая, историческая и др.) занята изучением соответствующих ареалов в прошлом. Так, пространственный фактор учитывается при изучении праязыкового состояния не только группы родственных языков (например, древнерусского языка, давшего начало трем восточнославянским языкам – русскому, украинскому, белорусскому), но и ветвей языков (славянской, романской, германской – соответственно славянского, романского (латинского), германского праязыка), а также языковых семей – обычных, типа индоевропейской и ее родоначальника, – т. е. праязыка и др., и макросемей (больших семей), в частности ностратической семьи языков, в которую включают языки афразийские (Африки и Азии), индоевропейские, картвельские, уральские, дравидийские (в Индии) и алтайские.
С языками романскими и восточнославянскими дело обстоит просто. Они ведут начало от своих праязыков, можно сказать, на глазах истории: романские языки (итальянский, испанский, французский, португальский и др.) возникли на базе народной латыни (и процесс их образования отражен в памятниках письменности), восточнославянские – на основе древнерусского языка. А вот с праславянским, праиндоевропейским и тем более с ностратическим праязыками сложнее. Здесь две проблемы. Первая – когда и как долго существовали эти праязыки? Вторая – где проживали соответствующие пранароды? И обе эти проблемы не могут быть решены без знания направления распространения языковых и культурных инноваций, чем как раз занимается ареальная лингвистика, ареальная история, а также ареальные по своей природе археология, этнография и такие, на первый взгляд, далекие от лингвистики науки, как палеоботаника и палеозоология.
В ностратических языках обнаружено около тысячи общих для указанных выше языков Европы, Азии и Африки слов (корней). Они приведены в труде гениального отечественного лингвиста, родоначальника ностратического языкознания В.М. Иллич-Свитыча Опыт сравнения ностратических языков. Сравнительный словарь. [Т. 1–3]. – М.г 1971–1984. И этот ученый, и его последователи пытаются найти прародину (прародины) носителей ностратического праязыка и ареалы вычленявшихся из этой общности праязыков. Так, для доиндоевропейской языковой общности допускают прохождение трех стадий с возможным изменением локализации в каждой из них: протоиндоевропейская, праиндоевропейская и индоевропейская [Гиндин: ВЯ; 1992: № 6: 54–65]. Что касается прародины индоевропейцев, определяемой с учетом ряда факторов, в первую очередь лингвистических и археологических, то на сегодня известно пять мнений; наиболее авторитетными из них считаются гипотезы о прародине в центральной и юго-восточной Европе (этого мнения придерживается английский языковед Т. Барроу) и малоазиатской (она изложена в книге: Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и пракультуры. В 2 т. – Тбилиси, 1984; англ. пер.: New York, 1995). Проблемами ностратики, с учетом ареального параметра, занимаются такие крупные ученые, как В.А. Дыбо, Е.А. Хелимский, В.А. Терентьев и др.
Ареальная лингвистика создала и апробировала свои методы, адекватные предмету и аспекту исследования. Пространственно-географическая координата важна не только в ареальной лингвистике, но и в ряде других направлений (см. также раздел «Лингвистические методы»),
Дополнительная литература
Алинеи М. Лингвистический атлас Европы: Первые двадцать два года // Вопросы языкознания. 1993. № 6.
Гуров Н.В., Зограф Г.А. Ареальное языкознание: предмет и метод (На материале языков Южной Азии) // Вопросы языкознания. 1992. № 3.
Дыбо В.А. Ностратическая гипотеза (итоги и проблемы) // Известия АН СССР. Сер. ЛиЯ, 1978. Т. 37. № 5.
Дыбо В.А., Терентьев В.А. Ностратические языки // Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 338–339.
Нерознак В.П. Ареальная лингвистика // Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 43–44.
Хелимский Е.А. Труды В.М. Иллич-Свитыча и развитие ностратических исследований за рубежом // Зарубежная историография славяноведения и балканистики. – М., 1986.
Цыхун Г.А. Типологические проблемы балканославянского языкового ареала. – Минск, 1981.
5.7. Этнолингвистика
Три страны (Германия, Россия и США) были колыбелью направления, называемого ныне термином этнолингвистика. Эта область познания языка, появись она в одной стране, видимо, оказалась бы более единой. Впрочем, и в одном центре с течением времени она вряд бы могла остаться стабильной в содержательно-предметном плане. Стать разной в каждой из указанных стран и нетождественной в разные исторические периоды даже в пределах страны своего рождения (в Германии, в России) ей было, что называется, «написано на роду». Концептуальное разнообразие и разнонаправленность этнолингвистики обусловлена ее значительной зависимостью от внеязыковых (социальных, этнографических, этнопсихологических и культурно-исторических) факторов. Играли свою роль и объективно-субъективные факторы – господствующее в данное время мировоззрение, доминирующее направление, наконец, научный интерес и склонность исследователя.
В Германии этнолингвистика зародилась в широчайшем по охвату научном творчестве В. фон Гумбольдта, в его учении о языке как средоточии и выразителе духа народа. В России, где к середине XIX в. господствовало романтическое увлечение фольклором, народной культурой и мифологией, зарождавшаяся этнолингвистика приняла этнографическую окраску с ярко выраженным интересом к духовной и материальной культуре народа (В.И. Даль, А.Н. Афанасьев, Ф.И. Буслаев, И.И. Срезневский, А.А. Потебня). В Америке, где у многочисленных племен индейцев отсутствовала письменность и не было традиции изучения местных языков, обычаев и мифов, усилия ученых – лингвистов и этнографов – были сосредоточены на выработке своей, не схожей с европейской, методики описания языка, мышления, туземной культуры и всех форм ее проявления (языковой, музыкальной, изобразительной). Возникшая там этнолингвистика, опиравшаяся на лингво-этнографические труды Фр. Боаса (1858–1942), Э. Сепира (1984–1939), Б. Уорфа (1897–1941), в особенности на теорию лингвистической относительности Сепира и Уорфа, исследовала соотношение форм мышления и категорий языка, познание мира и отражение этого познания (картины мира) в тематических группах лексики, в денотативно-ограниченных (закрытых) понятийно-семантических полях (названия частей тела, лексика цветообозначений) с последующим выявлением своеобразия (идиоэтничности) восприятия народом вещного мира (например, разного членения звездного мира на «фигуры» – созвездия). С этих же позиций исследуются и грамматические категории (в частности, количественные и порядковые числительные, в различном объеме представленные в языках аборигенов Америки по сравнению с языками пришельцев из Европы). Разные направления в американской лингвистике отразились в соответствующих терминах. «Ориентация исследования на выявление семантических оснований языковой модели мира отразилась в термине «эт. – носемантика» – одном из обозначений этнолингвистики, понимаемой в более узком смысле, в противоположность более широкому понятию – «антропологическая лингвистика» (оба термина имеют хождение главным образом в США) [ЭРЯ: 1997: 648]. Следует отметить, что второй термин у нас стал употребляться довольно часто, причем в значении более широком, чем в американской этнолингвистике.
В России этнолингвистика в ее современном содержании существенно отличается от того, чем она занималась во времена Ф.И. Буслаева и А.А. Потебни и их последователей (А.Н. Веселовский, Д.К. Зеленин, П.Г. Богатырев), а также от направления, исследовавшего славянские древности (П.Й. Шафарик, Л. Нидерле, А.А. Шахматов, М.Н. Покровский). На современном этапе этнолингвистика определяется как «направление в языкознании, изучающее язык в его отношении к культуре, взаимодействие языковых, этнокультурных, этнопсихологических факторов в функционировании и эволюции языка [Виноградов: 1997: 647]. Столь широкое представление об этой науке связано с ее комплексным характером: она образовалась на стыке ряда наук – лингвистики, этнологии, фольклористики, мифологии, культурологии. Но это не механическое соединение. Вполне самостоятельной областью ее делает следующий комплекс задач: изучение отражения и выражения в языке этнического миросозерцания, выявление роли языка в формировании и сохранении традиционной культуры, речевого поведения «этнической личности» и отражение через нее и в ней языковой картины мира всего народа (этноса).
Глава российской и славянской этнолингвистики акад. Н.И. Толстой, опираясь на успехи ареальной лингвистики и диалектологии, обновленного в последние десятилетия культурно-лингвистического направления «Слова и вещи» и науки о духовных ценностях, расширил понятие диалекта, включив в его содержание изоглоссы трех видов – языковые (изолексы), материально-предметные (изопрагмы) и духовно-ментальные (изодоксы). Он же предложил концепцию изоморфизма культур (и субкультур) и разных форм существования языка (литературный язык, обиходно-разговорный и т. д.). Оснащенная новым фактическим материалом 1) современных диалектов, собранных экспедициями в Полесье, 2) праславянского фонда слов, исследованного под руководством О.Н. Трубачева, 3) славянской и индоевропейской мифологии и текстологии (Вяч. В. Иванова и В.Н. Топорова) и 4) методами типологических и сравнительно-исторических исследований, отечественная этнолингвистика добилась внушительных успехов, отраженных в таких изданиях, как «Славянские древности», «Логический анализ языка. Культурные концепты» (1991), Никитина С.Е. Устная народная культура и языковое сознание (1993), Толстой Н.И. Язык и народная культура. Очерки по славянской культуре и этнолингвистике. – М., 1995, Герд А.С. Введение в этнолингвистику. – СПб., 1995.
О разнообразии и вариативности проблематики и методологии этнолингвистики еще красноречивее свидетельствует ее история во Франции. Здесь этнолингвистика появилась позднее, лишь к концу 60-х гг. XX в.: ее первое официальное упоминание находим в справочнике «Лингвистика» 1969 г. (под ред. А. Мартине), и за прошедшие три десятилетия она несколько раз меняла свою предметную область, оставаясь дисциплиной вспомогательной и «промежуточной» между «лингвистикой этнологов» и «этнографией лингвистов». В настоящее время ее внимание сосредоточено на изучении картины мира, фольклорного текста как такового, ритуальных языков, билингвизма, «языковых употреблений», семантических полей (терминологии родства, названий частей тела, цветообозначения и др.), составлении словарей-энциклопедий. Специалисты по французской этнолингвистике отмечают, что здесь она не поднялась до сколько-либо высокого уровня, потому как «появление нового термина не было отражением новой проблематики, а лишь дало обозначение тем областям научных интересов, которые уже утвердились на практике» [ВЯ: 1993: № 6: 112]. В США интерес к этнолингвистике оказался нестойким и пошел на спад к исходу XX в.
Центром этнолингвистических исследований стала Россия. Здесь разрабатываются и ее теоретические проблемы, и еще более разнообразные практические темы. Так, идет осмысление 1) истории этого направления в странах, бывших ее колыбелями (см. работы: Вильгельм фон Гумбольдт и этнолингвистика в Северной Америке. От Боаса до Хаймса // ВЯ. 1992. № 1); 2) взаимоотношений этнолингвистики с другими направлениями и отраслями знаний («Концептуальная картина мира и интерпретативное поле текста с позиций лингвистики, журналистики и коммуникативности». Барнаул, 2000; «Языковое сознание и образ мира». Сб. статей, Ин-т языкознания. – РАН, 2000). Иногда сборники такого рода преследуют цель выявить национальную специфику образного восприятия мира (напр., сб. «Язык и национальные образы мира». – Майкоп, 2000).
Весьма показательны названия некоторых конференций и симпозиумов: «Мир на Северном Кавказе через языки, образование, культуру» (международная конференция), «Многоязычие Северного Кавказа и проблемы этнолингводидактики» (симпозиум), Пятигорск, 2001.
Почувствовав самостоятельность своего направления и ответственность за ясность понятийно-терминологического аппарата этой науки, этнолингвисты занялись его лексикографическим оформлением, предложив «Словарь этнолингвистических понятий и терминов»; его автор М.И. Исаев (М., 2001).
Особое место в этнолингвистической проблематике занимают работы по лингв о страноведению Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова и их многочисленных учеников. Формированию их школы способствовали совместные книги этих авторов «Лингвострановедческая концепция слова» (1980), в особенности же книга «Язык и культура», выдержавшая четыре издания (4-е изд. – М.г 1990); см. также их новую книгу «В поисках новых путей развития лингвострановедения: концепция лингвоповеденческих тактик» (1999).
Дополнительная литература
Бабурина КБ. Этнолингвистический аспект в исторической лексикографии // Вопросы языкознания. 1997. № 3. С. 48–52.
Балакай А.Г. Русский речевой этикет и принципы его лексикографического описания. – Новокузнецк, 2002.
Вежбицкая А. Язык, культура, познание. – М., 1996.
Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. – М. изд. 4-е, 1990.
Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. В поисках новых путей развития лингвострановедения: концепция лингвоповеденческих тактик. – М., 1999.
Виноградов В.А. Этнолингвистика // Русский язык. Энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, Издательский дом «Дрофа», 1997. С. 647–649.
Герд А. С. Введениев этнолингвистику. – СПб., 1995.
Гура А.В. Символика животных в славянской народной традиции. – М.: Индрик, 1977.
Детерминизм языка и культуры: в поисках лингвокультурных соответствий. Материалы научно-практической конференции. В 2 частях. Ч. 1. – М.: Уникум-Центр, 2001.
Исаев М.И. Словарь этнолингвистических понятий и терминов. – М.: Изд-во Флинта, Наука, 2001.
Колесов В.В. Мир человека в слове Древней Руси. – Л., 1986.
Маслова В.А. Лингвокультурология. Учебное пособие. – М., 2001.
Никитина С.Е. Устная народная культура и народное сознание. – М., 1993.
Русский язык в современной социокультурной ситуации / Тезисы докладов и сообщений 3-й Всероссийской научно-практической конференции РОПРЯЛ. – Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2001.
Толстой Н.И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. – М., 1995.
Язык и национальные образы мира. Материалы международной конференции. – Майкоп, 2001.
Языковое сознание и образ мира. Сб. статей. – М.: РАН, 2000.
5.8. Антропологическая лингвистика
Термин «антропологическая лингвистика» возник в США для обозначения этнолингвистической проблематики в ее расширенном представлении. В России он приобрел иной смысл – рассмотрение языка с позиции человека, человеческого коллектива и нахождение в языке материала для характеристики интеллектуальной деятельности человека. Поэтому типичными стали исследования на темы «язык человека» и «человек в языке» (Э. Бенвенист).
Показательны названия статей и книг: Колесов В.В. Мир человека в слове Древней Руси (1986); Апресян Ю.Д. Образ человека по данным языка: попытка системного описания // ВЯ. 1995. № 1; Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность (1987); коллективный сборник «Язык. Человек. Картина мира: Лингвоантропологические и философские очерки». Ч. 1. – Омск, 2000.
Между тем антропологическое направление в изучении языка, вероятно, присутствовало и в самых древних учениях о языке. Что касается XIX в., то уже В. фон Гумбольдт видел в языке «орган внутреннего бытия человека», выразителя «духа народа». Еще определеннее о месте человека по отношению к языку сказал Бодуэн де Куртенэ: «Человеческий язык, человеческая речь существует только в мозгу, только в «душе». Не случайно, младограмматики сосредоточились на изучении не языка вообще, а языка отдельного индивидума. Напомним слова акад. А.А. Шахматова о том, что «реальное бытие имеет язык каждого индивидуума», а язык села, города, области, народа – «научная фикция». Кстати, популярный в наше время термин «языковая личность» впервые был употреблен В.В. Вингорадовым в 1930 г. Теперь он понимается как любой носитель языка – авторитетный (например, крупный писатель) и вполне рядовой (носитель любой формы существования языка – литературного, просторечия, территориального или социального диалекта). В языковой личности ученого интересует язык в самых разных аспектах – и как система, и как текст, и как способность, и как конкретная разновидность языка (идиолект), или «языковой (речевой) портрет» и даже его дискурс. Так, написано немало работ о языково-речевом портрете литературных персонажей, имеется диалектный словарь одной личности (с включением в него слов-диалектизмов и фразеологизмов). Описан как «языковая личность» известный русский языковед А.А. Реформатский (в книге «Язык и личность», вышедшей под ред. акад. Д.Н. Шмелева).
Стала подчеркиваться общетеоретическая ценность этого подхода к языку. Так, В.М. Алпатов, сравнивая два подхода к анализу языка – системоцентричный (наиболее последовательно проводившийся Бодуэном де Куртенэ и Ф. де Соссюром) и антропоцентричный («интуитивный», приближающий науку о языке к психологии), отмечает правомерность обоих из них, но в то же время подчеркивает, что антропоцентричный более характерен для работ, посвященных исследованию семантики, а системоцентричный – там, где языковым чутьем можно пренебречь, доверившись логике процедурного анализа. Указанные два подхода – не что иное, как отражение взгляда на язык с двух позиций: 1) с точки зрения рядового носителя языка (для него «в первую очередь существуют слова, а не операции над ними») и 2) с позиции исследователя языка [ВЯ. 1993. № 3: 24]. Кому-то покажется, что для науки позиция ученого-исследователя, обычно опирающегося на логичную и непротиворечивую теорию, предпочтительнее. А если иначе, то зачем наука и предлагаемые ею методы описания языка (звуков, слов, частей речи и т. п.)?
Казалось бы, всё ясно. Однако начиная с самых давних из известных нам описаний языка (традиций индийской, античной и др.), в громадном числе случаев вполне адекватными или очень близкими оказываются описания, отталкивавшиеся и от рядового человека (по интуиции), и от ученого («системоцентричный», или системоцентрический подход). Не меньше и таких случаев, когда для практических целей нужнее и, следовательно, предпочтительнее традиционные характеристики фактов языка. Так бывает, в частности, при разъяснении семантики слов в толковых (объяснительных) словарях через приведение синонимов и взаимных, «круговых» отсылок и в словарях толково-комбинаторного типа, в которых удается избежать недостатков традиционных словарей. Для массового читателя – носителя родного языка и изучаемого неродного языка – нужнее не вполне научный, а вполне понятный и полезный словарь первого типа. Для других целей – лучше менее понятный, хотя и «очень научный» словарь второго типа. Как правильно замечено, «исследователю в этом случае приходится проходить между Сциллой логически безупречного, но интуитивно неприемлемого решения и Харибдой более соответствующей интуиции, но значительно усложняющей описание, а то и противоречивой трактовки» [ВЯ. 1993.
№ 3: 25]. Ученые склоняются к мнению, что оба подхода нужны, они не мешают друг другу, а дополняют, находясь, как говорят теоретики, в отношениях дополнительности. В антрополингвистике первенствует, конечно, языковая интуиция, но она присутствует и в структуралистских построениях, где ее меньше и она выполняет иную роль.
Дополнительная литература
Алпатов В.М. Об антропоцентричном и системоцентричном подходах к языку // Вопросы языкознания. 1993. № 3. С. 15–26.
Апресян Ю.Д. Образ человека по данным языка: попытка системного описания // ВЯ. 1995. № 1.
Богданов В. В. Классификация речевых актов // Личностные аспекты языкового общения. Межвузовский сборник научных трудов. – Калинин, 1989. С. 25–37.
Караулов Ю Н. Русский язык и языковая личность. – М., 1987.
Колесов В.В. Мир человека в слове Древней Руси. – Л., 1986.
Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. – М., 1988.
Сусов И.П. Личность как субъект языкового общения // Личностные аспекты языкового общения. Межвузовский сборник научных трудов. – Калинин, 1989. С. 9–16.
Шмелев А.Д. Русская языковая модель мира. Материалы к словарю.
«Языки славянской культуры». – М., 2002.
Языковая личность // Энциклопедия. Русский язык. – М., 1997. С. 671–672.
Язык. Человек. Картина мира: Лингвоантропологические и философские очерки. Ч. 1. – Омск, 2000.
5.9. Психолингвистика
В 1995 г. один из ведущих психолингвистов России А.А. Леонтьев на международной конференции «Лингвистика на исходе XX века: итоги и перспективы» выступил с докладом «Надгробное слово чистой лингвистике». Основная идея проста: общая лингвистика отходит на задний план, умерла, наступило время либо явно междисциплинарных, либо профессионально ориентированных направлений, к числу которых относится психолингвистика. Не станем оспаривать тезис о кончине «чистой лингвистики» (хотя бы по причине неясности, что относит автор к «чистой» и что к «нечистой» лингвистике), а с мыслью о наличии многих направлений в современном языкознании и что некоторые из них в силу своего предмета и методов исследования удаляются от классического представления о содержании и задачах науки о языке вполне согласны.
Известно, что многие из названий новых направлений в изучении языка (социолингвистика, этнолингвистика, психолингвистика и ряд других), вошедшие в употребление в середине XX в., даны американскими учеными с целью организационного оформления уже существовавших областей исследования. Так было и с психологическим направлением, возникшим в Европе за сотню лет до термина «психолингвистика». Например, идея учета мышления и психики человека при изучении языка уже присутствовала у В. фон Гумбольдта: «Язык образуется речью, а речь – выражение мысли или чувства. Образ мысли и мироощущение народа, придающие… окраску и характер его языку, с самого начала воздействуют на этот последний» [Гумбольдт 1984: 162–163]. «Я намереваюсь исследовать функционирование языка в его широчайшем объеме – не просто в его отношении к речи и к ее непосредственному продукту, набору лексических элементов, но и в его отношении к деятельности мышления и чувственного восприятия. Рассмотрению будет подвергнут весь путь, по которому движется язык – порождение духа, – чтобы прийти к обратному воздействию на дух» [Там же: 75]. Еще конкретнее о «чувственном восприятии», отраженном в «лексических элементах», говорил А.А. Потебня – создатель учения о «внутренней форме» слова.
Напомним, что эта мысль послужила основой «ономатопоэтической теории языка» Потебни, успешно разрабатывавшейся многочисленными представителями Харьковской лингвистической школы.
Возрождение исследований о взаимосвязи языка и психики человека началось в Америке и в СССР. Они инициированы работами психологов (в США – Ч. Осгуд, Т. Сибеок, в СССР – А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, А.А. Леонтьев, Н.И. Жинкин), а затем и лингвистов. Определенное влияние на переключение внимания с языка на речь оказали работы Карла Бюлера, представителя немецкой школы психологии мышления, в особенности труд «Теория языка» (1934), в котором подытожены его собственные взгляды, а также взгляды других немецких ученых – А. Марти, Э. Гуссерля, Э. Кассирера – по логике и психологии. Принципиально важно утверждение К. Бюлера о различии между речью и языком: «Надо учесть, что речевая деятельность и язык – неравнозначные явления, и структурный анализ обоих никогда не может дать полного совпадения» (цит. по [Звегинцев 1960: Ч. II: 27]). О психолингвистике во второй трети XX столетия в США, Франции, Англии, Италии, Румынии и других странах, включая и СССР, можно узнать из книги «Психолингвистика за рубежом» (отв. редакторы А.А. Леонтьев и Л.В. Сахарный, 1972).
В настоящее время эта наука определяется как комплексная, стыковая – и лингвистическая, и психологическая. Право на ее существование обусловлено подходом к языку как феномену психики. Основным предметом психолингвистики является речевая деятельность. Не случайно теория речевой деятельности – не только сердцевина этой науки, но и ее синоним.
Современная проблематика психолингвистики включает в себя разработку таких тем, как а) язык и сознание (индивидуальное и общественное), б) речь и мышление, в) роль языка в процессах познания, г) овладение речью ребенком, д) истолкование единиц языка (фонем, слов, синтаксических конструкций, диалогических единств и др.) с позиции общения, участниками которого являются говорящий (отправитель речи, или кодирующий) и ее получатель (слушающий, декодирующий), е) закономерности порождения речи и ее выражения, ж) взаимоотношения (связи и синтез) психолингвистики с языкознанием, теорией информации, прагматикой, нейролингвистикой, когнитивной лингвистикой (изучающей оперирование человека со знаниями – см. сборники «Язык и когнитивная деятельность», «Язык и структура знания» и раздел в нашей книге) и другими науками.
Основной метод психолингвистики – ассоциативный эксперимент; используются и точные методы. В последнее время наблюдается ориентация на идеи генеративной грамматики. Содержателную сторону и понимание предметной области психолингвистики в России определяют труды А.А. Леонтьева и его последователей. См. сборники: «Основы теории речевой деятельности» (1974), «Экспериментальные исследования в психолингвистике (1982), «Психолингвистика» (1984), «Лингвистические и психолингвистические структуры речи» (1987), «Речь: восприятие и семантика» (1988), а также: Тарасов Е.Ф. Тенденции развития психолингвистики (1987).
Складывается ответвление от психолингвистики – этнопсихолингвистика (сб. «Этнопсихолингвистика» (1988), в котором рассмотрены ее теоретические проблемы и метатеоретические основания, прикладные аспекты). Обзор современной тематики психолингвистики и литературы дан P.M. Фрумкиной [ЭРЯ: 398–399], а также в ее книге «Цвет, смысл, сходство» (1984). Учебное изложение психолингвистики дано Л.В. Сахарным в курсе лекций «Введение в психолингвистику» (1989), популярное – И.Н. Гореловым и К.С. Седовым в книге «Основы психолингвистики» (1997). Здесь же приведены списки литературы: научно-популярные издания и литература для углубленного чтения. Издана хрестоматия «Теория речевых актов: начальный этап» (Уфа, 2001 г.).
Об актуальности данного направления свидетельствуют научные конференции и симпозиумы, проводимые у нас в стране и за рубежом.
Дополнительная литература
Горелое И.Н., Седое К.Ф. Основы психолингвистики. – М., 1997.
Дискурс, речь, речевая деятельность: Функциональные и структурные аспекты. Сборник обзоров / ИНИОН РАН. – М., 2000.
Залевская А.А. Психолингвистика: пути, итоги, перспективы // Вопросы языкознания. 1998. № 6. С. 81–94.
Леонтьев А.А. Надгробное слово «чистой» лингвистике // Лингвистика на исходе XX века: Итоги и перспективы. Тезисы международной конференции. Т. II. – М., 1995.
Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. – М., 1997.
Леонтьев А.А. Психолингвистика // Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990.
Сахарный Л.В. Ведениие в психолингвистику. Курс лекций. – Л., 1989.
Тарасов Е.Ф. Тенденции развития психолингвистики. – М.,1987.
Фрумкиной P.M. Психолингвистика // Энциклопедия. Русский язык. / Главный редактор Ю.Н. Караулов. – М., 1997. С. 398–399.
Этнопсихолингвистика. – М… 1988.
5.10. Когнитивная лингвистика
Когнитивная лингвистика – одна из частей когнитологии, или когнитивной науки (cognitive science), занимающейся операциями человека со знаниями (Ю.С. Степанов). Перед нами одно из самых молодых и в то же время активно развивающихся направлений в языкознании. Показательно, что в «Энциклопедическом лингвистическом словаре» 1990 г. оно еще не выделено как самостоятельное, хотя здесь уже присутствуют такие понятия, как «когнитивная функция языка», «когнитивно-познавательная функция» языка, «когнитивная деятельность», «когнитивные категории», «когнитивная метафора» (в отличие от метафоры номинативной и образной).
Когнитивная функция признается одной из двух (вместе с коммуникативной) главных, или базовых, функций языка. Ее содержание в самых общих чертах раскрывают такие ее обозначения, как познавательная, гносеологическая. С этой функцией обычно совмещаются дополнительные функции орудия познания и овладения знаниями, а также номинации, референции, предикации и некоторые др. Относительно недавно вышел первый «Краткий словарь когнитивных терминов» (Москва, 1996), содержащий около 100 ключевых понятий этой науки, изучаемой во многих странах мира.
Это наука не просто междисциплинарная, а «зонтиковая», объединяющая множество смежных и даже несмежных наук, в той или иной мере занимающихся ментальными процессами, происходящими в мозгу человека, и результатами этих процессов – знаниями. В орбиту когнитологии включены как традиционные науки (лингвистика, психология, философия, математика), так и новые (теория информации, математическое моделирование, нейролингвистика и др.). Сами когнитивисты содержательную сторону этой науки определяют так: «Сложите вместе логику, лингвистику, психологию и компьютерную науку и вы получите когнитивную науку» (Р. Стеннинг) [цит. по: Кубрякова и др.: 1996: 7].
В совокупности дисциплин, собравшихся (и продолжающих собираться) под эгидой («зонтиком») когнитологии, ведущей является лингвистика в силу того, что она уже накопила много знаний о связи языка с сознанием человека, и в силу того, что через внешнюю оболочку языка легче, чем иными способами, составить представление о глубинно-внутренней мыслительно-познавательной деятельности человека. Рождение когнитивной лингвистики связывают с симпозиумом в Дуйсбурге (в 1989 г.) и созданием Международной Когнитивной Лингвистической Ассоциации (США). В когнитивной лингвистике язык получает новое понимание, связанное с подчеркиванием в нем психического, ментального аспекта: здесь язык – когнитивно-процессуальное явление, передающее информацию о мире, обрабатывающее ее, способное многократно и по-разному организовывать и усовершенствовать ее и находить разнообразные способы представления. Новый взгляд на язык породил новую исследовательскую проблематику – изучение языковой картины мира, вопросов категоризации и концептуализации, новых, когнитивных грамматик, когнитивной лексикологии, когнитивного дискурса, а также новых аспектов в изучении семантики – прототипической, концептуальной, фреймовой и др.
Основателем когнитивной науки былДж. Миллер (США), который уже в середине 50-х гг. впервые задумался над тем, чтобы объединить усилия экспериментальной психологии, теоретической лингвистики, а также попытки изучения когнитивно-мыслительных процессов с помощью компьютера в одно целое, в интегрирующую науку. Он считал, что будущее за таким объединением, а в 1988 г. вспоминал: «Я бился над созданием когнитивной науки около двух десятилетий прежде чем каким-то образом назвать ее» [цит. по Кубрякова и др.: 70].
Факт появления такой науки называют «когнитивным поворотом» и даже «когнитивной революцией». Центральным понятием когнитивной науки является когниция – совокупность познавательных процессов (восприятие мира, категоризация, мышление, речь), служащих обработке и переработке информации мыслящим человеком (в том числе осмысливающим и себя), оценивающим окружающий мир и конструирующим картину мира. Сигналы извне, поступающие в человека «на входе», в результате многократных трансформаций преобразуются в ментальные репрезентации типа образов, пропозиций, фреймов, сценариев и хранятся в памяти до нужного момента – до использования их в речи или в процессе размышления про себя по законам индукции, дедукции и т. п.
Одним из важных понятий является понятие концепта, которое толкуется как «оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга (lingua mentalis)». В отечественном языкознании формированию этого направления способствовали психологи старшего поколения (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Н.И. Жинкин и др.), языковеды общего профиля (Е.С. Кубрякова, В.З. Демьянков, И.Н. Горелов) и психолингвистического направления (А.А. Леонтьев, И.Н. Горелов, Е.Ф. Тарасов и др.).
Дополнительная литература
Демьянков В.З. Когнитивизм, когниция, язык и лингвистическая теория // Язык и структуры представления знаний. – М., 1992. С. 39–77.
Демьянков В.З. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода // Вопросы языкознания. 1994. № 4. С. 17–33.
Демьянков В.З. Понимание как интерпретирующая деятельность // Вопросы языкознания. 1983. № 6. С. 58–67.
Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Т., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов. – М., 1996.
Кубрякова Е.С. Начальные этапы становления когнитивизма. Лингвистика – психология – когнитивная наука // Вопросы языкознания. 1994. № 4. С. 34–37.
Миллер Дж. А. Образы и модели, уподобления и метафоры // Теория метафоры. – М., 1990. С. 236–283.
Рахлина Е.В. Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость. – М., 2000.
Розина Р.И. Когнитивные отношения в таксономии. Категоризация мира в языке и в тексте // Вопросы языкознания. 1994. № 6. С. 60–78.
Фундаментальные направления современной американской лингвистики. Сборник обзоров / Под ред. А.А. Кибрика, И.М. Кобозевой и И.А. Секериной. – М.: Изд-во МГУ, 1997.
Харитончик З.А. Способы концептуальной организации знаний в лексике языка // Язык и структуры представления знаний. – М., 1992. С. 98–123.
Человеческий фактор в языке: Язык и порождение речи / Отв. ред. Е.С. Кубрякова. – М., 1991.
* * *
Более конкретное представление о содержательной стороне лингвистических направлений, характерных для современного, пятого, периода науки о языке, а также о положительных результатах многовековой истории мирового языкознания, рассмотренной нами в аспекте актуального историзма, читатель получит в двух последующих частях книги: «Язык – этнос – культура» и «Методы изучения и описания языка».
Часть II Теория языка
1. Происхождение человека и его языка
1.1. Проблема глоттогенеза
«Таинственно и чудесно происхождение языка, окруженное другими тайнами и чудесами», – заметил Я. Гримм в работе «О происхождении языка» [цит. по: Герстнер 1980: 124]).
Проблема происхождения языка (глоттогенеза) включает в себя вопросы: когда появился язык, почему он возник, каким был на раннем этапе своей жизни и многие др. Ответить на эти вопросы сложно, ибо нет возможности вернуться в предысторию человечества: «…Чем глубже тут копнёшь, тем дальше проберешься, чем ниже спустишься в преисподнюю прошлого, тем больше убеждаешься, что первоосновы рода человеческого, его истории, его цивилизации совершенно недостижимы, что они снова и снова уходят от нашего лота в бездонную даль, в какие бы головокружительные глубины времени мы ни погружали его» [Манн 1987: 29]. Это слова немецкого писателя Томаса Манна, размышляющего о первоистоках человеческого языка.
Так же считал и американский ученый Э. Сепир: «…Нет никакой причины полагать, что этот начальный «индоевропейский» (или «арийский») праязык, который мы можем частью воссоздать, частью хотя бы смутно разгадать, не был в свою очередь лишь одним из «диалектов» какой-то языковой группы, либо в значительной мере угасшей, либо представленной в настоящее время языками до того разошедшими с нашими, что мы, при наших ограниченных средствах, не можем установить их взаимное родство» [Сепир 1993: 142].
Известный философ М.К. Мамардашвили считал, что проблема происхождения языка не может быть поставлена как анализ происхождения предмета по той простой причине, что любая попытка его описания уже содержит в себе как условия, так и средства, происхождение которых как раз и должно быть выяснено. Лингвистика, по мнению философа, должна принимать факт языка как данность, нерасчленимую с точки зрения его происхождения. Показательно, что уже в 1866 г. Парижское лингвистическое общество постановило не принимать к рассмотрению работ, посвященных происхождению языка. По мнению некоторых наших современников, проблема происхождения языка лежит вне ценностной сферы современной лингвистики.
И тем не менее проблема продолжает оставаться в поле зрения науки. В 1975 г. состоялось 15 тыс. публикаций о генезисе языка. По иронии судьбы Международное общество по исследованию глоттогенеза, основанное в 1984 г., своим центром избрало Париж. Остаётся надежда на то, что, опираясь на совокупность косвенных свидетельств, мы можем смоделировать условия, в которых одновременно могли появиться и общество, и человек, и производительный труд, и сознание, дух, язык и культура. В канун XXI столетия специалисты полагали, что «в будущем большое место займёт давняя, нередко незаслуженно подвергавшаяся и подвергающаяся до сих пор скептицизму проблема глоттогенеза и связанная с нею проблема этногенеза» [Дуличенко 1996: 127].
Перед специалистами по глоттогенезу стоят три фундаментальных вопроса: 1) когда возникла человеческая речь; 2) как это произошло; 3) какой была речь на первом её этапе [Николаева 1996: 79].
Основное направление научного поиска – выявление тех материальных и социальных факторов, которые делали возникновение языка неизбежным. Одной лингвистики здесь недостаточно. Это хорошо понимал Э. Сепир: «Возможно, проблема происхождения языка не относится к числу тех проблем, которые можно решить средствами одной лингвистики» [Сепир 1993: 230]. Поиск названных факторов ведётся усилиями ряда наук естественных: 1) приматологией – наукой о высших обезьянах, 2) этологией – изучающей поведение животных в естественных условиях, 3) зоопсихологией – изучающей проявление, происхождение и развитие психики животных. Во-вторых, в поиске участвуют науки, изучающими развитие ребенка. Известно, что духовное развитие ребенка представляет собой лишь ещё более сокращенное повторение умственного развития тех же предков, по крайней мере более поздних [Маркс, Энгельс: 20: 495]. Существенна также роль антропологии, нейрофизиологии, нейропсихологии, психолингвистики, сравнительного языкознания и др. Показательно, что Общество LOS (Language Origins Society), насчитывавшее в 1992 г. 200 официальных членов, объединяет лингвистов, антропологов, философов, физиологов, палео-историков.
Ученые удивительно изобретательны. Они пытаются «услышать» голос отдаленного предка, останки которого найдены в 1967 г. в одной из пещер Южной Франции, где он жил 450 тыс. лет тому назад. По следам прикрепленных мышц на черепе ученые восстановили внешнюю морфологию человека. На её основе была изготовлена модель речевого аппарата. В программу компьютера включены данные: ёмкость грудной клетки, строение челюстей, подвижность языка, работа сотен мышц, вызывающих членораздельную речь. С помощью ЭВМ исследователи воспроизводят образование звуков из глубины лёгких до кончиков губ, создавая полную опись звукового репертуара «человека из Тотавеля» (так назвали его учёные по месту обитания), который должен был произносить все теперешние гласные и согласные, включая сложные фонемы <Ш> и <С> [Подолянюк 1986]. А вот предок, который жил 2 млн лет назад, по выводам ЭВМ, ещё плохо артикулировал такие гласные, как <И>,<А>,<У>; темп его речи был очень медленным – десять фонетических элементов в секунду (современный темп – до тридцати элементов в секунду). Прав был Ч. Дарвин и другие учёные, полагавшие, что древний человек петь научился раньше, чем говорить. Формируется круг идей и фактов, составляющих основу особого направления языкознания – палеолингвистики.
1.2. Антропогенез
Время возникновения языка, естественно, связано с началом истории человечества. По расчётам генетиков, «человеческая ветвь» отделилась от линии её обезьяньих предшественников около 5 млн лет назад. За это время человек в своём развитии прошёл три стадии: 1) стадию человекообразной прямоходящей обезьяны (австралопитек); 2) стадию «человека умелого» (питекантроп, синантроп, гейдельбергский человек и неандерталец); 3) стадию формирования человека современного типа (начиная с кроманьонца). Вторая стадия характеризуется коллективной охотой, изготовлением орудий и применением огня. На этой стадии возникают и начатки речи.
Большинство исследователей сходится на том, что наш предок произошёл не от высшей древолазающей обезьяны, а от низших обезьян наземной адаптации, которые существовали в условиях, трудных для выживания, но свободных от конкуренции с себе подобными. Суровые условия жизни способствовали возникновению потребности в постоянной совместной деятельности особей, следовательно, в общении, обнаружили громадные преимущества прямохождения. Лишенные прямохождения равнинные павианы людьми так и не стали.
Установлен интересный феномен первобытной истории, заключавшийся в том, что неандертальцы 10 тыс. лет сосуществовали с современными людьми (кроманьонцами) и в результате были созданы две материальные культуры.
Некоторое время назад премии принца Астурийского, которую называют «Нобелевской премией испаноязычного мира», был удостоен известный испанский учёный Хуан Луис Арсуага с коллегами за результаты пятилетних раскопок в горах Атапуэрка (Испания), где открыто самое древнее и самое крупное из обнаруженных в Европе поселений первобытных людей. Найдены и сравнены останки представителей двух конкурирующих ветвей гоминид – неандертальцев и кроманьонцев. Анализ трёх тысяч костей сорока особей, живших 800 тыс. лет и 3 тыс. лет назад, дал возможность проследить динамику эволюции.
Установлено, что неандертальцы были много мощнее и выше кроманьонцев, они были не так примитивны, как принято думать. Например, неандертальцы предков хоронили и их могилы оберегали. Американский антрополог Ричард Кей закончил цикл работ, посвященных проблеме появления речи у человека, выводом, что первым на Земле заговорил неандерталец. Это случилось как минимум 400 тыс. лет тому назад. Основное внимание ученый уделил подъязыковому каналу, по которому проходят нервы, пронизывающие большинство мышц языка. Р. Кей считает, что ширина этого канала является показателем моторного контроля языка и, следовательно, способности говорить. Известно, что подъязыковой канал у человека в два раза шире, чем у горилл и шимпанзе. У австралопитека и других ископаемых предков человека этот канал не отличается от канала человекообразных обезьян. Изучение же черепа неандертальца выявило, что его подъязыковой канал практически равен тому, которым обладает человек. Установлено также, что анатомические особенности верхних дыхательных путей позволяли архаическому сапиенсу артикулировать звуки, практически адекватные современной человеческой речи.
В ответ на вопрос, почему худосочные кроманьонцы превзошли мощных неандертальцев и дали начало человеческой цивилизации, профессор Арсуага обратил внимание на то, что неандертальцев эволюция как бы не коснулась, а кроманьонцы в ходе её потеряли треть своей и так не очень внушительной массы и увеличили объём мозга. Лишенные физической мощи, присущей неандертальцам, кроманьонцы компенсировали её более сложными формами социальной организации – они развивали речь и другие средства коммуникации. Могучие неандертальцы жили по индивидуальным законам – и проиграли, тщедушные кроманьонцы строили общество – и выиграли. По удачному замечанию одного автора, наш человеческий предок, не обладая мощью орангутана или гориллы, располагал мощным обезьяньим чувством стада, чувством племенного родства, всеядностью и неприхотливостью, способностью к прямохождению и речи, что обеспечило ему более перспективный миграционный образ жизни. Неограниченные возможности, содержащиеся в вербальной коммуникации, присущие гомо сапиенс, привели в конечном итоге к вытеснению неандертальцев с исторической арены, поскольку для кроманьонцев язык стал инструментом групповой стереотипизации поведения, системой кодирования и передачи культурно-семантической информации. Первейшей функцией языка явилась культурная, позднее – этническая, а ещё позднее – социальная дифференциация общества (это мнение П. Долуханова (Англия) в кн.: [Чужое 1999: 349–352]).
1.3. Теории происхождения языка
Теорий происхождения языка немало. Среди них есть взаимоисключающие: 1) язык дан человеку свыше (креационистская, или библейская) и 2) человек сам изобрёл свою речь. Лишенное крайностей мнение высказывалось Я. Гриммом: «Я показал, что человеческий язык столь же мало может быть божественным даром, как и прирожденным свойством; врождённый язык превратил бы людей в животных, язык, ниспосланный свыше, предполагал бы в них богов. Не остаётся ничего иного, как считать, что он должен быть человеческим, в своём происхождении и развитии абсолютно свободно усвоенным нами, он не может быть ничем иным, как нашей историей, нашим наследием» [Герстнер 1980: 238]. Столь же категоричен и А.А. Потебня: «Прежде всего должны быть устранены взаимно противоположные мнения о сознательном изобретении слова людьми и о непосредственном создании его Богом» [Потебня 1989: 17].
Вильгельм фон Гумбольдт полагал, что языки возникли не по произволу и не по договору, а вышли из тайников человеческой природы и являются саморегулируемыми и развивающимися звуковыми стихиями. Язык человека, как и его мышление, – явление биолого-социальное, следовательно, необходимо искать биологические и социальные условия становления языка. К биологическим предпосылкам возникновения языка относят: 1) прямохождение, расширяющее горизонт человека, приводящее к особому укладу внутренних органов, обеспечивающее лучшую координацию действий индивидов, и 2) потребление мяса (предок человека был хищником, более того, людоедом). Всё больше сторонников приобретает мнение, что предок человека питался и падалью. Такой способ добывания пищи оказал более заметное влияние на эволюцию человека, чем до этого было принято думать [Блюменшайн, Кавалло 1992].
Социальные предпосылки рождения языка кроются в сложной иерархии первобытного стада, коллективной природе охоты, в изготовлении орудий, в разделении труда, усложнении внутренней жизни коллектива, в миграции первобытных сообществ и т. п. Важнейшая социальная предпосылка – изменение взаимоотношений индивидов в процессе трудовой деятельности.
Проблема происхождения языка, с точки зрения необходимых предпосылок его, активно обсуждалась в средневековых трактатах. Так, Григорий Нисский в труде по антропологии «Об устроении человека» делает вывод, что строение человеческого рта приспособлено к потребностям произношения членораздельных звуков главным образом благодаря человеческой руке, а Григор Татеваци написал: «Голова у него (человека. – А.Х.) поднята, дабы язык и руки служили мышлению и труду» [История лингвистических учений: Средневековая Европа: 184–199].
Полагают, что становление членораздельной речи сдерживалось не только несовершенством мозгового и периферического произносительного аппарата, но и несовершенством «общественных отношений». Требовался скачок, «прерыв непрерывности» в развитии средств коммуникации и тем самым в регулировании других и в регуляции самого себя, в том числе и собственного познания. Это могло осуществляться в ходе развития совместной деятельности формировавшихся людей. Именно это принципиально меняло отношения между индивидами и обусловило специфику человеческого мышления [Ерахтин, Портнов 1986: 63–64].
В отечественном языкознании многие десятилетия господствовало марксистское понимание генезиса человека и его языка. Исходный тезис этой концепции сформулирован так: «Язык так же древен, как и сознание… подобно сознанию, язык возникает лишь из потребности, из настоятельной необходимости общения с другими людьми» [Маркс: 3: 29]. Ф. Энгельс в статье «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека» попытался ответить на главный вопрос глоттогенеза – откуда взялась у людей потребность общаться, каким образом «формировавшиеся люди пришли к тому, что у них появилась потребность что-то сказать друг другу» (см.: [Маркс, Энгельс: 20: 489]). Главное, полагает Ф. Энгельс, – это труд: «…Объяснение возникновения языка из процесса труда и вместе с трудом является единственно правильным…» [Маркс, Энгельс: 20: 489]. Исходная посылка Ф. Энгельса, полагал советский философ Э.В. Ильенков, подтвердилась практическими результатами советских педагогов И.А. Соколянского и А.И. Мещерякова, работавших со слепоглухонемыми детьми [Ильенков 1977: 23–24].
Труд предполагает идеальное предвосхищение результата деятельности, кооперацию участников и регуляцию трудовых операций: «…Развитие труда по необходимости способствовало более тесному сплочению членов общества, так как благодаря ему стали более часты случаи взаимной поддержки, совместной деятельности, и стала ясной польза этой совместной деятельности для каждого отдельного члена» [Маркс, Энгельс: 20: 489].
В труде складывается общество, возникает язык, качественно преобразуется мышление и формируется человек в полном смысле этого слова. Заслуга Ф. Энгельса, полагают марксисты, в том, что он увидели показал необходимую взаимосвязь важнейших элементов: труд – речь – мышление – человек – общество. «Сначала труд, а затем и рядом с ним членораздельная речь явились самыми главными стимулами, под влиянием которых мозг обезьян мог постепенно превратиться в человеческий мозг…» [Маркс, Энгельс: 20: 490]. Человеческое мышление предопределено потребностью общения, оно рождается трудом и складывается в процессе общения. В совместной трудовой деятельности становится актуальной необходимость координации этой деятельности («что-то сказать»), осуществляется отложение в мозгу первобытного человека человеческого опыта – первый отблеск пробуждающегося сознания человека.
Следует сказать, что марксистская теория происхождения человека и его языка не принята мировым научным сообществом, ибо ей противоречат многие факты (об этом пишет доктор биологических наук, профессор В. Дольник. См.: [Дольник 1993: 34–42]). Во-первых, установлено, что прямохождение не связано с изготовлением орудий. Прямоходящие гоминиды появились 8—10 млн лет тому назад, а первым каменным орудиям не более 2,5 млн лет. Человек не стал двуногим, он произошёл от уже двуного животного. В течение двух с лишним миллионов лет люди, по образному выражению одного из авторов, были «слегка обезьянами». В это время в человеке шло накопление человеческого.
Во-вторых, биологи установили, что все животные обладают достаточно сложной генетической программой использования орудий. И человек в этом отношении не исключение. Его, полагают учёные, создал не труд, а естественный отбор. Отрыв человека от остальных животных биологи связывают с речью, но объяснить, как возник язык, они не могут. Ясно одно: язык неразрывно связан с развитым интеллектом, но что предопределяет возникновение интеллекта – ответить трудно. Одно из возможных объяснений: у кроманьонца было уже столько знаний и навыков, что их просто показать было нельзя, о них нужно было рассказывать. Для членораздельной речи нужны были особая организация мозга и способность к логическому мышлению.
Предполагают, что важный критерий интеллекта – умение вводить в заблуждение ближнего. Такое умение предполагает способность ставить себя на место другого, моделировать его реакции и оценивать ситуацию. Техника обмана зародилась у обезьян до обособления от них человекообразных, причем она присуща только обезьянам наземной адаптации (у видов, не спустившихся на землю, способностей к обману не обнаружено). На основе способности к обману возникает более сложная способность «играть за партнера», «строить воображаемые альтернативные миры», а это не что иное, как основа языка и отвлеченного мышления [Человек. 1993. № 3. С. 96].
Складывающийся интеллект повышался в результате действия следующих факторов: сложная среда обитания; недостаток пищи; собирательство; манипуляция с пищей; заготовка пищи впрок; жизнь в сложно устроенной группе; использование сложной системы сигнализации; рождение несамостоятельных, медленно растущих детенышей, которых учат всему перечисленному выше [Дольник 1993: 42].
1.4. Теория биологической обусловленности языка
Труд как первопричина генезиса языка по отношению к человеку – явление внешнее, и кажется логичным вывод Дж. фон Неймана, что язык в значительной степени историческая случайность, тем более что вывод этот не противоречит приведенным выше словам Я. Гримма и А.А. Потебни. Однако в науке не отбрасывается и идея биологической обусловленности языка, идея его врожденности. Конечно, речь идёт не о врожденности конкретного языка – русского, английского или французского, – а о врожденности языковой основы, на которой «случайно и исторично» вырастает речь отдельного человека и языки человечества.
Выдающийся русский биолог XX в. А.А. Любищев заметил, что человеческая речь запрограммирована, так как смена действий мускула даётся значительно раньше, чем приведён в действие предыдущий мускул. Ю.Н. Караулов, размышляя над тем, что 1) легко отличить речь иностранца, неплохо владеющего русским языком, от речи малообразованного русского человека; 2) формы, порождаемые детьми, совпадают с формами, зафиксированными в диалектах или в истории развития этого языка; 3) филологически не подготовленный носитель современного русского языка способен понимать тексты XI или XII вв., высказал гипотезу о существовании так называемой психоглоссы – единицы языкового сознания, отражающей определенную характерную черту языкового строя, которая обладает высокой устойчивостью к вариациям и стабильна во времени [Караулов 1982: 7].
Имеются экспериментальные данные, подтверждающие биологическую регуляцию процесса овладения языком. Гены, отвечающие за язык, расположены на Х-хромосоме. Показательна разница между дефектами развития речи однояйцевых и разнояйцевых близнецов: в первом случае больше совпадений, чем во втором, когда речь одного из близнецов может вообще не иметь дефектов [Бичакджан 1992: 131].
Исследовательница из канадского университета, изучив три поколения семьи из тридцати человек, у шестнадцати из которых отсутствовала способность к изучению грамматики, пришла к выводу о существовании доминантного гена, обеспечивающего способность к овладению грамматикой. Если этот ген дефектен, способность к запоминанию грамматических правил исчезает [Поиск. 1992. № 10: 7].
Стало известно, что генетический и лингвистический коды сходны. Наследственность – это сообщение, записанное вдоль хромосом с помощью химического «алфавита»: четыре химических радикала, чередуясь в бесконечных линейных последовательностях нуклеиновых кислот, создают текст генетической информации. В генетическом коде, как и в языке, информативен не отдельный элемент системы, а особые комбинации исходных нуклеотидов по три элемента («триплеты»), Весь генетический «словарь» состоит из шестидесяти четырёх «слов». Три триплета являются «знаками препинания»: они обозначают начало и конец фразы. Обнаруживаются и «синонимы» – последовательности, которые соотносятся с одной и той же аминокислотой. Но лингвистический код богаче генетического, чем обеспечивается языковая избыточность, благодаря которой можно исправлять или восстанавливать искажения. У генетического кода избыточность отсутствует, потому генетическая информация может искажаться. Такой изоморфизм (сходство формы) лингвистического и генетического кодов привёл к тому, что молекулярная генетика позаимствовала у лингвистики её понятия и термины.
Известен спор лингвиста Р. Якобсона и генетика Ф. Жакоба о природе изоморфизма лингвистического и генетического кодов. Ф. Жакоб считает это сходство внешним, возникшим в результате структурного сближения или совпадения двух различных систем, выполняющих аналогичную информационную функцию. Р. Якобсон же полагал, что языковой код сложился по структурным принципам, образцу и по моделям генетического кода. Его влияние на языковой код осуществилось через сферу бессознательного: организм неосознанно владеет информацией о строении и структуре существенных его механизмов [Гамкрелидзе 1988].
В пользу этой точки зрения приводят примеры, когда талантливые личности, не зная о генетике и генетическом коде, строили особые информационные системы по моделям генетического кода. Так, в китайской книге «И Чинь», написанной три тысячи лет тому назад, представлена система трансформации четырёх бинарных элементов, составленных из «мужского принципа» ян и «женского принципа» инь и сгруппированных по три, что даёт всего 64 троичных последовательности. Аналогии видим у древних греков: четыре элемента мира у ионийцев, четыре жидкости человеческого тела у Гиппократа. Теории глоттогонии (происхождения языка) Н.Я. Марра современная наука не приняла, но интересно отметить, что язык, по Марру, начинается с четырёх (вначале Марр считал – семи) исходных комплексов, каждый из которых состоит из трёх элементов (сал, бер, йон, рош).
Способность быть человеком говорящим человек получает на уровне генетики. Конкретный же язык – результат дальнейшего развития. А.А. Потебня подчеркнул это: «Дети выучиваются языку взрослых только потому, что при других обстоятельствах могли бы создать свой» [Потебня 1989: 22].
1.5. Язык до рождения человека
Группа исследователей из Парижского центра психолингвистических наук поставила перед собой задачу узнать, может ли новорождённый выделить и запомнить характерные черты родного языка. В ходе эксперимента выяснилось, что четырёхдневные французские младенцы, слушая одну и ту же сказку на французском, а затем на русском языке, по-особому отреагировали на родной язык. Высказано предположение, что родной язык влияет на человека до его рождения. Ребенок, находясь в утробе матери, уже слышит родную речь и, появившись на свет, узнаёт её. Об этом свидетельствуют наблюдения американских учёных. Грудные дети узнают сказку, многократно читанную им до рождения. Установлено, что пятимесячный эмбрион слышит громкие крики, пугается, «сердится», «грозит», реагирует на слова и ласки, изменяет поведение в зависимости от настроения матери. Интеллектуальная и эмоциональная жизнь ребенка в утробе начинается с шести месяцев. Он увязывает своё поведение со знакомым голосом, способен к опережающему отражению в своём поведении. Знает, какие движения вызовут чувство удовольствия, какие – неудовольствия [Шмурак 1993]. Новорожденные узнают не только родной язык, но и речь родной матери. В одной из немецких клиник провели эксперимент. Малышам 12 дней от роду давали соску, соединенную с магнитофоном, где была записана речь разных женщин. При первых же словах, сказанных матерью, все немедленно выплёвывали соску. Учёные объясняют это тем, что дитя привыкает к голосу матери ещё в её чреве. Звуковая информация отпечатывается в мозгу навсегда.
В США семьсот будущих матерей общались с еще не родившимися детьми, которые затем наблюдались. Результаты оказались красноречивыми: первые слова дети произнесли в 3–4 месяца, в год свободно выговаривали многие трудные слова. Исследования продолжаются, ибо каждое новое знание ставит новые вопросы.
Биолингвистика
Неоспоримость наличия в языке, как и мышлении, социальной и биологической сторон послужила основанием для возникновения на стыке лингвистики и биологии новой научной дисциплины – биолингвистики, исследующей вопросы, связанные с материальным субстратом (подосновой) речи. В ее задачи входит изучение становления биологической основы для речевых механизмов [Верещагин 1969]. Разумеется, поставленные биолингвистикой вопросы не подрывают фундаментального тезиса о социальной природе языка. Язык столь же социален, как и сам человек, но он в той же мере обнаруживает биологические основания, как и гомо сапиенс.
Лингвисту небезынтересны выводы биологов о том, что вид человека гомо сапиенс начал отделяться от предыдущего вида – человека прямоходящего – около 500 тыс. лет назад в Африке, что, по данным биохимических исследований, среди современных людей нет гибридов, следовательно, все современные люди происходят от женщины и мужчины, живших в Африке около 200 тыс. лет назад. Уточняется и сам возраст человека разумного. Ему не 35 тыс. лет, как считалось до недавнего времени, а около 90 тыс. лет [Дольник 1993: 37]. Эта цифра не окончательная. Известный журнал «Nature» даёт иную оценку возраста человека разумного – около 200 тыс. лет [Наука и жизнь. 1992. № 9: 18].
Многие учёные полагают, что изучение генетики всех известных рас, наций и племён позволит найти корни человечества и воссоздать дерево рас со множеством его ветвей. С 1995 г. реализуется «Проект по изучению разнообразия человеческого генома» («Human Genome Diversity Project»). Задумано охватить тщательным обследованием по 25 представителей от 722 племён, народностей и наций.
Постоянно увеличивается количество аргументов в пользу теории моногенеза человечества, а следовательно, и его языка. «…Язык как человеческое установление (или, если угодно, как человеческая «способность») развился в истории человечества единовременно, <…> вся сложная история языка есть единое культурное явление» [Сепир 1993: 143].
Популярна следующая хронологическая схема возникновения и становления человеческого языка: 200–100 тыс. лет назад – зачатки языка; 100 тыс. лет – в эпоху среднего палеолита «взрыв» как результат перенасыщенности критической культурной массой; 50 тыс. лет – настоящий звуковой язык; 30 тыс. лет – язык в современном понимании этого слова [Николаева 1996: 80].
Чтобы представить сложность проблемы глоттогенеза и понять логику поисков и рассуждений ученых, полезно прочитать статьи двух известных ученых, из которых вторая – полемический отклик на первую:
Фрейзер Н. Происхождение языков // Поиск. 1999. № 43. С. 21.
Солнцев В. Откуда происходят языки // Поиск. 2000. № 5. С. 13.
1.6. Проблема континуитета/ дисконтинуитета языка человека
Уяснение сути языка и мышления невозможно без знания «предыстории человеческого духа», без которой существование мыслящего мозга остаётся чудом. Возникает вопрос, в каких отношениях находятся язык и мышление человека и его животного предка. Известны три ответа на него. Одни полагают, что качественных различий в психике животного и человека нет, ибо в основе её, согласно утверждениям бихевиористов, лежит механизм условного рефлекса. Обезьяна – модель человека, и зародышевыми формами мышления и языка человека являются мышление и коммуникативные системы животного предка (идея континуитета). Другие утверждают противоположное: мышление и язык человека не имеют ничего общего с тем, что наблюдается у животных (идея дисконтинуитета). Предпочтительнее третья точка зрения, которая усматривает и моменты преемственности и развития психики животных и человека, и их качественное различие. Возможны и иные подходы. Так, В. Кох (Германия) сравнивает появление языка человека с тем Большим Взрывом, который положил начало Вселенной [Вопросы языкознания. – 1993. № 3: 141].
Прислушаемся к мудрым словам Томаса Манна: «…История человека древнее, чем материальный мир, являющийся делом его воли, она древнее, чем жизнь, на его воле основанная» [Манн 1987: 51]. Стоит согласиться и с тем, что человек не существует до языка. «Нам никогда не отыскать точки, где человек был бы отделим от языка и создал бы его, дабы «выразить» свою внутреннюю жизнь: язык учит нас пониманию человека, а не наоборот» [Барт 1993: 84].
Дополнительная литература
Вишняцкий Л.Б. Происхождение языка: современное состояние проблемы // Вопросы языкознания. 2002. № 2. С. 48–63.
Горелов И.Н., Слонов Н.Н. Происхождение языка: гипотезы и новые подходы к проблеме // Известия АН СССР. Серия лит. и языка. – 1986. № 6. С. 558–568.
Маковский М.М. У истоков человеческого языка. – М., 1995.
Николаева Т.М. Теории происхождения языка и его эволюции – новое направление в современном языкознании // Вопросы языкознания. 1996. № 2.
Якушин Б.В. Гипотезы о происхождении языка. – М., 1984.
2. Язык и функциональный базис речи
Что общего между сигнализацией животных и языком человека? В истории развития человеческого языка выявлен период перехода от первой ко второй сигнальной системе, который профессор И.Н. Горелов назвал «функциональным базисом речи». Эту промежуточную систему коммуникации в процессе очеловечивания «прошёл» не только наш далёкий предок, но её «проходит» и каждый ребенок. Функциональный базис речи – это система протопонятий со своей собственной знаковой системой – параязыком. Это язык мимики и жестов, взглядов и фонаций, которым человек владеет инстинктивно как биологическое существо.
Этот невербальный (несловесный) язык понятен и животным. Для животных такая коммуникация – предел развития, для человека – основа развития лишь первого, бессознательного интеллекта и ступенька в обретении истинно человеческого языка – второй сигнальной системы. По мнению физиолога В.П. Морозова, люди, их дети и животные объединены «языком эмоций». Внятность и универсальность этого языка обеспечивается закономерными связями между акустическими средствами выражения эмоций голосом и физиологическим состоянием организма, испытывающего ту или иную эмоцию. Язык эмоций подсознателен и в силу этого непроизволен [Морозов 1989].
2.1. Пантомима – начало языка
Есть убедительные аргументы в пользу сформулированной Б.В. Якушиным гипотезы о том, что основной коммуникативной системой в арсенале нашего предка была пантомима – действенное изображение реального действия [Якушин 1985]. Впрочем, мысль о том, что начало языка – в жесте, содержится в диалоге Платона «Кратил». Пантомима занимает промежуточное положение между первой и второй сигнальной системами. Видимо, поэтому человекообразные обезьяны успешно обучаются языку жестов. Так, горилла овладела и сознательно пользуется пятьюстами знаками («словами») языка глухонемых. Драматическое искусство, в основе которого лежит пантомима, является самым древним видом искусства. Следовательно, жесты, телодвижения, двигательная символика были первичным слоем духовной культуры, на котором и складывались специфически человеческое общение, начало мышления, сознания и трудовой деятельности. У языка должен иметься первоисточник, не основанный на соглашении [Гурина 1998: 400].
«Жест в этом городе родился раньше слова. Все жестикулировали, размахивали руками, сверкали белками, стараясь объяснить друг дружке – если не самый смысл жизни, то хоть приблизительный» [Дон-Аминадо 1991: 47]. Русский писатель А.П. Шполянский (Дон-Аминадо), столь образно описавший старую Одессу, и не подозревал, как точно он представил предысторию человеческой речи. Жест родился раньше звукового слова не только в этом городе, но и на планете Земля.
2.2. Паракинесика
Значимое движение тела не только предшествует человеческой речи, но и сопровождает её. Более того, это система невербальных (несловесных) знаков, именуемая паракинесикой. К ней относится то, что связано с мимикой и телодвижениями в процессе речи и служит средством увеличения или изменения информации. Прежде всего, это жесты, сопровождающие речь, и мимика лица.
Антропологи выяснили, что человеческое тело может принимать около тысячи разнообразных устойчивых поз. Часть их обусловлена физиологическими потребностями организма, весьма большая часть телодвижений и поз имеет отчётливо выраженное коммуникативное назначение. «Тело – живой лик души. По манере говорить, по взгляду глаз, по складкам на лбу, по держанию рук и ног, по цветукожи, по голосу, по форме ушей, не говоря уже о цельных поступках, я всегда могу узнать, что за личность передо мною. По одному уже рукопожатию я догадываюсь обычно об очень многом. И как бы спиритуалистическая и рационалистическая метафизика не унижала тела, как бы материализм не сводил живое тело на тупую материальную массу, оно есть и остаётся единственной формой актуального проявления духа в окружающих нас условиях. Однажды я сам заметил, что у меня изменилась походка, и, поразмысливши, я понял, отчего это случилось. Тело – неотъемлемая стихия личности, ибо сама личность есть не больше как телесная осуществленность интеллигенции (ума. – А.Х.) и интеллигентного символа. Мне иной раз страшно бывает взглянуть на лицо нового человека и жутко бывает всматриваться в его почерк: его судьба, прошлая и будущая, встаёт совершенно неумолимо и неизбежно» [Лосев 1990: 461]. «Говорим голосом, беседуем всем телом» (древнеримский автор Публиций).
Оноре де Бальзак в 1833 г. написал трактат «Теория походки». Глубокий знаток человеческой психологии, Бальзак интуитивно чувствовал, что в физической деятельности человека проявляется его внутренний настрой, течение его интеллектуальной жизни.
В книге П. Мантегацци «Физиономия и выражение чувств» (Киев, 1886) описывалась зависимость мимики человека от этнической принадлежности и профессии, указывались антропологические признаки для распознавания интеллектуальных и нравственных особенностей личности (физиогномика). В книге С. Волконского «Выразительный человек. Сценическое воспитание человека (по Дельсарту)» (СПб., 1913) обосновывалась необходимость науки, которая изучала бы внешние признаки, служащие для выражения внутреннего состояния человека.
«Когда я стараюсь распознать истинные чувства людей, я полагаюсь на мои глаза больше, чем на уши, ибо люди говорят, имея в виду, что я их услышу, и соответственно выбирают слова, но им очень трудно помешать мне увидеть то, чего они вовсе, может быть, не хотят мне показывать» (Честерфилд. Письма к сыну. Максимы. Характеры). Стефан Цвейг заметил, что страсти и пороки выдают руки, а Вересаев, писатель и врач, советовал смотреть на губы человека, чтобы понять его характер. Люди заметили: стоит близорукому человеку снять очки, как он начинает хуже… слышать своего собеседника.
Л.Н. Толстой в своих «Дневниках» однажды с огорчением отметил: «Я невольно, говоря о чём бы то ни было, говорю глазами такие вещи, которые никому не приятно слышать, и мне совестно, что я говорю их» [Толстой 1985: 82]. Вспомним эпизод из романа «Война и мир»: «Наташа, сама не зная этого, была вся внимание: она не упускала ни слова, ни колебания голоса, ни взгляда, ни вздрагивания мускула лица, ни жеста Пьера. Она налету ловила ещё не высказанное слово и прямо вносила в своё раскрытое сердце, угадывая тайный смысл всей душевной работы Пьера» (Толстой Л.Н. Война и мир. Т. 4. Ч. 4. XVII). В этом романе мы увидим 97 оттенков улыбки и 85 оттенков выражения глаз героев.
В художественной литературе таких примеров немало: «Никогда Евгения Николаевна не думала, что человеческая спина может быть так выразительна, пронзительно передавая состояние души. Люди, подходившие к окошечку, как-то по-особенному вытягивали шеи, и спины их, с поднятыми плечами, с напружинившимися лопатками, казалось, кричали, плакали, всхлипывали» (Гроссман Л. Жизнь и судьба). «Лена смотрела на него строго. «Что-то подозрительное ты загадал», – говорило её лицо. «Неужели и я так говорю лицом и глазами, и она читает!» – подумал Фёдор Иванович» (Дудинцев В. Белые одежды).
Многие телодвижения человека приобрели определенное значение и стали использоваться как средство коммуникации, которое обычно называют жестом в широком понимании этого слова, включая и мимику. Значимый и коммуникативно функционирующий жест и составляет основу паракинесики. Насколько тесно жест включён в систему общения, специалисты демонстрируют на примере шутливого эксперимента: у испытуемых спрашивают, что такое винтовая лестница или рябь, человек, даже самый одаренный в отношении языка, в ответ начинает непроизвольно изображать рукой спираль или в горизонтальной плоскости покачивать пальцами [Русская разговорная речь 1973: 465].
Социально выработанный жест, включенный в систему общения на том или ином языке, получил национальную специфику. Жестикуляция, сопровождающая речь, улиц разной национальности неоднородна по интенсивности (в одну минуту финн делает 1 жест, итальянец – 80 жестов, француз – 120, мексиканец – 170), а также по семантике. Например, один из самых распространенных в мире жестов – большой и указательный пальцы сомкнуты и образуют кольцо. С ним, однако, надо быть осторожнее. В США, как известно, он обозначает о'кей, во Франции – ноль, в Японии – деньги, а в Тунисе – «Я тебя убью». Национальное своеобразие общения жестами особенно заметно в тех случаях, когда дублируются зарубежные фильмы. При дублировании речевой канал наполняется разным содержанием, а неречевой – паралингвистический – остаётся стабильным. И это создаёт впечатление противоречия, некоторой несовместимости: человек говорит как бы на двух языках одновременно.
Лингвисты, изучающие устную речь, выяснили важную роль жеста в ней. В книге «Русская разговорная речь» есть специальная глава «Жест в разговорной речи», в ней показаны виды русских жестов, их ритмическое, эмоциональное и знаковое значение, соотношение словесного текста и жеста, абстрактное значение жеста. Было выделено 18 жестов, которым присуща предельная абстрактность значения. Причём наблюдения сопровождались экспериментами, и ответы информантов оказались поразительно единодушными, что говорит об устойчивости семантики каждого из жестов и сближает их со словами. Показательно, что появляются специальные учебные словари национальных жестов. Японские учителя русского языка, в частности, имеют в своём распоряжении словарь русских жестов, подобный аналогичному словарю итальянского языка (Рим, 1970). Не отстают и отечественные лингвисты ([Акишина и др. 1991]). Известно, что группа российских учёных создаёт новый экспериментальный «Словарь русских жестов, мимики и поз».
Менеджеры убеждены, что в международном бизнесе не обойтись без знания теории и практики паракинесики. В Японии, например, продавщицы изучают программу школы гейш, где неречевой контекст общения считают важнейшим средством для достижения взаимопонимания. Английские специалисты Дж. Ниренберг и Г. Калеро написали популярное во всём мире пособие для деловых людей под выразительным названием «Читать человека – как книгу». Здесь изложены основы боди ленгвидж – языка жестов, мимики и телодвижений человека. Австралийский предприниматель и учёный Аллен Пиз выпустил книгу «Язык телодвижений», которая в США с 1961 по 1991 гг. переиздавалась 14 раз общим тиражом свыше миллиона экземпляров. Русский – двадцать седьмой язык, на который она переведена [Пиз 1993]. Книга задумывалась как пособие агентам по продаже товаров, менеджерам, руководителям предприятий. Однако она заинтересовала преподавателей, следователей, врачей, журналистов. Внимательно читают её психологи и искусствоведы.
«Из жестов всех составить алфавит и научиться понимать все мысли» (Шекспир В. Тит Андроник) – мечтал великий драматург. Американский психолог Р. Бёрдвистл попытался выделить кин – мельчайшую единицу движения, аналогичную букве. Таких кинов учёный насчитал около 60. Известны и другие попытки поиска «алфавитажестов», однако ряд психологов настроен скептически. По их мнению, создать код, «словарь», дискретный «алфавит» невербальной коммуникации невозможно, поскольку поиск алфавита есть проявление лингвоцентризма – стремления изучать любые виды коммуникации по образу и подобию языка человеческой речи. Невербальная коммуникация – проявление смысловой сферы личности. Она представляет канал передачи личностных смыслов [Файгенберг, Асмолов 1989].
2.3. Звуковая изобразительность речи
Вернемся ко времени рождения языка. Пантомима-сооб-щение сопровождалась рефлекторным «озвучиванием», звуки закреплялись за вычленяемыми элементами пантомимы и способствовали редукции ослабленной пантомимы. Постепенно звук стал основным средством передачи смыслов и превратился в самостоятельный коммуникативный знак. Предполагают, что первые звуковые комплексы («слова») рождающегося языка были мотивированными – это так называемая первичная (примарная) мотивированность первых слов. Идея звуковой изобразительности человеческого языка в период его становления основывается на несомненном факте, поскольку звуки речи обладают ассоциативным значением. Поэты давно уже обратили внимание на устойчивые ассоциации смыслов с теми или иными звуками речи («Звучанием корней живут слова», – заметил Гёте). «Слово любила «бемоль», такое лиловое и прохладное и немножко граненое, как Балерины флаконы, и рифмовавшееся во мне с «желтофиолью»… И «диез», такое прямое и резкое, как мой собственный нос в зеркале» (М. Цветаева. Сочинения. – М., 1980. Т. 2. С. 102). Французский поэт Стефан Малларме жаловался на то, что французским словам jour «день» и пий «ночь» свойственно фонетическое значение, обратное присущему им смыслу. По Малларме, слово ombre «тень» и в самом деле является тенистым, a tenebres «мрак» (с его высокими гласными) не предполагает темноты [Якобсон 1983: 114]. Механизм, который помогает переводить стимулы из одной сенсорной модальности в другую, назвали синестезией [Воронин 1982]. Философы Древней Греции, споря о природе связи слова и вещи, отмечали, что звук [R] чаще всего встречается в словах со значением движения, [I] выражает всё тонкое, [L] – гладкое, скользящее.
Проделаем нехитрый эксперимент. Два предмета, различающиеся размером, закодируем «словами» чинг и чанг. На вопрос, каким «словом» обозначен меньший предмет, участники эксперимента единодушно выбирают звукокомплекс чинг. Звук [и] у них устойчиво ассоциируется с малым размером. Данные массовых экспериментов, кажется, однозначно говорят, что гласные звуки связаны с идеей величины. Устойчивые связи звуков речи с ощущениями и представлениями в современной лингвистике получили название звукового символизма, или фоносемантики [Журавлёв 1981; Воронин 1982].
Фоносемантике предстоит проверить предположение, что в мозгу человека существует таблица цветов, по крайней мере типологически подобная таблице звуковых частот, которая тоже должна там быть [Леви-Строс 1985: 87]. Специалисты установили, что хроматическая цветовая гамма связана с гласными звуками, а потому они – цветные. Согласные звуки – чёрно-белые, одни – тёмные (губн. П, Б, М), другие – светлее (зубн. С, 3, Ц).
Интересно наблюдение писателя В. Набокова над собственным цветовым слухом: «…Я наделен в редкой мере так называемой autition coloree – цветовым слухом… Не знаю, впрочем, правильно ли тут говорить о «слухе»: цветовое ощущение создаётся, по-моему, осязательным, губным, чуть ли не вкусовым чутьём. Чтобы основательно определить окраску буквы, я должен букву просмаковать, дать ей набухнуть или излучиться во рту, пока воображаю её зрительный узор. Чрезвычайно сложный вопрос, как и почему малейшее несовпадение между русскоязычными начертаниями единозвучной буквы меняет и цветовое впечатление от неё…» (Набоков В. Другие берега).
Мнение английского поэта А. Попа («Звук должен быть откликом смысла») языковед Р. Якобсон подкрепил обширным списком английских слов, в которых звуковая изобразительность, сближающая знаменательные слова со звукоподражательными словами, очевидна: bash «ударять», mash «разваливать», smash «разбивать вдребезги», crash «рушиться с грохотом», dash «швырнуть», lash «хлестнуть», hash «рубить», rash «бросаться», brash «ломать», clash «сталкивать», trash «отбросы», plash «плескаться» splash «брызгать», flash «мелькать» [Якобсон 1983: 112]. Согласно выводам А.М. Газова-Гинзбурга, из 181 случая глагольных корней, признаваемых исконно общесемитскими, 115 конкретно объясняются как изобразительные, относительно 26 предполагается то же [Газов-Гинзбург 1965].
Полагают, что звукосимволизм и звукоподражание характерны для слов с определенным предметно-логическим содержанием. Выделено 16 основных групп слов, наделённых звукоизобразительными свойствами. Наибольшей фонетической мотивированностью обладают слова со значением звучания, движения, размера, расстояния, положительных качеств и свойств, явлений природы. Наименьшей фонетической мотивированностью характеризуются слова, обозначающие свет, цвет, состояния человека и предметов. Поскольку мотивированность слова связана с его экспрессивностью, звуковой символизм характерен в основном для слов нелитературной лексики. У таких слов ярко выражено коннотативное значение [Левицкий 1994: 29].
Проводилось специальное исследование того, как в английском и литовском языках обозначаются голоса птиц, как человек воспринимает и отображает всё многообразие окружающих его звучаний, какие звучания и по какому принципу получают обозначение в языке. Таких слов немало, это ономатопы – лексемы, обозначающие различные звуки [Рузин 1993].
Замечено, что в разных языках одно и то же звучание передаётся сходным, хотя и не идентичным набором фонем. По мнению В.В. Левицкого, в основе фонетической мотивированности лежит структурное, а не материальное сходство звучания и значения. Например, в фонетической структуре немецкого слова Zickzack краткий верхний [i] противостоит краткому нижнему [а], находясь в одинаковом окружении, эти звуки символизируют «резко изломанную линию» [Левицкий 1994: 27].
Высказана гипотеза, согласно которой проторечь предков человека, основанная только на вокализме (гласных звуках), не могла быть средством фиксации и актуализации знаний. Появление согласных – скачок в эволюции языка как средства познания. Согласные связаны с развитием левого (языкового и логического) полушария [Вопросы языкознания. 1993: № 3: 142].
В современной лингвистике разграничивают «фонетическую мотивированность» как соответствие звучания слова его обычной семантике и «фонетическое значение» (понятие и термин А. П. Журавлёва) как суммарную оценку символических значений звуков, которые входят в состав звуковой оболочки слова.
С развитием языка меняется характер связи между звучанием слова и его значением, стирается звуковая изобразительность (примарная мотивированность знака) и на смену ей приходит мотивированность смысловая и морфологическая. Однако полностью звуковая изобразительность не утрачивается и нередко усиливает выразительные возможности речи. Творческий опыт поэтов и наблюдения психолингвистов на этот счет достаточно красноречивы.
Гипотезу «жестовости» и звукоизобразительности первоначальной речи человека подтверждают наблюдения над развитием системы коммуникации у ребенка. Первые «слова» детской речи ta, da не зависят от национальности родителей ребенка, они универсальны, близки к указательным местоимениям. Звуки [t], [d] – переднеязычные согласные, при произнесении их тело ребенка занимает положение «указующего жеста». Видимо, справедлив вывод о том, что генетически слово – жестозвуковое; нейрофизиологи свидетельствуют, что в структуре мозга человека речевой центр – это и центр управления ведущей руки.
Левое полушарие в норме управляет и звуковой речью, и последовательными движениями губ и языка. Полагают, что предки человека простые сообщения передавали с помощью жестов глаз, губ и языка. Например, жест удивления – высунутый язык – одинаков у человека, и у гориллы. На первых порах существенно было то, что губы соединяются, а не то, что при этом образуется звук. Постепенно левое полушарие, строившее серии зрительных жестов, перешло к построению последовательностей коротких речевых сигналов [Иванов 1985: 35–36].
Все эти наблюдения позволяют по-иному оценить такие теории генезиса языка, как звукоподражательная, междометная («Человеческий произвол застаёт звук уже готовым: слова должны были образоваться из междометий, потому что только в них человек мог найти членораздельный звук» [Потебня 1989: 93]), жестовая. Эти теории, по существу, могут быть объединены в одну общую теорию в качестве частных случаев, объясняющих те или иные моменты глоттогенеза. Они характеризуют тот протоязык, в котором, как считал А.А. Потебня, тон междометия не мог обойтись без мимики, что обеспечивает такому языку универсальность («единственный язык, понятный всем») [Потебня 1989: 89].
2.4. Понятие о паралингвистике
На вопрос собеседника, где находится тот или иной предмет, можно ответить указательным словом вон/там/. Попробуем, не меняя высказывания, протянуть гласный: во-о-он / там/. Слово осталось тем же самым, но информация изменилась: теперь речь идёт о предмете, который находится дальше, чем предыдущий предмет. А.А. Потебня отметил, что чутьё человека заставляет протягивать гласную в прилагательном (например, хоро-оший), если им хотят выразить высокую степень качества [Потебня 1989: 105]. Изменение длительности звучания привело к возникновению дополнительной информации. Дополнительная информация передаётся несловесным путём (в том смысле, что не требуется дополнительных слов), но и она связана с речью, сопутствует ей, обогащает её и без речи существовать не может.
«– Lise! – только сказал князь Андрей; в этом слове были и просьба, и угроза, и, главное, уверение в том, что она сама раскается в своих словах» (Толстой Л. Война и мир. Т. 1.4. 1. VI). «– Что… – начала она вопрос, но вдруг остановилась. Она почувствовала, что словами нельзя ни спросить, ни ответить. Лицо и глаза Наташи должны были сказать всё яснее и глубже» (Толстой Л. Война и мир, Т. 4, Ч. 1, XIV). «Слова были для них пустым звуком, зато взгляды, улыбки, тембр голоса, самые незначительные движения помимо них вели между собою неумолчную беседу» (P.M. дю Тар. Семья Тибо).
Эти цитаты из великих художественных произведений дают совокупное представление об особом, паралингвистическом способе передачи информации. К компетенции паралингвистика относят все те способы передачи информации, которые связаны со звучанием речи, её фонетическим обликом. В неё входит всё связанное с акустическими характеристиками голоса (тембр, высота, громкость и т. п.), «значащие» паузы, интонационный рисунок речи, явления неканонической (необычной) фонетики и т. д. Г. Гегель писал: «…Звуки способны вызвать в нас соответствующее настроение. Преимущественно это справедливо относительно человеческого голоса; ибо этот последний представляет собой главный способ, посредством которого человек может обнаружить своё внутреннее существо; то, что он есть, он влагает в свой голос» [Гегель 1956: 117].
Роль интонации в нашей речи чрезвычайно велика. Недаром говорят: важно не то, что говорят, а как говорят. «…Письменное искусство, хотя и очень разработанное грамматически, совершенно беспомощно, когда надо передать интонацию, так, например, есть пятьдесят способов сказать «да» и пятьсот способов сказать «нет», и только один способ это написать» [Шоу 1953: 14]. «Правда, сказанная злобно, лжи отъявленной подобна» (Блейк в переводе Маршака). Макаренко признавался, что педагогом он почувствовал себя только тогда, когда смог одно и то же приказание отдавать с двадцатью различными интонациями. «Люди обижаются не на смысл, а на интонацию, потому что интонация обнаруживает другой смысл, скрытый и главный» (Трифонов Ю. Другая жизнь). «Слова её были бедны, слог был обычным для восемнадцатилетней барышни, но интонация… интонация была исключительно чистая и таинственным образом превращала её мысли в особенную музыку» [Набоков 1990: 270]. М.М. Бахтин заметил, что интонация всегда находится на границе словесного и не-словесного, сказанного и несказанного, что именно в интонации говорящий соприкасается со слушателями [Волошинов 1995: 69]. По образному замечанию Ш. Балли, интонация – это постоянный комментатор мысли [Балли 1961: 315]. Эмоциональную интонацию великий русский кинорежиссёр С. Эйзенштейн называл звуковым жестом.
Задумывались ли мы над тем, почему существует искусство декламации, искусство художественного чтения? Мы идём на концерт известного чтеца, в большинстве своём зная содержание тех произведений, которые будут исполняться. Содержательная информация, получаемая в этом случае, практически равна нулю, но тем не менее мы идём на концерт – и обогащаемся большой эстетической информацией. Недаром же говорят о различном прочтении художественных произведений. Искусство художественного чтения состоит в том, чтобы предельно полно функционировал паралингвистический канал общения. Известны примеры, когда слова почти отсутствуют, а художественное произведение остаётся. Пластинка Стена Фреберга «Джон и Мария» посвящена любовной истории. Мужской голос повторяет слово «Мария», а женский – «Джон». Эмоциональная интонация произношения меняется, и вся история предельно ясна слушателям. Строки из известного стихотворения М.Ю. Лермонтова: «Есть речи – значенье / Темно иль ничтожно, / Но им без волненья / Внимать невозможно» – гимн паралингвистике. Важно заметить, что в художественном творчестве паралингвистический способ передачи информации зачастую способствует лучшему словесному оформлению речи. В статье «Как делать стихи» В. Маяковский говорит о том, что стихи у него вырастают из «поэтического гула». Думается, что «муки слова» у великих поэтов и писателей – это напряженная попытка согласовать, гармонизировать словесный и несловесный каналы поэтической информации.
К паралингвистическим средствам общения относят, как сказано выше, и случаи неканонической фонетики, т. е. употребление звуков и их сочетаний, не свойственных данному языку. Так, звуковой комплекс «гм» не обладает значимым лексическим содержанием, но в речи он используется широко и может передавать большое количество информации. В очерке «В.И. Ленин» A.M. Горький вспоминает: «Краткому, характерному восклицанию «гм-гм» он умел придавать бесконечную гамму оттенков, от язвительной иронии до осторожного сомнения, и часто в этом «гм-гм» звучал острый юмор, доступный человеку очень зоркому».
В речи велика смысловая нагрузка и пауз. Парадоксально: человек молчит, а информация от него идёт. У В.А. Жуковского: «Молчание понятно говорит». Более того, информация в паузе подчас превышает смысловую нагрузку слова, потому она и замещает речь. Не случайно Цицерон заметил: «Самый сильный крик содержится в молчании». «Чувство Родины должно быть великим горячим молчанием» [Розанов 1990: 292].
Для тех, кто много общался с аудиторией, не покажется преувеличением наблюдение М. Твена: «Читая по книжке с эстрады, чтец очень скоро убеждается, что одно орудие в его батарее приёмов работает непропорционально калибру– это пауза: то выразительное молчание, то красноречивое молчание, то в геометрической прогрессии молчание, которое часто позволяет добиться нужного эффекта там, где его порой не даёт даже самое счастливое сочетание слов. Я, бывало, играл паузой, как ребёнок игрушкой… Когда я выдерживал паузу именно столько, сколько следует, последняя фраза производила потрясающий эффект» [Твен 1961: 421].
«Есть два вида тишины. Беспомощная тишина инертности, которая знаменует распад, и тишина могущества, которая управляет гармонией жизни» [Рерих 1990: 35]. Вспомним знаменитую немую сцену в «Ревизоре» Н.В. Гоголя. Напряженные, полные внутреннего движения диалоги пьесы неожиданно сменились всеобщей паузой, и она красноречивее всяких слов выносит приговор действующим лицам. Американский антрополог Э. Чаппл установил, что соотношение речи и молчания – устойчивая характеристика каждого человека. Учителю полезно внимательно прочитать статью Ираклия Андроникова «Слово написанное и слово сказанное», помещаемую во все сборники устных рассказов этого замечательного мастера устной речи.
2.5. Своеобразие устной речи
Языковеды, изучая устную речь, сделали убедительный вывод, что она структурно отличается от письменной. Конечно, в своей основе и устная, и письменная речь сходны: иначе нельзя было бы прочитанное пересказать, а сказанное записать. Самые существенные отличия между ними наблюдаются на уровне предложения, словосочетания, меньшие – на уровне морфологии, лексики и словообразования. Например, в устной речи части сложного предложения соединяются чаще всего бессоюзным способом, и каждая фраза состоит из двух частей со своими смысловыми вершинами.
Структурные отличия книжно-письменной и устно-разговорной форм речи не случайны и свидетельствуют об их принципиальном различии в плане передачи информации. Если в письменной речи у нас один канал информации (сам текст), то в устной речи каналов информации два: а) информация, которая непосредственно содержится в произнесенных словах, и б) информация, получаемая слушателем помимо слов, которая сопутствует речи и в той или иной мере связана со словами. Переходя от письменной речи к устной, человек бессознательно включает второй, несловесный, канал информации, что как бы автоматически перестраивает первый – словесный, или речевой, – канал.
В пособиях по ораторскому мастерству часто приводится ставший хрестоматийным пример с Ф.М. Достоевским, произнесшим лучшую, по мнению слушавших, речь о Пушкине. Позже речь была опубликована. Слышавшие Достоевского, прочитав её, с недоумением отмечали, что это совсем другая речь. Нет, это была та же речь (и речь большого мастера слова!), но, напечатанная, она лишилась значительной части силы своего воздействия. М. Твен охарактеризовал отличие устной речи от письменной следующим образом: «Как только прямая речь оказывается напечатанной, она перестаёт быть тем, что вы слышали, – из неё исчезает что-то самое важное. Исчезает её душа, а вам остаётся только мёртвая оболочка. Выражение лица, тон, смех, улыбка, поясняющие интонации – всё, что придавало этой оболочке тепло, изящество, нежность и очарование… исчезло…» [Твен 1961: 598–600].
Важность несловесного канала информации трудно переоценить. «В пустом разговоре была не только пустота, – улыбки, взгляды, движения рук, покашливание, всё это помогало раскрывать, объяснять, понимать наново» [Гроссман 1989:43]. В дневнике К.И. Чуковского есть запись о впечатлении от рассказов М. Горького о Л. Толстом: «Когда я записываю эти разговоры, я вижу, что вся их сила – в мимике, в интонациях, в паузах, ибо сами по себе они, как оказывается, весьма простенькие и даже чуть-чуть плосковаты» [Чуковский 1992: 155]. «Английская разговорная речь – по крайней мере у людей высшего круга – содержит, должно быть, меньше слов, чем эскимосский язык… Англичане говорят интонационными речениями. Одно речение может выражать всё, что угодно» (Хемингуэй Э. И восходит солнце (Фиеста) //Хемингуэй Э. Романы и рассказы. М., 1992. С. 113).
Возникает вопрос о соотношении количества информации, отправляемой и получаемой по обоим каналам – речевому и неречевому. Известный французский писатель-моралист XVII в. Ларошфуко полагал, что в звуке голоса, в глазах и во всём облике говорящего заключено не меньше красноречия, чем в выборе слов. Философ О. Шпенглер считал, что при передаче душевных движений, которые совершенно не поддаются описанию, велика роль взгляда или еле заметных жестов. Они – настоящий язык души, который непонятен для непосвященных. Слово, как звук, как элемент поэзии, сможет установить эту связь, но слово, как понятие, как элемент научной прозы, в этом отношении совершенно бессильно [Шпенглер 1993: 389].
По мнению современных специалистов, несловесный канал в процессе общения передаёт слушателям информации больше, чем канал словесный. «Всего одно слово, произнесенное в группе близких людей, несмотря на свою внешнюю неопределенность и неоднозначность, может представлять собой гораздо более точное сообщение, чем целые тома тщательно подготовленной корреспонденции, которой обмениваются два правительства» [Сепир 1993: 212]. Правда, количественные показатели сильно колеблются, но во всех случаях важность паралингвистических и паракинесических средств в общении несомненна. Автор книги «Правда о жесте» Ф. Сулже утверждает, что при разговоре люди словам придают лишь 7 % значимости, интонации – 38 %, а мимике и жестам – 55 %. Один жест может полностью изменить смысл произнесенных слов. Сказанное устно при помощи манеры, тона, темпа и обстоятельств в очень большой степени само себя истолковывает, констатирует известный философ [Гадамер 1988: 457].
Психологи утверждают, что удельный вес паралингвистических сигналов особенно велик в первые 12 секунд разговора – он составляет 92 % всего объёма сообщаемой информации. Лишь 8 % приходится непосредственно на слова, которыми мы обмениваемся. Специалисты по переговорам считают, что успех делового контакта зависит от того, насколько слова соответствуют несловесным сигналам [Наука и жизнь. 1992: № 12: 50]. Столь большие возможности паракинесики объясняются тем, что мимика и жест – элементы богатого аналогового (непрерывного во времени) языка.
Особенно ярко свои коммуникативные возможности паракинесика проявляет в таких видах искусства, как пантомима и хореография. Когда слушатель не знает языка говорящего, возможности паралингвистики и паракинесики особенно ощутимы. Паралингвистика стала пружиной сюжета рассказа К. Чапека. Его герой – чешский дирижер, не знающий английского языка, приехал в Ливерпуль и стал невольным свидетелем разговора мужчины и женщины. Слов он не понимает, но как опытный музыкант по интонации, по ритмике хорошо понимает суть разговора, в котором голос мужчины у него ассоциируется с контрабасом, а женщины – с кларнетом. «Слушая этот ночной разговор, я был совершенно убежден, что контрабас склонял кларнет к чему-то преступному. Я знал, что кларнет вернётся домой и безвольно сделает всё, что велел бас. Я всё это слышал, а слышать – это больше, чем понимать слова. Я знал, что готовится преступление, и даже знал, какое. Это было понятно из того, что слышалось в обоих голосах, это было в их тембре, в кадансе, в ритме, в паузах, в цезурах… Музыка – точная вещь, точнее речи» (Чапек К. История дирижера Калины).
Подсчёты специалистов в области информатики и общения подтверждаются практикой. Например, двум одинаковым по составу и способностям студенческим группам одновременно читался лекционный курс, при этом профессор находился в первой аудитории, а всё говоримое им звучало и во второй аудитории. На экзаменах в конце семестра выяснилось, что студенты, не только слушавшие, но и видевшие профессора, сдали экзамен гораздо лучше, чем студенты из второй аудитории, хотя остальные предметы обе группы сдали примерно одинаково. Замечено также, что информация, сообщаемая теледиктором, запоминается прочнее, чем аналогичная информация от радиодиктора.
Британский психолог Р. Уайзман экспериментально определил, что лживые сообщения легче всего люди распознают, когда их передают по радио, и чаще обманываются, читая газеты или сидя перед телевизором. 73,4 % радиослушателей сразу различили правду и кривду. Среди читателей газет таких – 64,2 %, телезрителей – 48,2 %. Британский исследователь констатировал, что мимика и жесты легко маскируют то, что невольно силится передать голос [Знание – сила. 1996: № 2: 149].
В.И. Ленин утверждал, что личное воздействие и выступление на собраниях в политике страшно много значит, что без них нет политической деятельности и даже само писание становится менее политическим. Фактор личного воздействия и действенности устного выступления Лениным объяснялся структурой идеи, которая вносится в массы. «Идея есть познание и стремление (хотение) /человека/» [Ленин: 22: 177]. Если первый компонент идеи – познание – без особых потерь может передаваться и письменным путём, то второй – «хотение» – эффективнее всего передаётся личным присутствием, речевыми и неречевыми средствами общения.
Соотношение количества информации, передаваемой с помощью обоих каналов, – величина переменная и зависит от многих обстоятельств. Чем ограниченнее словарь говорящих, тем чаще личные намерения сигнализируются несловесным путём. Особенно это заметно в общении детей, подростков, военнослужащих, семейных пар и лиц, долго проживающих совместно. «Кто не замечал тех таинственных бессловесных отношений, проявляющихся в незаметной улыбке, движении или взгляде между людьми, живущими постоянно вместе: братьями, друзьями, мужем и женой, господином и слугой, в особенности когда люди эти не во всём откровенны между собой. Сколько недосказанных желаний, мысли и страха – быть понятым – выражается в одном случайном взгляде, когда робко и нерешительно встречаются ваши глаза!» (Толстой Л. Отрочество, гл. V).
Разговорная речь в силу её двуканальности отличается большими эвристическими и творческими возможностями. На точном языке науки можно корректно только формулировать открытое, но сами открытия требуют мысли на базе естественного языка. К этому тезису неоднократно обращался писатель и философ М.М. Пришвин. «До последней крайности надо беречься пользования философскими понятиями и держаться языка, которым мы перешептываемся о всём с близким другом, понимая всегда, что этим языком мы можем сказать больше, чем тысячи лет пробовали сказать что-то философы и не сказали» [Пришвин 1990: 395]. «Мечтательная неточность мышления» первого человека (и, добавим, языка), которую упоминает Т. Манн в романе «Иосиф и его братья», в силу своих эвристических возможностей обусловила становление человека, его культуры и цивилизации.
Информативные и экспрессивные возможности невербальных средств информации в форме паракинесики и паралингвистики оправдывают целесообразность особой отрасли языкознания, о которой писал Е.Д. Поливанов: «Не надо думать, что эти стороны речевого процесса есть нечто не подлежащее ведению лингвистики, т. е. науки о языке. Только, разумеется, рассмотрение этих фактов… составляет особый самостоятельный отдел лингвистики» [Поливанов 1968: 296]. Перспективы оптимизации человеческого общения напрямую связаны с этой областью знания. Что касается профессиональной культуры учителя, то без учёта достижений этой новой отрасли науки она просто невозможна.
Проблема параязыка тесно связана с популярной ныне теорией речевых актов, которой предшествовала идея «речевых поступков», сформулированная Н.И. Жинкиным. «Речевой поступок» – это результат сложного взаимодействия языка и параязыка, процесс «переозначения»: «Слова имеют значение, но интонация накладывает на них свою переозначающую печать. В работу переозначения включается не только интонация, но и весь поток экспрессии – пантомимика, статика и динамика тела говорящего человека. Если бы этого не было, речь представлялась бы как безжизненные звуки, издаваемые чурбаном. Вот почему интонация значительно больше, чем звуковое оформление предложения. Получившееся образование в целом может быть названо речевым поступком» [Жинкин 1998: 84].
Творческая деятельность человека не мыслится вне жеста. Очень тонко подметил это мастер слова А.Н. Толстой: «Я наконец понял тайну построения художественной фразы: её форма обусловлена внутренним состоянием рассказчика, повествователя, за которым следует движение, жест. И, наконец, – глагол, речь, где выбор слов и расстановка их адекватна жесту» [Толстой А. 1972: 53–54].
Из жеста, включенного в коммуникацию, из ощущения его большей, нежели в слове, выразительной силы родилось искусство. Особенно тонко это чувствовал П.А. Флоренский: «…И картина или статуя разделяют его (свойство великого слова. – А.Х.) в качестве тоже слов нашего духа, – запечатленных в твёрдом веществе слов жеста, жесты пальцев и руки, тогда как слово звуковое есть запечатление жеста голосовых органов и притом запечатление в воздухе. Картина и статуя принципиально суть слова» [Флоренский 1990: 204]. То же мнение встречается у философа Л. Витгенштейна: «Архитектура – своего рода жест» [Витгенштейн 1994: 451]. «…Хорошая архитектура создаёт впечатление воплощенной мысли. У тебя возникает желание ответить на это жестом» [Витгенштейн 1994: 432].
Параязык сопровождает не только обыденную, устную речь, но стремится войти в речь художественную, по преимуществу письменную. Большая выразительная и информативная ёмкость жеста в устной речи предопределили наличие подобных «языковых жестов» в письменной речи, когда вербально представляется несловесная реакция. В «Словаре русского языка XI–XVII вв.» (вып. 1: 335) можно обнаружить образчик такого «жеста»: Брови воздвигати (воздвигнути) на кого-л., брови возводити «выражать гнев, неудовольствие». (Иллюстрация взята из памятника XI в.)
В этом случае происходит парадоксальное: теперь уже слово материализует невербальное средство. Параязык – важная характеристика человека, а потому писатели стремятся передать не только содержание невербальных элементов общения, но и саму форму их проявления в поведении человека. «В речевом поступке человек не только выражает мысли, но и «выдает с головой самого себя», свое отношение к действительности» [Жинкин 1998: 84]. В этом смысле красноречив писательский опыт Л.Н. Толстого, трилогию которого «Детство», «Отрочество» и «Юность» можно читать и как художественное исследование природы и функциональных возможностей параязыка в художественном тексте [Хроленко 1999].
Не только содержание художественного произведения, но и его типографская форма может включать элементы своеобразного параязыка. Андрей Белый впервые ввёл «издательские жесты» в поэзию: язык пробелов, лесенки слов. Это не случайно. Жест – яркая черта речи А. Белого. Вот впечатление современника от выступающего с докладом этого замечательного русского литератора: «Движения говорят так же выразительно, как слова. Они полны ритма… Руки, мягкие, властные, жестом вздымают всё кверху. Он почти танцует, передавая движение мыслей… Он не умел видеть мир иначе, как в многогранности смыслов. Передавая это виденье не только словом: жестом, очень пластическим, взлетающим, звуком голоса, вовлечением аудитории во внутреннее движение. Рассказывал много раз – для него стих рождался всегда из движения. Не в сидении за столом, вне комнаты, а в перемещении далей закипало. Ещё неизвестно бывало, во что перельётся – в чистый звук музыки или в слово. Закипало создание в движении… Буквы, как букашки, разбегались по сторонам: слово вставало не в буквенном воплощении, а в звуке и цвете…» [Вопросы философии. 1990: № 4: 93–94]. Этот опыт далее развил В.В. Маяковский.
А. Блок не случайно настаивал, чтобы собрание его сочинений, начавшее издаваться до реформы орфографии в 1918 г., допечатали по-старому, так как стихи были рассчитаны на это. Графическая сегментация текста, расположение его на бумаге, шрифтовый и красочный набор, типографские знаки, необычное написание и нестандартная расстановка знаков пунктуации – этот арсенал паралингвистических средств помогает углубить и выразительно передать мысль и чувство автора.
Дополнительная литература
Воронин С.В. Основы фоносемантики. – Л, 1982.
Горелов И.Н Невербальные компоненты коммуникации. – М., 1980.
Горелов И.Н., Енгалычев В.Ф. Безмолвный мысли знак: Рассказы о невербальной коммуникации. – М., 1991.
Журавлёв А.П. Звук и смысл. – М., 1981.
Крейдлин Г.Е., Чувилина Е.А. Улыбка как жест и как слово (к проблеме внутриязыковой типологии невербальных жестов) // Вопросы языкознания. 2001. № 4. С. 66–93.
Потапова Р.К. Коннотативная паралингвистика. – 2-е изд. – М., 1998.
Пронников В.А., Ладанов И.Д. Язык мимики и жестов. – М., 2001.
Читать человека – как книгу. – Минск, 1995.
3. Знаковость как основа коммуникации
3.1. Отличие языка человека от «языков» животных
В труде складывается вторая сигнальная система, обусловившая принципиальное отличие языка человека от «языков» животных. Сигналы, которыми пользуются, скажем, антропоиды, не являются знаками в строгом смысле этого термина. Если язык человека основан на принципе «знак/значение», то коммуникация животных строится по принципу «часть/целое». Сигналы животных – это неотъемлемая часть ситуации. Они не могут быть заменены другими сигналами без ущерба для коммуникации [Ерахтин, Портнов 1986: 61]. Зоопсихологи утверждают, что звуковой язык животных, в отличие от человеческого, не обладает дискретностью, звуковая сигнализация у шимпанзе обладает большой неоднозначностью, множеством переходных форм и ситуационной связанностью, а потому разные исследователи, изучающие один и тот же вид животных, нередко насчитывают у них разное количество сигналов – от 11 до 25 естественных звуков [Правоторов 2001: 199–200].
Знаки языка обладают свойством членораздельности, перемещаемости, комбинаторности. Сигналы животных этого свойства лишены. Перемещаемость и комбинаторика знака даёт ему возможность служить средством познавательной деятельности, регулировать своё поведение и организовывать собственные психические процессы.
Знак есть предпосылка, база и результат фундаментального принципа языка, познания и мышления – их метафоричности. Философы полагают, что любое определение бытия метафорично, ибо, подводя бытие под определенное понятие, человек подставляет это понятие на место самого бытия. Метафоры оказываются наиболее фундаментальными структурами, которые направляют, формируют и приводят в действие механизм человеческого поведения. «…Следует говорить о постоянно расширяющемся опыте, отличающем сходства будь то во внешнем явлении вещей, будь то в их значении для нас. В том-то и состоит гениальность языкового сознания, что оно способно выразить подобные сходства. Мы называем это его принципиальной метафоричностью» [Гадамер 1988: 498]. Метафора – одно из самых универсальных явлений языка и культуры. Язык выступает как общая метафора действительности [Гурина 1998: 396].
Перемещаемость знака предопределяет необходимость синтаксиса. У ряда учёных складывается впечатление, что язык человека отличается от «языка» животных наличием синтаксиса. Так, не удалось выявить синтаксических отношений в «высказываниях» шимпанзе, обученного языку жестов.
Учёные полагают, что переход от обезьяноподобной коммуникации к человеческому языку начинается тогда, когда кора больших полушарий мозга берет под свой контроль управление движениями лица и голосовым трактом [Вопросы языкознания. 1992: № 1: 159].
В языке человека запрограммирована иерархия «алфавитов». На низшей ступени – несколько десятков звуков (фонем, в письме – соответственно букв). На более высокой – алфавит слогов, в котором по законам комбинаторики элементов во много раз больше. Затем морфемы и словоформы. Если уровней в системе три и больше, то обеспечиваются любые потребности общения, а система называется открытой.
Принято считать, что во всём живом мире открытая система есть только у человека. Правда, в настоящее время этот тезис подвергается сомнению. Рассекречены эксперименты военных моряков с дельфинами, в ходе которых возникли предположения, что у этого загадочного животного система общения – открытая. Если у человека несколько десятков фонем, меньшинство из которых гласные, а большинство – согласные, то и у дельфинов 51 импульсный сигнал (= согласные?) и 9 тональных свистов (= гласные?). Сигналы, относимые к одному типу, могут отличаться началами и концами при стабильной середине. Отсюда вывод: в дельфиньих сигналах есть нечто подобное приставкам и суффиксам. Выявляется и некоторая синтаксическая организация в «тексте» дельфинов. Эксперименты показали, что дельфин, проинструктированный человеком, может передать эту инструкцию другому животному, получившему от человека только приказ на исполнение [Известия. 1993. 22 мая].
3.2. Понятие о знаке
Почему язык стал важнейшим средством общения и орудием мышления, как он возник, в каких отношениях находятся слово и вещь, обозначаемая словом, что такое значение, что общего у языка с другими средствами коммуникации, обладают ли животные языком – вот далеко не полный перечень вопросов, на которые трудно ответить, если не учитывать особой, знаковой, природы языка.
Окружающие нас предметы подчас могут выступать в несвойственной им роли указателя или заместителя других предметов и явлений. Они выполняют как бы две функции: с одной стороны, представляют самих себя и ценны для нас своей природой, с другой стороны – способны служить указателями других вещей или явлений. Кашель – естественная реакция организма на соответствующее раздражение, но нарочитое покашливание может выполнять определенную сигнальную функцию. Стул служит для сидения на нём, но, поставленный в дверном проёме, он сообщает, что вход закрыт. «Надо было поставить условленный сигнал. Дерсу взял палочку, застругал её и воткнул в землю, рядом с ней он воткнул прутик, согнул его и надломленный конец направил в ту сторону, куда надо идти» (Арсеньев В. Дерсу Узала).
В одних случаях предмет или явление выполняет сигнальную функцию в силу естественной причинно-следственной связи явлений: высокая температура – свидетельство болезни, тёмные тучи – предвестник непогоды. В других случаях сигнальная функция предмету «навязывается». Вещь сознательно делается представителем другой вещи. Предметы или явления, выполняющие сигнальную функцию стихийно, нецеленаправленно, называются симптомами, предметы или явления, намеренно используемые во вторичной функции, – сигналами или знаками. Например, если женщина из племени дуба, живущего в Африке, вплетёт в волосы стебелёк камыша, это означает, что у её малыша прорезался первый зуб. Овдовевшему мужчине из аборигенов Австралии достаточно налепить на бороду комок грязи, и любому посвященному ясно, что этот человек ищет себе жену.
«Знак, – писал Г. Гегель, – есть непосредственное созерцание, представляющее совершенно другое содержание, чем то, которое оно само имеет по себе» [Гегель 1956: 256]. Чёрная кошка, перебегающая дорогу, представляет не её саму, а опасность или неприятности. В современной науке знак определяется следующим образом: «Знак, материальный предмет (явление, событие), выступающий в качестве представителя некоторого другого предмета, свойства или отношения и используемый для приобретения, хранения, переработки и передачи сообщений (информации, знаний)» [ФЭС 1983:191].
Все многочисленные определения знака в явной или неявной форме включают следующие основные признаки: 1) это материальное, чувственно воспринимаемое явление; 2) обозначает нечто, находящееся вне его, и обязательно несёт информацию для воспринимающего субъекта; 3) не связано с обозначаемым естественной или причинной связью; 4) соответствие структуры и содержания с обозначаемым предметом отсутствует.
Некоторые учёные полагают, что из этих четырёх признаков обязательными являются лишь два – второй и четвертый, и предлагают следующее определение знака: «такое явление (материальная вещь, свойство, процесс, действие, психический феномен), которое, не обладая структурным соответствием с другим каким-либо явлением, способно представлять или замещать его в определенных процессах» [Губанов 1981: 58].
Как устроен знак? Существуют два противоположных мнения о его структуре. Согласно одному, знак двусторонен (билатерален), он обладает планом выражения, материальной стороной, и планом содержания, значением. Аргументация в этом случае строится на той посылке, что знак важен не сам по себе, а только тем, что за ним стоит.
Более многочисленные противники этой точки зрения – унилатералисты – считают, что знак – явление одностороннее, обладающее только планом выражения. Знак всегда связан со значением, но его в себя не включает. Аналогия: садовник – человек, имеющий отношение к саду (владеет, работает), но сад в структуру человека (садовника) не входит.
Столь принципиальное расхождение мнений порождено неодинаковым пониманием природы значения. Для сторонников первой точки зрения значение – это вид отношения знака к предмету обозначения или понятию – и потому оно включено в знак; для их оппонентов значение – это факт сознания, идеальное отражение явления действительности. При таком подходе значение не может быть включено в знак, так как 1) звукоряд (= знак) указывает не только на предмет, но и на само значение; 2) знак произволен, условен, а значение безусловно, оно определяется отражаемой действительностью; 3) значение как факт сознания находится в голове, знак всегда вне её (отсюда автономность развития значения и знака) [Панфилов 1977; Солнцев 1977].
«…Наличие значения является обязательным свойством материальных предметов (в языке – звуков), используемых как знаки. Однако само это значение в знак не входит и является тем, на что знак указывает» [Солнцев 1977]. «Строго говоря, и в языковом знаке как некоторой физической субстанции нет никакого значения. С феноменологической точки зрения значение – это образы и представления, возбуждаемые в мозгу носителей языка, это социальный опыт коммуниканта, ситуализируемый при продуцировании, восприятии и понимании речевых сообщений» [Национально-культурная специфика 1977: 82]. Говорят, что значение знака – это концепт, связанный знаком. По выражению философа Х. – Г. Гадамера, знак получает своё значение лишь благодаря субъекту, воспринимающему его как знак [Гадамер 1988: 480].
Существенно, что знак способен передавать информацию о предмете только благодаря включенности или в знаковую ситуацию, или в систему других знаков, и, следовательно, значение не априорно принадлежит знаку, а приобретается им в условиях знаковой ситуации. Значение, как говорят, – это мера функциональности знака.
Знак никогда не существует в одиночку. Он часть упорядоченной совокупности. В системе знак обнаруживает четыре типа отношений: синтаксические, сигматические, семантические и прагматические. Синтаксические отношения – это структура сочетаний знаков и правила их образования и преобразования безотносительно к значениям и функциям знаковых систем; сигматические – связь знака с референтом (реалией, вещью); семантические – интерпретация знаков и знакосочетаний как средства выражения смысла; прагматические – взаимоотношение между знаковыми системами и теми, кто воспринимает, интерпретирует и использует содержащиеся в них сообщения [Клаус 1967; ФЭС 1983: 601].
Различие сигматических и семантических отношений можно продемонстрировать отрывком из статьи: «Если попробовать кратко определить пафос творчества Андрея Платонова и сущность личной жизни этого большелобого человека с неподкупными и ясными глазами ребёнка, то они совпадут. Автор «Чевенгура» врывался в действительность одержимо и яростно». Сигматика выделенных знакосочетаний абсолютно одинакова: они называют замечательного русского писателя, семантика же их различна: первое имеет в виду «паспортную» характеристику – личное имя, второе – портретную, третье – творческую. Необходимо заметить, что в «Философском энциклопедическом словаре» указывается не на четыре, а на три типа отношений: сигматические и семантические объединены в одном типе – семантическом.
Прагматические отношения можно показать на примере из книги французского учёного Р. Барта. Одно и то же сообщение «Не входите!» передано тремя формулами: 1) «Злая собака»; 2) «Осторожно, злая собака!»; 3) «Сторожевая собака». Смысл заключен в различии: «Злая собака» звучит агрессивно, «Осторожно, злая собака!» – человеколюбиво, «Сторожевая собака» – простая констатация факта. Налицо три образа мысли хозяев, три «личины собственности» [Барт 1989:535].
Семиотика
Под определение знака подходит очень широкий круг явлений: от простейшей сигнализации до фактов человеческой культуры. Знаковость объединяет такие явления, как кинетическая («жестовая») речь (параязык), разнообразные морские и дорожные светофоры и семафоры, язык барабана, особый свистовый язык «сильбо гомеро», искусственные языки, включая язык межпланетного общения «линкос» (язык космоса), предложенный голландским математиком Г. Фройденталем, правила этикета, настольные игры и т. д.
Многообразные и многочисленные знаки классифицируются. Систем тоже немало. Знаки систематизируются по двум большим классам – детерминированные (причинно-обусловленные) и недетерминированные. К детерминированным относят 1) знаки-признаки (симптомы); 2) знаки-копии (фотографии, чертежи, карты). К ним близки знаки, которые изучаются особыми прикладными науками, например, медицинской семиотикой (симптомы, признаки различных болезней), криминалистической трассологией (следы на месте преступления), археологией (элементы материальной культуры древних цивилизаций).
Недетерминированные знаки делятся на языковые (организованные в систему) и неязыковые (не организованные в систему). Языковые знаки распределяются по трём группам: 1) естественные языки (фонетические языки); 2) искусственные языки (графический письменный язык, ручная речь глухонемых, язык свиста, узелков и проч., математические и логико-символические языки, дорожные знаки, музыкальные ноты и т. д.); 3) знаки, сопряженные с фонетическим языком (интонация, мимика, телодвижения и т. п.).
Столь значительное количество в принципе сходных и в то же время отличных по происхождению, назначению и использованию систем со знаковыми свойствами привело к необходимости систематизировать их. Важность проблемы знаковое™ и наличие большого количества знаковых систем обусловили возникновение особой науки о них – семиотика. «Семиотика находит свои объекты повсюду – в языке, математике, художественной литературе, в отдельном произведении литературы, в архитектуре, планировке квартиры, в организации семьи, в процессах подсознательного, в общении животных, в жизни растений. Но везде её непосредственным предметом является знаковая система» [Степанов 1983: 5].
Истоки этой науки восходят к античности, к философскому спору стоиков и Демокрита об отношении слова и вещи. Дж. Локком, Г. Гегелем, Ч. Пирсом, В. Гумбольдтом, Ф.Ф. Фортунатовым и Ф. де Соссюром строилось здание будущей науки. Ф. де Соссюр в «Курсе общей лингвистики» (1913) высказал убеждение в необходимости особой научной дисциплины, изучающей знаки, и далей название семиология, однако рождение новой науки относят к 40-м годам XX столетия и связывают с работами американца Ч. Морриса «Основы теории знаков» (1938) и «Знаки, язык и поведение» (1964), в которых автор обобщил всё сделанное до него философами Ч. Пирсом и Э. Гуссерлем, а также лингвистами Ф.Ф. Фортунатовым и Ф. де Соссюром, но ограничился рамками лишь науки о поведении. «Человеческая цивилизация невозможна без знаков и знаковых систем, человеческий разум неотделим от функционирования знаков, – а возможно, и вообще интеллект следует отождествлять именно с функционированием знаков» [Моррис 1983: 37–38]. Первый международный конгресс по семиотике состоялся в Милане (Италия) в 1974 г.
Семиотика опирается на идею изоморфности (сходства) знаковых структур и вытекает из практической потребности изучения различных видов коммуникации. Приведем наиболее типичное и распространенное определение новой научной дисциплины: «Семиотика – наука о знаковых системах в природе и обществе» [Степанов 1971]. Кстати, в XIX в. термин семиотика понимался узко: Семиотика, врачебная наука о признаках болезни [Даль: 4: 173].
Семиотика интересуется, во-первых, языком и литературой (речью и текстом); во-вторых, живописью, музыкой, архитектурой, кино, ритуалами (в той мере, в какой они являются знаковыми системами); в-третьих, системами коммуникации животных и системами биологической связи в человеческом организме [Степанов 1983: 6].
В семиотике как комплексной науке о знаковых системах в природе и обществе ныне более или менее оформилось несколько направлений: 1) биосемиотика, изучающая естественные, биологически существенные знаки; 2) этносемиотика, описывающая «неявный» уровень человеческой культуры, например, обычаи, привычки, позы и т. п.; 3) лингвосемиотика, ориентированная на изучение естественного языка с его стилистикой и сопутствующими знаковыми системами; 4) психосемиотика, исследующая психологическое воздействие знака; 5) абстрактная семиотика, устанавливающая наиболее общие свойства и отношения знаковых систем независимо от их материального воплощения; 6) общая семиотика, в рамках которой решаются общие вопросы всех этих направлений. Теория знака легла в основу культуроведения.
Ч. Моррис полагал, что семиотика – наука широкая, интегративная. «Логика, математика и лингвистика могут быть включены в семиотику полностью. Что касается некоторых других наук, то это возможно лишь частично» [Моррис 1983: 35]. «С одной стороны, это наука в ряду других наук, а с другой стороны, это инструмент наук» [Моррис 1983: 38]. Подобное расширенное представление о функционировании семиотики в процессе познания привело многих специалистов к преувеличению роли семиотики и попыткам заменить ею философию, т. е. передать семиотике методологическую функцию.
Мы пока говорили о знаках вообще и не касались языковых единиц. Является ли фонема, морфема, слово знаком – можно ответить лишь после рассмотрения того, как взаимосвязаны язык и мышление.
Дополнительная литература
Гринев С.В. Семиотика: проблемы и перспективы // Вестник МПУ. Серия «лингвистика». – М., 1998. № 2. С. 10–16.
Зорина З.А., Полетаева И.И. Зоопсихология. Элементарное мышление животных: Учебное пособие. – М., 2001. Глава 6. Способность животных к символизации. С. 193–222.
Кравченко А.В. Классификация знаков и проблема взаимосвязи языка и знания // ВЯ. 1999. № 6. С. 3–12.
Кубрякова Е.С. Возвращаясь к определению знака // Вопросы языкознания. 1993. № 4.
Правоторов Г.В. Зоопсихология для гуманитариев: Учебное пособие. – Новосибирск, 2001. С. 210–229.
Соломоник А. Семиотика и лингвистика. – М., 1995.
4. Язык и мышление
4.1. Сложность проблемы
Философы, лингвисты, логики, физиологи, психологи, кибернетики и семиотики уже давно пытаются адекватно описать взаимосвязь языка и мышления, но эта задача, к сожалению, всё ещё далека от полного решения. Трудность проблемы заключается в нескольких факторах. Во-первых, в языке и мышлении сочетается социальное и биологическое. Во-вторых, язык и мышление двойственны по своей природе: будучи средством закрепления достижений общественного познания, они статичны, но, с другой стороны, они и динамичны, так как представляют мыслительно-речевую деятельность человека [Общее языкознание 1970: 375]. В-третьих, мышление человека многокомпонентно, а язык многоярусен и многофункционален. Мышление одновременно выступает и как особый вид деятельности мозга, и как орудие отражения действительности, и как процесс взаимодействия познающего субъекта и познаваемого объекта.
«Мышление – это психические процессы отражения объективной реальности, составляющие высшую степень человеческого познания. Мышление даёт знание о существенных свойствах, связях и отношениях объективной реальности, осуществляет в процессе познания переход от «явления к сущности». В отличие от ощущения и восприятия, т. е. процессов непосредственно-чувственного отражения, мышление даёт непрямое, сложное опосредствованное отражение действительности» [Леонтьев А.Н. 1964:85]. Мышление человека многоступенчато, оно представляет собой совокупность уровней, «этажей»; соединяет абстрактное, чувственно-образное, эмоциональное и интуитивное, для него существенны целеобразующие, волевые, а также санкционирующие факторы. Мышление опирается и на процессы, протекающие на бессознательно-психологическом уровне [Дубровский 1977]. Если представить себе, что разные уровни и компоненты мышления по-разному связаны с языком, по-своему сложным и многофункциональным, то яснее становятся трудности решения поставленной проблемы. Загадочная близость мышления и речи приводит к сокрытию языка и мышления, – заметил философ [Гадамер 1988: 452].
Многокомпонентность мышления и послужила основанием для разноаспектного, но комплексного изучения – физиологического, теоретико-множественного, логического, психологического и даже кибернетического. В итоге складывается новая область знания, которую называют когнитологией.
Решение проблемы взаимоотношения языка и мышления помогло бы решить и такие фундаментальные задачи, как создание искусственного интеллекта, основы семантики для целей перевода, новой методики обучения иностранному языку, автоматической обработки информации, построение информационных систем и информационно-логических систем [Звегинцев 1977: 90].
Решение вопроса о связи языка и мышления осложняется и тем, что о мышлении мы можем судить лишь опосредованно, прежде всего по языку. Л.Н. Толстой писал, что отношение слова и мысли и образование новых понятий представляет собой «сложный, таинственный и нежный процесс души». Правда, в последнее время на вооружение учёных, исследующих работу мозга, поступил позитронно-эмиссионный томограф, который позволяет фотографировать работу мозга, решающего ту или иную языковую или психологическую задачу, т. е. взглянуть на функционирующий мозг.
4.2. Разные подходы к решению проблемы
Трудности исследования соотношения языка и мышления делают правомерным применение разных подходов, рассмотрение проблемы в разных аспектах.
Гносеологический подход. Первоначально проблема рассматривалась в гносеологическом (познавательном) аспекте. Справедливо полагали, что в языке закрепляются результаты познавательной, мыслительной деятельности человека, поэтому взаимодействие языка и мышления искали в самой системе языка, точнее, в системе его значений. В центр внимания попадало соотношение языкового и логического начал. Античные мыслители ввели понятие «логос», который есть одновременно и слово, и мысль. Категории языка и категории логики при этом сравниваются, отождествляются или противопоставляются в зависимости от методологических установок исследователя.
Гносеологический подход к проблеме связи языка и мышления реализуется, в частности, в исследованиях, посвященных соотношению логических форм мышления и лингвистических единиц типа «слово и понятие», «предложение и суждение».
Как соотносится языковое значение с понятием? Решений предлагалось много, но среди них выделились основные: а) значение слова тождественно понятию; б) понятие – это ядро языкового значения. Таким образом, значение и понятие органически связаны, но качественно различны. Значение не сводится к понятию, оно лишь предполагает его. Объёмы значения и понятия пересекаются, но не совпадают полностью. Значение слова шире, чем понятие, а понятие – глубже, чем семантика слова.
Разумеется, соотношение значения и понятия, лежащего в основе значения, в различных словах неодинаково. Они могут полностью совпадать, как в терминах, но возможно и отсутствие понятия в содержании слова, например, в междометиях. Соотношение лексического значения и понятия не постоянно и в пределах одного слова. Например, термин в процессе бытования за пределами специальных наук обрастает смысловыми и эмоциональными оттенками, расширяющими его семантику.
Психологический подход. Гносеологический подход полезен, но в известной мере он односторонен: язык и мышление рассматриваются в застывшем состоянии, в отрыве от живых психических процессов, в которых и осуществляется их связь. Нужен новый аспект изучения – психологический, позволяющий выявить взаимодействие языка и мышления в процессе речевой деятельности индивидов, владеющих данным языком [Общее языкознание 1970: 376]. См. также: [Петренко 1983; Шмелёв 1983; Залевская 1999].
Перспективен и подход, когда в центре внимания находится процесс становления мышления и овладения языковой системой у ребенка. Поскольку развитие ребенка в какой-то мере повторяет общие закономерности развития человечества, данные, полученные при изучении детского мышления и речеобразования, помогли решить поставленную проблему.
Психолингвист Д.И. Слобин указывает на то, что наблюдения за становлением речи ребенка привели к ценным теоретическим результатам, среди которых вывод о том, что 1) познавательные способности ребенка опережают его речевое развитие; 2) существуют невербальные типы мышления; 3) нет обязательной связи познавательной деятельности ребенка с его речевой деятельностью; 4) речевая деятельность структурирована, и процесс становления речи проходит определенные этапы; 5) эта структура изоморфна структуре предметной, наглядной, опытной деятельности; 6) можно установить некоторую иерархию усваиваемых категорий. Окончательный вывод сводится к тому, что язык не является готовой «решеткой» или призмой, через которую ребенок усваивает мир. «Решетка» создается в процессе развития интеллекта, в результате действий ребенка в окружающей среде [Слобин 1994: 143].
Специалисты установили, что отношения между «моральным» и «интеллектуальным» сознанием ребенка складываются неоднозначно. Пик активного «морального сознания», когда проявляется особая чувствительность к тому, «хорошо» или «плохо» они поступают, когда достигается пик эмпатии и формируются моральные стандарты, у всех без исключения детей приходится на возраст 17–18 месяцев, и это не зависит от степени развития речевых навыков и других показателей интеллектуального развития ребенка [Человек. 1994: № 5: 66].
Психологи считают, что интеллект ребенка начинается с действия, и дефицит предметно-практического действия ничем не может быть восполнен и компенсирован. Вспоминают Л.С. Выготского, писавшего о том, что практический интеллект древнее вербального, умное действие первоначальнее умного слова. Однако внутреннее преобразование действия происходит с помощью слов, речь поднимает действие, прежде независимое от неё, на более высокую ступень, накладывает на него печать воли: «Если в начале развития стоит дело, не зависимое от слова, то в конце его стоит слово, становящееся делом» [Знание – сила. 1988: № 2: 70]. Связь слова и дела осуществляется по-разному и в том числе в форме связи мозга и пальцев рук. Специалисты заметили, что тонкая работа пальцами улучшает кровообращение мозга, препятствует отмиранию нервных клеток, а потому советуют: чтобы мозг не старел, нагружать руки квалифицированной, специализированной деятельностью (работа с клавиатурой пишущих машинок и компьютеров, игра на фортепьяно, моделирование, сборка микросхем, вязание и вышивание и т. д.) [Наука и жизнь. 1994: № 9: 87].
Не менее важен подход, при котором исследуются процессы овладения вторым языком и возникновения на этой базе мышления билингва – человека, активно пользующегося двумя (и более) языками.
Физиологи Мемориального Слоан-Кеттерингского онкологического центра в Нью-Йорке изучали 12 билингвов, 6 из которых – «ранние», другие овладели вторым языком в возрасте 11–19 лет. Методика магнитного резонанса давала на экране картину активности мозга в области Брока – передней части коры, связанной с функцией речи. У «ранних» билингвов пользование обоими языками возбуждает одну и туже часть области Брока. У «поздних» работают два участка на расстоянии 8 мм. Следовательно, у ребенка основной речевой центр мозга охватывает все языки, в среду которых погружен. «Поздние» вырабатывают новую систему [Знание – сила. 1998: № 5: 86–87].
Нейрофизиологический подход. Физиология высшей нервной деятельности, как и психология, настойчиво ищет свои пути выявления связи языка и мышления. Наиболее перспективными кажутся исследования в области афазиологии – раздела медицины о патологических нарушениях в коре головного мозга, приводящих к расстройствам речевых механизмов. Опираясь на мысль И.П. Павлова о том, что патологическое часто открывает, упрощая, то, что заслонено от нас, «слитое и усложненное в физиологической норме», афазиолог А.Р. Лурия указывает на необходимость особого раздела знаний – нейролингвистики, задачей которой было бы выделение основных компонентов языка и нахождение тех функциональных образований мозга, которые обеспечивают их усвоение и использование [Лурия 1971: 53, 59].
Работы А.Р. Лурия и его учеников показывают ошибочность подхода, при котором отыскиваются прямые отношения между языком и мозгом, т. е. непосредственные мозговые механизмы языка, как это делали когда-то Брока и Вернике. Лурия исходит из того, что язык, являясь продуктом сложного общественно-исторического развития, изменчив, а мозг представляет собой относительно устойчивую биологическую систему, что язык не является врожденным и что изоморфизма (структурного сходства) в строении языка и мозга нет. «Задача нейропсихологического анализа, – утверждает он, – состоит вовсе не в том, чтобы непосредственно накладывать языковые структуры на морфологические структуры мозга (это и бессмысленно и невозможно), а в том, чтобы анализировать состав отдельных компонентов языка и выделять те психологические операции, которые необходимы для их усвоения и использования, а уж затем искать те мозговые механизмы, которые могут обеспечить осуществление этих процессов» [Лурия 1971: 55. См. также: Лурия 1975].
Исследованиями по нейролингвистике установлено, что левое полушарие мозга управляет не только звуковой речью, но и последовательными движениями области рта, в том числе губ и языка. Следует обратить внимание на разделение функций между правым и левым полушариями головного мозга. В норме правое – более древнее – осуществляет чувственно-наглядное мышление, которое происходит без словесных средств, оно же отвечает за эмоциональную жизнь человека, а левое – более молодое – отвечает за логику, за абстрактное, обобщающее мышление, которое осуществляется лишь на базе естественного языка или иных знаковых систем. Это отражает взаимодействие обоих полушарий.
Правое полушарие воспринимает слова целостно, переходя от общего слухового облика слова к его значению, минуя промежуточный этап расчленения на фонемы, необходимый для левого полушария. Установлено также, что значительная часть информации в правом полушарии кодируется в несловесной форме. Когда начинается обучение языку (в частности иностранному), его формы, ещё незнакомые, воспринимаются преимущественно правым полушарием. По мере усвоения языка происходит перенесение его форм из правого полушария в левое. У американских индейцев в США, например, их родной бесписьменный язык (навахо, хопи) связан преимущественно с правым полушарием, а английский – с левым. В книге Цуноды «Мозг японца» показано, что у японцев слоговая азбука и устный язык находятся в ведении левого полушария, а иероглифика – правого полушария. В принципе у всех народов доминантным является левое речевое полушарие [Иванов 1985].
Установлено, что полушария головного мозга у мужчин и женщин развиваются по-разному. У женщин, как правило, в решении всех задач принимают участие обе половины, у мужчин – чаще одна. Поэтому женщины в среднем говорят быстрее мужчин и правильнее выговаривают слова, искуснее работают пинцетом и хорошо считают в уме. Мужчины лучше строят абстрактные математические модели, играют в городки и ориентируются в чужом городе.
В Хаммерсмитском госпитале (Лондон) кратковременная память исследовалась с помощью позитронно-эмиссионного томографа. Подопытным предъявлялись карточки с буквами английского алфавита и карточки с незнакомыми им знаками корейского алфавита. При виде знакомой английской буквы включалась активность двух небольших участков коры в левом полушарии, а при виде непонятного корейского значка начинал работать маленький участок коры в правом полушарии. Наглядно подтвердилось представление о функциональной асимметрии мозга: левое полушарие обрабатывает в основном словесную и логическую информацию, а правое – образную [Наука и жизнь. 1994: № 7: 11].
Нейролингвистика пытается понять, как происходит становление абстрактного мышления. В мозгу обнаружили зоны, которые фиксируют не только акустические характеристики целых слов, но и отдельных звуков (фонем). С помощью этих зон происходит узнавание воспринимаемых слов. Акустический код связан с кодом смысловым. В разных зонах мозга наблюдаются сходные электрофизиологические реакции на слова, далёкие по своим акустическим свойствам, но близкие по семантическим. Подопытному предъявили слова стул, стол, шкаф и т. п., а на кривой электрических колебаний появились изменения, соответствующие слову мебель, хотя подопытный ещё этого слова не произнёс. Налицо становление речевых нейродинамических структур от первичного акустического кода к смысловым кодам, связанным с мыслительными процессами [Бахур 1986: 87].
Нейролингвистика интересуется тем, как «хранятся» языковые единицы в головном мозге. Итальянские врачи полагают, что для восприятия гласных и согласных звуков мозг использует разные механизмы. Разделение звуков на гласные и согласные, – считают они, – не филологическая, а физиологическая классификация. Это, на наш взгляд, согласуется с гипотезой о более позднем появлении согласных в языке человека. У двух больных в Болонье (Италия) от инсульта пострадало левое полушарие. Оба испытывают затруднения с гласными. Один на письме пропускает все гласные, оставляя свободные места: B-l-gn – (Bologna). Другой больной переставляет гласные: cora вм. caro «дорогой». Итальянский психолог Р. Кубелли предполагает, что при обработке слов гласные и согласные попадают в разные «хранилища». У первого больного пострадала способность извлекать гласные, а у второго – способность правильно выбирать их. Забвение согласных едва ли возможно. Существуют языки (древнеегипетский и иврит), которые обходятся без букв для гласных.
В поисках физиологических и даже биохимических основ человеческой мысли академик Н.П. Бехтерева обнаружила свечения в определенных зонах мозга во время мыслительной деятельности. Найдено пространство мозга размером в 6 мм и в нем три точки: в одной была реакция на смысл фразы, в другой – на грамматику, а в третьей – обобщенная, т. е. и на анализ, и на синтез. Были обнаружены зоны, отвечающие за различные виды мыслительной деятельности, и даже зона, реагирующая на ошибки [РЯШ. 1994: 2 (обложка, с. 4)].
Дополнительная литература
Разум и мозг. – М., 1994.
4.3. Характер связи языка и мышления
По поводу характера связи языка и мышления существуют две точки зрения, обе имеют авторитетную поддержку людей, искушенных в интеллектуальном труде. Французский математик Ж. Адамар в 1945 г. спросил у выдающихся физиков, какое место занимает слово в механизме их мышления. А. Эйнштейн ответил: «Слова, как они пишутся или произносятся, по-видимому, не играют какой-либо роли в моём механизме мышления. В качестве элементов мышления выступают более или менее ясные образы и знаки физических реальностей». Н. Бор думает иначе: «…Никакое настоящее человеческое мышление невозможно без употребления понятий, выраженных на каком-то языке». Н. Винер рассудил компромиссно: он думает и «словесно», и без слов.
Точка зрения «здравого смысла» зиждется на том, что язык – это одежда готовой мысли, способ передачи, но не средство формирования её. «На мысли, дышащие силой, как жемчуг нижутся слова» (М.Ю. Лермонтов). Подкрепляется это мнение следующими соображениями. Во-первых, скорость мышления гораздо выше, чем скорость говорения («Мысль, как молния, пронизала меня»). Во-вторых, всем знаком факт затруднения в выражении той или иной мысли («На языке вертится, а сказать не могу»). Поэты назвали эту ситуацию муками слова; вспомним А.А. Фета: «Как беден наш язык! / Хочу и не могу. / Не передать того ни другу, ни врагу, что буйствует в груди прозрачною волною».
Сторонники «чистого» мышления ссылаются также и на пример глухонемых, которые, дескать, обходятся без языка, а в своём интеллектуальном развитии не только не уступают нормальным людям, но зачастую и превосходят их. При этом вспоминается и Ольга Скороходова, написавшая книгу о том, как она воспринимает мир, и слепоглухонемая американка Е. Келлер, занимавшаяся математикой, литературой и овладевшая несколькими иностранными языками. Вспоминают и эксперимент Е. Хесса: группе мужчин предъявляют два отпечатка фотографии молодой девушки. Все испытуемые предпочли отпечаток, на котором ретушью были чуточку увеличены зрачки глаз. Объяснить же предпочтение мужчины не смогли. Вывод экспериментатора: мыслительные процессы в ходе сопоставления идут без участия слов.
Все аргументы сторонников «чистого» мышления, несмотря на их кажущуюся убедительность, при строгом рассмотрении не выдерживают критики. Действительно, существуют различные формы мышления (практически-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое и др.). У человека, владеющего речью, они основываются на языковой базе. А.А. Потебня в книге «Мысль и язык» писал о том, что творческая мысль живописца, ваятеля и музыканта словом невыразима и совершается без него, но она предполагает достаточную степень развития творца, которая даётся только языком.
Глухонемые в подавляющем большинстве своём ведут полноценный образ жизни и занимаются интеллектуальной деятельностью, и это возможно только при условии, что они научаются языку у владеющих им. Умение думать по-человечески, заметил Потебня, даётся только словами, глухонемой без говорящих или выученных говорящими учителями век оставался бы почти животным. «…Общение высококультурной, развитой мимической речью возможно лишь на основе развитой словесной речи; отсюда ясно, что для полноценного общения и развития глухонемого ребенка и даже для развития его мимической речи необходимо овладеть языком слов» [Морозова 1963: 64].
Сторонники независимости мышления от языка, так охотно оперирующие примерами глухонемых, подменяют два понятия – безъязычность и бессловесность, отождествляют звучащие слова и язык, не различают два момента: а) роль языка как основы, на которой осуществляется мышление, и б) непосредственное словесное выражение всех компонентов мысли в акте общения [Общее языкознание 1970: 387]. Глухонемые бессловесны, но не безъязычны. Конечно, они думают не словами, поскольку глухонемые их не произносят и не слышат, а теми знаками, которые заменяют фонетические единицы. Объяснясь с помощью жестов, глухонемые при помощи них и думают. В механизме мышления понятие «язык» шире понятия «естественный язык» (или разновидности искусственных языков). Здесь язык – это любая система, способная быть носителем информации. Нет внеязыкового мышления, но есть мышление несловесное. Об этом написала в своей книге «Как я воспринимаю, представляю и понимаю окружающий мир» слепоглухонемая О.И. Скороходова:
Думают иные – те, кто звуки слышат, Те, кто видит солнце, звезды и луну: – Как она без зренья красоту опишет? – Как поймёт без слуха звуки и весну? <…> Я умом увижу, чувствами услышу, А мечтой привольной мир я облечу… Каждый ли из зрячих красоту опишет, Улыбнется ль ясно яркому лучу? Не имею слуха, не имею зренья, Но имею больше – чувств живых простор: Гибким и послушным, жгучим вдохновеньем Я соткала жизни красочный узор. О.И. СкороходоваПопулярна точка зрения на язык и мышление, сформулированная К. Марксом и Ф. Энгельсом. Они утверждали, что язык и мышление находятся в диалектической взаимосвязи и что язык по отношению к мышлению (сознанию) выполняет орудийную функцию: «Язык также древен, как и сознание; язык есть практическое, существующее и для других людей и лишь тем самым существующее также и для меня самого, действительное сознание…» [Маркс: 3: 29]. «…Идеи не существуют оторванно от языка» [Маркс: 3: 488]. Мышление и язык между собой гибко связаны, они соотносительны, но не тождественны. Подобная точка зрения лежит в основе концепции Л.С. Выготского: «Мысль не выражается, но совершается в слове» [Выготский 1956: 332]. Эта концепция берёт своё начало в XIX столетии: «…Слово есть не только слуга мысли, не только форма, в которую выливается мысль, – а слово так могуче, что оно вызывает, рождает, творит самую мысль» [Савинов 1889: 55].
Эпиграфом к главе «Мысль и слово» в работе «Мышление и речь» Выготский взял поэтические строки: «Я слово позабыл, что я хотел сказать, и мысль бесплотная в чертог теней вернется». «Мысль – осмысленное предложение» [Витгенштейн 1994: 18]. А.Ф. Лосев полагал, что слово есть и форма, и материал будущего рождения мысли, не заслоняющие внешнюю действительность предметов. Поскольку слово всегда уже есть значение, мы ищем верное слово, т. е. такое, которое принадлежит самой вещи, и в результате сама вещь обретает голос в этом слове, – так другому философу представлялась связь языка и мысли [Гадамер 1988: 484]. Эта вторая точка зрения поддерживается большинством современных исследователей. Она подтверждается наблюдениями над слепоглухонемыми и заиками, экспериментальными данными нейрохирургии, зоопсихологии и т. п.
Неоднородность мышления, обладающего и чувственно-наглядным, и абстрактным содержанием, объясняет гибкость связи языка и мышления. Как показывают наблюдения над патологией речи, чувственно-наглядное содержание мышления принципиально возможно и без использования языка или других знаковых систем. Абстрактное же содержание в обязательном порядке связано с языком. «…Естественное образование понятий постоянно осуществляется самим языком» [Гадамер 1988: 501].
Отвечая на вопрос, всё ли в мышлении связано с языком, исследователи приходят к выводу, что хотя в познавательном мышлении участие языка и обязательно, тем не менее мысль – или отдельный её элемент – словесно может быть и не выражена, т. е. оставаться в имплицитной (специально не выраженной) форме. Поскольку нет абсолютно чистого мышления, возможны и развернутые, и сокращенные (эллиптические) способы передачи одного и того же содержания. Не случайно, что письменный текст часто сопровождается рисунками, графиками, чертежами, формулами, а устный текст – жестами и мимикой. Этим обстоятельством объясняются такие факты, как поиск адекватного выражения поэтической мысли, накопление нового в мышлении, припоминание имени человека, образ которого стоит перед нашим внутренним взором, знание полиглота, на каком языке он в данный момент думает и т. п.
Полагают, что мысль человека, возникшая на базе языка, никогда до конца не может быть выражена словом, и, чтобы в этом случае понять говорящего, слушающему необходимо иметь так называемые фоновые знания. Примером может служить «Американа» – англо-русский лингвострановедческий словарь, в котором описываются имплицитные (специально не выделенные) смыслы слов, чаще всего ключевых.
Дополнительная литература
Абрамова Н.Т. Являются ли несловесные акты мышлением? // Вопросы философии. 2001. № 6. С. 68–82.
Кривоносое А. Т. Мышление – без языка? Экономия языковой материи – закон процесса мышления // Вопросы языкознания. 1992. № 2. С. 69–83.
4.4. Внутренняя речь
По мнению большинства современных исследователей, важнейшим элементом системы «мышление – язык» является внутренняя речь. Это основное и универсальное средство умственной деятельности и сознания человека, в ней мысль и язык объединяются в целостный комплекс, действующий как речевой механизм мышления. «…Внутренняя речь является весьма важным фактором человеческого сознания, речевого по своему генезису, структуре и функционированию» [Соколов 1968: 232]. Во внутренней речи складывается значение, которое есть единство слова и мысли.
Внутренняя речь стала объектом пристального экспериментального обследования. Опыты психолога Н.И. Жинкина показали, что механизм человеческого мышления реализуется в двух противостоящих динамических звеньях – предметно-изобразительном (предметно-схемном, универсально-предметном) коде и коде речедвигательном. Мысль задаётся в первом звене, передаётся во второе и снова задаётся для первого звена. Двуступенчатость мышления обусловлена органической связью первосигнальных и второсигнальных образований и отличает механизм человеческого мышления от формально-логических устройств для переработки информации [Жинкин 1964: 36]. Две ступени внутренней речи соответствуют двум функциям языка и потому представляют собой два принципиально разных, но органически связанных внутренних языка. Взаимодействие двух кодов – образного и знакового – делает мышление человека универсальным.
Мысль, возникшая на уровне предметно-схемного кода, ещё не может считаться готовой, это только подступы к ней, замысел, интенция, намерение. Именно здесь существует то, что «на языке вертится, а сказать не могу». «Неясный образ шевелится в душе – и не может определиться мыслью» (Андреев Д. Изнанка мира). В этом коде звучит «музыка мечты, еще не знавшей слова» (Инн. Анненский. Мучительный сонет). Зачаточная, еще не расчлененная мысль опирается на своеобразные индивидуальные схемы, образы. Информация о действительности здесь кодируется в виде пространственно-временных представлений. Они составляют тот универсальный язык мышления, с которого возможны переводы на все другие языки. И.А. Соколянский и А.И. Мещеряков добились успеха в научении слепоглухонемых речи только потому, что нашли способ накопления и организации в мозговых структурах элементов универсально-предметного кода, без которого нет ни мышления, ни языка.
Неповторимый характер предметно-схемного кода приводит к тому, что определенная часть мысли настолько индивидуальна, что даже не может быть выражена словом. «…Во всякой гениальной или новой человеческой мысли, или просто во всякой серьёзной человеческой мысли, зарождающейся в чьей-нибудь голове, всегда остаётся нечто такое, чего никак нельзя передать другим людям, хотя бы вы исписали целые томы и растолковывали вашу мысль тридцать пять лет; всегда останется нечто, что ни за что не захочет выйти из-под вашего черепа и останется при вас навеки; с тем вы и умрете, не передав никому, может быть, самого-то главного из вашей идеи» (Достоевский Ф.М. Идиот. Ч. III. Гл. V). Однако часто высказывается и прямо противоположное мнение: «…Такова моя вера в могущество слов, что временами я верю в возможность словесного воплощения этих неуловимых грёз» (По Э. Могущество слов). «Я не обладаю воображением, которое было неязыковым, нелингвистическим, несловесным воображением. Всё, что я написал, не было переводом каких-то картин, каких-то видений на слова и фразы, но строилось исключительно внутри самого языка. Из фраз, которые я заношу на бумагу, построены все созданные мною миры» (Лем Ст.). Столь же оптимистичен В. Набоков: «Часто повторяемые поэтами жалобы на то, что их, слов, нет, слова бледный тлен, слова никак не могут выразить наших каких-то там чувств… ему казались столь же бессмысленным, как степенное убеждение старейшего в горной деревушке жителя, что вон на ту гору никогда никто не взбирался; в одно прекрасное, холодное утро появляется длинный, лёгкий англичанин – и жизнерадостно вскарабкивается на вершину» (Набоков В. Дар). Между двумя кодами наличествует переходная зона: «Слова еще нет, но все же в каком-то смысле оно уже здесь, – или имеется нечто, что может вырасти лишь в данное слово» [Витгенштейн 1994: 307].
Думается, что противоречивость писательских мнений кажущаяся. Всё зависит от того, что имеется в виду, когда говорят о выразимости/невыразимости. Если индивидуальный предметно-схемный код, тогда следует согласиться с Достоевским, но на уровне этого кода мысли ещё нет, есть желание, есть намёки, есть «строительный материал»; если же речедвигательный, то здесь можно говорить о принципиальной выразимости, реализация которой зависит только от степени таланта говорящего. Известно, что самые глубокие и оригинальные субъективные переживания художников слова и мыслителей, выраженные посредством обыденного языка без участия неязыковых средств общения, становятся достоянием других людей.
Бывает так: какая-то истома; В ушах не умолкает бой часов; Вдали раскат стихающего грома. Неузнанных и пленных голосов Мне чудятся и жалобы и стоны; Сужается какой-то тайный круг, Но в этой бездне шепотов и звонов Встаёт один, всё победивший звук ………………………………….. Но вот уже послышались слова И лёгких рифм сигнальные звоночки, — Тогда я начинаю понимать, И просто продиктованные строчки Ложатся в белоснежную тетрадь. (А. Ахматова. Творчество)Еще одно профессиональное свидетельство о чуде превращения поэтической мысли в Слово:
Сначала в груди возникает надежда. Неведомый гул посреди тишины. Хоть строки еще существуют отдельно, они еще только наитьем слышны. Есть эхо. Предчувствие притяженья. Почти что смертельное баловство. И – точка. И не было стихотворенья. Была лишь попытка. Желанье его. (Р. Рождественский)Одним из частных вопросов многоаспектной проблемы «Язык и мышление» является вопрос о связи языка и бессознательного. На первый взгляд, эта связь кажется парадоксальной: язык, по определению, призван рационализировать всё, что лежит вне поля сознания. «Лишь слова обращают текущее чувство в мысль» (Платонов А. Чевенгур). И тем не менее уже Н.К. Крушевский и И.А. Бодуэн де Куртенэ размышляли над «бессознательно-психическими явлениями», которые предопределяют способность человека обобщать, формировать грамматические категории, усваивать язык и в раннем возрасте приобретать языковое чутьё. P.O. Якобсон предположил, что «в нашем речевом обиходе глубочайшие основы словесной структуры остаются неприступны языковому сознанию; внутренние соотношения всей системы категорий – как фонологических, так и грамматических – бесспорно действуют вне рассудочного осознания и осмысления со стороны участников речевого общения» [Якобсон 1978: 165]. Тему P.O. Якобсона, как и его предшественников, можно обозначить как «система языка и бессознательное».
Важен и такой вопрос, как «процесс коммуникации и бессознательное», при этом будем учитывать, что само «бессознательное» неоднородно. Есть предсознание, подсознание и сверхсознание. До сих пор в поле внимания теоретиков языка была связь предсознания и языка – предрасположенность человека к бессознательным отношениям с языком и бессознательная саморегуляция языковой системы. Связь подсознания с языком – это вопрос об особой, фреймовой, организации языка как орудия мысли, вопрос о так называемых «семантических комплексах», которые предопределяют специфику мышления. Вопрос о языке и сверхсознании – самый трудный, ибо относится к области творчества с помощью языка; ему посвящена статья Э. Сепира «Бессознательные стереотипы поведения в обществе» [Сепир 1993: 594–610].
Психолог А.Е. Широзия утверждал, что слово всегда содержит в себе больше информации, нежели наше сознание способно извлечь из него, ибо в основе слова лежат бессознательные языковые установки. Писательское наблюдение подтверждает мнение психолога: «…Бежавшие за нами… уличные мальчишки только то и дело, что вполголоса повторяли: – Ишь, задаются на макароны!.. Объяснить, что значит задаваться на макароны ни один Грот, ни Даль, вероятно, не смогли бы, но что в этой исключительно южной формуле заключалась несомненная меткость определения, отрицать было нельзя» [Дон-Аминадо 1991: 33–34].
Естественный язык обладает уникальной способностью передавать информацию не только словами, но и «межсловесным пространством». Истина постигается в молчании, считают японцы. Потому что в момент паузы между словами рождается то, что невыразимо в слове. По этому критерию отрывок из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» безукоризнен даже по японским канонам идеального искусства: «Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами. Кто блуждал в этих туманах, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший. И он без сожеления покидает туманы земли, ее болотца и реки, он отдается с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна <успокоит его>«[Булгаков 1987: 374]. «Музыка – это промежуток между нотами» (Клод Дебюсси).
Появилось понятие, названное пресуппозицией, под нею понимают семантику, в языковых формах не выраженную, но с достаточной степенью определенности сопровождающую их. Это разновидность скрытого содержания, которое формирует подтекст. Теория риторики оперирует понятием затекст. Это то, что говорящий держит, образно говоря, за пазухой и что определенным образом окрашивает поведение. Подчас невысказанное влияет на реакцию слушателей сильнее, чем сказанное вслух. В США провели эксперимент. Два студента получили задание выступить перед незнакомыми студентами. Предварительно договорились, что первый в конце сообщит, что занятия отменяются, а второй – что будут дополнительные занятия. Однако выступающих сознательно прервали. Опрос слушателей показал, что второй студент понравился больше. Сделан вывод, что оценка связана не только с тем, что говорят, но и о чем молчат [Знание – сила. 1996: 6: 9]. Прогресс в создании систем искусственного интеллекта прямо зависит от того, в какой мере удастся смоделировать это свойство естественного языка, столь заметно усиливающее возможности мышления.
Если бы всё можно было выразить словом, то отпала бы необходимость в выразительных движениях, пластическом искусстве, живописи и музыке [Спиркин 1972: 224]. Уже наличие интонации свидетельствует о смысловой недостаточности знака, обретающего смысл только в процессе речевого общения.
По мере того как мысль складывается, формируется, крепнет, всё заметней становится её зависимость от языковых средств, осуществляется переход к речедвигательному коду. Мысль окончательно формируется, расчленяется, подготавливается к речевому воспроизведению. Взаимодействие мысли и речи тонко почувствовал Ф. де Соссюр, назвавший один из параграфов своей знаменитой книги «Язык как мысль, организованная в звучащей материи». По мнению учёного, и мышление, и речь первоначально представляют собой аморфную сущность. С одной стороны, «само по себе мышление похоже на туманность, где ничто чётко не разграничено» [Соссюр 1977: 144], с другой стороны, «звуковая субстанция не является ни более определенной, ни более устоявшейся, нежели мышление. Это – не готовая форма, в которую послушно отливается мысль, но пластичная масса, которая сама делится на отдельные части, способные служить необходимыми для мысли означающими» [Соссюр 1977: 144].
Мысль и речь становятся таковыми только в едином процессе мышления. Слово формирует не только мысль, но и самоё самосознающую личность. «В слове, – писал философ А.Ф. Лосев, – сознание достигает степени самосознания. В слове смысл выражается как орган самосознания и, следовательно, противопоставления себя самого иному. Слово есть не только понятая, но и понявшая себя саму природа, разумеваемая и разумевающая природа. Слово, значит, есть орган самоорганизации личности, форма исторического бытия личности» [Лосев 1991: 534]. На уровне речедвигательного кода роль языка в формировании мысли становится максимальной. Экспериментальные исследования А.Н. Соколова показали, что процесс мышления сопровождается беззвучным движением мышц языка и губ, как будто произносятся слова быстрым и сокращенным образом. Эксперименты подтвердили то, что внимательные люди знали из самонаблюдений. Знаменитый русский физиолог И.М. Сеченов утверждал: «…Я никогда не думаю прямо словами, а всегда мышечными ощущениями, сопровождающими мою мысль в форме разговора» [Сеченов 1952: 87]. Русский писатель и мыслитель В.В. Розанов не раз признавался, что всякое движение души у него сопровождается выговариванием. Фотограмма, полученная при мысленном счёте, одинакова с фотограммой произносимого счёта, разница только в силе. А.Н. Соколов отмечает, что при решении трудных задач речедвигательная импульсация увеличивается, при решении лёгких – уменьшается. При зрительном предъявлении задач она меньше, чем при слуховом, у детей выше, чем у взрослых.
Экспериментами установлено, что исключение речедвижений затрудняет запоминание речи [Соколов 1968: 229]. Выяснили, что люди легче запоминают текст, если мысленно его повторяют про себя. Люди с неподвижными органами речи (травмы) быстро забывают речь, которую они слушали. Колебания и напряжение языка, губ, гортани, голосовых связок в свою очередь воздействуют на активность мозга, стимулируя мыслительный процесс. В итоге оказывается, что человек мыслит не только мозгом [Наука и жизнь. 1996. № 9. С. 15–16].
Установлено, что наше мышление по природе диалогично, и речедвигательная импульсация в процессе мышления – явление закономерное. Замечено, что словесные обобщения формы, величины и цвета предметов у ребенка появляются только после овладения речью, причём пик языковой способности его приходится на четырёх-пятилетний возраст и к этому же времени формируется до 50 % интеллекта человека. Плохие результаты развития детей – «маугли» свидетельствуют, что без овладения речью мозг человека не приобретает способности разумного мышления. «Вне объективации, вне воплощения в определенном материале (материале жеста, внутреннего слова) сознание – фикция», – даже шрифтом подчеркнул эту мысль М.М. Бахтин [Волошинов 1928: 107].
Эксперименты А.Н. Соколова и Н.И. Жинкина доказывают, что обязательная связь языка и мышления не является жёсткой, она гибка, подвижна, динамична. Нельзя отождествлять язык и мышление, так как мышление содержит в себе не только речевую, но и неречевую фазу действия, связанную с накоплением сенсорной (чувственной) информации [Соколов 1968: 230]. Видимо, неречевую фазу (память чувства) имел в виду Л.Н. Толстой: «Между бесчисленным количеством мыслей и мечтаний, без всякого следа проходящих в уме и воображении, есть такие, которые оставляют в них глубокую чувствительную борозду; так что часто, не помня уже сущности мысли, помнишь, что было что-то хорошее в голове, чувствуешь след мысли и стараешься снова воспроизвести её» (Толстой Л. Отрочество. Гл. XVIII).
Внутренняя речь на уровне речедвигательного кода весьма специфична. «Внутренний монолог каждого из нас, включая и преподавателей грамматики, гораздо менее строен, он хаотичен, полон неожиданных поворотов, алогизмов, причудливых ассоциаций, незаконченных предложений, пауз, отклонений, повторов – в общем, это монолог, который не в ладах с правилами синтаксиса, а иногда и с элементарной логикой» (Райнов Б. Странное это ремесло). Внутренняя речь крайне отрывочна, фрагментарна, сокращенна по сравнению с внешней речью, в ней резко усилена предикативность за счёт опускания подлежащего и связанных с ним частей предложения. Семантика слов внутренней речи более контрастна и идиоматична. Расширяется смысл слов, происходит «слипание» слов для выражения сложных понятий, налицо высокая «нагруженность» слов смыслом. Возможна фонетическая редукция внутренней речи – выпадение фонем, преимущественно гласных. Словарь внутренней речи предельно индивидуален, субъективен и обычно дополняется наглядными образами.
А.Н. Соколов отмечает факт расширения значения слов и предложений, которыми мы пользуемся во внутренней речи. Слово семантически более емко, а границы его менее четки.
Единицы внутренней речи не имеют строгой грамматической оформленности. Частеречная принадлежность и словообразование весьма условны. Полагают, что внутренняя речь имеет дело со словообразами, содержание которых – семема – выражается фрагментарно [Норман 1994. В этой книге пишется о внутренних процессах и механизмах образования устного или письменного текста].
Внутренняя речь прерывиста, поэтому говорят, что она выступает как «квантовый» механизм мышления, отсюда возможность одновременного развертывания нескольких мыслей, из которых одна может контролировать другие.
Немецкий физиолог Э. Пеппель, изучая записи речи на четырнадцати языках, обнаружил, что говорящий делает краткие паузы каждые три секунды. Этот ритм не изменяется даже при чтении стихов разного размера и не связан с ритмом дыхания. У шимпанзе ритм короче – около двух секунд. Лишняя секунда у человека, считает исследователь, уходит на вербальное (словесное) оформление переживаемого или делаемого. Человек как бы проговаривает про себя в подсознании всё увиденное. У детей, глухих от рождения и потому не овладевших языком, ритм жизни такой же, как у обезьян [Наука и жизнь. 1992. № 5–6: 23].
Существенной чертой внутренней речи как основного фактора мышления является постепенное сокращение речевых операций по мере выработки интеллектуальных навыков (чтения, письма, решения математических задач и др.) и превращение их в очень сокращенный и обобщенный код – язык «семантических комплексов«, которые представляют собой редуцированные речевые высказывания в сочетании с наглядными образами. Любая, даже элементарная мыслительная операция содержит такое количество умозаключений, что практически без подобных «семантических комплексов» никакая интеллектуальная деятельность не была бы возможной.
Наличием «семантических комплексов» и редуцированностьи внутренней речи объясняется и тот факт, что мы думаем быстрее, чем говорим. Сокращенная форма внутренней речи, т. е. мышление намёками слов, возникает только на основе предшествовавшего словесного мышления. «…Мы всегда мыслим словами, при этом, однако, не нуждаемся в реальных словах» [Гегель 1958: 103]. «Слово умирает во внутренней речи, рождая мысль» (Л.С. Выготский). В результате получается, что человек пользуется аналогами слов, которые и нужны лишь для того, чтобы нечто уяснить для себя. Это понимали уже древние китайцы: «Слова нужны – чтоб поймать мысль: когда мысль поймана, про слова забывают» (Из книги «Чжуан-цзы; Поэзия и проза древнего Востока», 1973). Более развернуто об этом сказал А.А. Потебня: «…Область языка далеко не совпадает с областью мысли. В середине процесса человеческого развития мысль может быть связана со словом, но в начале она, по-видимому, ещё не выросла до него, а на высокой степени отвлеченности покидает его как не удовлетворяющее её требованиям и как бы потому, что не может вполне отрешиться от чувственности, ищет внешней опоры в произвольном знаке» [Потебня 1989: 51].
Идея «семантических комплексов» хорошо связывается с экспериментально подтвержденными наблюдениями: запоминание мысли не обязательно связано с запоминанием слов, которыми она была выражена. Память на мысли прочнее памяти на слова, мысль сохраняется, а её речевая форма может замениться новой [Рубинштейн 1989: 400].
Несмотря на отличие внутренней речи от внешней (её крайняя ситуативность, обобщенность и фрагментарность), она зависима от последней и является её производной. Полагают, что внутренняя речь принципиально диалогична, представляет собой средство общения человека с самим собой. Иногда внутренний диалог превращается во внутренний монолог. Внутренняя речь неразрывно связана с эмоциональными процессами личности. Динамика внутреннего диалога зависит от эмоций, которые влияют на смысл обдумываемого [Кучинский 1988].
Однако и внешняя речь функционально зависит от внутренней, поскольку планируется последней. Особенности разговорной речи, отличающие её от письменной, обусловлены свойствами внутренней речи. В разговорной речи явления действительности часто фиксируются с помощью факультативных единиц, а потому одно и то же наименование используется для обозначения разных реалий (вещь, штука, дело), а для каждой реалии существует несколько тождественных обозначений. Характерна такая номинация: «У тебя есть чем писать?» Лексика разговорной речи отличается семантической размытостью, в ней используются слова с чрезвычайно общим или неопределенным значением (стекляшка, деревяшка, держалка, хваталка и т. п.). Велика роль ситуации, опоры на внеязыковую действительность. Слово дополняется элементами параязыка, под которым понимают явления и факторы, сопровождающие речь и не являющиеся словесным материалом.
Связь внутренней речи с внешней и их существенные различия обусловили при переходе одной из них в другую многие затруднения, получившие в литературе обозначение – «муки слова». Ф.М. Достоевский выразил это устами Версилова («Подросток»): «А и ты иногда страдаешь, что мысль не пошла в слова! Это благородное страдание, мой друг, и даётся лишь избранным…». Мнение еще одного великого писателя: «Когда выехали, поразила картина (как будто французского художника) жнивья (со вклиненной в него пашней и бархатным зеленым куском картофеля) – поля за садом, идущего вверх покато, и неба синего и великолепных масс белых облаков на небе – и одинокая маленькая фигура весь день косящего просо (или гречиху красно-ржавую) Антона; и все мука, мука, что ничего этого не могу выразить, нарисовать!» [Бунин 1990: 32]. «Муки слова» не останавливают творчество. Невыразимое, как заметил Л. Витгенштейн, создает фон, на котором обретает свое значение всё, что автор способен выразить [Витгенштейн 1994: 427].
Многие вопросы, возникающие при исследовании внутренней речи, входят в проблематику особой научной дисциплины – психолингвистика. «…В этой науке изучаются проблемы психической реальности языковых единиц, модели производства речи, речевое поведение, речевая патология, соотношение между «мыслью» и «речью», генезис речи и становление речи в раннем детстве, мотивированность речевого произведения, латентный процесс речепроизводства и т. д.» [Верещагин 1969: 24]. Психолингвистика составляет теоретическую базу методики преподавания языка и даёт словеснику интересный практический материал.
Дополнительная литература
Жинкин Н.И. О кодовых переходах во внутренней речи // Вопросы языкознания. 1964. № 6.
Жинкин Н.И. Язык – речь – творчество (Избранные труды). – М., 1998. С. 148–161.
4.5. Знаковые свойства языковых единиц
В языкознании сложились две точки зрения на знаковую природу языка. Первая была сформулирована Ф. де Соссюром: «Язык есть система знаков, выражающих понятия» [Соссюр 1977: 54]. Согласно второй точке зрения, язык – явление особое, стоящее вне знаковых систем. Обе точки зрения абсолютизируют тот или иной аспект языка. С одной стороны, языковая единица целиком и полностью отвечает определению знака. Она материальна, выполняет функции замещения предмета и указания на него, служит целям получения, хранения, преобразования и передачи информации о замещаемом предмете. С другой стороны, языковая система в целом настолько отлична по происхождению, функционированию, универсальности и самопроизводству от других знаковых систем, что возникла мысль о неправомерности включения её в семиотическую классификацию.
Налицо парадоксальная ситуация. Исследование свойств языка, главным образом слова, породило мысль о его знаковое – ти. Семиотические идеи Аристотеля, Аокка, Соссюра складывались в основном на базе их лингвофилософских размышлений. Когда же возникла наука о знаковых системах (семиотика), отнесение языка к предмету её исследования оказалось проблематичным.
Не вызывает сомнения тот факт, что языковая единица, например слово, существенно отличается от предметов, которые мы единодушно относим к знакам. Во-первых, несомненна естественность возникновения языка, известная стихийность его развития, способность к саморегулированию. Во-вторых, очевидна первичность языка по отношению к другим знаковым системам, которые возникают только на базе языка. В-третьих, языку присуща множественность функций, в то время как знаковые системы обычно однофункциональны. В-четвертых, язык является орудием мышления, средством познания объективного мира. В-пятых, ни одной знаковой системе не свойственна многоярусность и сложность отношений между уровневыми единицами. Наконец, ни одной системе не известно соотношение, подобное соотношению языка и речи.
И всё же, несмотря на столь разительное отличие языка от знаковых систем, ученые в большинстве своём склоняются к мысли о том, что язык – это система со знаковыми свойствами. Безусловная связь языкового знака с гносеологическим образом и обобщенный характер языкового знака отличает его от всех других.
Языковой знак возникает одновременно с человеческим сознанием в процессе практической деятельности в коллективе людей. «…Знаковая функция материальной стороны языковых единиц естественных языков (или элементов других знаковых систем) является необходимым компонентом и условием процессов абстрактного, обобщенного мышления и познания» [Панфилов 1977].
Органическая включенность знака в процесс познания, его функционирование в качестве орудия мышления и способность участвовать в формировании понятия, его диалектическая связь с гносеологическим образом обусловливает специфику языковых единиц, представляющих единство знака и значения. Единица языка как целое (в силу вхождения в её состав значения) не есть знак. Она состоит из знака и значения [Солнцев 1977]. Человек, который никогда не видел чего-то, не слышало нём, понимает слово (словосочетание, предложение и т. д.), обозначающее то, о чём он слышал. Из этого наблюдения вытекает вывод, что материальные комплексы звуков речи, не имея никакого отношения к тем предметам и явлениям, которые человек этими комплексами произвольно намеревается называть, со временем становятся материально-идеальными комплексами благодаря активной деятельности сознания, ибо «сознание человека не только отражает объективный мир, но и творит его» [Ленин: 29: 194. См.: Миллер 1987: 40–41].
В семиотике до сих пор не утих спор о произвольности/ непроизвольности знака. Тем не менее в языкознании начинает утверждаться диалектическая точка зрения: языковой знак априорно произволен, но как только знак входит в систему языка, он приобретает статус непроизвольного. Личность может ввести слово в язык, но ей никогда не удастся удалить его из языка.
Языковые единицы различаются степенью самостоятельности (автономности) значения. Например, слово – языковая единица с автономным значением, которое фиксируется вне контекста и приводится в словаре; морфема – единица со связанным значением, выявляемым только в пределах значения всего слова; у словосочетания и предложения – составные значения.
Особого рассмотрения требует вопрос о значении фонемы. Наиболее распространено мнение о том, что фонема – единица смыслоразличительная, лишенная собственного значения, а потому это не знак, а фигура – строевой элемент знака (для унилатералистов это полноценный знак). Однако стоит согласиться с теми, кто утверждает, что единицам языка присуща качественно различная семантика. Отсветы отражательной семантики проявляются в фонемах и их комбинациях, которые передают эту отражательную семантику [Плотников 1989: 97].
Итак, языковые единицы на семантической шкале располагаются следующим образом: значение ассоциативное (фонема) – связанное (морфема) – свободное (лексема) – контекстно-уточненное (сочетание лексем).
В рамках проблемы «Язык и мышление» родилось особое направление, которое именуется когнитологией. Когнитология – это наука о представлении знаний, об общих принципах, которые управляют мыслительными процессами. Поскольку эти процессы изучаются рядом когнитивных дисциплин: психологией, логикой и языкознанием, – составной частью нового направления стала когнитивная лингвистика. И это не случайно: изучение семантики естественного языка – это изучение и структуры мышления (См.: Язык и структуры представления знаний. Сборник научно-аналитических обзоров. М., 1992).
Когнитивная лингвистика опирается на концепты. Концепт (по А. Вежбицкой) – это объект из мира «Идеальное», который имеет имя и отражает определенное культурно-обусловленное представление человека о мире «Действительность». Концепты отличаются от понятий нечеткостью. Это понятия с «нечеткими краями». Понятия же – это сочетание концептов, лишенных образных, пространственных, любых чувственных компонентов восприятия.
Когнитивная лингвистика установила наличие нескольких структур представления знаний: 1) мыслительная картинка; 2) фрейм; 3) схема; 4) сценарий. Эти структуры стоят за языковыми единицами текста. Мыслительная картинка – образное представление явления. Например, то, что стоит за словом «отвертка», которое «включает в себя самые различные восприятия об этом инструменте, в том числе визуальное описание производимых им операций, его предназначение, специфику ситуаций, в которых он используется, ощущение инструмента в руке и связанные с ним движения» [Дамазиу А.Р., Дамазиу А. 1992: 55]. Теория фрейма введена М. Минским в первой половине 70-х гг. По-английски фрейм 'каркас, система, рамка'. Примером фрейма может служить «базар» или «игра в теннис». Фрейм формируется словами, описывающими различные аспекты той или иной ситуации. Фрейм, как удачно замечено, – это «квант» знаний человека о мире. Примером схемы может служить «дорога» – ряд символических элементов, с помощью которых фрагмент внешнего мира превращается во фрагмент внутреннего мира человеческого сознания. Если в последовательности когнитивных элементов решающим становится временной фактор, то фрейм превращается в сценарий, например, «поездка на юг». Сценарий – это фрейм в динамике.
Дополнительная литература
Бабушкин А.П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка. – Воронеж, 1996.
4.6. Влияет ли язык на мышление?
Мышление постоянно воздействует на язык, поскольку основным фактором развития языка является трудовая и общественная практика человека, его познавательная деятельность. Развитие мысли постоянно совершенствует орудие мышления – язык. Но если факт влияния мышления на язык никогда не оспаривался, то вопрос об обратном влиянии стал предметом споров, причём одни полностью отрицают такое влияние, другие же доходят до утверждения примата языка над мышлением. Обе концепции слишком крайни, чтобы быть истинными.
Несомненно, язык влияет на мышление, поскольку язык является и орудием познания, и средством закрепления познанного. Язык, – говорил Р. Барт, – это средство классификации, а всякая классификация есть способ подавления. В речи мысль и формируется, и формулируется, здесь, по замечанию одного исследователя, сознательно воспринимается то, что обобщено в мышлении и языке в форме словесно обозначенных понятий. Например, для детей на ранних этапах их развития называние предмета эквивалентно знанию этого предмета. В дальнейшем отождествление называния и познания преодолевается.
На примере близнецов показана зависимость структуры психической жизни от уровня развития речи. У двух близнецов пяти лет с задержкой речевого развития был недостаточно дифференцированный строй сознания: они не могли организовать сюжетную игру, отсутствовала элементарная классификация. Детям создали объективную необходимость овладения языком – поместили в разные группы детского сада, а с одним близнецом проводили дополнительные систематические занятия по обучению речи. Через три месяца в речи близнецов произошли решающие сдвиги. Речь стала повествовательной и планирующей. В связи с этим появилась сюжетная игра, пробудилась конструктивная деятельность, развился ряд интеллектуальных операций. Близнец, с которым занимались дополнительно, стал заметно отличаться от второго по интеллекту [Лурия, Юдович 1956].
Роль слова в познании несомненна. Вспомним сцену из повести А.Н. Толстого «Аэлита»: «Лось пошёл к озеру по знакомой дорожке. Те же стояли с обеих сторон плакучие лазурные деревья, те же увидел он развалины за пятнистыми стволами, тот же был воздух – тонкий, холодеющий. Но Лосю казалось, что только сейчас он увидел эту чудесную природу, – раскрылись глаза и уши, – он узнал имена вещей». Эта сцена – удачная иллюстрация к замечанию Р. Тагора: «Становясь седьмым чувством, речь может показать нам любую вещь, которую мы прежде воспринимали зрением, в совсем ином свете, чем вызовет в нашей душе не изведанные дотоле эмоции. Будто дополнительный орган наших чувств, язык помогает нам по-новому увидеть мир» [Тагор 1965: 158]. В категорической форме та же мысль прозвучала в рассуждениях В. Шкловского: «Наиболее разработанные структуры – структуры языка. Мы изучаем мир словами так, как слепые щупают мир пальцами, и невольно мы переносим взаимоотношения нашей языковой структуры на мир, как бы считаем мир языковым явлением» [Шкловский 1969: 127].
Мысль о том, что язык не безучастен к мышлению, впервые высказана В. Гумбольдтом, который предполагал, что влияние языка на человека настолько сильно, что оно определяет его мышление и познавательную деятельность. Язык сравнивается им с сеткой, набрасываемой на познаваемую действительность. Отсюда вытекает вывод, что разнообразие языков, определяющих мышление, означает многообразие типов мышления [Гумбольдт 1984].
Находившийся под определенным влиянием В. Гумбольдта, Потебня писал, что слово есть готовое русло для течения мысли. «Наделе язык больше, чем внешнее орудие, и его значение для познания и дела более сходно со значением для человека органа, как глаз и ухо» [Потебня 1905: 643]. У философа Л. Витгенштейна есть аналогичная мысль: «…То, что мир является моим миром, обнаруживается в том, что границы особого языка (того языка, который мне только и понятен) означают границы моего мира» [Витгенштейн 1994:56]. Для философаМ.Хайдеггера «Язык есть дом бытия». Полагают, что вне языка сознание не способно делать обозримыми временные процессы и замыкается в пространстве восприятия наличного данного. Язык способствует тому, что человек стал существом, живущим в социально-историческом времени [Жоль 1990: 17].
Многие писатели и лингвисты ссылаются на факт так называемой тирании языка: «Язык наш часто помогает нам не думать; мало того, он зачастую тиранически мешает нам думать, ибо незаметно подсовывает нам понятия, не соответствующие больше действительности, и общие, трафаретные суждения, требующие ещё диалектической переработки» [Щерба 1957:131]. Слова, выражая и объективируя мысль, делают последнюю самостоятельным объектом анализа. В результате знание подвергается вторичной обработке разумом, что приводит человека к осознанию себя как субъекта познания и действия и даёт ему возможность использовать общечеловеческий опыт поколений [Ерахтин 1984:113]. Замечено, что удачно найденное слово подталкивает мысль исследователя к новым открытиям. Древнегреческое слово кибернетика «искусство управления», попав в лексикон группы учёных под руководством Н. Винера, стимулировало работу по проблемам, лежащим на стыке математической логики, психологии, биологии, вычислительной техники, в результате чего сложилась наука с этим именем. Интересный факт: в лондонском метро по совету специалистов заменили таблички «выхода нет» на «выход рядом». Число самоубийств в подземке значительно снизилось [Книжное обозрение. 1998. № 20. С. 9].
4.7. Гипотеза Сепира – Уорфа, или теория лингвистической относительности
Теория определяющей роли языка нашла своё крайнее выражение в так называемой гипотезе Сепира – Уорфа, известной также под названием теории лингвистической относительности. Теория выступает в двух ипостасях: 1) гипотеза лингвистической относительности: группы людей, говорящие на разных языках, по-разному воспринимают и постигают мир; 2) доктрина лингвистического детерминизма: существует односторонняя причинная связь между языком и познавательными процессами.
Американцы – лингвист Э. Сепир и инженер Б. Уорф – аргументировали тезисы В. Гумбольдта, обратившись к лингвистическим фактам. Э. Сепир (1884–1939) писал: «…Мы видим, слышим и воспринимаем действительность органами чувств именно так, а не иначе, потому что языковые навыки общества предопределили возможность интерпретации действительности» (Цит: [Вопросы языкознания 1992. № 1: 110]).
Языкэвристичен, утверждал Э. Сепир, поскольку его формы предопределяют для нас определенные способы наблюдения и истолкования действительности. Независимо от искусности наших способов интерпретации действительности мы никогда не будем в состоянии выйти за пределы форм отражения и способа передачи отношений, предопределенных формами нашей речи. Всякий опыт, реальный или потенциальный, пропитан вербализмом. Это результат взаимопроникновения языкового символа и элемента опыта. Американский лингвист приводит пример с любителями природы, которые не чувствуют реального контакта с ней до тех пор, пока не овладеют названиями многочисленных цветов и деревьев, как будто, замечает Э. Сепир, «первичным миром реальности является словесный мир» и к природе нельзя приблизиться, не овладев терминологией, «каким-то магическим образом выражающей её» [Сепир 1993: 228]. Отсюда делается важный лингвокультурологический вывод: «Язык в одно и то же время и помогает, и мешает нам исследовать эмпирический опыт, и детали этих процессов содействия и противодействия откладываются в тончайших оттенках значений, формируемых различными культурами» [Сепир 1993: 227]. Только с увеличением нашего научного опыта, считает Э. Сепир, мы научимся бороться с воздействием языка.
Б.Л. Уорф (1897–1941), инженер-химик по образованию и лингвист по призванию, в 1932–1935 гг. изучал язык и социальное поведение индейцев хопи в штате Аризона. В результате он пришёл к признанию полного сходства структуры языка и структуры окружающей действительности и лингвистической обусловленности мировоззрения и поведения людей. Он сравнивает европейские языки с языком хопи и обнаруживает значительные расхождения, делая из этого вывод, что понятия пространства, времени и материи не являются реально существующими, а даны культурой и языком. «Категории и типы, которые мы выделяем из мира явлений, обнаруживаются нами не потому, что они в готовом виде предстают перед каждым исследователем; напротив, мир представляется нам калейдоскопическим потоком впечатлений, который наше сознание организует – в основном при помощи заложенных в него языковых систем» (Цит. по: [Вопросы языкознания. 1992. № 1:С. 111]). Будь Ньютон индейцем хопи, считает Уорф, он открыл бы совершенно другие физические законы, обусловленные другим языком. «Мы сталкиваемся, – писал он, – таким образом с новым принципом относительности, который гласит, что сходные физические явления позволяют создать сходную картину Вселенной только при сходстве или по крайней мере при соотносительности языковых систем» [Новое в лингвистике 1960: 175].
Гипотеза Сепира – Уорфа привлекла внимание многих лингвистов, философов, психологов и этнографов. Мнения их резко разделились. Были опубликованы результаты экспериментов, как будто подтверждающие гипотезу, однако почти все они были подвергнуты сомнению противниками гипотезы [Коул, Скрибнер 1977]. Описан эксперимент с тремя одинаковыми звуками, которые тем не менее по-разному воспринимаются чехом, поляком и французом: первый полагает, что сильнее звучит первый из серии звуковых сигналов, второй – соответственно указывает на средний как наиболее акцентированный, а для француза ярче звучит последний сигнал. Такое восприятие объясняют фиксированностью ударения в чешском, польском и французском языках. Однако в музыкальных произведениях поляка Шопена, чеха Сметаны и француза Дебюсси музыкальные акценты распределены свободно и никаких особых пристрастий не обнаруживают.
Молодой вьетнамский учёный Буй дин Ми под руководством А.А. Леонтьева провёл экспериментальную проверку выводов из опытов Э. Леннеберга и Дж. Робертса – как цветообозначение взаимоотносится с процессами восприятия и запоминания цвета. Исследование строилось на сравнении материала русского и вьетнамского языков.
Результаты эксперимента показали, что действительно цветовой континуум (вся область цвета) русскими и вьетнамскими испытуемыми расчленяется по-разному в зависимости от системы цветообозначения в соответствующем языке. Казалось бы, и эти эксперименты говорят в пользу гипотезы Сепира – Уорфа. На самом деле и русские, и вьетнамцы одинаково видят и запоминают цвета, но по-разному используют язык в процессе расчленения и запоминания цветовых оттенков. Возможны две так называемые стратегии запоминания: «чисто языковая», когда опираются на языковое кодирование оттенков, и «предметно-языковая», когда оттенки запоминаются путём соотнесения с цветом конкретного предмета (цвета спелой ржи, например). И русские, и вьетнамцы могут пользоваться обеими стратегиями, но русские предпочитают первую, а вьетнамцы – вторую, и это объясняется тем, что во вьетнамском языке легко образуются производные «предметные» цветообозначения. Обе стратегии в равной мере хороши, но обладают и недостатками: «чисто языковая» стратегия сокращает время реакции, но уменьшает точность, «предметно-языковая» требует больше времени, но увеличивает точность. Нет стратегии «лучше» или «хуже», выбор её зависит от свойств языка и от естественно-природных и общественно-исторических особенностей жизни народа. «…Не язык диктует тот или иной способ протекания психических процессов, а, напротив, человек использует язык в своей психической деятельности лишь так или в той мере, как и в какой мере это необходимо в данной ситуации» [Буй дин Ми 1973: 25].
Гипотезу Сепира – Уорфа следует признать ошибочной в принципе, так как её сторонники не различают две разные вещи – содержание мышления и технику мышления. Язык влияет лишь на технику мышления, а не на его содержание.
Сторонники гипотезы Сепира – Уорфа обычно прибегают к такому аргументу: в одном языке есть слово, обозначающее то или иное понятие, а в другом нет, или одно и то же понятие по-разному представлено в разных языках. Так, в английском языке есть два слова для понятия, обозначаемого в русском языке одним словом: stairs «лестница внутри» и ladder «лестница наружная», или butter «масло сливочное» и oil «масло техническое». Наоборот, в русском языке земляника и клубника – англ. strawberry; приносить, привозить, приводить равно единственному английскому слову bring. Особенно часто прибегают к словам, обозначающим цвета спектра. В ряде языков нет отдельных слов для голубого или синего цвета, синего или зеленого.
Отсюда делается вывод, что носители данных языков не воспринимают соответствующего цвета. Например, древние греки называли море «фиалковым», вследствие чего некоторые исследователи предположили, что голубого луча греки в солнечном свете не видели [Трубецкой 1990: 212].
Даже в диалектах одного и того же языка по-разному может члениться цветовой или пространственный континуум. В русском литературном языке есть четыре слова, обозначающие четыре периода времени, на которые делится астрономический год: весна, лето, осень, зима. В рязанских же говорах понятие, соответствующее слову год, делится на три периода, называемые словами весна, осень и зима; слово весна в говоре имеет значение «тёплое время года» [Оссовецкий 1982: 136].
Всё дело в том, что понятия могут обозначаться не одним словом, но и словосочетанием, а также метафорически. В английском языке палец на руке или ноге обозначается разными словами: finger и toe. В русском языке только одно слово палец, но это не значит, что русские не различают пальцы рук или ног. Просто, они дифференцируют их при помощи словосочетаний палец руки (= finger) и палец ноги (= toe).
Наличие специальных слов или их отсутствие обусловлено особенностями и условиями жизни народа. И.А. Гончаров в книге «Фрегат «Паллада» отметил, что «у якутов нет слова плод, потому что не существует понятия. Под здешним небом не родится ни одного плода, даже дикого яблока: нечего было и назвать этим именем». В языке недавно открытого маленького племени тасадай манубе нет слов «война», «борьба», «враг», «убить». В языке басса (страна Либерия в Африке) всего два слова, обозначающих цвета, – «фиолетовый, синий и зелёный» и «жёлтый, оранжевый и красный». Это объясняется тем, что преобладающими в данном регионе являются цвет морского побережья и цвет пустыни. Переводчик с японского замечает, как много в этом языке слов, которые означают «тщетные усилия», «бесплодные усилия», потому что вся Япония на 30 % своих островов (остальные – скалы) веками пыталась что-то вырастить, выстроить, борясь с тайфунами, землетрясениями и цунами [Дм. Коваленин. Из интервью. Книжное обозрение. 2000. № 9: С. 3].
Цветовое зрение всех людей не зависит от языка. Нет также связи между степенью различения цветов и уровнем культуры. Когда русские говорят: солнце встаёт или солнце садится, это не значит, что говорящие незнакомы с открытием Коперника и не знают, что Земля вращается вокруг Солнца. В тюркских языках нет грамматического рода, но это не означает, что тюрки не различают пола. В бирманском языке нет обозначения лица, но носители этого языка отлично разбираются в субъектах и объектах общения. Язык, как заметил лингвист Э. Коссериу, является инструментом для преодоления самого себя. «…Нам, людям, по сути дела, не остаётся ничего, кроме как плутовать с языком, дурачить язык. Это спасительное плутовство, эту хитрость, этот блистательный обман, позволяющий расслышать звучание безвластного языка, во всём великолепии воплощающего идею перманентной революции слова, – я, со своей стороны, называю литературой» [Барт 1989: 550].
В современной философской литературе утверждается мнение о том, что в человеческом сознании, помимо логической модели действительности, существует так называемая языковая модель мира, к которой относятся «внутренняя форма слова, языковая специфика взаимоотношения слова и понятия, предложения и суждения, изменения смысловой стороны слова, переносные употребления его, эмоциональная нагрузка слова, нюансы индивидуального использования его и т. д.» [Брутян 1973].
Логическая и языковая картины мира диалектически связаны. В этом единстве определяющую роль играет логическая картина мира, а лингвистическая находится с ней в отношении дополнительности. Согласно принципу дополнительности, «вне зависимости от того, на каком языке люди выражают свои мысли, в их сознании возникает одинаковая логическая модель действительности. Однако эта модель не единственная, исчерпывающая наше познание об окружающем мире. Благодаря языковым факторам мы получаем дополнительную информацию, уточняющую логическую модель и даже иногда вступающую в противоречие с этой моделью. Эта дополнительная информация и зависит от природы и структуры языка, поэтому люди иногда могут по-разному воспринимать действительность, и лишь постольку, поскольку языковое восприятие может иметь воздействие на познание окружающего мира» [Авакян 1972].
Логическая картина мира у всех живущих на Земле примерно одинакова, языковая же – национальна и в известной мере индивидуальна. А. Белый писал о том, что у Пушкина, Тютчева и Баратынского небо разное: пушкинский «небосвод» (синий, дальний), тютчевская «благосклонная твердь», у Баратынского небо «родное», «живое», «облачное». Пушкин скажет: «Небосвод дальний блещет»; Тютчев: «Пламенно твердь глядит»; Баратынский – «облачно небо родное» [Белый 1983]. Поскольку определяющей является логическая картина мира, и она лежит в основе языковой, постольку возможен более или менее адекватный перевод с одного языка на другой [Гачев 1988].
Положительная сторона гипотезы в том, что она привлекла внимание к «языковому восприятию мира», познанию мира через арсенал языковых средств и влиянию такого понимания окружающей действительности на другие формы познания людей и их деятельности [Брутян 1969: 61]. Интересны мысли о влиянии языка на поведение человека, а также поиски в области прагматики языка. Гипотеза Сепира – Уорфа неожиданно получила поддержку со стороны антропонимии. Профессор Б. Хигир и его предшественники обратили внимание на то, что имя, даваемое человеку от рождения, в значительной степени определяют его будущий характер и судьбу. Например: [Хигир 1999].
Теория лингвистической относительности стимулировала появление такой интересной и перспективной области знания, как этнопсихолингвистика, которая изучает влияние различных языков на познавательную деятельность их носителей, неидентичность «членения» действительности в различных языках, влияние языка на поведение людей через образцы деятельности, категоризованные в вербальной форме и существующие в виде мыслительных операций. Об оценке гипотезы в конце XX веке см.: [Кронгауз 1995].
Фундаментальная теоретическая проблема взаимосвязи языка и мышления исключительно важна в практике работы учителя-словесника. Уроки по развитию речи – это одновременно уроки и по развитию мышления. Опыт говорит однозначно: хорошо развитая речь – свидетельство ясной и точной мысли. «Если слова не находятся, неверна сама мысль. В отличие от чувств мысли всегда должны иметь словесный эквивалент. Точное слово – награда за точность мысли» (Вл. Крупин). Культура речи поддерживает культуру мышления. Более того, культура речи поддерживает и культуру чувства. «Хорошо делаете, различая особенности выражений. Именно в этом заключается музыка духа. Не случайны все оттенки речи! Сколько психического пламени пробегает по нервам, окрашивая речь!» (Агни Йога. Сердце).
Учителю русского языка и литературы следует внимательно изучить статью Н.И. Жинкина «Психологические основы развития мышления и речи» [Русский язык в школе. 1985. № 1], так как в ней представлена теоретическая база методики школьных уроков по развитию речи учащихся.
Дополнительная литература
Берестнев Г. И. Самосознание личности в аспекте языка // Вопросы языкознания. 2001. № 3. С. 60–84.
Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. – М., 1982.
Жинкин Н.И. Психологические основы развития мышления и речи // Русский язык в школе. 1985. № 1.
Потебня А.А. Слово и миф. – М., 1989.
Фрумкина P.M. Психолингвистика. – М., 2001.
Чернухина И.Я. Поэтическое речевое мышление. – Воронеж. 1993.
Этнопсихолингвистика. – М., 1988.
5. Язык и речь
В. Гумбольдт первым высказал догадку, что язык и речь – нечто разное, и в речевой деятельности человека разграничил процесс (энергейю) и продукт (эргон). Вполне возможно, что это представление у Гумбольдта возникло под влиянием философских воззрений Г. Гегеля, достаточно определенно разграничившего то, что стали называть языком и речью: «Звук, получающий для определенных представлений дальнейшее расчленение, – речь и её система, язык – даёт ощущениям, созерцаниям, представлениям второе существование, более высокое, чем их непосредственное наличное бытие…» [Гегель 1956: 266]. Высшее и тончайшее в языке, полагал В. Гумбольдт, постигается и улавливается только в связной речи, и это лишний раз доказывает, что каждый язык заключается в акте его реального порождения [Гумбольдт 1984: 70].
Младограмматики с их индивидуалистическим психологизмом, по существу, сняли эту проблему, сосредоточив всё внимание на речи (языке индивида), и объявили язык коллектива, язык нации научной абстракцией, фикцией. Для них язык представлял собой сумму речи индивидов.
Мысль о том, что целое, именуемое языком, на самом деле представляет собой единство по меньшей мере двух явлений – языка и речи, была высказана в работе И.А. Бодуэна де Куртенэ «Некоторые общие замечания о языковедении и языке». К сожалению, мысль эта в дальнейшем не получила у Бодуэна развития и не выросла в лингвистическую концепцию.
Ф. де Соссюр разграничил понятия языка и речи, объединенные общим и почти не объясненным им понятием речевой деятельности. «…Изучение речевой деятельности распадается на две части; одна из них, основная, имеет своим предметом язык, т. е. нечто социальное по существуй независимое от индивида; эта наука чисто психическая; другая, второстепенная, имеет предметом индивидуальную сторону речевой деятельности, т. е. речь, включая фонацию; она психофизична» [Соссюр 1977: 57].
По Соссюру, речь отличается от языка целым рядом основных свойств: 1) речь – это реализация, язык – установление; 2) речь индивидуальна, язык социален; 3) речь свободна, язык фиксирован; 4) речь случайна, язык существен. В речевой деятельности как бы два уровня информации: осознаваемое (речь, смысл сказанного) и неосознаваемое (язык, структура).
Разграничение языка и речи у Соссюра усилиями его последователей превратилось, по существу, в их противопоставление и привело к представлению о том, что это два автономных объекта. Так, А. Гардинер в работе «Различие между речью и языком» интерпретирует язык как «основной капитал лингвистического материала, которым владеет каждый, когда осуществляется деятельность речи» (Цит: [Звегинцев 1965: 15]). Речевая деятельность, по Гардинеру, представляет совокупность «языка» и «речи». При этом речь сводится к «остатку» речевой деятельности. «Когда я говорю, что определенные явления в данном тексте принадлежат «речи», но не «языку», я разумею, что, если вы исключите из текста все те традиционные элементы, которые следует называть элементами языка, получится остаток, за который говорящий несёт полную ответственность, и этот остаток и является тем, что я понимаю под «фактами речи» [Звегинцев 1965:17]. Такое решение проблемы вызвало жестокую критику со стороны учёных разных направлений и школ.
Академик Л.В. Щерба предложил говорить о трёх аспектах одного и того же явления. Первый аспект – речевая деятельность, включающая процессы говорения и понимания; второй аспект – языковые системы (словари и грамматики языков); третий аспект – языковой материал (совокупность всего говоримого и понимаемого в определенной конкретной обстановке в ту или другую эпоху жизни данной общественной группы). Щерба указывал, что это несколько искусственное разграничение, поскольку «языковая система и языковой материал – это лишь разные аспекты единственно данной в опыте речевой деятельности» [Щерба 1974: 26].
Всех исследователей данной проблемы интересовало, что же связывает язык и речь, исподволь складывалась мысль о каком-то промежуточном явлении между языком и речью.
Известный лингвист Э. Косериу предложил схему, которая была использована в учебном пособии Ю.С. Степанова «Основы языкознания». Выделяются три уровня: 1) уровень индивидуальной речи – реальный акт речи, включающий говорящего и слушающего с их индивидуальными чертами произношения и понимания и акустические процессы, акт, доступный восприятию наших органов чувств, записи на магнитофонную пленку; 2) уровень нормы – язык, рассмотренный «с несколько большей высоты абстракции». Понятие нормы включает лишь те явления индивидуальной речи, которые являются повторением существующих образцов, принятых в данном человеческом коллективе. Норма обладает уже не только материальным, но и идеальным аспектом; 3) структурный уровень – язык, рассмотренный «с ещё большей абстракцией». Структуру нельзя непосредственно видеть, слышать, вообще воспринимать [Степанов 1966: 5].
Исследователь Д.Г. Богушевич предлагает применять не три, а четыре термина для описания того, что называют языком: а) система языка – система средств коммуникации; б) система употребления – система, определяющая уместность использования средств коммуникации; в) речь – актуализация средств коммуникации; г) язык – триединый комплекс системы языка, системы употребления и речи, используемый как орудие общения [Богушевич 1985: 33]. Образно говоря, язык – это совокупность инвентаря, инструкции его использования и результатов реализации инвентаря и инструкции.
Проблему «язык – речь» рассматривают в трёх плоскостях – система, норма и узус. Система – это то, что «в принципе возможно» в языке, норма – это то, что «правильно», а узус – это то, «как говорят». Система и норма в сумме соответствуют языку, а узус – речи. Как взаимодействуют система, норма и узус можно показать на следующем примере [Мустайоки 1988].
Условные обозначения: – S (система), N (норма), U (узус);«+» – соответствует, «—» – не соответствует.
1) много заводов = S + N + U +;
2) много солдат = S – N + U + (вопреки системе, но правильно и употребительно);
3) много тортов = S + N – U + (употребительно и согласно с системой, но против нормы);
4) много апельсинов = S + N + U (согласно с системой и нормой, но неупотребительно);
5) много солдатов = S + N – U – (правильно с точки зрения системы, но не нормативно и неупотребительно);
6) много граммов = S – N + U (эта форма, правда, образована согласно общей системе русского языка, но против определенной подсистемы, словоформа правильна, но неупотребительна);
7) много апельсин = S – N – U + (вопреки системе и норме, но употребительно);
8) много завод = S – N – U – (невозможная форма с точки зрения системы и нормы русского языка; она и не употребляется).
Несмотря на наличие взаимоисключающих точек зрения на некоторые аспекты проблемы в настоящее время в отечественном языкознании складывается следующее представление о соотношении языка и речи как разных состояний, или уровней, одного и того же явления.
В плане гносеологическом язык и речь рассматриваются как явления разной степени абстракции. Язык – это общее, абстрактное, речь – отдельное, конкретное явление. Находясь в обязательной диалектической связи, язык и речь представляют собой относительно независимые явления, о чём свидетельствует факт различия их системного построения, различия функций, неодинаковой степени и некоторой асимметричности их развития, различия их связи с общественной средой.
Структура языка, будучи явлением абстрактным, в отдельности не наблюдается, исследователю доступна только речь, в которой и реализуется языковая система. Речь воплощается в букве и звуках, в диалогах и монологах, в стенограммах и конспектах, а язык материально не существует. Язык – это общая схема всех речений, принадлежащих людям определенной национальности. Это общие для всех правила, по которым нужно строить свою речь, чтобы её поняли другие [Колесов 1976: 6]. Язык, перефразируя Выготского, не облачается в речь, а совершается в речи. Если же языковая система в речи не реализуется, она существует потенциально. На парадоксальный вопрос лингвиста В. Пизани, существует ли язык юкагиров, когда все двести человек, говорящих на нём, «спят и не видят снов», следует ответить утвердительно. «…Язык существует как до речи (потенциально), так и в речи (реально)» [Ветров 1968: 117].
В плане онтологическом язык относят к объектам психическим, а речь – к явлениям физическим (физиологическим), доступным наблюдению. В известной степени язык относится к речи как идеальное к материальному.
С точки зрения функционирования, назначения и цели существования язык представляет собой узус, нечто устойчивое и общепринятое, в то время как речи присуща окказиональность (случайность, уникальность). Детские слова и выражения типа девчонский велосипед, буду конке истом, светлота, царенок, королица, повесил (пальто) – отвесил (пальто), отшилась (пуговица), суразная, чаянно, спун, боюн, непонимаха [Цейтлин 1976] – окказиональны, но построены они по законам системы языка (см.: [Говорят дети 1996]). Степень преодоления языковой привычки определяет уровень выразительности речи. «…Чем выразительнее речь, тем более она речь, а не только язык, потому что чем выразительнее речь, тем больше в ней проступает говорящий, его лицо, он сам. В художественных произведениях поэтому речь действующих лиц служит, и притом именно своей выразительной стороной, одним из мощных средств для их характеристики» [Рубинштейн 1975: 127–128].
Широко известно утверждение, что язык социален, а речь индивидуальна. Это противопоставление должно быть рассмотрено более внимательно. Речь, действительно, индивидуальна, но индивидуальна по исполнению, значение же её как средства общения в коллективе социально. «И язык, и речь имеют общественную, социальную природу. Но в акте общения социальная природа языка принимает форму индивидуальной речи. Язык в акте общения не существует иначе, как в форме индивидуального говорения… Язык социален по своей природе; индивидуальная форма по своей сущности также социальна. Индивидуальное не противоположно социальному, оно является только формой бытия социального» [Ломтев 1976: 58].
Язык, будучи общественным явлением в самом широком смысле этого слова, индивидуален по месту своего нахождения. Являясь одновременно и социальными, и индивидуальными, язык и речь в то же время различаются соотношением этих двух моментов. Диалектическая связь их необходима: «Индивидуальность исполнения обеспечивает особенность, уникальность и актуальность речевого акта, социальность языка гарантирует взаимопонимание индивидов» [Мыркин 1970: 104].
По мнению А.Н. Савченко, речь – это процесс сознания, выражаемый посредством языковых знаков. Язык – материал для построения речи, а речь – здание для мысли, точнее – для процесса сознания, возводимое из этого материала. Характер здания определяется не только свойствами материала (языка), но и свойствами индивидуального сознания человека [Савченко 1986: 62]. Высказывается предположение, что язык закодирован в мозгу человека, и в этой форме он существует вне речи, вне речевых произведений. Он представляет собой не средство общения, а языковую память, средство, которое совокупно с работой мысли и органов речи создаёт язык. Иначе, есть язык-память и язык-средство общения [Миллер 1987: 39]. Видимо, следует согласиться с мнением лингвиста В.А. Звегинцева, что речь – это язык плюс мысль, а потому в поле зрения исследователя надо держать не два, а три явления: мышление, язык и речь [Звегинцев 1977: 94].
Для речи важен контекст – вербальный, физический, исторический, социальный, культурный и т. д., – ибо речь, или говорение, есть употребление языка.
Соотношение языка и речи – одно из существенных отличий естественного языка от других знаковых систем. Если в знаковых системах текст является простой реализацией кода (код – правило, позволяющее соотносить с каждым передаваемым сообщением некоторую комбинацию различных сигналов), то речь не только реализует языковую систему, но и выходит за её пределы тем, что в ней есть индивидуальные особенности и различные новообразования. «– Оставьте, Борис, вы такой дипломат (слово дипломат было в большом ходу у детей в том особом значении, какое они придавали этому слову)…» (Толстой Л. Война и мир. Т. 1.4. 1. XI).
Без учёта диалектики соотношения языка и речи не могут быть удовлетворительно решены многие лингвистические проблемы. Специалисты в области лексикологии утверждают, что без разграничения языка и речи невозможно создать сколько-нибудь непротиворечивую теорию синонимии. Не учитывая этой проблемы, нельзя представить характера развития языка: «…Речь и предшествует языку, и следует за языком, и содержит его в качестве одной из своих сторон» [Ветров 1968: 120]. Академик В.В. Виноградов заметил, что язык не только порождает речь, не только сдерживает её поток, но и питается ею, преобразуется под её сильным воздействием. Язык живет самим процессом речи, – полагал известный философ XX в. Х. – Г. Гадамер. «…Хотя речь и предполагает <…> употребление заранее данных слов, обладающих всеобщими значениями, она вместе с тем представляет собой процесс постоянного образования понятий, благодаря которому осуществляется дальнейшее развитие языка и его значений» [Гадамер 1988: 497].
Принимая за основу рассуждений идею о диалектической взаимосвязи языка, речи и мышления, отдельные исследователи не без оснований полагают, что в этом единстве каждый компонент в разное время мог быть преобладающим. Поскольку архаической функцией речи в эпоху глоттогенеза было не столько сообщение информации, сколько организация, программирование поведения, то она была ведущей. Архаическое говорение было в значительной степени речью вне языка, речевые акты находились вне рамок стабильной языковой системы. В наши дни представление о речи вне языка кажется парадоксальным, но специалисты указывают на то, что умелое ситуативное использование речи даже на не знакомом слушателю языке может быть вполне эффективным. Языковая компетенция современного рядового носителя языка как слушателя обычно выше его же компетенции как говорящего. Можно полагать, что различие компетенций для наших предков было максимальным. Если предположение справедливо, то можно принять такую последовательность развития человека: речь предшествовала языку и служила его базой, а язык предшествовал сознанию и способствовал его становлению. Изложенная концепция не противоречит тезису о социальной природе языка. Носителями потенциального языка были отдельные индивиды, но индивидуальная речь, организующая поведение, оказалась способной объединить группу лиц. В речевой деятельности индивидов складывались элементы языковой системы [Манин 1987].
Проблема «Язык и речь» тесно связана с понятием дискурса и дискурсного анализа. Дискурс (фр. discours – речь) – в широком смысле представляет собой единство языковой практики и экстралингвистических факторов… необходимых для понимания текста, т. е. дающих представление об участниках коммуникации, их установках и целях, условиях производства и восприятия сообщения [Новейший ФС 1998: 222]. Это связный текст в совокупности с экстралингвистическими факторами, взятый в событийном аспекте. Это речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, речь, «погруженная в жизнь» [АЭС 1990: 136].
Дискурсный анализ – это междисциплинарная область знания, связанная с лингвистикой текста, стилистикой, психолингвистикой, семиотикой, риторикой, философией. Известна французская школа дискурсного анализа, обращающая особое внимание на идеологический, исторический и психоаналитический аспекты дискурса. В работах виднейшего представителя этой школы М. Фуко «дискурсия» понимается как сложная совокупность языковых практик, участвующих в формировании представлений о том объекте, который они подразумевают. М. Фуко стремится извлечь из дискурса те значения, которые подразумеваются, но остаются невысказанными, невыраженными, притаившимися за тем, что уже сказано. Суть дискурсного анализа – «отыскать безгласные, шепчущие, неиссякаемые слова, которые оживляются доносящимся до наших ушей внутренним голосом. Необходимо восстановить текст, тонкий и невидимый, который проскальзывает в зазоры между строчками и порой раздвигает их. <… > Его главный вопрос неминуемо сводится к одному: что говорится в том, что сказано?» [Фуко 1996: 29]. В ходе дискурсного анализа учитывают не только лексико-синтаксическую структуру текста, но и то, когда, где, кем текст был написан, к кому обращен, по какому поводу, с какой целью, в чьих интересах, каковы оценочные, идеологические установки автора [Алисова 1996: 7]. Особый интерес для этого анализа представляет паралингвистическое сопровождение речи, внеязыковые семиотические процессы.
Проблема соотношения языка и речи очень актуальна для практики преподавания языка. Известный датский лингвист О. Есперсен, например, предлагал учить языку только через речь, точнее, через текст: не давать учащимся заранее ни представления о строе языка, ни правил грамматики, а добиваться того, чтобы они сами, читая тексты, выявляли структуру языка. Столь же правомерен и другой подход, когда обучаемому задаётся набор основных правил грамматики, и он должен построить правильный текст. Возможны и другие решения. Методисты, например, предлагают ввести в школьную практику интегрированный курс «Языки речь» [Капинос 1994].
Новым направлением в методике преподавания иностранных языков стало обучение языковым (точнее: речевым) моделям. Создан единый учебный курс английского языка, построенный на таких моделях. В Сорбоннском лингвистическом центре (Франция) создали словари французского языка, в которых вместо привычных слов представлены речевые клише. Внимание к речи стимулировало разработку теорий речевого акта и речевой ситуации. Слово изучается в тесной связи с явлениями параязыка.
Вопрос «Чему мы учим – языку или речи?» – далеко не праздный, так как при разных ответах на него будут избраны совершенно разные подходы к методике обучения родному и чужому языку. Разрабатываемая в наши дни психолингвистами и лингводидактами теория речевой деятельности, для которой проблема «язык – речь» является центральной, красноречиво это доказывает.
Дополнительная литература
Левонтина И. Б. Речь и язык в современном русском языке // Язык о языке. – М., 2000. С. 271–289.
Румянцева И.М. Язык и речь в свете обучения: лингвопсихологический подход // Вопросы филологии. 2000. № 1. С. 33–40.
6. Этнос и язык
6.1. Язык и этнические общности
«Язык есть исповедь народа; в нём слышится его природа, его душа и быт родной» (П. Вяземский). Будучи важнейшим средством общения людей, язык служит необходимым условием этнической общности – исторически возникшего вида социальной группировки людей, представленной племенем, народностью, нацией (от греч. ethnos – племя, народ). «…Этнической общностью в самом широком смысле слова можно считать всякую осознанную культурно-языковую общность, сложившуюся на определенной территории, среди людей, находящихся между собой в реальных социально-экономических отношениях» [Арутюнов, Чебоксаров 1972: 10]. Этнос – это то, что объединяет людей изнутри, культурно и духовно. Идентификационными признаками этноса являются расовая принадлежность, цвет кожи, географическое происхождение, язык, обычаи и религия. Границы этнической идентичности подвижны, динамичны и культурно обусловлены [Орлова 1994: 149].
Известно, что народность формируется как языковая группа. «…Народ и язык один без другого представлен быть не может» [Срезневский 1959: 16]. Именно поэтому названия народа и языка совпадают. Полагают, что среди четырёх составляющих национального самосознания – 1) этническое, 2) культурное, 3) языковое и 4) религиозное – доминантным является языковое. Приводится мнение известного культуролога П.М. Бицилли о том, что народы меняют свои учреждения, свои нравы и обычаи, даже свою религию, своё местожительство, всё – кроме языка [Нерознак 1994: 17–18]. «Язык наиболее точно характеризует народ, ибо является объективным духом» [ФЭС 1998: 554].
Вызывает споры положение о том, что важнейшим признаком нации является язык. Язык – главное условие возникновения этнической общности. Являясь основой общественного существования народа, он сплачивает людей и, благодаря своей осмысленности, принимает их в свою область, служит этносу и в значительной мере определяет его [Костомаров 1995: 49]. Этническое самосознание базируется на родном языке и реализуется в нём.
О необходимости изучения «многочеловеческой» личности – народа – говорил еще Н.С. Трубецкой, один из создателей социально-политического учения евразийства [Трубецкой 1927: 3–7]. Соотношение языка и нации не есть их тождество. В ближайшие к нам эпохи не всегда можно поставить знак равенства между языком и этнической общностью. Во-первых, нации складываются из значительного количества этнических компонентов со своими языками. Так, английская нация сложилась более чем из десяти, грузинская – из семнадцати этнических единиц. Во-вторых, трудно различить язык и диалект. Это в основном проблема не лингвистическая, а социально-политическая. Одно и то же языковое образование в разных политических и государственных условиях рассматривается по-разному. Так, на территории Болгарии есть македонский диалект, который в Македонии обладает статусом языка суверенной страны. В-третьих, – и это самое главное – одним языком пользуются разные нации (британская, североамериканская, канадская, австралийская, новозеландская – английским, испанская и восемнадцать наций Центральной и Южной Америки – испанским) или одна нация говорит на нескольких языках. Например, в Швейцарии официально и в быту используются четыре языка. Есть этносы двух-и трёхъязычные (парагвайцы, люксембуржцы, лужичане). Одна нация может пользоваться хотя и близкородственными, но разными языками (мордва, мари, норвежцы).
Правда, аргумент, что нация говорит на разных языках или что одним языком пользуются разные нации, встречает контрдоводы. Во-первых, один и тот же язык, обслуживая разные этнические общности, приобретает специфические черты, которые позволяют говорить о вариантах, способных в перспективе превратиться в близкие, но разные языки. Так, говорят об американском и австралийском вариантах английского языка. Вспомним парадокс Б. Шоу: «Англия и Америка – две страны, которые разделяет один и тот же язык». На территории бывшей колониальной Британской империи сложились упрощенные варианты английского языка. По данным Лондонского университета, их более 500 с числом объясняющихся на них свыше 100 млн человек.
Специалисты считают, что испанский язык аргентинцев является не диалектом, а национальным вариантом испанского языка, возникшим вследствие развития местной, аргентинской культуры, усиления её специфики. Варианты национальных языков начинают складываться прежде всего на уровне семантики и охватывают затем фонетические, морфологические и синтаксические ярусы языковой системы. «…Каждый конкретный язык стремится превратиться в надлежащее выражение национального самосознания…» [Сепир 1993: 245].
Во-вторых, полагают, что в случае со Швейцарией или Бельгией мы имеем дело не с нацией, не с этническим, а государственно-политическим объединением. Также остаётся открытым вопрос, можно ли говорить как о монолитных о мордовской и марийской нациях.
В решении проблемы соотношения языка и нации ещё много неясного, но несомненно одно: нет оснований впадать в крайности, отрицая связь этнической общности со строго определенным языком или, напротив, преувеличивая жёсткую фиксированность этой связи. Современная наука, изучающая социальные процессы внутри человеческих коллективов, подтверждает необходимость единого языка для поддержания существования этноса.
6.2. Язык в концепциях этногенеза
Общепринятой концепции этногенеза (происхождения народов) пока нет. Широко известна теория возникновения этноса, предложенная известным отечественным историком Л.Н. Гумилевым.
Л.Н. Гумилев полагал, что этнос не биологическое и не социальное явление, а в большей части географическое. Этнические разнообразия он объясняет адаптацией групп людей к разнообразным ландшафтам Земли: в разных климатических условиях географической среды образуются разные этносы и культурные традиции [Гумилев 1994: 29]. Географическая среда не определяет общественных явлений, однако она оказывает существенное влияние на их появление и жизнь людей.
Этнос устроен сложно, что обеспечивает ему устойчивость, позволяющую пережить века потрясений, смут и мирного увядания. По Гумилеву, люди объединяются по принципу положительной или отрицательной комплементарности – неосознанной симпатии к одним людям и антипатии к другим. Этнос как биофизическая реальность всегда облекается в ту или иную социальную оболочку. В основе этнического деления лежит разница поведения особей. Одинаковая вибрация биотоков особей создает так называемое пассионарное поле с единым ритмом (частотой колебаний). Как только такое поле возникло, оно тут же оформляется в социальный институт, организующий коллектив пассионариев: общину, дружину, полис, философскую школу и т. д. При этом охватываются и не пассионарные особи, получившие тот же настрой путем пассионарной индукции. В итоге группа преображается в этнос. Пассионарность, по Гумилеву, – это характерологическая доминанта, необоримое внутреннее стремление (осознанное или чаще неосознанное) к деятельности, направленной на осуществление какой-либо цели (нередко иллюзорной). Пассионарность выступает как антиинстинкт, или инстинкт с обратным знаком. Этнос, утверждает Л.Н. Гумилев, – это система колебаний определенного этнического поля. Различаются этносы между собой частотой колебания их полей.
Новые этносы возникают на границах ландшафтных регионов и в зонах этнических контактов, где происходит интенсивная метисизация. Благоприятным пусковым механизмом этногенеза выступают сочетания различных культурных уровней, типов хозяйства, несходных традиций, короче, действует принцип разнообразия.
Таким образом, этнос как явление, лежащее на границе социосферы и биосферы, – это коллектив людей (динамическая система), противопоставляющий себя всем другим аналогичным коллективам («мы» и «не мы»), имеющий свою особую внутреннюю структуру и оригинальный стереотип поведения [Гумилев 1994: 385].
Настаивая на приоритете географического и пассионарного факторов в возникновении и существовании этноса, Л.Н. Гумилев не считал роль языка в этногенезе определяющей: «…Моя собственная мама (А. Ахматова. – А.Х.) в детстве до шести лет говорила по-французски, а по-русски научилась говорить уже потом, когда пошла в школу и стала играть с девочками на царскосельских улицах. Правда, после этого она стала русским поэтом, а не французским. Так была ли она француженкой до шести лет? <…> Ирландцы в течение 200 лет, забыв свой язык, говорили по-английски, но потом восстали, отделились от Англии <…> Если судить «по языку», то эти 200 лет они были настоящими англичанами?» [Гумилев 1994: 40].
Большой интерес представляет концепция, объясняющая существование этносоциальных и биологических групп человечества механизмом передачи информации [Арутюнов, Чебоксаров 1972]. Вся информация, циркулирующая в коллективах, представляет собой два основных потока: информация синхронная и диахронная. Синхронная информация – это знания, которыми говорящие обмениваются друг с другом в любой данный момент; диахронная информация – это знания, передаваемые из поколения в поколение (обычаи, верования, предрассудки, культурные традиции и т. п.).
Степень интенсивности каждого потока информации различна и может меняться. Это приводит к существенным изменениям в коллективе. При общинно-племенном строе диахронная информация была актуальнее, с образованием народностей и особенно наций усиливается роль синхронной информации. Для этноса основная информация – диахронная, для нации – синхронная. В Канаде, например, проживает большое количество эмигрантов с Украины. Они объединены с Украиной диахронной информацией, синхронная же информация для них эпизодична и случайна. Можно поэтому говорить, что украинцы в Канаде – часть украинского народа, но не часть украинской нации [Арутюнов, Чебоксаров 1972: 21].
Соотношение информационных связей как раз и объясняет, почему «современный этнос может реально существовать в форме одной нации (частично даже территориально разобщенной) и нескольких, не входящих в эту нацию локальных национальных групп, которые в одних случаях имеют сильную тенденцию к ассимиляции с другой нацией, к переходу в другой этнос, в других случаях могут этой тенденции и не иметь» [Арутюнов, Чебоксаров 1972: 21].
Концепция определяющей роли информационных связей в образовании этнических объединений объясняет тот факт, что появление народностей обычно совпадает с возникновением письменности, которая резко поднимает уровень плотности информационных связей населения. Поскольку государство повышает густоту информационных связей на своей территории, постольку оно играет важную роль в формировании наций или других субэтнических образований. Полагают, например, что развитая система дорог Персии и Рима способствовала возникновению и долгому существованию этих великих империй древности.
Чрезвычайно важна роль языка в этнических процессах, например, при ассимиляции. Близость языков способствует этническим контактам. Так, ассимиляция англичан и шотландцев в США происходит во втором поколении, в то время как немцы и итальянцы не достигают полной ассимиляции и в третьем поколении.
Существует мнение, что определяющим в этническом самосознании является «стереотип поведения», национальный характер, объединяющий всех представителей данной нации, но не будем забывать, что этот «стереотип поведения» складывается в определенных условиях природы, климата и рельефа местности, на которой зарождается этнос. Он формируется и реализуется в истории и культуре, и существенным элементом «стереотипа поведения» является стереотип речевого поведения. Невозможно представить себе, чтобы стереотип складывался до и вне природы, истории, культуры и языка.
Этническая принадлежность и культура тесно связаны. Этническая группа выражает долговременные социокультурные устремления людей и сохраняет традиционные черты культуры. Этнические характеристики приобретаются не с помощью личного выбора, а через культурное наследование, потому так велика роль традиции в поддержании этнической общности. Традиция функционирует так же, как и биологический естественный отбор, регулирующий появление нового [Орлова 1994: 150–151].
6.3. Чувство родного языка и национальное самосознание
Яркий пример проявления этнического характера языка – так называемое чувство родного языка. У всех народов язык тесно связан с национальным чувством и сознанием. В.В. Виноградов писал: «Вопрос о силе и могуществе, выразительности и красоте родного языка в общественном сознании XVI–XVIII вв. стал неотделим от идеи независимости, социально-политического процветания и широкого влияния русского народа. Любовь к родному языку сливалась с любовью к родине. Передовые люди нашей страны горячо боролись за чистоту и величие российского слова, признав его важнейшим фактором национального самосознания, духовного развития нации (например, протопоп Аввакум, Пётр Первый и др.)» [Виноградов 1961: 15].
Обратимся к примерам неравнодушного отношения народа к своему языку. В 80-х гг. в Перу решили переменить орфографию языка народа кечуа по строго фонемному принципу, в том числе из алфавита изъяли буквы ей о, поскольку соответствующие звуки – лишь аллофоны I и и. Сразу обозначился конфликт между осуществившей реформу столичной испаноязычной элитой Лимы и национальной элитой кечуа, сосредоточенной в г. Куско, центре культуры этого народа. Элита кечуа выступила за традиционную, уже привычную орфографию, и началась «орфографическая война», не закончившаяся до сих пор [Вопросы языкознания. 1997. № 1. С. 136].
Ещё пример. Одна из комиссий «Общего рынка», занимающаяся стандартизацией изделий электронной промышленности, рекомендовала впредь выпускать клавиатуру компьютеров и принтеров с латинским шрифтом для всех стран ЕЭС без учёта особенностей испанского алфавита. А в нём, в отличие от других, есть буква «энье» – графическое изображение мягкого носового звука п (л), очень часто встречающегося в испанском языке и придающего ему особую напевность. Всё испанское общество встало в защиту буквы, существующей более 1100 лет. Оказывается, и одна буква, как штрих национальной культуры, способна разбудить вулкан национальной гордости [Известия. 1991. 3 июня: 4].
Привязанность человека к родному языку объясняется и тем, что у каждого народа существуют неповторимые ассоциации образного мышления, обусловленные своеобразным семантическим наполнением каждого слова. Эти ассоциации закрепляются в языковой системе и составляют её национальную специфику. Этническое самосознание базируется прежде всего на родном языке. В этом отношении интересен пример с Владимиром Далем. Сын датчанина и немки, он всю сознательную жизнь считал себя русским. «Ни прозвание, ни вероисповедание, ни самая кровь предков не делают человека принадлежностью той или иной народности… Кто на каком языке думает, тот к тому народу и принадлежит. Я думаю по-русски», – писал создатель знаменитого «Толкового словаря».
Русская писательница серебряного века Н. Берберова в воспоминаниях о другом русском писателе и поэте той же поры Вл. Ходасевиче пишет: «…Для меня он, не имеющий в себе ни капли русской крови, есть олицетворение России, …я не знаю никого более связанного с русским ренессансом первой четверти века, чем он…» [Берберова 1990: 504]. «Есть много на Руси русских нерусского происхождения, в душе, однако же, русские» (Гоголь Н. Мёртвые души. II, 3).
Однако существует и противоположное наблюдение, например, оценка русского поэта серебряного века Максимилиана Волошина другим поэтом Мариной Цветаевой: «Француз культурой, русский душой и словом, германец – духом и кровью» (Цит. по: [Маковский 1990: 150]).
Утрата народом своего языка приводит к исчезновению этого народа как целого, как этноса. Примером может служить меря, большая угро-финская народность, жившая в центре современной Европейской части России. Славяне, продвигавшиеся на северо-восток, селились рядом с мерей, жили с нею в мире, активно сотрудничали. Постепенно меряне освоили русский язык и окончательно перешли на него. Физические признаки мери сохранились в этническом типе русских, но как народ она исчезла, ибо исчез её язык. «Самое ценное и удивительное, что сохранили чуваши до наших дней, самое великое – это язык, песни и вышивка. У чувашей сто тысяч слов, сто тысяч песен и сто тысяч вышивок», – с гордостью говорил великий просветитель И.Я. Яковлев, объясняя жизнестойкость своего этноса и место языка в его самостоянии. Стойкий национально-языковой консерватизм болгар и чехов позволил им сохраниться как народам. «Народ – зодчий речи. Речь – зодчий народа» (А. Вознесенский).
Известны, однако, случаи, когда значительные этнические группы в условиях иноязычного окружения, не пользуясь своим языком, сохраняют национальное самосознание (корейцы в Японии или черкесы в Турции). Практически никто из живущих в Японии айнов (аборигенов Японских островов) не может считать айнский язык родным: все с детства говорят по-японски и иногда пытаются учить айнский как иностранный. Подобная ситуация сложилась к 80-м годам и со многими из языков народов СССР [Алпатов 1994: 183]. Устойчивости национального самосознания в этом случае способствует сохраняющийся «стереотип поведения» и культура. Так, ирландский язык со времен английской колонизации был запрещен. Единственным живым языком в завоёванной стране стал английский: даже народные баллады пелись на английском. Однако ирландцы не перестали быть ирландцами (как и шотландцы шотландцами). Литературный гений их не ослаб, свидетельством тому славные имена: Дж. Свифт, Оливер Голдсмит, Чарлз Метьюрин, Томас Мур, Ричард Шеридан, Оскар Уайльд, Бернард Шоу, Джеймс Джонс [Литературная газета. 1989. № 45: 3]. Думается, этническому самосознанию в условиях утраты языка способствовало различие религий у завоёванных и завоевателей, а также существенное различие в культуре, социальная память об истории народа и страны. Кажется, этот пример подтверждает правоту Э. Сепира, говорившего о различии между этническими образованиями, основанными в одном случае на единстве расы, на единстве культуры и на единстве языка, в другом – они не обязательно должны совпадать, да и фактически редко совпадают [Сепир 1993: 244].
Ситуация с боснийскими мусульманами свидетельствует, что отсутствие противопоставленности по языку (сербохорватский язык сербов и боснийцев) при отчетливой выраженности конфессиональных и иных культурных отличий не препятствует становлению отдельного этноса. Из этого вытекает, что общность языка, выделяющего данный этноязыковой коллектив, – условие достаточное, но не необходимое [Касевич 1995: 69]. Уместен здесь и пример Кубы, равно как и некоторых других стран Америки, когда появление территориального самосознания, усиленное сознанием экономических интересов, приводит к формированию собственно этнического самосознания при сохранении общего с метрополией и соседями языка и многих элементов культуры [Александренков 1995: 7]. Правда, общий язык вырабатывает собственные элементы, делающие его вариантом языка исходного (например, американский вариант английского или латиноамериканские варианты испанского или португальского языков).
Высказана идея о том, что у этноса может быть двойное самосознание. Академик О.Н. Трубачев разделяет идею историка древнеболгарской культуры А. Ангелова о том, что славяне эпохи Кирилла и Мефодия, например, болгарин IX–X вв., ощущали себя в одно и то же время и славянами, и болгарами [Трубачев 1992: 132]. То же можно утверждать и в отношении других народов. Двойному самосознанию в значительной степени способствует полилингвизм (активное пользование индивидом двумя и более языками). Так, у чувашей полилингв считает себя представителем двух этносов – чувашского и русского. Культура и обычаи обоих народов для него являются своими. Во всем этом чувашское имеет свои неповторимые уголки, что требует выражения именно на чувашском языке [Тихонов 1995: 148]. Видимо, в этом разгадка феномена поэтов, которые творили на нескольких языках и стали великими представителями нескольких народов. Например, Саят-Нова слагал свои стихи на грузинском, армянском и азербайджанском языках и стал поэтом трёх народов. Объясняют этот феномен тем, что большая часть жизни поэта прошла в Тифлисе (ныне Тбилиси), который был духовным центром Закавказья и в котором складывалась по-своему единая культура, о чём писал армянский поэт О. Туманян: «То был особый, самобытный мир, где кавказские народы, – каждый с присущим ему бытием и колоритом, – объединились и создали чрезвычайно привлекательную и интересную жизнь, смешение наций. И так как в этой жизни задавал тон веселый грузинский дух, то старый Тифлис не был простым этнографическим сборищем чуждых друг другу элементов. То был весёлый свадебный пир, на который были званы все национальности и племена Кавказа» [Литературная газета. 1987. № 50: 7]. Близость культур среднеазиатских народов, равно как и двойное самосознание, способствовали появлению многоязычных классиков поэзии этого региона (например, персидский и таджикский поэт Фирдоуси).
Если язык – сердцевинная часть культуры, то заинтересованное постижение родного языка – самый эффективный путь к овладению фундаментальной частью национальной культуры. Русский философ И.А. Ильин в программной статье «Путь духовного обновления» утверждал, что пробуждение самосознания и личностной памяти ребенка необходимо совершать на его родном языке, причем важен не тот язык, на котором говорят при нем другие, а тот, на котором обращаются к нему, заставляя его выражать на нем его собственные внутренние состояния. Язык, полагает философ, вмещает в себе таинственным и сосредоточенным образом всю душу, все прошлое, весь духовный уклад и все творческие замыслы народа. Завершается статья своеобразной педагогической рекомендацией: «…В семье должен царить культ родного языка: все основные семейные события, праздники, большие обмены мнений – должны протекать по-русски» [Ильин 1994: 227].
Дополнительная литература
Исаев М.И. Словарь этнолингвистических понятий и терминов. – М., 2001.
Швейцер А.Д. Американский вариант литературного английского языка: пути формирования и современный статус // Вопросы языкознания. 1995. № 6. С. 3–16.
7. Язык и культура
7.1. Язык как составная часть культуры
Невозможно существование языка вне контекста культуры, центром которой и является язык. Русский мыслитель С.Н. Булгаков писал: «Национальность проявляется в культурном творчестве. Самое могучее древо культуры, в котором отпечатывается душа национальности, есть язык… В языке мы имеем неисчерпаемую сокровищницу возможностей культуры, а вместе с тем и отражение, и создание души народной. Вот почему, любя свой народ, нельзя не любить, прежде всего, свой язык» (цит. по: [Книжное обозрение. 1990. № 7: 9]). Как соотносятся язык и культура – эти два важнейших атрибута человека и человечества, как они взаимодействуют, можно ли на неродном языке создавать великие художественные произведения, как относиться к результатам творчества двуязычных писателей, можно ли без потерь перевести литературное произведение на чужой язык – все это трудные и очень актуальные вопросы, на которые должны дать ответ и наука, и художественная практика.
Дух человека, если обратиться к определению о. А. Меня, – это деятельность: творчество, выбор, самосознание и стремление. Деятельность – сущностная характеристика культуры. Б. Пастернак, который в молодости выбирал, кем ему быть – музыкантом (композитором) или поэтом, определил культуру как «плодотворное существование». Дух человека неразрывно связан с языком. Эта связь качественно предопределяет и дух, который реализуется в слове, и язык, который шире элементарного средства коммуникации. Это было ясно В.К. Кюхельбекеру: «Рассматривая народ как существо духовного порядка, мы можем назвать язык, на котором он говорит, его душой, и тогда история этого языка будет значительнее, чем даже история политических изменений этого народа, с которым, однако же, нация его языка тесно связана» [Кюхельбекер 1954: 374].
Язык как условие духа и культура как результат деятельности духа органически связаны друг с другом. Связь эта диалектически разнородна: по удачному выражению К. Леви-Строса, язык одновременно и продукт, и важная составная часть, и условие культуры.
Полноценное познание души и культуры народа возможно только через его язык. Характерны размышления об этом выдающегося врача современности Г. Селье: «…Всё, что могу, читаю на языке оригинала… Я нахожу, что ничто не в состоянии дать мне большего разнообразия мысли и чувств, так полно познакомить меня с культурой другого народа, чем чтение книг в оригинале или беседа с людьми на их родном языке, который служит средством самовыражения и моим собеседникам, и авторам прочитанных мною книг» [Селье 1987: 328].
Проблема языка как составной части культуры достаточно сложна, поскольку трудно представить язык некоей дискретной сущностью, противопоставленной всей культуре и рядоположенной с искусством, наукой, религией, моралью, обычаями и т. п. В размышлениях о языке как части культуры первым на память приходит представление о культуре речи, которая входит в состав непременных требований к полноценной личности и достаточно точно характеризует её социальный, образовательный и профессиональный статусы, а потому часто сравнивается с визитной карточкой человека. Не затрагивая здесь всей области культуры речи, отметим только то, что в современном обществе всё больший удельный вес приобретают так называемые лингвоинтенсивные специальности, для которых уровень языковой компетенции и умение общаться – основа успешной профессиональной деятельности, – политика, искусство, педагогика, право, дипломатия, радио-и тележурналистика, торговля, сфера услуг. Ценность речи как составной части культуры здесь трудно переоценить.
7.2. Язык как продукт культуры. Аккумулирующее свойство слова
Слово, по убеждению многих, – не только практическое устройство передачи информации, но также инструмент мысли и аккумулятор культуры. Способность аккумулировать в себе культурные смыслы – свойство живого языка. «Жизнь языка открыта всем, каждый говорит, участвует в движении языка, и каждое сказанное слово оставляет на нём свежую борозду» [Мандельштам 1987: 179].
Возникает вопрос о механизме накопления и сохранения культурной информации в слове. Специалисты по проблеме «Язык и культура» говорят о двух уровнях проявления культурного фона в лексике.
Первый уровень – отражение в лексическом составе языка и в отдельном слове специфики материальной культуры.
Этот уровень изучен и описан основательно. Например, у индоевропейцев, которые не употребляли молока, и корова, и бык лексически не различались и назывались говядо. Отсюда название их мяса – говядина. Глаголы откупорить, закупорить и производные от них сохранили память о том времени, когда всё жидкое и сыпучее хранилось в многочисленных бочках, нуждавшихся в особом специалисте – купаре 'тот, кто затыкает, заделывает щели в бочках, бондарь. Ср.: англ. cooper' [СлРЯ XI–XVII вв.: 8: 125]. Необходимость в бочках резко уменьшилась, исчезла потребность в купаре, но глаголы с корнем купор – (и соответствующим нормативным ударением!) сохранились как вечный памятник ушедшей в истории профессии. Фразеологизм перемывать косточки сохранил память о древнем обряде перезахоронения с омовением костей покойника, знавшегося с нечистой силой. В глаголе насолить 'повредить, причинить неприятность' закрепилась память о колдовском приеме разбрасывания соли с целью наслать болезнь, порчу.
Второй уровень проявления культурного фона в лексике – воздействие на язык и лексику, в частности, собственно мировоззренческого фактора. Оказывается, что выяснение путей и форм включения культурного фактора в ход исторического развития языка далеко от завершения [Черепанова 1995: 137]. В последнее время обсуждается вопрос о наличии особой «культурной памяти» слова. Этому посвящена статья Е.С. Яковлевой «О понятии «культурная память «в применении к семантике слова» [Яковлева 1998], в которой говорится о методе «культурно-исторической диагностики», позволяющем увидеть результаты сопряжения в слове языкового и культурного. Автор полагает, что семантическая эволюция является результатом действия «культурной памяти» и показывает это на значительном фактическом материале.
Узелками «культурной памяти» могут быть синонимы. Так, в русском языке работа и труд – синонимы, различие которых обусловлено тем, что слова «помнят» о том, что вкладывали люди в их содержание когда-то, давным-давно. Сейчас существительное труд связано с понятием «усилие», а работа – с понятием «производство самого дела». Раньше труд обозначал бедствие, болезнь, страдания, поэтому труд связан с одушевленными субъектами, а работа – с субъектами и одушевленными, и неодушевленными. Корень существительного работа напоминает, что оно связано и с понятием «раб». Кстати, из сравнения синонимов и родилось представление о коннотации, когда Э. Дж. Уотли написала «Selection of Synonyms» (1851), где, в частности, сравнивала righteous 'праведный' и just 'справедливый', – в первом синониме отразилась этика поведения на принципах религии, а во втором – на принципах права.
«Культурной памятью» объясняется семантическая эволюция, при которой значение слова чаще всего движется от конкретного к абстрактному. Детище первоначально обозначало «дитя», а сейчас 'плод творческой, интеллектуальной, ментальной деятельности'. Свергнути начиналось со значения 'скинуть' (свергнути порты 'снять штаны'), которое оно утратило и приобрело значение 'силой лишить власти, могущества, низложить' [MAC: 4: 40].
Однако слово в своей эволюции может проделать и путь от широкого, абстрактного к конкретному, частному. Глагол идти в древнерусском языке, как и в английском языке, прилагался и к ползущим, и к летящим, и к плывущим объектам. Существительное жир обозначало 'богатство, обилие, избыток', сейчас это 'нерастворимое в воде маслянистое вещество, содержащееся в животных и растительных тканях' [MAC: 1: 486].
Русский язык отразил отличие христианского взгляда от языческого. Так, не-христианское реализовано в «языческих» лексемах: вълшьба 'колдовство, чародейство', гульныи 'волшебный', кобь 'гадание по птичьему помету', кобление 'то же', любьжа 'приворот', обаяньник 'чародей, волхв' [Черепанова 1995: 139].
Оппозиция «христианское/языческое» выразилась в наличии двух, этимологически восходящих к одному индоевропейскому источнику, корней худ – (кудесьник) как элемент языческого представления и чуд – (чудо, чудодеяние, чудьныи) – признак христианского мироощущения [Черепанова 1995: 140]. «Языческим» является суффикс – ищ-: церквище 'нехристианский храм', требище 'жертвеннику нехристиан' (у христиан – требник), капище 'языческий идол, место языческого служения' (христианское капь 'образ'). Отсюда отрицательная коннотация у слов необрядового характера с суффиксом-ищ – (игрище, гульбище, идолище) [Черепанова 1995: 140].
Эволюция некоторых русских слов происходила под воздействием Священного Писания. Существительное риза обозначало одежду вообще, но позже выработало значение 'верхнее облачение священника при богослужении' [MAC: 3:717]. Роман В. Дудинцева логичнее было бы назвать «Белые ризы», а не «Белые одежды». Под влиянием Библии глагол вожделеть приобретает отрицательный оттенок. Глагол искусить первоначально означал 'испытать, получить опыт' (искусный мастер), но Библия осудила факт искушения. Глаголпреобразить 'изменить' приобрел сему 'улучшить', поэтому сейчас можно сказать изменить к лучшему, но нельзя говорить преобразить к лучшему. Глагол ведать 'знать вообще' сейчас не сочетается с именами «негативного» субъекта. В истории русского языка (и в русской ментальности) изменилось соотношение синонимических глаголов ведать и знать. Ведать можно было только с помощью органов чувств, а знать – это чистое знание, возможно, сверхъестественное. Ведун, ведьма – это отрицательная оценка, а знахарь – положительная. Интересно, что в новгородских берестяных грамотах, отразивших бытовую жизнь горожан, наличествует только глагол ведать. Сравнивая глаголы верить и веровать, обнаруживаем у последнего глагола сакральный смысл. Существительное неприязнь в древнерусском и церковнославянском языках – одно из названий дьявола.
Обмирщение русского языка, связанное с секуляризацией общественной жизни, привело к тому, что «отрицательные», с точки зрения Библии, слова приобретали положительный смысл. Это очаровать, обаять, прельстить, обворожительный, чары, обожать. Восхищение первоначально означало 'похищение', пленительный – 'берущий в плен'. Исчезает отрицательная оценка из слов гордиться, гордость, страсть 'страх, страдание'.
Сочетаемостные возможности слова тоже своеобразная точка «культурной памяти». Почему можно сказать Взоры Европы обращены к России, но нельзя *Взгляды Европы…'? Известно, что слова очи, уста, взор исконно означали 'мысленное восприятие'. Отсюда мысленный взор, но нельзя *мысленный взгляд. В русском языке друг может быть близкий, лучший, закадычный, задушевный, настоящий, а вот знакомый, приятель не могут определяться прилагательными настоящий, надежный, задушевный, истинный. Русская ментальность этого не допускает.
Связь языка и культуры рождает коннотацию слова. Понятие о коннотации впервые возникло в английской лексикографии в середине XIX в. Коннотация – это обычно несущественные, но устойчивые признаки выражаемого лексемой понятия, воплощающие принятую в обществе оценку соответствующего предмета или факта, отражающие связанные со словом культурные представления и традиции. Не входя непосредственно в центр лексического значения и не являясь следствиями из него, они объективно обнаруживают себя в языке, получая закрепление в переносных значениях, привычных метафорах и сравнениях, фраземах, полусвободных сочетаниях, производных словах (формулировка Ю.Д. Апресяна цит. по: [Кобозева 1995: 102–103]).
К числу объективных проявлений коннотаций относят явления, которые обычно не фиксируются словарями, но регулярно воспроизводятся в процессе порождения и интерпретации высказывания с данной лексемой или ее производной [Кобозева 1995: 103]. Различают шесть типов коннотации, или со-значений: 1) изобразительное (представление); 2) эмоционально-чувственное; 3) культурно-цивилизационное; 4) тематическое (семантическое поле); 5) информативное (уровень знания); 6) мировоззренческое [Комлев 1992].
Полагают, что «своя побочная чувственная окраска» присутствует у большинства слов и у большинства элементов сознания. По крайней мере к основным разрядам коннотированной лексики относят термины родства, зоонимы, соматизмы, названия природных объектов и явлений, физических действий, цветообозначения – все, что можно воспринять пятью органами чувств. Окраска эта кажется слабой, но она реальна. Спорят только о том, присуща ли эта чувственная окраска самому слову, т. е. входит ли она в семантическую структуру слова или это только психологический нарост на теле слова, его концептуальном ядре. Г.Г. Шпет полагал, что объективная структура слова, как атмосферою земля, окутывается субъективно-персональным, биографическим, авторским дыханием [Шпет 1989: 464].
С одной стороны, коннотациями называют добавочные (модальные, оценочные и эмоционально-экспрессивные) элементы лексических значений, включаемые непосредственно в словарные дефиниции слова; с другой стороны, о коннотациях говорят тогда, когда имеют в виду узаконенную в данной среде оценку вещи или иного объекта действительности, обозначаемого данным словом, не входящую непосредственно в лексическое значение слова [Апресян 1992: 46–47]. Языковым проявлением коннотации считают переносные значения (свинья, ворона, пасынок), метафоры и сравнения (напиться как свинья), производные слова (свинушник, холостяцкий), фразеологические единицы, поговорки, пословицы (подложить свинью), синтаксические конструкции типа «X есть X» (женщина есть женщина).
У одного и того же концепта в разных культурах и языках могут быть разные коннотации. «Крыса» – англ. Rat 'предатель; доносчик, шпион'; фр. rat 'скупой человек, скряга'; нем. Ratte 'с увлечением работающий человек'; рус. крыса 'ничтожный, приниженный службой человек' [Комлев 1992: 52]. Отмечены специфические коннотации цветообозначений в разных этнических культурах. Например, «белый» в США – «чистота», во Франции – «нейтральность», в Египте – «радость», в Индии – «смерть», в Китае – «смерть; чистота». Л.В. Щерба отмечал национальную специфику в русском слове вода и во французском слове еаи. Для русских слово вода 'лишена содержания' и 'бесполезна в пищевом отношении', а у французов – содержит семы 'отвар' и 'пищевая полезность'.
Коннотация может быть положительной и отрицательной. Слово варяг в переносном значении 'работник со стороны' сохранило отрицательную коннотацию. У слов идол и кумир равные исходные позиции, но разные культурно обусловленные коннотации их существенно разводят: идол 'о ком-нибудь бестолковом и бесчувственном', кумир 'нейтральная и положительная окраска' [Черепанова 1995: 145]. Проявляется положительный или отрицательный знак коннотации прежде всего в связях слов. В выражении с немецкой аккуратностью слово немецкий окрашено положительно. Достаточно соединить слова крайне и хороший, как почувствуем, что в слове крайне наличествует отрицательная оценка. То же можно почувствовать и в шутливом обращении: «Я вас категорически приветствую!» У слова нарочно чувствуют обвинительную, а у слова нечаянно оправдательную коннотацию [Левинтон 1996: 56]. Коннотация может менять свой знак на противоположный без каких-либо явных причин. Так, по наблюдениям академика О.Н. Трубачева, слова дубина и орясина раньше характеризовали человека с положительной стороны.
Коннотация капризна и непредсказуема. У содержательно равноценных слов оценка может быть различной. Ср.: осел – ишак, тесть – теща, отчим – мачеха, свинья – боров, коза – козел, собачьи глаза – собака на сене и т. д. Коннотация зависит от звукового облика слова. Фонетически мотивированные слова («слова, звучание которых соответствует их значению») обладают ярко выраженным коннотативным значением по сравнению со словами, звучание которых не соответствует их значению [Левицкий 1994: 30].
Помимо коннотации языковой, которую в той или иной степени чувствуют носители языка, есть коннотация индивидуальная, личная. Её чувствовал один из персонажей романа Ф.М. Достоевского «Бесы»: «Он, например, чрезвычайно любил своё положение «гонимого» и, так сказать, «ссыльного». В этих обоих словечках есть своего рода классический блеск, соблазнивший его раз навсегда, возвышая его потом постепенно в собственном мнении…» [Достоевский 1982: 5–6]. Вот свидетельство писателя Ю.М. Нагибина: «Недаром же слово 'кривичи' с детства пробуждало во мне ощущение опрятности, образ белых одежд, кленовых свежих лаптей, много мёда и лебедей в синем небе» [Нагибин 1996: 168].
Истоки коннотации видят в истории и культуре этноса. Это убедительно показано на примере двух прилагательных – нагой и голый в русском и английском языках. Нагота – прекрасна и благородна, оголенность – неприлична и постыдна. Обнаженными бывают богини и нимфы, юноша и девушка, натурщица и спортсменка, голыми – бабы и девки, проститутка и грешница. Даже король голый. Нагота, по мнению одного английского искусствоведа, обладает эстетической броней, защищающей её от насмешки и делающей её неуязвимой. Голые такой брони не имеют и потому заслуживают осмеяния или жалости. В основе противопоставления прилагательных – две традиции западноевропейской цивилизации: античного мира и иудео-христианская. Первая из них дала нам красоту тела, вторая – красоту духа. Христианство противопоставляет дух плоти и подчеркивает греховность и бренность всего телесного [Голлербах 1995: 188]. В таких случаях можно говорить об этимологической памяти слова. В предложениях: Иван – его правая рука или встать с левой нога, писать левой рукой – сохранилось древнее оценочное противопоставление «правый» 'основной, хороший, честный, надежный' – «левому» с полярной, резко отрицательной, оценкой.
О коннотации недавно весьма употребительного русского слова совок рассуждает русский поэт Б. Чичибабин: «Есть слова, звучание которых неприятно, омерзительно, страшно, – липкие, мохнатые, склизкие. Раньше их не было хотя бы в книгах, сейчас они полезли и в книги, и в стихи. Недавно появилось слово «совок». Безграмотное, идиотское слово – «совок», вероятно, означающее «советский», в смысле «глупый, нелепый, абсурдный». Я не знаю, кто его придумал, – наверное, невежда, дурак, завистливый и злобный раб, который никак не может перестать быть дураком и рабом и которому хочется, чтобы и все кругом были такие же дураки и рабы, как он сам. Вот он и пустил в обиход это слово «совок», называя им всех нас, живших в те годы, при Сталине, при Брежневе, в 60-е» [Чичибабин 1995: 447].
Словарь, корневые слова языка, само наличие или отсутствие тех или иных слов, свидетельствует о том, какие предметы были самыми важными для народа в период формирования языка, о чем думает народ, синтаксис – как думает, а коннотация слов – о том, как он оценивает предмет мысли. Язык – самый честный и памятливый свидетель истории и культуры народа. «То, что говорит язык, казалось интереснее того, что говорит на языке человек» [Арутюнова 1995: 33]. «Культурная память» в слове предопределяет удивительную силу слова. «У нас нет Акрополя. Наша культура до сих пор блуждает и не находит своих стран. Зато каждое слово словаря Даля есть орешек Акрополя, маленький кремль, крылатая крепость номинализма, оснащенная эллинским духом на неутомимую борьбу с бесформенной стихией, небытием, отовсюду угрожающим нашей истории» [Мандельштам 1987:63].
Проблема аккумулятивное™ слова связана со многими фундаментальными вопросами когнитологии, лингвистики, культуроведения, искусствознания и философии. «…Для решения наиболее фундаментальных проблем человеческой культуры знание языковых механизмов и понимание процесса исторического развития языка, несомненно, становятся тем более важными, чем более изощренными становятся наши исследования в области социального поведения человека. Именно поэтому мы можем считать язык символическим руководством к пониманию культуры» [Сепир 1993: 262]. Язык из monumentum становится documentum. Для переводчиков аккумулятивность – тяжелое испытание их мастерства, ибо необходимо не столько найти эквивалент слова в другом языке, но, главное, передать в другой язык накопленные словом культурные смыслы. Когда говорят об экологии языка, то подсознательно думают о возможной утрате небрежно используемым словом своего культурного содержания, обеспечивающего ценность этого слова. Настоящее обучение родному языку – это приобщение к национальной культуре. «…Язык – носитель культуры. В слове же всё явлено. Почему у нас многое не понимают? Потому что языка не знают. Читают переводы, которые сами по себе являются носителями добавочных, побочных смыслов. И поэтому слово по-настоящему не открывается, а за словом стоит целая культура. Вот для этого-то и надо развивать именно классическую филологию, чтобы знать языки, а через них – культуру, на основаниях которой покоятся все западноевропейские цивилизации» [Тахо-Годи 1998: 96].
7.3. Язык и национальная принадлежность художественного произведения
Язык как первоэлемент литературы определяет национальную принадлежность произведения, созданного на нём.
В.К. Кюхельбекер в своей парижской лекции заметил: «Творения нашей литературы не могут быть правильно оценены без предварительного ознакомления с духом русского языка» [Кюхельбекер 1954: 374].
Скульптура, изваянная из итальянского мрамора руками русского мастера, вне всякого сомнения, принадлежит русской культуре, а по отношению к стихам, написанным итальянцем на русском языке, утверждение, что они факт итальянской культуры, весьма проблематично. Утверждают, что русские повести Т.Г. Шевченко, обогатившие и духовную культуру украинского народа, – достояние прежде всего русской культуры [Русановский 1982: 316]. Равно как и его дневники, которые создатель украинского литературного языка вёл на русском языке.
Известный культуролог Ю.М. Лотман в своих «Лекциях по структурной поэтике» (параграф «Язык как материал искусства») утверждал, что структура языка – результат интеллектуальной деятельности человека, а потому сам по себе материал словесного искусства уже включает итоги деятельности человеческого сознания, что и придает ему совершенно особый характер в ряду других материалов искусства [Лотман 1994: 68]. Справедливо полагают, что язык – естественный субстрат культуры, пронизывающий все ее стороны. Он служит инструментом упорядочения мира, средством закрепления этнического мировоззрения.
Язык – основной критерий отнесения произведения к той или иной национальной культуре. Лауреат Нобелевской премии мексиканский поэт Октавио Пас, говоря о романе «Человек без свойств», заметил, что тот «написан по-немецки, и уже по этой причине не может принадлежать англосаксонской литературной традиции» [Известия. 1990. 8 дек.: 7]. Инициаторы создания «Русской энциклопедии» на вопрос, кого отнести к русской культуре, отвечают, что её достойными представителями являются евреи О. Мандельштам, И. Левитан, киргиз Ч. Айтматов, а также русские по крови, но работавшие за рубежом В. Набоков, А.И. Солженицын и др. «Куда бы я ни поехал, все останется во мне, так же, как и я – частица истории русской культуры и истории еврейства», – свидетельствует современный российский философ [Померанц 1998: 192]. Другой наш соотечественник, писатель А. Генис, в одном из своих интервью заметил: «…Каждый человек, который выучил русский язык или владеет им, является частью русской культуры» [Книжное обозрение. 1997. № 11. С. 8].
Полное овладение родным языком – это не только приобретение средства общения, это ещё и почти одновременное приобщение к художественному творчеству. Л.Н. Толстой в письме Н.Н. Страхову (25. 03. 1872) высказал глубокую мысль о том, что язык «есть лучший поэтический регулятор». «Язык – сам по себе поэт» – не только красивая метафора, но и неоспоримая истина. М. Пришвин заметил как-то, что в России легко стать поэтом, вслушиваясь в народную речь и с томиком стихов Пушкина в руках. «В слове есть скрытая энергия, как в воде скрытая теплота, как в спящей почке дерева содержится возможность при благоприятных условиях сделаться самой деревом» [Пришвин 1990: 413]. Мысль о слове как зерне художественного произведения, впервые отчётливо сформулированная А.А. Потебней, многократно подтверждалась теми, кто хорошо чувствовал Слово. Пастернак писал: «Первенство получает не человек и состояние его души, которому он ищет выражение, а язык, которым он хочет его выразить. Язык – родина и вместилище красоты и смысла, сам начинает думать и говорить за человека» (Пастернак Б. Доктор Живаго). Октавио Пас подтверждает: «…Поэт – невольник языка» [Известия. 1990. 8 дек.]. Налицо великий круговорот: язык —> художественное творчество —> язык. «Литература – это бессмертие языка» (Август Шлегель).
Строго говоря, учёные тоже невольники своего национального характера, в том числе и языка. Это заметил К. Маркс: «Французы наделили английский материализм остроумием, плотью и кровью, красноречием. Они придали ему недостававшие ещё темперамент и грацию. Они цивилизовали его» [Маркс: 2: 144]. Русский философ В. Соловьёв, ссылаясь на другого русского мыслителя Н.Я. Данилевского, говорило том, что у таких знаменитых английских учёных, как Адам Смит и Чарльз Дарвин, национальный характер заметно отразился на их научной деятельности. Изменись этот характер (и язык!), «Адам Смит увидел бы в экономической жизни другой интерес, кроме произведения богатства, а Дарвин открыл бы в жизни другой смысл, кроме борьбы за существование» [Соловьёв 1989: 298].
7.4. Проблемы художественного билингвизма, автоперевода и перевода
Теоретически интересна проблема билингвизма в художественной литературе, явления нередкого. Известны французские произведения А. Пушкина, М. Лермонтова, Г. Гейне, А. Суинберна, О. Уайлда, русские стихи болгарина И. Вазова, австрийца Р. Рильке, латыша Ю. Балтрушайтиса, немецкие А.К. Толстого, М. Цветаевой. В XVIII в. в России творили так называемые русско-французские поэты А.П. Шувалов, A.M. Белосельский-Белозерский, С.П. Румянцев. Индус Р. Тагор писал и по-бенгальски, и по-английски.
Духовное взаимотяготение культур способствует появлению художественного билингвизма. На территории бывшего СССР немало писателей, пишущих или на двух – родном и русском – языках (Ч. Айтматов, И. Друце, В. Быков, Ю. Шесталов), или на одном русском (Ф. Искандер, О. Сулейменов, Р. и М. Ибрагимбековы, Ю. Рытхэу). К какой культуре в этом случае их отнести? Мнение Ч. Айтматова на этот счет однозначно: национальный писатель, пишущий по-русски, остаётся писателем прежде всего национальным. «Думаю, когда опубликовал по-русски свою повесть «Прощай, Гюльсары», ни у кого не оставалось сомнения, что это произведение киргизской прозы. Ведь существует не только стихия национального языка, но и национального мышления» [Литературная газета. 1989. № 45: 3]. Тот же вывод Айтматовым делается и по отношению молдаванина И. Друце, который пишет по-русски: «Но кто усомнится в том, что он не просто молдаванин, а средоточие национального духа молдаван?» И в то же время, рассуждая о творчестве Анатолия Кима, корейца по национальности, Ч. Айтматов приходит к противоположному выводу: «…Настолько совершенно владеет стихией русского языка… что о нём невозможно судить иначе, как о писателе русском».
Можно думать, что отнесение писателя и поэта к той или иной культуре зависит только от степени совершенства владения языком, понимая под последним освоение той стороны языка, которая лежит за пределами собственно понятийного ядра слов, – прежде всего национально-культурной коннотации используемых слов. Впрочем, это требуется и от литератора, творящего на родном языке.
Неповторимость каждого языка особенно остро чувствуют писатели, пишущие на двух языках. Азербайджанец Чингиз Гусейнов написал по-русски исторический роман о выдающемся просветителе М.Ф. Ахундове «Фатальный Фатали». Затем роман был воссоздан автором на азербайджанском языке. Читателей удивила разница в объёме в принципе одного и того же произведения: азербайджанский вариант оказался в полтора раза больше. Автор объясняет это диктатом языка. Различие языков означает и внутреннюю нетождественность вариантов романа. «Язык, на котором ты пишешь, подспудно вовлекает в сферу осмысления и изображения реалии жизни, быта, истории, культуры и т. д., связанные именно с данным языком или объёмом представлений данной языковой стихии» [Гусейнов 1987: 5].
Русский язык создавал благоприятные условия для органического постижения духовного мира, жизни и деятельности Ахундова, который формировался на стыке двух культур – русской и азербайджанской. Русский язык, на котором изначально рождался текст, «стихийно» включал в структуру и содержание романа русско-европейские реалии, материал, фигуры и судьбы. И даже восточный материал в оболочке русского языка окрашивался в русско-европейские тона. Азербайджанский язык, признаётся автор, невольно вовлекает в сферу внимания больше восточного материала – исторического, бытового, психологического.
Диктат языка можно показать на примере топонима Араке. «Сказать по-русски «Араке» или то же слово произнести по-азербайджански – и уже возникают разные чувственно-информационные объёмы, ибо речь в данном случае идёт не только о реке, а о многомерном понятии разделенного края… Ситуация породила немало открыто выраженных или рассчитанных на посвященных фраз, понятий, народно-поэтических фигур, и порой достаточно одного-двух слов, чтобы ввести азербайджанского читателя в данную реальность» [Гусейнов 1987:5]. Ч. Гусейнову пришлось много потрудиться, чтобы в азербайджанском варианте передать критический пафос по отношению к царю и царскому самодержавию, ибо азербайджанский язык не имел традиции негативного изображения царя-самодержца, это для него непривычно, неестественно, не имел тех традиций, «какие в многообразии стилей и блеске оттенков имеет и выстрадал, пройдя сложный тернистый путь через пытки и унижения, ссылки и казни, великий русский язык».
Билингв Ч. Гусейнов свои выводы подтверждает ссылкой на опыт другого билингва – В. Набокова, «двуязыкой бабочки мировой культуры» (А. Вознесенский), размышлявшего о «взаимной переводимости двух изумительных языков» и написавшего: «Телодвижения, ужимки, ландшафты, томление деревьев, запахи, дожди, тающие и переливчатые оттенки природы, всё нежно-человеческое, а также всё мужицкое, грубое, сочно-похабное, выходит по-русски не хуже, если не лучше, чем по-английски, но столь свойственные английскому тонкие недоговоренности, поэзия мысли, мгновенная перекличка между отвлечённейшими понятиями, роение односложных эпитетов, всё это, а также всё относящееся к технике, модам, спорту, естественным наукам и противоестественным страстям – становится по-русски многословным» (Цит. по: [Литературная газета. 1987. 23 сент.]).
Примеров автоперевода в мировой практике немало, и все они свидетельствуют о чрезвычайных трудностях, встающих перед автором. Когда выходец из Франции, американский писатель Дж. Грин попытался самостоятельно перевести одну из своих книг с французского языка на английский, у него вместо перевода получилась новая книга: «У меня было такое ощущение, что когда я писал по-английски, я как будто становился другим человеком» (Цит. по: [Вопросы языкознания. 1990. № 6: 121]).
А вот свидетельство Ф. Искандера, абхазца, пишущего на русском: «Особенности абхазского языка состоят в том, что это действие, выраженное по-русски четырьмя словами, по-абхазски передаётся одним словом и потому выразительность его в переводе несколько тускнеет» [Искандер 1991: 262].
По мнению пишущих на двух языках, путь автоперевода художественно не очень перспективен. Выход – в создании варианта на другом языке, и этот новый оригинал на другом языке может существенно отличаться от первого варианта. Свидетельствует В. Набоков: «Книга «Conclusive Evidence» писалась долго (1946–1950), с особенно мучительным трудом, ибо память была настроена на один лад – музыкально недоговоренный русский, – а навязывался ей другой лад, английский и обстоятельный. В получившейся книге некоторые мелкие части механизма были сомнительной прочности, но мне казалось, что целое работает довольно исправно – покуда я не взялся за безумное дело перевода «Conclusive Evidence» на прежний, основной мой язык. Недостатки объявились такие, так отвратительно таращилась иная фраза, так много было и пробелов и лишних пояснений, что точный перевод на русский язык был бы карикатурой Мнемозины. Удержав общий узор, я изменил и дополнил многое. Предлагаемая русская книга относится к английскому тексту, как прописные буквы к курсиву» [Набоков 1990: 134]. Следует заметить, что американцы считают В. Набокова своим писателем: мало людей, которые бы так воплотили чужую культуру, но как бы хорошо он ни писал на английском, он всё равно остался русским.
Художественный билингвизм любого писателя благотворно сказывается на его творчестве. Как заметил Д.С. Лихачёв, французский язык Пушкина способствовал превосходному чувству русского языка, точности и правильности речи. Двуязычие помогает видеть словесный мир «в цвете». Ч. Айтматов убежден: работать на двух языках – значит расширить и возможности киргизской литературы, и общее русло всей современной литературы [Литературная газета. 1989. № 45: 3]. Создание иноязычного варианта – особая внутренняя работа писателя, ведущая к совершенствованию стиля и к обогащению образности языка [Новый мир. 1968. № 11: 146].
Многим кажется, что на чужом языке легче писать научные работы (терминология вообще предпочтительнее иноязычная: в ней нет коннотации), поэтому долгое время языком философии, теологии и науки в Европе была латынь, а на Востоке – арабский язык. Художественное же творчество требует языка родного. Вот почему создатели национальных литератур – одновременно и создатели национальных литературных языков. Однако и учёные заметили существенные различия в научных стилях разных языков. Известный этнолог К. Леви-Строс, пишущий на французском и английском языках, признаётся, что он был поражён тем, насколько различны стиль и порядок изложения в статьях на том или другом языке. Это затруднение учёный, по его словам, попытался преодолеть с помощью очень свободного перевода, резюмируя одни абзацы и развивая другие.
Интересны соображения известного философа Хосе Ортеги-и-Гассета, высказанные им в статье «Нищета и блеск перевода». Он считает, что проблема перевода ведёт к сокровеннейшим тайнам чудесного феномена – речи. Дело в том, что семантические объёмы слов, обозначающих одни и те же явления в разных языках, различны. «Лес» в испанском языке нечто иное, чем Wald в немецком. Здесь не только сами реалии совершенно не соответствуют друг другу, но и почти все вызванные им эмоциональные и духовные отзвуки. Имея в виду себя, испанского философа, Ортега-и-Гассет признаётся, что, говоря по-французски, он вынужден умалчивать 4/5 испанских мыслей, которые невозможно донести по-французски, хотя оба языка близки. Трудность перевода предопределена одним из парадоксов языка: «…Мы никогда не поймём такого поразительного явления, как язык, если сначала не согласимся с тем, что речь в основном состоит из умолчаний. <…> И каждый язык – это особое уравнение между тем, что сообщается. Каждый народ умалчивает одно, чтобы суметь сказать другое. Ибо все сказать невозможно. Вот почему переводить так сложно: речь идёт о том, чтобы на определенном языке сказать то, что этот язык склонен умалчивать» [Ортега-и-Гассет 1991: 345].
«Умалчивание» в языке на уровне лексики принято называть лакунами. Примером лакуны может служить отмеченное известным философом О. Шпенглером отсутствие в древнегреческом языке слова для обозначения пространства.
Существует большая литература, посвященная проблемам перевода. В ней постоянно обсуждается несколько фундаментальных вопросов: возможен ли адекватный перевод; как свести до минимума потери при переводе; как относиться к переводам не вполне адекватным; и т. д., и т. п.
Значительная, если не большая часть теоретиков и практиков художественного перевода считает, что адекватный перевод в принципе невозможен. Это мнение впервые сформулировал великий Данте: «Пусть каждый знает, что ни одно произведение… не может быть переложено со своего языка на другой без нарушения всей его сладости и гармонии» (Данте. Пир). В любом переводимом художественном тексте есть то, что хуже всего поддаётся переводу, – это наименее банальное, а потому более всего заслуживающее внимания [Из послесловия переводчика С.Н. Зенкина к книге Ж. Делеза и Ф. Гватгари «Что такое философия?» (М.; СПб., 1998)]. И. Гёте как раз и советовал добираться до того, что непереводимо, и уважать это, ибо в этом и скрыта ценность и своеобразие языка оригинала.
Существуют различные мнения по поводу того, как свести до минимума неизбежные потери при переводе. Русский поэт и переводчик А.К. Толстой считал, что следует переводить не слова или даже смысл, а впечатление оригинала. Философ П. Флоренский полагал, что и в переводах перспективен принцип дополнительности: «…Несколько переводов поэтического произведения на другой язык или на другие языки не только не мешают друг другу, но и восполняют друг друга, хотя ни один не заменяет всецело подлинника…» [Флоренский 1922: 7]. Для И. Бродского, который переводил с русского на английский свои стихи, перевод – это поиски эквивалента, а не суррогата, и это требует стилистической, если не психологической конгениальности [Бродский 1999: 103].
Английский драматург С. Моэм считал, что у слова три параметра, которые предопределяют его оригинальность и, как следствие, трудности при переводе: «Слово имеет вес, звук и вид; только помня обо всех этих трех свойствах, можно написать фразу, приятную и для глаза, и для уха» [Моэм 1989: 351]. Потому даже в автопереводе трудно найти достойные эквиваленты всем ипостасям переводимого слова – его весу, звуку и виду. Эти трудности встают перед любым переводчиком. «Попытки переводить английские стихи для меня обычно упирались в то, что краткие английские слова и долгие русские, соответствовавшие им, увеличивали, при условии сохранения смысла, стихи чуть ли не вдвое», – сетовала русская поэтесса Римма Казакова [Книжное обозрение. 1994. № 45: С. 17]. Процитированные здесь авторы не учитывают аккумулированные словом культурные смыслы, в том числе и коннотацию. Самый тщательный перевод может от силы учесть один-два из всех параметров слова. Отсюда множественность переводов. Даже «Слово о полку Игореве» переводилось многажды.
По мнению чешских лингвистов Б. Матезиуса и В. Прохазки, перевод – это не только замена языка, но и функциональная замена элементов культуры. Такая замена не может быть полной. Отсюда вывод о «бикультурности» текста перевода, поскольку требование «перевод должен читаться как оригинал» в полном объеме едва ли выполнимо (по крайней мере, применительно к художественному переводу), так как оно подразумевает полную адаптацию текста к нормам другой культуры [Швейцер 1994: 183]. Из-за «социально-культурного барьера», обусловленного различиями между культурой отправителя текста и культурой воспринимающей среды, решение переводчика, как правило, носит компромиссный характер.
«Бикультурность» перевода таит в себе опасность того, что из столкновения двух культурных традиций победителем выйдет культура воспринимающей среды. Специалисты припоминают опыт М.Л. Михайлова, который в 1856 г. перевел шесть стихотворений Р. Бернса и привнёс в них элементы русификации. Подобный лингвокультурный перенос дал основание К. Чуковскому иронизировать на счет некоторых своих незадачливых коллег по переводу: «Получается впечатление, как будто мистер Сквирс, и сэр Мельбери Гок, и лорд Верикрофт – все живут в Пятисобачьем переулке, в Коломне. И только притворяются британцами, а на самом деле такие же Иваны Трофимычи, как персонажи Щедрина или Островского» [Чуковский 1936: 78].
Однако несмотря на все мыслимые и немыслимые теоретические и практические трудности перевода, последний остаётся чрезвычайно важным элементом сотрудничества культур и развития каждой из них. В.Г. Белинский был прав, когда утверждал, что через Жуковского россияне научились понимать и любить Шиллера как бы своего национального поэта, говорящего русскими звуками, русской речью. Перевод – это часто новая литература. «…Переводной любовный роман, становясь русским текстом тоже, превращается в жанр современной русской литературы и тем самым оказывает влияние на русскую ментальность и менталитет» [Белянкин 1995: 20]. «Цивилизация есть суммарный итог различных культур, оживляемых общим духовным числителем, и основным её проводником <…> является перевод. Перенос греческого портика на широту тундры – это перевод» [Бродский 1999: 103]. Языковед В.М. Алпатов обратил внимание на влияние перевода рассказа И.С. Тургенева «Свидание» (из «Записок охотника») на развитие японского литературного языка. «Особенно важен оказался перевод не сюжетной части рассказа, а занимающего его значительную часть описания природы. Японская классическая литература не знала столь развернутого пейзажа и попытка передать его по-японски требовала и формирования новых языковых средств для этого» [Алпатов 1995: 100].
Проблема перевода остро встаёт уже на самом первом этапе сопоставления языков – в ходе создания двуязычных словарей. Современные лексикографы начинают придерживаться новой концепции двуязычного словаря как «краткой этнографически культурной энциклопедии» не только переводить, но и понимать слова. Об этом красноречиво говорит опыт X. Харальдссона, автора «русско-исландского словаря», который столкнулся с многими трудностями в поисках языковых эквивалентов. Так, по его мнению, непереводимо русское добро (из добро и зло), поскольку в исландском языке нет слова, соответствующего русскому добро в основном и наиболее общем значении. Русским существительным скала и холм в исландском соответствует десяток синонимов, что характеризует скорее не особенности исландского языка, а природу Исландии и жизнь человека в природе. Больше проблем возникло в связи со словами с более сложной семантической структурой – многозначными и широкозначными [Вестник МГУ. Серия 9. Филология. 1999. № 4: 148–153].
7.5. Язык и шедевры литературы
Особый теоретический интерес представляет опыт творчества на неродном языке, примеры которого достаточно многочисленны. Француз Адальберт Шамиссо (1781–1838), эмигрировавший в Германию, в 15 лет начал изучать немецкий язык, стал ученым-естествоиспытателем и немецким писателем, автором повести «Необычайная история Петера Шлемиля», принесшей ему всемирную известность.
Поляк Юзеф Теодор Конрад Коженёвский (1857–1924) известен как английский писатель, автор романа «Лорд Джим». Другой этнический поляк Гийом Альбер Владимир Александр Аполлинарий Костровицкий (1880–1918) стал знаменитым французским поэтом по имени Гийом Аполлинер.
Московский армянин Лев Тарасов (1911–1993), сын купца, был увезен из России в 1918 г. Во Франции стал писателем, известным под псевдонимом Анри Труайя. В 1938 г. получил Гонкуровскую премию, с 1959 г. член Французской академии. Перу этого писателя принадлежат 70 книг, половина из которых – о культуре России. Известна его серия биографий русских писателей.
Наш соотечественник Василий Яковлевич Ерошенко (1890–1952) вошёл в историю китайской литературы, признан как поэт в японском литературном мире. Его имя упомянуто в «Энциклопедии современной японской литературы».
В серии «Амурская библиотека поэзии» вышла книга стихов уникального «русского поэта китайского гражданства» Ли Янлена. Это единственный сегодня и второй в истории Китая поэт, пишущий стихи на русском языке. В 1994 г. в Благовещенске вышел сборник его стихов «Я люблю Россию» [Книжное обозрение. 1996. № 36. С. 4].
Французский поэт Анри Абриль (1947) недавно издал сборник на русском языке без перевода под названием «Русские стихи». Он перевел на французский язык Пушкина, Блока, Мандельштама, Тарковского, Цветаеву, Пастернака. Абриль – поэт, для которого оба языка, русский и французский, стали родными [Известия. 1996. 19 июня. С. 7].
В 1995 г. впервые в истории Гонкуровской премии, главной литературной премии Франции, ежегодно присуждаемой с 1903 г., ее удостоен российский писатель Андрей Макин за роман «Французское завещание», написанный на французском языке.
Логичен вопрос, может ли шедевр, великое художественное произведение быть написано не на родном языке. Двуязычный Пушкин, получивший в лицее прозвище Пушкин-француз и в дворянском быту по обыкновению того времени пользовавшийся французским языком, за редким исключением писал на русском языке. И.С. Тургенев, большую часть зрелой жизни проживший за рубежом, был уверен, что творить можно единственно на родном языке: «Как это возможно писать на чужом языке – когда и на своём-то, на родном, едва можешь сладить с образами, мыслями и т. д.» [Тургенев 1966: 86]. Письма Тургенева на французском, немецком и английском языках были, по признанию носителей этих языков, стилистически совершенны. Ему принадлежат стихотворения, тексты оперетт, критические этюды, детские сказки и куплеты по-французски и по-немецки, но всё это лежало на периферии его творчества, а шедевры писались только по-русски.
Выводы учёных, исследовавших иноязычные произведения великих и известных поэтов и писателей, практически совпадают: созданное на неродном языке заметно уступает тому, что сложилось на родном языке. Это обстоятельство пытаются объяснить тем, что человеку по-настоящему дано знать только один язык. Б. Шоу считал: «Не существует человека, который, хорошо зная свой родной язык, был бы способен овладеть другим» (Цит. по: [Алексеев 1984: 9]). Мнение Б. Шоу совпадает с выводом-советом великого русского писателя И. Бунина: «…Пишите на том языке, с которым родились и выросли. Двух языков человек знать не может. Понимаете, знать, чувствовать всякую мельчайшую мелочь, всякий оттенок… Что, можете вы, например, подмигнуть читателю по-французски?» (Цит.: [Адамович 1988: 183–184]).
Столь же категоричен и современный поэт А. Вознесенский: «Стихи – это то, что нельзя написать на чужом языке. Это – неподконтрольное. Это – высшее, где уже не материя, а дух языка кричит, не прикрытый коронным «приемом» автора, что иноязычно не выразить – ни Пушкину, ни Цветаевой, ни Рильке не сумели этого, – в стихах прорывается непереводимое, голое чувство, тоска, судьба, а не литература, вопит слово «выть» – такое редкое для хрустального интеллектуализма художника <…> Каждый, кто пробует писать стихи на неродном языке, расплачивается банальностью за кощунство. Для меня, например, это – святотатство, я никогда не писал стихов по-английски, если не считать пары шуточных» [Вознесенский 1989: 97].
Муки писателя, в зрелом возрасте меняющего язык творчества, описал В. Набоков, который в эмиграции перешёл на английский: «Совершенно владея с младенчества и английским и французским, я бы перешёл для нужд сочинительства с русского на иностранный язык без труда, будь я, скажем, Джозеф Конрад, который до того, как начал писать по-английски, никакого следа в родной (польской) литературе не оставил, а на избранном языке (английском) искусно пользовался готовыми формулами. Когда, в 1940 году, я решил перейти на английский язык, беда моя заключалась в том, что перед тем, в течение пятнадцати с лишним лет, я писал по-русски и за эти годы наложил собственный отпечаток на своё орудие, на своего посредника. Переходя на другой язык, я отказывался не от языка Аввакума, Пушкина, Толстого – или Иванова, няни, русской публицистики – словом, не от общего языка, а от индивидуального, кровного наречия. Долголетняя привычка выражаться по-своему не позволяла довольствоваться на новоизбранном языке трафаретами, – и чудовищные трудности предстоявшего перевоплощения, и ужас расставания с живым, ручным существом ввергли меня сначала в состояние, о котором нет надобности распространяться; скажу только, что ни один стоящий на определенном уровне писатель его не испытывал до меня» [Набоков 1990: 133]. Оценки англоязычного творчества самого В. Набокова противоречивы. А. Вознесенский считает английские стихи Набокова неудачными [Вознесенский 1989: 97], а другой поэт Евг. Витковский назвал чуть ли не лучшим стихами XX в. поэму, которой начинается английский роман В. Набокова «Бледное пламя».
Психолог Б.Г. Ананьев объясняет этот феномен законом психической асимметрии: ведущим языком билингва является тот, в котором проявляется наибольшее соответствие между мышлением и языковыми средствами. Остальные языки функционально слабее, и им отводится подсобная роль [Ананьев 1966]. Установлено, что в освоении материнского языка участвуют оба полушария, а в освоении любого следующего – в основном левое.
Существует, однако, и прямо противоположное мнение. Например, русская писательница Н. Берберова рассуждает так: «За последние 20–30 лет в западной литературе, вернее – на верхах её, нет больше «французских», «английских» или «американских» романов. То, что выходит в свет лучшего, становится интернациональным. Оно не только тотчас же переводится на другие языки, оно часто издаётся сразу на двух языках, и – больше того – оно нередко пишется не на том языке, на котором оно как будто должно было писаться. В конце концов становится бесспорным, что в мире существует по меньшей мере пять языков, на которых можно в наше время высказать то, что хочешь, и быть услышанным. И на каком из них это будет сделано – не столь уж существенно» [Берберова 1990: 546–547]. Правда, десятью страницами ниже Н. Берберова с горечью пишет о «безвоздушном пространстве» (отсутствии страны, языка, традиций).
Писать на чужом языке можно, но можно ли создать на нём великое произведение – вопрос остаётся открытым. Убедительного примера пока еще нет. Думается, что великое художественное произведение – это энциклопедия духовной жизни этноса, народа, общества, рассредоточенной в каждом отдельном слове и в каждой идиоме. Авторитетные комментаторы «Евгения Онегина» (В.В. Набоков, Ю.М. Лотман) убедительно об этом свидетельствуют.
7.6. Лингвокультуроведение как комплекс наук о связи языка и культуры
Тезис известного российского лингвиста Г.О. Винокура о том, что «всякий языковед, изучающий язык <…> непременно становится исследователем той культуры, к продуктам которой принадлежит избранный им язык» [Винокур 1995: 211], – подтверждается историей лингвистической мысли, начиная со времени, когда языковедение стало самостоятельной областью научных знаний.
Об активном и конструктивном свойстве языка и его способности воздействовать на формирование народной культуры, психологии и творчества определенно говорили И. Гердер (1744–1803) и В. фон Гумбольдт (1767–1831). Исследования В. Гумбольдта, собранные в томе «Язык и философия культуры» (М.: Прогресс, 1985), свидетельствуют о том, что великий мыслитель и языковед заложил лингвистический фундамент для объединения наук о культуре. Гумбольдт стремился выработать метод, с помощью которого можно было бы подойти к изначальному единству языка и мышления, а также феноменов культуры.
Разработка проблемы «Язык и культура» в первые десятилетия XIX в. связана с именами братьев Гримм, создателей мифологической школы, получившей развитие в России в 60—70-х годах XIX в. в трудах Ф.И. Буслаева, А.Н. Афанасьева и А.А. Потебни. Важность культурологического подхода во многих областях языкознания и прежде всего в лексикологии и этимологии продемонстрировала австрийская школа, известная под именем «Слова и вещи».
А.А. Потебня (1835–1891) сформулировал доминантную для своего научного творчества идею о языковой деятельности человека как о творческом познании мира и об изначальной «художественности» этого процесса: «Слово только потому есть орган мысли и непременное условие всего позднейшего развития понимания мира и себя, что первоначально есть символ, идеал и имеет все свойства художественного произведения» [Потебня 1990]. Слово, по Потебне, «соответствует искусству, причем не только по своим стихиям, но и по способу их соединения» [Потебня 1990: 26–27]. Как в слове различаемы три элемента (звучание, значение и внутренняя форма), так и во всяком поэтическом произведении им соответствуют три такие же элемента [Потебня 1989: 228].
Пожалуй, никто из известных лингвистов так много и плодотворно не занимался проблемой «Язык и культура», как знаменитый американский лингвист и культуролог начала XX в. Э. Сепир (1884–1939). Наиболее ценные лингвокультурологические идеи ученого изложены в его «Избранных трудах по языкознанию и культурологии» (М.г 1993).
Э. Бенвенист (1902–1976) сформулировал антропоцентрический принцип в языке: язык создан по мерке человека, и этот масштаб запечатлен в самой организации языка, в соответствии с ним язык и должен изучаться. Одна из частей главной книги французского лингвиста «Общая лингвистика» озаглавлена «Человек в языке», а завершается она разделом «Лексика и культура», в котором поставлена и скрупулезно исследуется проблема культуроведческого подхода к слову. «Мы только начинаем понимать, какой интерес представляло бы полное описание истоков <…> словаря современной культуры» [Бенвенист 1974: 386].
Немало плодотворных мыслей о связи языка и культуры высказано академиком Н.И. Толстым (1923–1997). По его мнению, дальнейшее развитие исторических фразеологических исследований может быть плодотворно лишь при условии серьезного внимания к языку как вербальному коду культуры и к языку как творцу культур [Толстой 1995: 24].
В конце XX столетия проблема «Язык и культура» перемещается в центр исследовательского внимания и становится одним из приоритетных направлений в развитии науки о языке. Единая антропологическая направленность современной лингвистики обнаруживает когнитивный и культурологический аспекты. Если ранее связь языка и культуры рассматривалась в известной мере как факт важный, но в целом второстепенный, то теперь эта связь изучается специально.
Совокупность культурно-языковой проблематики называется лингвокультуроведением. Это не специальная наука, а направление, область, поле, разрабатываемое комплексом лингвокультуроведческих дисциплин.
Лингвокультурологические дисциплины находятся в иерархических отношениях, различаясь степенью обобщенности своего основного предмета. «Первичными» (не по времени формирования, а по степени эмпиричности своего материала) являются те дисциплины, которые исследуют взаимодействие одной из форм общенародного языка с той или иной формой материальной, духовной и художественной культуры. Примером может служить лингвофольклористика, которая исследует взаимосвязь явлений языка фольклора, скажем, русского этноса с духовной и/или художественной культурой этого же этноса. В последние годы о себе заявила и такая «первичная» научная дисциплина, как этнодиалектология, ориентированная на изучение взаимодействия диалектной формы языка с элементами духовной культуры этноса. В центре собирательского и исследовательского интереса оказываются семейная и календарная обрядность, демонологические рассказы, магия слова и действия. Записывается несказочная проза, заговоры и заговорные формулы, собираются приметы, пословицы, поговорки, загадки, присловья, прозвища, лексика обрядовой одежды и пищи; фиксируются обрядовые игры, а также игры, утратившие связь с обрядом и перешедшие в разряд необрядовых или детских [Дранникова 2000]. В наши дни складываются и другие, пока что безымянные дисциплины. Например, в книге Н.Б. Мечковской «Язык и религия» (М., 1998) представлены результаты анализа связи литературной формы языка с религией как видом духовной культуры.
Все «первичные» дисциплины входят в состав этнолингвистики. Этнолингвистика призвана исследовать взаимосвязь явлений конкретного языка (например, русского) с фактами русской же культуры, изучать все случаи влияния этнической ментальное™ на структуру и квантитативные характеристики общенародного языка, отражения в лексиконе языка фактов истории народа, элементов материальной, духовной и художественной культуры. Этнолингвистика – это более высокий уровень лингвокультуроведческого обобщения. Суммируя факты и идеи «первичных» дисциплин, она выявляет механизмы взаимодействия языка и культуры в культурной и языковой деятельности конкретно рассматриваемого народа как в синхронии, так и в диахронии. Этнолингвистик, по нашему убеждению, может быть столько, сколько существует языков и культур, базирующихся на этих языках. Разумеется, они (этнолингвистики) могут быть частными и сравнительными.
Центральное место занимает лингвокультурология, цель которой – обобщение всей информации, накопленной этнолингвистикой (этнолингвистиками) и входящими в неё (в них) дисциплинами, выявление механизмов взаимодействия языка и культуры. Объект лингвокультурологии – язык и культура. Предметом являются фундаментальные вопросы, связанные с преобразующей стороной связи языка и культуры: изменения языка и его единиц, обусловленные динамикой культуры, а также преобразования в структуре и изменения в функционировании культуры, предопределенные языковой реализацией культурных смыслов.
Лингвокультурологию интересуют не описания конкретных примеров взаимодействия отдельных явлений культуры с тем или иным языковым явлением (это предмет более частных лингвокультуроведческих исследований и дисциплин), а выявление механизмов взаимодействия, взаимовлияния двух фундаментальных феноменов, обусловливающих феномен человека. Лингвокультурология в пределах лингвокультуроведения соответствует статусу общего языкознания в системе наук о языке. Как и общее языкознание, лингвокультурология выявляет и описывает наиболее общие закономерности взаимодействия, взаимообусловленности, языковой и культурной деятельности человека и общества.
Образцом лингвокультурологического анализа могут служить работы Э. Сепира. Опираясь на факты, извлеченные из множества языков – классических, европейских, индейских и др., – американский учёный сформулировал вопросы, до сих пор составляющие ядро лингвокультурологической теории: что такое культура; что возникает раньше – язык или культура; что общего у языка и культуры; как развиваются языки и культуры; существует ли корреляция форм языков и форм культуры; роль лингвистики в изучении истории и теории культуры и т. д. и т. п. [Хроленко 2000: 67–71].
Исследовательской базой лингвокультурологии традиционно являются словари, особенно диалектные и исторические. Параллельно со становлением лингвокультурологии как научной и учебной дисциплины складывается и лингвокультуроведческая лексикография, началом которой справедливо считают «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля (1863–1866).
Культуроведческие словари призваны систематизировать ценности культуры, выраженные в понятиях, называемых культурными концептами. Примером такого лексикографического труда может служить словарь, единицами описания которого стали концепты типа «любовь», «вера», «правда», «слово», «душа», «интеллигенция» и т. п. [Степанов 1997]. Необходимость полноценного изучения русской литературной классики предопределило появление словаря культуроведческой лексики русской классики по литературным произведения школьной программы [Бирюкова 1999]. В нём представлены «национально-характерные» слова художественного произведения – русские и иноязычные этнографизмы (бадья, сакля, боливар), историзмы (аршин, стряпчий, мюрид), религиозная лексика (алтарь, кутья, хоругвь), мифологическая и античная лексика (леший, домовой; грация, марс, фемида).
Благодаря усилиям лингвистов складывается система лингвокультуроведческих дисциплин с лингвокультурологией в центре. Лингвокультурологи имеют в виду прежде всего влияние культуры на язык и всё внимание уделяют языку как аккумулятору культурных смыслов, хотя союз и в формулировке проблемы «Язык и культура» предполагает взаимовлияние – «участие языка в созидании духовной культуры и участие духовной культуры в формировании языка» [Постовалова 1999]. Возникает законный вопрос о том, кто должен и может исследовать «участие языка в созидании духовной культуры». Это предмет некой новой дисциплины или системы дисциплин, в которой ведущую роль должны сыграть культурологи, разумеется, при активном участии лингвистов.
Дополнительная литература
Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов / Пер. с англ. – М., 2001.
Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании языка как иностранного. – М., 1990.
Воробьёв В.В. Лингвокультурологическая личность. – М., 1996.
Мамонтов А. С. Язык и культура: Сопоставительный аспект изучения. – М., 2000.
Маслова В.А. Лингвокультурология: Учеб. пособие. М., 2001.
Мечковская Н.Б. Язык и религия. – М., 1998.
Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры: Опыт исследования. – М., 1997.
Хроленко А.Т. Лингвокультуроведение. – Курск, 2000.
8. Язык и общество. Предмет, задачи и проблемы социолингвистики
8.1. Язык, народ, история
Язык возникает, существует и развивается, выполняя коммуникативную, экспрессивную (выразительную), конструктивную (формирование мышления) и аккумулятивную (накопление общественного опыта) функции. Функционирование языка возможно только в коллективе его носителей. И, следовательно, рассмотреть функциональную сторону языка можно, лишь учитывая социальные факторы. «…Слово только в устах другого может стать понятием для говорящего… язык создаётся только совокупными усилиями многих… общество предшествует языку» [Потебня 1989: 95]. Даже уединенная работа мысли может быть успешной только на значительной ступени развития и при пользовании некоторыми суррогатами общества (письмом, книгами) [Потебня 1989: 225].
Проблема соотношения языка и общества – одна из коренных проблем языкознания. Всё, что создано человеком, было бы невозможно без языка. Язык не только способствует цивилизации, но и отражает в себе жизнь народа, он становится своеобразным памятником культуры. «В сокровищницу родного слова складывает одно поколение за другим плоды глубоких сердечных движений, плоды исторических событий, верования, воззрения, следы прожитого горя и прожитой радости, словом, весь след своей духовной жизни народ бережно сохраняет в народном слове» [Ушинский 1968: 327–328]. Справедливо полагают, что изучение лексики, семантики языка в сочетании с хорошим знанием предметной области уточняет внеязыковые знания.
Изучение истории невозможно без обращения к языку, в котором чрезвычайно достоверно и образно отразился весь пройденный народом исторический путь. Об этом же писал выдающийся русский языковед И.И. Срезневский: «Каждое слово для историка есть свидетель, памятник, факт жизни народа, тем более важный, чем важнее понятие, им выражаемое. Дополняя одно другим, они все вместе представляют систему понятий народа, передают быль о жизни народа» [Срезневский 1959: 103]. Историк Б.Д. Греков утверждал, что, если бы мы могли познать жизнь слов, перед нами раскрылся бы мир во всей сложности своей истории. Простое сравнение словаря в различные эпохи даёт возможность представить характер народа. «За словами, как за прибрежной волной, чувствуется напор целого океана всемирной истории» (А.И. Герцен). Широко известно высказывание А. Франса о словаре как вселенной в алфавитном порядке. Известно, что словарь – это бесстрастное зеркало, отражающее жизнь общества. В словаре показательно всё – лексика, которая включена, и лексика отсутствующая, лексемы частотные и слова редкие и редчайшие.
Известный философ К. Ясперс считает: «К истории мы относим всё то время, о котором мы располагаем документальными данными. Когда нас достигает слово, мы как бы ощущаем почву под ногами. Все бессловесные орудия, найденные при археологических раскопках, остаются для нас немыми в своей безжизненности. Лишь словесные данные позволяют нам ощутить человека, его внутренний мир, настроение, импульсы. Письменные источники нигде не датируются ранее 3000 г. до н. э. Следовательно, история длится около 5000 лет» [Ясперс 1991: 55–56].
8.2. Становление социолингвистики
Связь языка и общества не сразу стала предметом специального научного исследования. И.А. Бодуэн де Куртенэ, Ф.Ф. Фортунатов, А.А. Шахматов и другие русские лингвисты неоднократно высказывали мысль о настоятельной необходимости создания так называемой внешней лингвистики, под которой понималась вся совокупность связей языка с экстралингвистическими явлениями.
В 1894 г. вышла в свет книга П. Лафарга «Язык и революция» (русский перевод в 1930 г.), в которой анализировались факты влияния Великой французской революции на язык нации. Большой вклад в развитие внешней лингвистики внесла социологическая школа А. Мейе. Основной постулат школы сводится к тому, что социальные факторы, а не психологические процессы и внутренние сдвиги в контексте заставляют изменяться значения слов. В становлении новой области лингвистики значительную роль сыграли исследование A. Соммерфельта «Язык и общество» (1938), указавшее на связь между типом человеческого мышления, общественным укладом и типом языка, работы учёных Пражского лингвистического кружка по проблеме литературного языка, а также деятельность Т. Фрингса, основателя лейпцигской школы исторической диалектологии. Основной пафос коллективной работы лингвистов – определение непосредственной связи языкового процесса с процессами политическими и культурно-историческими [Чемоданов 1975].
Значителен научный вклад отечественной социальной лингвистики в 20—30-е гг., когда время коренных социальных преобразований поставило перед обществом и перед языковедами трудные теоретические и практические задачи языкового строительства как части так называемой культурной революции. Отечественные языковеды стали руководствоваться высказываниями классиков марксизма-ленинизма о социальной обусловленности языка. Работы Н.Я. Марра,
B. М. Жирмунского, Л.П. Якубинского, А.И. Селищева, Е.Д. Поливанова, Б.А. Ларина, P.O. Шор, Г.В. Винокура, В.В. Виноградова и др. заложили основы новой языковедческой дисциплины – социолингвистики. Сам термин появился много позже (впервые был употреблен в 1952 г., но только в 1963 г. определилось направление исследований в этой сфере, сформировался комитет по социолингвистике и состоялась конференция американской антропологической ассоциации).
Американская социолингвистика стала развиваться в двух направлениях: а) лингвистическом, когда изучается сам язык, и б) этнографическом, когда исследуется ситуация, в которой происходит общение, – этнография речи, или определение этнографического контекста. Разграничивают также микросоциолингвистику (изучение личной коммуникации говорящих) и макросоциолингвистику (изучение совокупностей людей и больших социальных проблем). В компетенции макросоциолингвистики – проблемы языкового обследования больших групп населения (например, английский язык американских негров), билингвизм, образование контактных языков – пиджинизация и креолизация, конвергенция (схождение) языков, языковое планирование.
Первая вузовская программа по социальной лингвистике была составлена проф. В.Д. Бондалетовым в 1974 г. По ней был прочитан спецкурс для вузовских преподавателей в Ленинграде. Первое в СССР учебное пособие по этому курсу для факультетов русского языка и литературы было написано также В.Д. Бондалетовым (издано в первом варианте в 1984 г., основной вариант вышел в свет в Москве в 1987 г.). В этом исследовании чётко и перспективно очерчена предметная область социолингвистики, раскрыто содержание общей, синхронической и диахронической социолингвистики, прослежена история русского языка в социолингвистическом аспекте, предложено продуктивное решение таких актуальных теоретических и практических вопросов, как периодизация истории отечественной социолингвистики, характеристика форм существования языков народностей и наций, типов билингвизма, видов диглоссий и др. Так, разработанная В.Д. Бондалетовым систематика диглоссий (более ста разновидностей) признана наиболее детальной и с успехом применяется при оценке языковых ситуаций в странах Европы, Азии, Африки и Америки.
В.Д. Бондалетов предложил периодизацию отечественной социолингвистики с учётом содержания и методов исследования; им выделены три этапа. 1) Зарождение социологической лингвистики в советском языкознании (20—40-е гг.). На этом этапе решались такие вопросы, как социальная дифференциация языка, социальная диалектология, национальная политика в языковом строительстве. 2) Советская социальная лингвистика в 50—60-е гг. (уточнение и расширение предметной области социолингвистики). 3) Современный период социальной лингвистики (конец XX – начало XXI в.) с его системным подходом к изучению языковых и социальных факторов.
8.3. Цели, задачи и проблематика социолингвистики
Социолингвистика (социальная лингвистика) – это направление языкознания, изучающее общественную обусловленность строения, возникновения, развития и функционирования языка, воздействие общества на язык и языка на общество [Бондалетов 1987: 10, 16–17]. В центре её внимания – причинные связи между языком и фактами общественной жизни. Социолингвистика интересуется тем, во-первых, как социальный фактор влияет на функционирование языков, во-вторых, как он отражается в языковой структуре и, в-третьих, как взаимодействуют языки. Социолингвистика – это своеобразный сплав социологии, социальной психологии, этнографии и лингвистики, при этом в центре внимания находится не столько сам язык как таковой, сколько его носители.
В социолингвистике наметились следующие направления: 1) общая социолингвистика; 2) синхроническая социолингвистика; 3) диахроническая социолингвистика; 4) проспективная социолингвистика (лингвистическая футурология); 5) прикладная социолингвистика; 6) сопоставительная социолингвистика; 7) социопсихолингвистика и др.
Социолингвистика разрабатывает свои методы и методики. Основным исследовательским методом социолингвистики является корреляция языковых и социальных явлений. Она дополняется и усиливается такими приёмами, как анкетирование, использование данных статистики и переписи населения [Аврорин 1975].
В структуралистском языкознании отчётливо намечалась тенденция к отказу от социолингвистических исследований, поскольку внимание структуралистов было обращено прежде всего на имманентные (внутренние) свойства языковой системы как таковой, в отвлечении её от связей с человеком, обществом, мышлением и другими экстралингвистическими факторами. Это сужает возможности познания «собственных» законов построения языка и потому обусловливает неадекватность лингвистического описания. Взаимоотношение социологической и структурной лингвистики – сложная проблема. Методически возможно при описании системы языка отвлекаться от экстралингвистических факторов, но объяснение системы только на основе её внутренних законов – вещь трудная, если не сказать невозможная, так как в целом существование языка, его назначение и функции в обществе обусловлены причинами социальными. Ф.П. Филин справедливо заметил: «Общественные функции языка не являются лишь чем-то внешним относительно его структуры, системных связей, закономерностей его развития. Нельзя себе представить, что язык как структура – это одно, а его использование в обществе – это совсем другое» [Филин 1966: 39].
Важным вопросом социолингвистики является вопрос о том, что считать в языке социальным: или его связь с экстралингвистическими факторами (влияние общественных явлений), или самую природу языка. Второй подход считаем более правильным. Признавая социальную природу самой языковой системы, необходимо иметь в виду неодинаковую социальную обусловленность разных её ярусов. Если лексический ярус обнаруживает прозрачную связь с жизнью общества, то фонологический ярус связан с нею опосредованным образом.
Было бы серьёзной ошибкой отыскивать для каждого языкового факта прямую связь с общественным явлением. В своё время это привело Н.Я. Марра и его ортодоксальных последователей к вульгаризаторским выводам. Ф. Энгельс в письме к Й. Блоху вполне определенно утверждал: «Едва ли удастся кому-нибудь, не сделавшись посмешищем, объяснить экономически… происхождение верхненемецкого передвижения согласных».
Однако «социальный фактор, который с первого взгляда кажется внешним по отношению к системе языка, в действительности органически связан с ней» [Курилович 1962: 19]. В языке всё социально постольку, поскольку язык не может ни развиваться, ни использоваться вне общества. Слово – своеобразный барометр социальных изменений. М.М. Бахтин писал о социальном вездесущии слова: «В слове реализованы бесчисленные идеологические нити, пронизывающие собою все области социального общения. Вполне понятно, что слово будет наиболее чутким показателем социальных изменений, притом там, где они ещё только назревают, где они ещё не сложились, не нашли ещё доступа в оформившиеся и сложившиеся идеологические системы… Слово способно фиксировать все переходные, тончайшие и мимолетные формы социальных изменений» [Волошинов 1928: 26].
Всё сказанное свидетельствует о необходимости этого раздела языкознания. Использование результатов лингвосоциологического обследования позволяет получить «наиболее осязаемые, объективные данные для более глубокого проникновения в природу собственно социальных особенностей данного человеческого коллектива» [Принципы и методы лексикологии 1971: 12].
Основная общетеоретическая проблема социолингвистики – исследование природы языка как социального явления, его места и роли в общественном развитии – включает немало более частных, конкретных вопросов, часть которых рассматривается далее.
Дополнительная литература
Белл Р.Т. Социолингвистика. – М., 1980.
Бондалетов В.Д. Социальная лингвистика: Учебное пособие. – М., 1987.
Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика, изд. 2-е, испр. – М., 2000.
Шагаль В.Э. Арабские страны: язык и общество. – М., 1998.
Юсселер М. Социолингвистика / Пер. с нем. – Киев, 1987.
9. Социальная дифференциация языка
9.1. Пространственно-временной аспект дифференциации языка
До сих пор понятия «язык» и «общество» мы рассматривали нерасчлененно, в целом, но человеческое общество, будучи в принципе целостным, социально неоднородно: оно распадается на классы и различные возрастные, профессиональные и иные группы. Неоднородность общества приводит к дифференциации речевых и языковых средств. Это явление принципиальное, постоянное, изначальное. Академик Л.В. Щерба писал о том, что язык дробится на очень маленькие ячейки вплоть до семьи. «Все слова пахнут профессиями, жанром… определенным человеком, поколением, возрастом, днём и часом», – говорил М.М. Бахтин [Бахтин 1975: 106]. В основе неоднородности языка лежит ориентированность каждого слова на собеседника. Давно уже известно, что слово – акт двусторонний: оно в равной степени определяется как тем, чьё оно, так и тем, для кого оно. И даже в своём внутреннем мире и мышлении каждый человек обращается к некой аудитории, с учётом которой он строит свои внутренние доводы, объясняет мотивы и аргументирует оценки [Волошинов 1928: 101].
Замечено, что в языковом развитии постоянно сосуществуют тенденции дифференциации и интеграции. Неоднородность общества в классовом, половом, возрастном, профессиональном и культурном отношении приводит к расслоению языка на подсистемы, но основная функция языка как средства общения в пределах всего коллектива обусловливает единство языка.
Лингвистами давно описаны два основания дифференциации, – пространство и время. Отмечена зависимость: чем больше территория бытования языка, тем вероятнее, что он расщепится на варианты, получившие в науке название территориальных диалектов. Возникновение диалектов и сохранение диалектных различий обусловлено причинами конкретно-историческими и географическими. Основной причиной территориальной неоднородности языка диалектологи считают экономический, культурный и географический регионализм (областную ограниченность). Если множество языков в Новой Гвинее объясняют гористым рельефом территории, то многоязычие тропической Африки, где гор практически нет, объясняют иными географическими причинами. Известна идея антрополога-лингвиста из Оксфорда Д. Наттла: число языков растет к экватору (это подметили и другие), вторая закономерность – прямая корреляция между числом языков в районе и продолжительностью дождливого сезона: где дожди идут 11 месяцев – 80 языков в квадрате в несколько тысяч квадратных миль, севернее, в сухих саванах, на эту площадь приходится три языка. В пограничных Нигере и Нигерии, странах с одинаковой площадью, насчитывается 30 и 430 языков соответственно [Знание – сила. 1998. № 5. С. 86].
Диалектные различия возникают в первобытном обществе, когда несоответствие обширных пространств и сравнительно небольшого населения и нерегулярность отношений приводили к обособленности племён. Ф. Энгельс писал: «Население в высшей степени редко; оно гуще только в месте жительства племени; вокруг этого места лежит широким поясом прежде всего территория для охоты, а затем нейтральная полоса леса, отделяющая племя от других племён и служащая ему защитой» [Маркс, Энгельс: 21: 159].
В эпоху рабовладельчества появление городов как центров экономической, политической и культурной жизни и возникновение обширных рабовладельческих империй в известной мере ограничивало диалектную раздробленность и стимулировало процессы унификации. Эта тенденция проявлялась и в эпоху феодализма, хотя ей противостояла обособленность феодальных территорий. В эпоху развитого феодализма процессы диалектообразования прекращаются и складываются условия для образования литературных языков, языков народностей и национальных языков.
Диалектная раздробленность в какой-то мере компенсировалась возникновением обобщенных типов устной речи: устно-поэтических койне (койне – язык, служащий средством междиалектного общения для разноязычных групп и возникающий на базе одного или нескольких диалектов), городских койне, языков межплеменного общения [Десницкая 1970]. «Диалектные явления могут возникать, накапливаться и складываться в дифференциальные системы только при условии отсутствия в данной языковой среде (или при недостаточном влиянии) обобщенных и в известной мере стандартизированных типов народно-разговорной речи» [Десницкая 1970—2: 352].
Строго говоря, не территория причина многообразия языка, его дифференциации, а то, что всегда с ней связано, – обособленность. Польский лингвист Б. Вечоркевич писал: «Достаточно, чтобы какая-нибудь социальная среда осталась на определенное время изолированной от общества, будь то эмиграция или тюрьма, как уже в языке этой среды начинают вырисовываться сначала незначительные, а с течением времени всё возрастающие различия» [Вечоркевич 1969: 52]. На ослабление коммуникации как причину образования диалектных различий указывал французский исследователь А. Мартине: «Если в один прекрасный день граждане Советского Союза откроют обсерваторию на Луне, то едва ли возникнет особый лунный диалект русского языка, при условии, конечно, что между Луной и Землей будет поддерживаться постоянная связь» [Мартине 1963: 512].
Время – тоже существенное условие для дифференциации языка: «Каждый век (в частных письмах) говорит своим языком. Каждое сословие. Каждый человек» [Розанов 1990: 134]. Многие исследователи видят причину языковых изменений в смене поколений. Бодуэн де Куртенэ одним из первых обратил внимание на то, что разные по возрасту группы населения различаются между собой своим языком, вернее, целым рядом лексических и грамматических особенностей речи. Так, у австралийских аборигенов есть язык, на котором говорят юноши в течение нескольких лет после инициации (обряда посвящения юношей в разряд взрослых мужчин). Это пример того, как народ со сравнительно невысоким развитием может создать столь изощренный интеллектуальный продукт [Знание – сила. 1998. № 5. С. 87].
9.2. Язык и социальная позиция человека
Строго говоря, и территориальные диалекты, и возрастные подсистемы – это социальная дифференциация, так как территориальные диалекты – это язык прежде всего крестьянства, а возрастные подсистемы характерны для определенных социальных групп населения. Отмечалось, что в процессе возникновения наций территориальные диалекты превращаются в территориально-социальные. В этом отношении характерно возникновение старообрядческих говоров. Три века тому назад в результате церковной реформы Никона часть русского народа откололась от основной массы этноса и под девизом «Не убавь, не прибавь!», испытывая гонения и находясь в социальной изоляции, хранит чистоту старых книг, старообрядческой жизни и языка. В 1995 г. в Институте русского языка РАН прошла конференция «История и география русских старообрядческих говоров». Лингвисты планируют создание атласа старообрядческого населения – поморского Севера, Витебгцины (Беларусь), д. Гуслицы Егорьевского р-на Московской области, а также Дона.
В отличие от социальной в предельно широком смысле дифференциации следует рассматривать и социальную в узком смысле, куда включается язык (речь, подсистемы, диалекты) групп населения без специального учёта территориального распространения и возрастного ценза. Прежде всего, это классовая, групповая, тендерная (по полу) и профессиональная дифференциация. Социальные подсистемы (разновидности) языка принято называть социальными диалектами (социолектами).
Языковая выраженность социальной позиции человека хорошо видна в системе японского языка, сформировавшегося в условиях жесткой сословной структуры общества. Говорящий всегда выражает либо своё подчиненное положение, либо превосходство по отношению к собеседнику. Это возможно благодаря специальным префиксам, суффиксам, определенным словам. Одна группа существительных, местоимений, глаголов употребляется только по отношению к нижестоящему, другая – к вышестоящему, третья – только по отношению к равным. Скажем, раньше местоимение «я» имел право употреблять только император. Ныне местоимение «я» имеет несколько разновидностей, которые употребляются в зависимости от ситуации, пола, возраста, социального статуса общающихся. Совсем недавно в японском языке было 16 слов для обозначения «вы» и «ты». И сегодня в нём до десяти форм личного местоимения второго лица единственного числа при обращении к детям, ученикам, слугам. Существует девять слов для обозначения понятия «отец», одиннадцать – «жена», семь – «сын», девять – «дочь», семь – «муж». Правила употребления каждого слова диктуются социальным окружением и связаны с традиционными устоями жизни [Пронников, Ладанов 1985: 221–222, 261].
Японский язык не исключение. На острове Тонга (Полинезия) существует «трехслойный» язык: с королём, знатью и простым народом говорят по-разному. Сорок миллионов человек на о. Ява в Индонезии пользуются яванским языком. Здесь в зависимости от социального и служебного положения, а также возраста используются две основные разновидности этого языка: кромо («вежливый») и нгоко («простой»). На языке кромо говорят социально ниже стоящие в разговоре с социально выше стоящими, молодые – со старшими, дети – с родителями, незнакомые – друг с другом (при вежливом тоне разговора), в письмах. Нгоко используют родители в разговоре с детьми, старшие – с молодыми, супругами, хорошими друзьями и знакомыми. В разговоре с высокопоставленными лицами используется особая форма кромо-ингил «высокий кромо». До 20-х годов за нарушение правил использования разновидностей языка грозил штраф и заключение под стражу. В языке нутка племени американских индейцев существует специальный вариант, который используют при разговоре с горбатыми, карликами, одноглазыми людьми и с иностранцами [Наука и жизнь. 1994. № 9. С. 41–42].
9.3. Язык и классы общества
Попытка Н.Я. Марра объявить язык, как и общество, явлением классовым со всеми вытекающими отсюда последствиями, подверглась справедливой критике. Язык – не классовое, а особое общественное явление, обслуживающее общество в целом, все его классы. Само собой разумеется, что классы к языку относятся небезразлично. А.А. Потебня писал: «При разделении классов общества и по языку, самые звуки речи высшего класса считаются обязательным эвфемизмом, и наоборот, звуки простонародной речи представляются оскорбляющими приличия» [Потебня 1905: 471–472]. Класс может иметь свой языковой идеал. Это заметил К. Маркс: «…Кромвель и английский народ воспользовались для своей буржуазной республики языком (подчеркнуто нами. —А.Х.), страстями и иллюзиями, заимствованными из Ветхого завета» [Маркс, Энгельс: 8: 120].
Классовый подход к языку приводит к социальной дифференциации языка. При этом следует иметь в виду, что нет линейной связи между определенными представителями классов и конкретными формами социальной дифференциации языка, хотя предпочтения явны. Журналист-международник Вс. Овчинников заметил, что «самым безошибочным клеймом класса» англичане считают язык, особенно выговор как указатель социальной принадлежности человека. Обретенное произношение указывает на принадлежность к избранному кругу. Этот особый выговор можно обрести лишь в раннем возрасте в публичных школах, а затем окончательно отполировать его в колледжах Оксфорда и Кембриджа. Это произношение не тождественно стандартному («правильному») выговору. Британия, замечает журналист, возможно, единственная страна, где дефекты речи и туманность выражений служат признаками принадлежности к высшему обществу» [Овчинников 1979: 226]. (Подробнее о языке английской аристократии см.: [Ивушкина 1997].)
Американские социолингвисты отмечают, что в ответ на появление в США иммигрантских групп трудящихся, заявляющих права на привилегии коренных членов общества, рабочие из числа имеющих постоянную работу и низшие слои среднего класса постоянно видоизменяют своё языковое поведение, стараясь подчеркнуть свойственные им особенности речи [Лабов 1976: 22]. В различных социальных группах американских студентов отмечены синтаксические и фонетические проявления социальных различий. Социальная окраска слова определяет его лингвистическое употребление. Развитие синонимических рядов – результат стремления повысить социальный статус.
9.4. Гендерлекты («мужские» и «женские» языки)
В лингвистической и этнографической литературе описаны случаи дифференциации речи по половому признаку в ряде языков Америки и Кавказа – так называемые «мужские» и «женские» языки.
В статье «Мужской и женский варианты речи в языке яна» (языке карибских индейцев в Северной Калифорнии) Э. Сепир пишет: «…Женские и мужские речевые варианты в языке яна ведут происхождение из двух психологически отличных источников… В подавляющем… большинстве случаев женские варианты лучше всего могут быть объяснены как сокращенные формы, с точки зрения своего происхождения не имеющие ничего общего с полом, но представляющие собой обособившиеся варианты или редуцированные формы, мотивированные фонетической и морфологической экономией языка. Возможно, редуцированные женские формы являются условными символами менее центрального или менее ритуально значимого статуса женщин в обществе. Мужчины, общаясь с мужчинами, говорят более полно и неторопливо; когда в общении участвуют женщины, предпочтительным оказывается укороченный способ произнесения! Такое объяснение правдоподобно, однако женские формы в яна ныне представляют собой сложную и совершенно формализованную систему, во многих отношениях противопоставленную параллельной системе форм, употребляемых при обращении мужчин к мужчинам» [Сепир 1993: 461]. Трудно объяснить, почему у чукчей звуку [р] в мужской речи соответствует обычно звук [ц] в женской [Наука и жизнь 1994: № 9: 42]. Польский писатель Ян Парандовский замечает: «У карибов соблюдение святости слова зашло так далеко, что по-карибски могут говорить только мужчины, а женщины пользуются другим языком – аравакским» [Парандовский 1972: 133]. В наши дни в одном из этнических районов Грузии – Тушетии – отмечен особый женский тушетский диалект [Коме, правда 1982: 7 окт.].
Как сообщают учёные, дифференциация языка по полу могла заходить так далеко, что создавалась особая женская письменность. В отдаленном районе китайской провинции Хунань в 1956 г. языковеды обнаружили группу женщин, которые использовали знаки письма, резко отличающиеся от общепринятых. Знаки (600 иероглифов) передавались от матери к дочери и были совершенно непонятны мужчинам. Полагают, что это реликт письменности, которая в 221 г. до н. э. была заменена «официальными» иероглифами. Мужчины быстро освоили новый официальный язык и письменность, в то время как отстраненные от образования и не участвующие в деловой жизни женщины продолжали пользоваться старыми знаками письма и постепенно создали собственный язык.
Это всё примеры из «экзотических» языков, но самое интересное заключается в том, что предварительное обследование языка дикторов ряда европейских стран – мужчин и женщин, выступающих импровизированно, например, в интервью, показало, что речь мужчин и женщин различается в плане выбора лексических единиц и синтаксических конструкций. Дифференциация речи мужчин и женщин дикторов не является каким-то профессиональным феноменом. Это свойственно всему народу, хотя внешне не очень заметно и выявляется в ходе специального исследования.
Установлено, что в общении, скажем, современных венгров существует чёткая дифференциация мужских и женских обращений. В Японии речь мужчин настолько отличается от речи женщин, что можно говорить о существовании двух разных языковых подсистем. Различия мужского и женского вариантов японского литературного языка проявляются практически на всех ярусах языковой системы. Одинаковы только фонемы и правила их сочетаемости, всё остальное в языке различно – интонация, лексика и грамматика. Наиболее заметны расхождения в употреблении модально-экспрессивных частиц, обычно завершающих предложение. Разница между мужской и женской речью ощутимее в городе, чем в деревне. Различие тем больше, чем более расходятся социальные роли полов. Правила речевого поведения для мужчин и женщин в Японии соблюдаются строго. Мужчина, говорящий «по-женски», или женщина, говорящая «по-мужски», вызывают насмешки [Алпатов, Крючкова 1980; Алпатов 1988: 69–75].
Немецкие учёные из Тюбингена, обследовав 1300 информантов в 300 населённых пунктах Германии, обнаружили различия в языке, обусловленные разницей пола информантов: у женщин больше глаголов и союзов, у мужчин – прилагательных и наречий. Словарный запас женщин больше, чем мужчин. У мужчин больше абстрактных существительных, у женщин – имён собственных. Был сделан вывод, что определенное своеобразие в речи каждого из полов существует, и оно может предполагаться не только в диалектной речи небольшого населённого пункта, не только в немецком языке, но и в любом языке [Вайлерт 1976: 142–143].
Социолингвисты из университета в Гётеборге (Швеция) решили выявить разницу между «женскими» и «мужскими» формами разговора. Записали с помощью добровольцев типичные разговоры с типичными собеседниками. Для окончательного анализа выбрали 18 диалогов (6 – между мужчинами, 6 – между женщинами и 6 – между супругами). Выяснилось, что мужчины обмениваются значительно более длинными репликами: в среднем 12,3 слова (в диалоге женщин всего 8,2 слова). В семейных диалогах у мужчин средняя реплика – 8,7 слов, у женщин – 13,9 слов. В женских диалогах налицо паритет слов: 50 на 50. В мужских наблюдается доминирование одного из собеседников [Человек. 1993. № 4. С. 26]. В 1979 г. в Париже вышла книга М. Ягелло «Женские слова».
Проблема «женских» и «мужских» языков входит в весьма актуальную в конце XX в. проблему тендера (гендерный от англ. gender 'род' – связанный либо с мужской, либо с женской проблематикой). Отсюда термин гендерлект – особенности языка женщин и мужчин в пределах одного национального языка (включая лексику, грамматику и стиль) [Комлев 1995].
Профессионально умелый анализ языка может многое сказать об обществе, например, об отношении общества к женщине. Так, анализ семантических сдвигов в значении английских слов свидетельствует об антифеминизме в английском языке [Лапшина 1996]. Оказалось, что в английском языке много пейоративных (уничижительных, неодобрительных) номинаций женщин, а мужские эквиваленты отсутствуют. Метафоры применительно к женщинам приобретают исключительно сексуальную коннотацию. Категории женщин отводится отрицательное семантическое пространство. В английском языке наличествует 220 слов, обозначающих сексуально распущенных женщин, и только 20 слов называют неразборчивого в сексуальном отношении мужчину. Исследователи отмечают всеобъемлющую и постоянно возобновляющуюся тенденцию к пейорации слов, обозначающих женщин. Если раньше первоначальные негативно-оценочные значения относились и к мужчинам, и женщинам, то теперь применяются только по отношению к женщинам. Ранее нейтральные номинации женщин в настоящее время подвергаются пейорации. Если слова 'dog', 'beast', 'pig' отнесены к женщинам, то все они имеют исключительно уничижительную сексуальную коннотацию [Лапшина 1996: 60–62].
В английском языке налицо «двойной стандарт» переосмысления: Lord не переосмысляется и означает не всякого мужчину, a Lady может быть отнесено к любой представительнице слабого пола. Madame – распространенное наименование хозяйки публичного дома, но никто сутенёра не назовёт Sir [Лапшина 1996: 64]. В языке нет терминов, обозначающих сексуально непривлекательных мужчин, а вот соответствующих номинаций женщин с пейоративным значением сотни. Это относится ко всему словарю, включая и жаргоны. Вывод автора исследования однозначен: семантическая история терминов, обозначающих женщин, – это история семантической пейорации и деградации значения [Лапшина 1996: 64].
Причину столь явного антифеминизма языка видят в том, что словотворчество – инициатива в основном мужчин. Женщины – хранительницы языка, а мужчины – его творцы.
9.5. Профессиональная дифференциация языка
Профессиональная дифференциация тоже весьма существенна. Она заключается не только в употреблении тех или иных терминов или профессиональных словечек, но шире – в построении и содержании текстов. В романе В. Богомолова «В августе сорок четвёртого…» («Момент истины»), посвященном советским контрразведчикам, широко представлены профессионализмы. Например, чистильщик (от чистить – очищать районы передовой и оперативные тылы от вражеской агентуры) – обозначение розыскника военной контрразведки; волкодав «розыскник, способный брать живьём сильного, хорошо вооруженного и оказывающего активное сопротивление противника»; ларш «сильный, способный оказать серьёзное сопротивление противник». «Таманцев неожиданно обнял Андрея и быстро доверительно зашептал: – Я обучу тебя стрелять по-македонски, силовому задержанию… поднаберёшься опыта, оперативная хватка появится – да тебе же цены не будет!.. Мы с Пашей сделаем из тебя настоящего чистильщика!.. Волкодава!.. Да ты любого парша голыми руками брать сможешь!..» [Новый мир. 1974. № 12. С. 62].
Считается, что профессионализмы возникают в результате стремления к образности, экспрессии, эмоциональности в условиях замкнутого контакта. Много профессионально-просторечных слов отмечается в среде военнослужащих: сорокопятка (орудие), тридцатьчетверка (танк), сидор (вещевой мешок), самоволка, травить, сачковать и т. д. Часть профессионализмов может перейти в литературный язык: катюша (орудие), клин, клещи, мешок (виды окружения).
В конце XX в. стал активно складываться русскоязычный «интернетовский» жаргон как ответ на «атлантический вызов». Английскому оригиналу подбирается по признаку агрессивности русский эквивалент (интерфейс – междумордие) [Гусейнов 2000].
К профессиональной дифференциации языка относится наличие культовых разновидностей речи. Л.В. Шапошникова в книге «Тайна племени голубых озер» (1969) пишет о священном языке одного из племен юга Индии. Язык кворжам используется в храмах как язык молитв и религиозных книг, бесед служителей храмов. В этом же племени существует и тайный язык каликатпими. Его используют члены племени, чтобы их не поняли другие.
К профессиональным языкам примыкают жаргоны и арго – речь представителей отдельных промыслов и производств, а также язык деклассированных элементов. «Энциклопедический словарь юного филолога» (М., 1984) отмечает: «Общее свойство жаргонной лексики – переосмысление общеупотребительных слов и создание выразительных, ярких метафор» [Энциклопедический словарь юного филолога 1984: 30].
В.Д. Бондалетов исследовал и детально описал условные языки (арго) русских ремесленников и торговцев, в результате чего возникла надёжная база для сравнительно-исторического изучения многочисленных (около 100) вариантов арго, для создания типологии черт сходства и различия, для решения проблемы происхождения всей совокупности русских и восточнославянских арго [Бондалетов 1987 (2)].
Не обошли своим вниманием исследователи и «фени» («блатная музыка») – язык уголовного мира, «уродливый, пугливый, скрытный, предательский, жестокий, двусмысленный, гнусный, глубоко укоренившийся роковой язык» (В. Гюго. Отверженные, кн. 7). В 90-е годы и позже вышло в свет сразу несколько словарей языка уголовного и блатного мира.
Промежуточное место между территориальными диалектами и жаргонами занимает такое языковое образование, как сленг. «Сленг – это особый исторически сложившийся и в большей или меньшей степени общий всем социальным слоям говорящих вариант языковых (преимущественно лексических) норм, бытующий в сфере устной речи и генетически и функционально отличный от жаргонных и профессиональных элементов языка» [Маковский 1963: 22]. Есть иное определение сленга: «Совокупностьжаргонизмов, составляющих слой разговорной лексики, отражающих грубовато-фамильярное, иногда юмористическое отношение к предмету речи» [АЭС: 461].
Специфической чертой сленга является смешение элементов различных диалектов. Он представляет собой связующее звено между территориальными диалектами и литературным языком. Ярким примером сленга является говор лондонских окраин – кокней, на котором у Б. Шоу говорила главная героиня пьесы «Пигмалион» Элиза Дулитл.
9.6. Семейная дифференциация языка
«Самое лениво сказанное в семье имеет свой оттенок. И бесконечная, своеобразная, чисто филологическая словесная нюансировка составляет фон семейной жизни» (О. Мандельштам). Можно говорить о семейной дифференциации языка, под которой понимается совокупность специфических речевых средств, а также особая семантическая нагруженность обычных языковых единиц, используемая ограниченным кругом носителей языка во внутрисемейном общении или в общении малых групп. «…Между людьми одного кружка или семейства устанавливается свой язык, свои обороты речи, даже – слова, определяющие те оттенки понятий, которые для других не существуют… Например, у нас с Володей установились, бог знает как, следующие слова с соответствующими понятиями: изюм означало тщеславное желание показать, что у меня есть деньги, шишка (причем надо было соединить пальцы и сделать особенное ударение на оба Ш) означало что-то свежее, здоровое, изящное, но не щегольское; существительное, употребленное во множественном числе, означало несправедливое пристрастие к этому предмету и т. д. и т. д. Но, впрочем, значение зависело больше от выражения лица, от общего смысла разговора, так что, какое бы новое выражение для нового оттенка ни придумал один из нас, другой по одному намёку уже понимал его точно так же» (Толстой Л. Юность. Гл. XXIX).
В повести В.И. Макарова об академике А.А. Шахматове находим пример «семейного языка»: «…и даже Оленьку Елагину, живую, хорошенькую девочку, к которой мальчик почему-то придирался и всё уверял её, что она просто 'настоящий кринолин', как называли в его семье человека жеманного, кокетливого» [Макаров 2000: 38].
Замечено, что яркие черты индивидуальности складываются, как правило, в дружных, устойчивых семьях. «Тайным шифром счастливых семей» назвал В. Набоков повседневный обмен скрытыми от других семейными шутками, из которых и рождается семейный социолект. «Семейный диалект» функционирует только в отсутствие посторонних, обычно не замечается членами семьи, а потому объектом изучения стал только в последнее время [Кукушкина 1989; Капанадзе 1989].
«Семейный диалект» состоит из особых словечек (нестандартных наименований), необычных синтаксических конструкций, семейных фразеологизмов и даже элементов семейной морфологии и словообразования. Полагают, что стремление дать имена бытовым предметам, которые стандартных наименований не имеют, обусловлено коммуникативной необходимостью. Психологически «домашний язык» – это и борьба с рутиной. Многие семейные словечки и выражения – это понравившиеся шутки, ставшие знаками семейного общения. Они обычно относятся к рутинным бытовым ситуациям: повседневные нужды, покупки. Рутина общения преодолевается склонением несклоняемых слов (аз кана), фонетическими преобразованиями (фатера из квартара), ложной этимологизацией (зверькасса из сберкасса), пародированием канцеляритов (горсуп из гороховый суп).
Чем лучше человек знает литературный язык, тем охотнее прибегает он к элементам «домашнего диалекта». «…Она (А. Ахматова. —А.Х.) очень придирчиво относилась к отклонениям от норм русского языка в устной речи окружающих. Вместе с тем она охотно вводила в свою речь современные арготизмы. Она скучала, если в общении с близкими звучала только правильная речь. Отсюда пристрастие Анны Андреевны ко всякого рода домашним кличкам или литературным цитатам, превращенным в семейные поговорки… Бранное обращение «свинья» Анна Андреевна заменяла домашним арго – «евин», «полусвин», «свинец»…. Любой бытовой или деловой успех обозначался формулой: «И лобзания, и слёзы, И заря, заря!..» (Фет)» [Герштейн 1993: 59—160].
9.7. Язык и малые социальные группы
Семья представляет собой одну из разновидностей малых социальных групп. С ней в одном ряду стоят производственный, научный, спортивный, воинский коллективы численностью от трёх до десяти-пятнадцати человек. Между членами таких групп устанавливаются непосредственные контакты. В них возникает социально-психологическая потребность к объединению и демонстрации своей принадлежности к данной социальной группе. В таких коллективах складывается внешняя похожесть (одежда, значки, ритуальность поведения), символизирующая принадлежность к группе. Помимо коммуникативной функции речь в социальных группах выполняет интегрирующую (объединяющую) и дейктическую (указательную) функции.
Как феномен социальной психологии малые социальные группы с помощью эффективных методик изучены хорошо. Что касается социолингвистической стороны, то они исследованы явно недостаточно. Складываются новые подходы к лингвистическому изучению малых групп. Так, соционейро-лингвистика изучает группы больных детей, а также людей со старческим слабоумием [Пенг 1990].
Известно, что ярким образцом речевой специфики группы являются групповые шаблоны речи, складывающиеся в результате языковой игры, которая в жизни малых групп весьма актуальна. В устной речи малых групп взаимодействуют две тенденции. С одной стороны, свертывание названий предметов (многое в предмете речи является само собой разумеющимся и потому в названиях не нуждается), а с другой стороны, детализация тех средств, которые характеризуют и оценивают предмет, ибо детальная характеристика и оценка – это самая суть внутригрупповой коммуникации. Другими словами, речь человека как члена определенной малой группы отличается предикативностью и оценочностью при редукции наименования [Крысин 1989].
9.8. Индивидуальная дифференциация языка (идиолект)
Предел социальной дифференциации языка – языковая личность. В последнее время интерес лингвистов обрагцён в сторону так называемой индивидуальной дифференциации речи носителя данного языка (микролингвистика). Дело в том, что выбор слов и построение синтаксических конструкций от предложения до более сложных форм не является постоянным в одно и то же время, они меняются беспрерывно в зависимости от ситуации разговора и собеседника. Японские исследователи ввели специальный термин «языковое существование», включающий в себя понятие индивидуальной дифференциации речи [Конрад 1959].
Языковая личность – это личность, выраженная средствами языка в языке (текстах) и в основных чертах выявляемая с помощью анализа языковых средств. Полагают, что за каждым текстом стоит языковая личность, которая характеризуется не только степенью владения языком, но и выбором – социальным и личностным – языковых средств различного уровня. Для личности характерно своё видение мира, определяемое индивидуальной языковой картиной мира. Индивидуальная дифференциация речи – залог всех других форм дифференциации языка, основная пружина его эволюции.
В отечественной науке известен опыт создания диалектного словаря личности [Тимофеев 1971]. Интересна попытка группы отечественных исследователей создать языковой портрет конкретного человека на примере языковой личности с рельефными языковыми чертами, уникальной индивидуальности, ярко воплотившей в себе черты своего времени, культуры, народа, носителя языковой традиции поколения русской интеллигенции, замечательного советского языковеда А.А. Реформатского. Языковая личность – это произносительная манера, особенности устной речи, своеобразное использование иностранных языков, словаря, заметки на полях любимых книг, любовь к прозвищам, манера общения в семейном кругу, язык писем, стиль написания научных текстов и т. п. [Язык и личность 1989].
Языковую личность русского философа и писателя В.В. Розанова (1856–1919) определяют как насыщенную религиозно-мистическими, интеллектуальными, эмоциональными переживаниями и прозрениями. Вывод делают на основе частотности ключевых слов-тем, вокруг которых развертываются крупные семантические поля. Ключевые слова выстраиваются в своеобразную иерархию [Карташова 2000: 139].
Отличительной чертой языковой личности выдающегося австрийского поэта P.M. Рильке (1875–1926) называют её открытость иным языкам и культурам и её обогащение ими. Стихи Рильке на русском, французском и итальянском языках – свидетель выхода языковой личности за пределы родного немецкого языка. Языковая личность Рильке видится как личность, вобравшая в себя черты многих европейских языков и наций. Благодаря этому Рильке стал поэтом, в творчестве которого немецкий язык XIX в. нашёл своё высшее поэтическое воплощение [Лысенкова 2000: 191].
Писательская лексикография – один из перспективных путей изучения языковой личности. Среди различных типов словарей языка писателей центральное место занимают тезаурусы – словари, которые в явном виде фиксируют семантические отношения между составляющими его единицами. Языковая личность не только носитель языка, но и создатель индивидуального тезауруса, который и может в руках исследователя стать надежным инструментом исследования этой языковой личности.
9.9. Перспективы языковой дифференциации
Обзор типов языковой дифференциации показывает всеобщность этого явления. Р. Барт замечает: «Речь любого субъекта с неизбежностью входит в тот или иной социолект» [Барт 1989: 527]. Полагают, что дифференциация обусловлена глубинными свойствами психической жизни человека.
«…Существует изначальный параллелизм между разделением общества на классы, расчленением символического поля, разделением языков и невротическим расщеплением психики» [Барт 1989: 536]. У дифференциации есть также и языковые истоки: «…Разделение языка возможно благодаря синонимии, позволяющей сказать одно и то же различными способами, а синонимия является неотъемлемой, структурной, как бы даже природной принадлежностью языка» [Барт 1989: 536].
Какова же перспектива всех трёх – территориальной, возрастной и социальной в узком смысле – разновидностей дифференциации языка? Видимо, дифференциация языка вечна, что объясняется психологически: «Своим носителям социолект выгоден, очевидно, прежде всего тем (не считая преимуществ, которые владение особым языком даёт в борьбе за удержание или завоевание власти), что сообщает им защищенность; языковая ограда, как и всякая другая, укрепляет и ободряет тех, кто внутри неё, отвергая и унижая тех, кто снаружи» [Барт 1989: 531].
Поскольку наличие диалектов в СССР считалось проявлением отсталости, полагали, что территориальная дифференциация языков будет преодолена. С развитием экономических связей районов страны, с повышением общей культуры населения и овладением литературным языком, с ростом мобильности масс происходит «усреднение», нивелировка диалектов. В них происходит новая дифференциация. В диалекте отмечают три формы речи: а) чисто диалектную, которой пользуется старшее поколение, главным образом женщины, ограниченно грамотные и не принимающие участия в общественной жизни. Она обслуживает семейные и обиходно-бытовые отношения; б) литературную речь – речь местной интеллигенции – в сфере официально-деловой, культурно-производственной и для публичных выступлений; в) смешанную речь – соединение элементов диалекта и литературного языка, – которой пользуется основная масса производственников, активных в селе [Орлова 1960].
Вытеснение диалекта литературным языком – процесс чрезвычайно длительный и неоднозначный. Удивительно, что диалектные различия сохраняются у высококонсолидированных народов – японцев, англичан, немцев. В Италии, где до сих пор сохраняются резкие диалектные различия между двенадцатью наиболее распространенными говорами, 65,6 % жителей в семейном общении используют диалект. Более 23 % опрошенных итальянцев на улице, на работе, в общественных местах употребляют только местный говор. Более ста лет прошло после объединения Италии в единое самостоятельное государство, а диалекты продолжают жить.
В постсоветское время отношение к территориальным диалектам стало меняться от социально-политической компрометации русских диалектов и замены их литературным языком до признания высокой культурно-этнической ценности этой формы речи. Вспомнили слова немецкого языковеда Л. Вайсгербера: «…Диалект – это языковое открытие родины <…> независимая ценность диалектов состоит в том, что они дают гармонию внешнего и внутреннего мира, что они действительны и в сравнении с литературным языком. Диалекты уходят, но пустоты заполняются не литературным языком, а жаргоном» (Цит. по: [Калнынь 1997: 120]). Множество диалектов – такое же благо для общенационального языка, как и множество языков для человечества (см. главу 19 «Будущее языка как объект науки»).
Возрастная дифференциация обнаруживает тенденцию к усилению, к оформлению различительных признаков в особую подсистему литературного языка.
Из всех типов и видов профессиональная дифференциация – наиболее прогрессирующая. Дальнейшая профессионализация населения, образование значительных групп, связанных единством профессии, широкое внедрение науки в производство и быт – вот основа усиления профессиональной дифференциации. Писатели-фантасты, пытающиеся прогнозировать будущее человеческого общества, а также его языка, тоже предполагают, что профессиональная дифференциация языка будет углубляться. Картину будущего изобразил И. Ефремов в романе «Час Быка»: «…У каждого народа Земли с подъёмом культуры шло обогащение бытового языка, выражавшего чувства, описывающего видимый мир и внутренние переживания. Затем, по мере разделения труда, появился технический, профессиональный язык. С развитием техники он становился всё богаче, пока число слов в нём не превысило общенациональный язык, а тот, наоборот, беднее».
Профессиональный жаргон может кодифицироваться (узакониться). Так, британские лингвисты, учитывая, что в английском морском профессиональном жаргоне содержится много деловой информации, по согласованию с практиками мореплавания создали словарь, ставший учебным пособием в морских училищах. Словарь оказался полезным и в других странах, поскольку специфические термины английских моряков стали интернациональными понятиями [Знание – сила. 1990. № 9. С. 37].
Особую форму социальной дифференциации языка представляет собой его стилистическое расслоение – специфический отбор фонетических, морфологических и синтаксических средств в зависимости от ситуации общения, контекста и целевой установки сообщения. Усложнение общественных отношений, развитие государственности усиливают внутреннее членение языка, приводят к возникновению функциональных стилей литературного языка. Считается, что функционально расслаиваться может не только литературный язык, но и диалекты.
Дополнительная литература
Алпатов В.М. Япония. Язык и общество. – М., 1988.
Бондалетов В.Д. Типология и генезис русских арго. – Рязань, 1987.
Кирилина А.В. Тендер: лингвистические аспекты. – М., 1999.
Колесов В.В. Язык города. – М., 1991.
Маковский М.М. Английские социальные диалекты: Онтология, структура, этимология. – М., 1989.
Нефедова Е.А. Экспрессивный словарь диалектной личности. – М., 2001.
Потапов В.В. Многоуровневая стратегия в лингвистической гендерологии // Вопросы языкознания. 2002. № 1. С. 103–130. Язык и личность. – М., 1989.
10. Языковая ситуация
10.1. Структура и типология языковой ситуации
Под языковой ситуацией понимается набор и взаимоотношение используемых на данной территории (обычно в пределах государства) различных средств коммуникации. Языковую ситуацию рассматривают и шире, при этом различают национальную (например, чешскую), государственную (бельгийскую), определенную географически (например, европейскую) или такую, которая обусловлена политическим и идейным сотрудничеством (например, страны Западной Европы).
Языковая ситуация, по мнению В.А. Аврорина, включает в себя следующие обязательные компоненты: а) социальные условия функционирования языка; б) сферы и среды употребления; в) формы существования языка.
К социальным условиям существования языка относятся: а) социально-экономические формации; б) формы этнической общности; в) уровень суверенитета; г) форма государственной автономии; д) уровень культурного развития; е) численность народа и его территориальная компактность, ж) этническое окружение [Аврорин 1975].
Сферы использования языка являются самым важным компонентом языковой ситуации. Они обусловлены тематикой коммуникации, временем и местом общения, областью общественной деятельности. Важнейшими являются сферы: а) хозяйственной деятельности; б) общественно-политической деятельности; в) быта; г) организованного обучения; д) художественной литературы; е) массовой информации; ж) эстетического воздействия; з) устного народного творчества; и) науки; к) всех видов делопроизводства; л) личной переписки; м) религиозного культа. Перечень сфер не является каноническим и применительно к конкретному языку может быть и меньшим, и большим.
Средами использования языка является общение внутри а) семьи; б) производственного коллектива; в) социальной группы; г) населенного пункта или региона; д) временно организованного средоточия людей; е) целого народа; а также ж) межнациональное общение; з) общечеловеческое общение.
Формы существования языка делятся на а) объединяющие всех говорящих – литературная форма, диалектная, наддиалектная, языки межнационального общения, мировые языки и б) обособляющие их – мужские и женские языки, ритуальные языки, кастовые языки, жаргоны и арго.
Функции языка, формы существования языка, среды и сферы действия, характер взаимодействия языков являются основными понятиями социолингвистики и взаимосвязаны между собой: «функция – это цель; форма существования – это вид орудия; среда – это условие, а сфера – это область применения этого орудия» [Аврорин 1975: 83].
Все языковые ситуации принято квалифицировать как простые или сложные. Простая характеризуется диглоссией – одновременным использованием литературной и диалектной (наддиалектной) форм одного языка. Сложная ситуация отличается полилингвизмом – многоязычием (наиболее типичный случай – двуязычие, билингвизм).
Государств и территорий с простой языковой ситуацией гораздо меньше, чем со сложной, и в условиях интернационализации жизни землян удельный вес таких территорий постоянно снижается. Простота языковой ситуации во многих случаях весьма относительна. Так, в арабском регионе, зоне с относительно однонациональным этническим составом, функционирует несколько форм арабского языка (классический литературный язык; современный литературный в письменной и устной форме; обиходно-разговорный язык а) образованных и б) необразованных; территориальные и социальные диалекты) [Шагаль 1983].
Сложная языковая ситуация наблюдается во многих странах Азии, Африки, Америки и Европы. Так, в Китае проживает пятьдесят народностей, говорящих на разных языках, здесь сосуществуют тибетская, уйгурская, монгольская письменности, разрабатывались проекты ещё шестнадцати письменностей. Казалось бы, Китай должен быть лингвистически единым: девять из десяти жителей страны относятся к китайскому этносу – хань. Но все дело в том, что в китайском языке восемь диалектных групп, резко отличающихся друг от друга. Например, число общих слов в пекинском диалекте и диалекте южного города Сямэнь меньше, чем в английском и немецком языках. Разноголосица – одна из причин невозможности пока отказаться от иероглифов, самой сложной и самой древней письменности в мире, и перейти на фонетическое письмо.
Столь сложная языковая ситуация, которая тормозит техническое и культурное развитие страны, ставила перед Китаем задачу: до 2000 г. каждый китаец должен овладеть единым литературным языком – путунхуа, который повсеместно вводится в школах, на радио и телевидении.
Чрезвычайно многоязычна Индия, где, по переписи 1951 г., насчитывалось 720 языков и диалектов, на многих из них развивается литература. Сегодня в Индии говорят на 325 языках. Административно-государственное деление Индии осуществлено с учётом языковых ареалов (районов). В конституции Индии указаны 14 важнейших языков страны, являющихся официальными языками штатов: ассамский, бенгальский, маратхи, телугу, урду, хинди и др. За восемь лет изучения 4356 общин выяснилось, что 66,4 % говорят более чем на одном языке. В некоторых общинах говорят на иврите, армянском и на китайском. Широко используется непальский язык. Во многих штатах говорят на гуджарати, в пяти штатах – на персидском. Во время религиозных церемоний священники по всей стране говорят на санскрите. Только народность гондов, расселенная по всей Индии, считает родным язык той общины, в которой они живут [Знание – сила. 2001. № 10. С. 12]. В Индии сложилась целая иерархия в отношениях между родным языком, региональным и национальным языками. Полагают, что лингвистические противоречия в Индии обусловлены социальной структурой общества, которая ограничивает демократическое развитие страны.
В Пакистане 24 самостоятельных языка (и много диалектов), из них шесть основных языков: белуджи, бенгали, панд-жаби, пушту, синдхи, урду. В сравнительно небольшом по численности населения (9,5 млн чел.) государстве Непал 60 языков и диалектов. В Индонезии, где проживает около 150 млн человек, принадлежащих к трёмстам этническими единицам, насчитывается до 180–200 языков – среди них индонезийский, который является общегосударственным языком, и несколько литературных: яванский, сундинский, мадурский и др.
В Афганистане 17 млн жителей используют 30 языков, принадлежащих к различным языковым семьям. Более половины населения говорит на языке пушту, который с 1936 г. объявлен государственным языком страны. Он резко отличается от другого распространенного языка дари. Значителен процент тюркоязычного населения (узбеков, туркмен).
Многоязычна Республика Филиппины, где зафиксировано 74 самостоятельных филиппинских языка с числом носителей не менее тысячи. Почти 90 % населения говорит на десяти языках. Объединяют всех тагальский и английский языки. Для республики характерным становится трёхъязычие: родной – общефилиппинский (тагальский) – английский.
В многорасовом Сингапуре четыре официальных языка: китайский, малайский, тамильский и английский. Последний объявлен рабочим языком и обязателен для всех.
Сложную языковую ситуацию небольшого азиатского государства Маврикий отметил моряк дальнего плавания и писатель В. Конецкий: «Вероятно, им было трудно сговориться между собой потому, что на Маврикии официальный язык – английский, французским пользуются в семейном кругу, на улице обычно употребляется креольский, кроме того, здесь говорят на хинди, урду, телугу, маратхи, гуджарати и на китайском. Ныне главная задача всех этих ребят найти общий язык – маврикийский» [Конецкий 1972: 203–204].
Рекордное место по числу языков, используемых населением, держит Папуа – Новая Гвинея – 862 языка.
Не менее сложна языковая картина Африки, где сосуществуют этнические общности разных типов, которые характерны и для первобытнообщинного строя, и для феодализма, и для современности. Специалисты говорят, что в Африке ныне одновременно протекают такие процессы, которые в Европе были характерны для поздней античности, раннего средневековья, Реформации, для эпохи формирования капиталистической нации и для современности. Всё это не может не отразиться на языковой ситуации на континенте. Одни из них – языки миллионов (суахили, хауса, амхарский), другие – лишь небольшого племени из 100–150 человек. В древнейшем государстве Африки Эфиопии живёт 42 млн человек, функционируют 85 языков, не считая широко распространенных английского, арабского, итальянского. В этой стране обучение в школах и центрах ликбеза для взрослых ведётся на 15 языках основных народностей страны.
В Камеруне (Западная Африка) проживает 10 млн человек. Разговаривают они на 247 языках. Эта цифра не является окончательной, поскольку изучение этнического состава жителей продолжается, а оно выявляет до сих пор неизвестные языки. Первый лингвистический атлас Камеруна, не успев выйти в свет, уже нуждается в поправках. В нём представлено 239 языков, но буквально через несколько месяцев учёные обнаружили восемь доселе не известных языков. В Чаде живёт всего 4,5 млн человек, 130 племён и народностей, языки которых относятся к 12 различным лингвистическим группам. Сложность языковой ситуации может проявиться в неожиданных формах. Так, в Нигерии издаётся самая многоязычная газета – на её страницах помещают статьи и заметки на 13 языках.
Во многих странах Азии и Африки языковая ситуация осложняется широким распространением европейских языков, прежде всего английского и французского. Авторитет их определяется несколькими факторами: на них существует колоссальный массив очень важной информации и целый пласт современной культуры, они унифицированы и в общественном сознании воспринимаются как языки элитарные.
Во многих странах Европы языковая ситуация тоже является непростой. Классическим примером сложной языковой ситуации служит Швейцария, где функционируют четыре языка, три из которых (немецкий, французский и итальянский) являются государственными. Хотя все языки Швейцарии активно воздействуют друг на друга, способствуя консолидации средств общения, они, как и культура и национальные традиции, в основных областях своего распространения остаются языками самостоятельными. Литературные формы языков функционально дополняются диалектами. Так, в университетах Швейцарии лекции читаются и семинары ведутся на немецком литературном, а практические занятия по естественно-научным и техническим дисциплинам, равно как и консультации, – на диалекте [Филичёва 1985: 58–59].
Другой пример. В Люксембурге, стране с небольшой территорией и этнически однородным и немногочисленным населением, существует немецко-французско-люксембургское трёхъязычие. Преподавание в начальных классах ведётся на люксембургском языке, затем на немецком, а в старших классах – на французском. Радиовещание пользуется люксембургским (летцебургским) языком, телевидение – французским, а объявления даются и этикетки печатаются на немецком языке. Основная часть периодики на немецком языке. Выбор языка чаще всего диктуется факторами социальными. Французский используется группами населения, принадлежащими к верхним слоям. Немецкий употребляется менее образованными слоями общества. Люксембургский язык – средство повседневного языкового общения.
На Британских островах тоже типичная ситуация билингвизма: исконный кельтский (ирландский, шотландский и валлийский) и английский. Двуязычие формируется через систему просвещения и средства массовой информации. Языки распределяются функционально: родной кельтский язык используется в повседневной коммуникации, а также в общественной жизни и производственной деятельности в пределах этнической территории, литературная форма английского языка – в различных сферах общегосударственной коммуникации (официально-общественной, системы образования, средств массовой информации, общественно-политической деятельности общенационального характера). Сложная языковая ситуация может складываться даже в пределах одного большого города – мегаполиса. Например, в Лондоне люди говорят на двухстах семидесяти пяти языках [Знание – сила. 1998. № 6. С. 141].
Примером непростой языковой ситуации может служить и Россия – федерация, объединившая свыше ста народов. Степень сложности языковой ситуации различна. Выделяются регионы (например, Дагестан – «гора языков»), где на сравнительно небольшой территории сосуществует несколько десятков языков.
10.2. Учёт и изучение языковой ситуации
Учёт и изучение языковой ситуации важны во многих отношениях, но прежде всего – для осуществления разумной языковой политики. Специалисты считают, а опыт подтверждает, что национально-территориальное размежевание по языковому признаку наиболее предпочтительно. Игнорирование языковой ситуации в этом вопросе чревато национальными конфликтами. Эффективное языковое строительство требует объективного и полного знания языковой ситуации в пределах того или иного государства. Точно определить диалектную базу формируемого литературного языка могут только квалифицированные специалисты-лингвисты. Известен опыт языковеда Е.Д. Поливанова, точно определившего базу узбекского литературного языка.
Тщательное многофакторное изучение языковой ситуации способствует продуктивному решению многих национальных задач. В 70-е гг. было проведено социолингвистическое обследование Сибири. Изучалось функциональное взаимодействие языков у народов на этой территории. Ставилась задача – выяснить фактическое распределение социальных функций различных языков у каждого народа (языка своей национальности, языка межнационального общения, языка основного населения республики, языков соседних народов и т. п.), определить реальные потребности и возможности использования конкретного языка в различных сферах общественной жизни, эффективность каждого из них, выявить реально существующие тенденции перераспределения функций языков, типы билингвизма и полилингвизма, влияние миграционных процессов и смешанных браков на языковую жизнь и т. п. [Аврорин 1970: 34].
Факты, полученные на основе точных исследований с применением вычислительной техники, показывают, что в чукотских семьях, например, с детьми говорят только на родном языке 46 % опрошенных, на родном и русском – 32 %, только на русском – 22 %. У эскимосов, хотя они и живут вперемежку с чукчами, картина совершенно иная. Здесь говорят с детьми на родном языке только 19 %, на родном и русском – 22 %, только на русском – 59 %. У народов Сахалина при общении с детьми, как и у эскимосов, преобладает русский язык. Родной язык используют лишь 24 %, тогда как русский – 76 %. Исследователи сделали вывод, что русский язык укрепил свои позиции в жизни народов Севера при сохранении роли родных языков в различных сферах общественной жизни.
В послевоенные годы в США сложилась особая научная дисциплина, получившая название геолингвистики. Задачи её – объективно описать распределение языков в различных районах мира с точки зрения их политической, экономической, социальной, стратегической и культурной важности, изучить пути, по которым они воздействуют друг на друга, и каналы, через которые лингвистический фактор влияет на развитие национальной культуры и мировоззрения, выявить практическую значимость того или иного языка для военных и государственных деятелей, учёных, технических специалистов и т. д. [Никольский 1968: 120].
Социолингвистическое изучение территорий преследует практические цели – определение языков начального, среднего и высшего образования; выбор языка для средств массовой информации; рациональная организация делопроизводства; подготовка кадров переводчиков и многое другое. Известный американский учёный У. Лабов полагает, что объективный учёт языковой ситуации позволит повысить эффективность системы образования; ослабить социальный протест, способствовать включению социально подавляемой группы в образовательную структуру; оживить процесс «вертикального» социального перемешивания, чтобы вовлечь в него слои, принявшие культурные нормы доминирующего общества.
Изучение языковой ситуации имеет не только политический и культурологический, но и экономический аспект, ибо точный выбор даёт значительную экономию материальных средств.
Дополнительная литература
Алпатов В.М. 150 языков и политика 1917–1997: Социолингвистические проблемы СССР и постсоветского пространства. – М., 1997.
Белоусов В.Н., Григорян Э.А. Русский язык в межнациональном общении в Российской Федерации и в странах СНГ (По данным социолингвистических опросов 1990–1995 гг.). – М., 1996.
11. Язык и государство. Языковая политика
Учёт сложившейся языковой ситуации важен при разработке и проведении языковой политики. Этот термин употребляется в двух значениях:
1) языковая политика как часть национальной политики того или иного государства, класса, той или иной партии;
2) совокупность мер, предпринимаемых для целенаправленного воздействия на языковое развитие. Таким образом, можно говорить о двух аспектах языковой политики. Остановимся на первом из них (второй аспект рассматривается в главе «Эволюция языка»).
Первый аспект языковой политики становится актуальным в эпоху образования наций и складывания национальных языков. Зарождающийся капитализм, объединяя все местные рынки в единый национальный, объективно требует единого национального языка.
Языковая политика в любом государстве осуществляется в следующих направлениях: 1) выбор и установление государственного (официального) стандартного языка; 2) ликвидация неграмотности; 3) определение положения других языков по отношению к государственному языку; 4) определение сфер и типов языковых состояний и ситуаций каждого из языков; 5) кодификация, нормализация и совершенствование существующего государственного (официального) языка. Выбор и установление стандартного государственного языка – одна из наиболее сложных и болезненных проблем в процессе языкового строительства в любой стране [Герд 1995]. При выборе того или иного языка в качестве государственного, официального учитываются следующие критерии: 1) автохтонность населения (автохтонный – коренной, аборигенный по своему проживанию на данной территории); 2) численность говорящих на данной территории на этом языке; 3) престижность, авторитет языка; 4) социальная нейтральность языка.
В своей языковой политике государство может ориентироваться на возрождение мертвого языка, как это случилось с древнееврейским языком ивритом, который известен с X в. до Р.Х. Иврит был разговорным языком до рубежа эр. В новую эру он остался языком библейских книг. В средние века он стал литературным языком Испании, затем за ним сохранилась только культовая функция. В XIX в. на иврите появилась периодика и художественная литература. В XX в., с созданием Израиля, иврит стал государственным языком страны. Нормализаторскую поддержку языку оказывает академия иврита в Иерусалиме. Основной акцент сейчас делается на упорядочении терминологии [Наука и жизнь. 1994. № 9. С. 44]. Аналогичная тенденция и в Индии с древним языком санскритом, который теоретически может стать единым языком многоязычной страны.
Формирование единого национального языка в эпоху капитализма означает насильственное подавление языков всех национальных меньшинств. Так, Англия, захватив Ирландию, не позволяла жителям завоеванного острова говорить на ирландском языке, обучать детей родной речи. За голову убитого учителя в XVII в. выплачивалось вознаграждение, как за убитого волка [Овчинников 1979: 214].
Русификаторские настроения в дореволюционной России, ставшей на путь капиталистического развития, демонстрируются примером типичной газетной публикации начала XX века: «Что же, спрашивается, ожидать от безъязычных молдаван-бессарабцев – этих представителей нации, застывшей в умственном отношении на уровне народов, живших в первые века христианской веры?.. Очевидно, что ни о каких уступках в пользу молдаванского языка не может быть и речи. Он отжил своё время, как отжила и разрушается культура создавшего его народа. Настало время, когда необходимы радикальные меры для того, чтобы заменить его языком общегосударственным» [Вопросы языкознания. 1979. № 2. С. 5].
Широко известна теория языковой политики, сформулированная В.И. Лениным. «Ни одной привилегии ни для одной нации, ни для одного языка! Ни малейшего притеснения, ни малейшей несправедливости к национальному меньшинству!..» [Ленин: 23: 150] – в этой афористичной формулировке сконцентрировано понимание путей решения национального вопроса. Утверждая, что «язык Тургенева, Толстого, Добролюбова, Чернышевского – велик и могуч» [Ленин: 24: 294], Ленин приветствовал изучение всеми народами России русского языка, но в то же время решительно протестовал против принудительного навязывания этого языка. Ленин был убежден, что условия существования многонационального государства «сами собой определят тот язык данной страны, знать который большинству выгодно… И это определение будет тем тверже, что его примет добровольно население разных наций, тем быстрее и шире, чем последовательнее будет демократизм…» [Ленин: 23: 424–425].
В.И. Ленин категорически отвергал саму идею «государственного языка», ибо «государственный язык сопряжен с принуждением, вколачиванием». По его словам, идеал социал-демократии – отсутствие обязательного государственного языка, при обеспечении населению школ с преподаванием на всех местных языках. Языковая политика в многонациональном государстве в принципе должна осуществляться естественным образом с учётом интересов всех живущих в нём, ибо «потребности экономического оборота всегда заставят живущие в одном государстве национальности (пока они захотят жить вместе) изучать язык большинства» [Ленин: 23: 423].
Формулировки работ В.И. Ленина по национальному вопросу и языку совпадали с гуманистическим представлениями русских мыслителей конца XIX – начала XX в. В статье «О русском языке» выдающийся философ В. Соловьёв ратовал за добровольность изучения языка большинства: «Можно насильно принудить наших инородцев изучать в школах литературный русский язык. Но читать Пушкина так, как он того достоин и как он сам писал, чтобы его читали, – можно только добровольно» [Соловьёв 1990: 354].
Представление о справедливом решении национального вопроса нашло отражение в «Декларации прав народов России», опубликованной 2 (15) ноября 1917 г.: «1. Равенство и суверенность народов России. 2. Право народов России на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельного государства. 3. Отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений. 4. Свободное развитие нацменьшинств и этнографических групп, населяющих территорию России».
Образцом решения национально-языковых проблем для В.И. Ленина была Швейцария, небольшое государство в центре Европы, граждане которого говорят на четырёх языках: немецкий язык родной для 65 % жителей страны, французский – для 18, итальянский – для 12, на долю ретороманского, ведущего свою родословную от древних этрусков, приходится один процент. Официальными языками являются первые три. Несмотря на географические, социальные, культурные и политические различия внутри страны, Швейцария не знала глубоких потрясений своих конституционных основ благодаря своеобразной структуре государства и демократизации жизни.
Каждый гражданин Альпийской республики имеет право изъясняться на любом из четырёх языков. Все три официальных языка представлены в составе федерального суда. В школах, помимо родного для жителей данного кантона (основная административно-территориальная единица страны), ведётся факультативное преподавание ещё одного официального. Именно демократизм позволяет преодолевать все трудности, связанные с многоязычием страны. В основе компромисса – знание большинством швейцарцев по крайней мере двух, а то и трёх языков своей страны.
Общество и государство заботится о сохранении всех четырёх государственных языков в районах их распространения, укрепляет взаимопонимание между разноязычными группами населения. Все важнейшие указы, документы и сообщения в обязательном порядке публикуются и на ретороманском языке. Этим решается проблема употребления и сохранения языков, на которых говорит меньшинство [Правда 1990: 19 февр.].
Языковая политика – дело чрезвычайной деликатности. Ошибки в ней оборачиваются неисчислимыми бедами, чреваты серьёзными осложнениями в общественной, политической и экономической жизни государства. Печальным примером могут служить уроки языковой политики в Индии. Для создателей современного индийского государства основным признаком нации считался религиозный. Множество наций Индостана было сведено к двум – индийской и мусульманской, что отразилось в формировании двух государств субконтинента – Индии и Пакистана. Позже складывается третье государство – Бангладеш. Считается, что Бангладеш – единственная страна в современной истории, которая начала борьбу за независимость с «языкового движения».
Народы Индии представлялись как единая индийская нация, а народы Пакистана как мусульманская. Нация в норме характеризуется единым языком, поэтому государственным языком Индии был объявлен хинди, один из 14 развитых индийских языков. Это давало привилегии тем 215 из 680 миллионов, для кого хинди был родным языком. Многочисленные демонстрации и вооруженные столкновения, ожесточенная парламентская борьба стали следствием такой языковой политики.
В результате сопротивления носителей бенгальского, тамильского, телугу, маратхи и других языков государственный хинди фактически используется только в шести хиндиязычных штатах Северной Индии и в Союзной территории Дели. Индийские штаты тоже выделены по лингвистическому признаку. В них та же языковая ситуация, что и во всей Индии. В результате укрепился языковой шовинизм, отразившийся в лозунгах «Работу – детям своей земли». Официальный язык штата – тоже языковая привилегия для части населения.
Языковая политика отражается не только на носителях языков, но и на самих языках. Так, язык урду в Пакистане и в Индии развивается по-разному. В Пакистане он – официальный язык мусульманского государства, в Индии – один из региональных языков, юридически не имеющий территории распространения и использующийся только в мусульманских общинах.
На примере Индии видна тесная связь языковой политики с коренными вопросами социально-экономической жизни общества. В такой ситуации усилил свои позиции английский язык, одинаково чуждый всем индусам. Согласно конституции английский язык так же, как хинди, считается официальным языком Индии. Официально-деловая переписка и высшее образование – на английском языке. В вузах складывается трёхъязычная формула: английский – хинди – родной. Так языковая политика, субъективно направленная против колониализма, объективно привела к добровольному использованию языка недавних колонизаторов. В силу сходных причин расширяют сферу своего употребления французский и английский языки в арабских странах Северной Африки, где, например, 90 % учёных печатают свои работы на английском языке.
Ошибки в проведении национально-языковой политики свойственны не только государствам Азии. В наши дни остро стоят вопросы языка во второй по территории стране мира – Канаде. Единственным государственным языком там является английский, что ущемляет национальное самолюбие франкоязычных граждан центральной провинции Квебек и украинскоязычного населения западных провинций.
Вопросы языка остры и для некоторых стран Западной Европы, в частности для Бельгии. Как самостоятельное дву-национальное государство нидерландскоязычных фламандцев (5,5 млн) и франкоязычных валлонов (3,5 млн) Бельгия появилась на карте Европы в 1830 г. Единственным официальным языком стал французский. Выбор был обусловлен не только высоким престижем языка, но и тем, что в экономическом и культурном отношении ведущей была южная, франкоязычная, часть государства. Со временем северная, фламандская, территория стала развиваться активнее и в экономическом отношении превзошла южную. Фламандцы начали добиваться равноправия своего языка, формально ставшего вторым государственным языком в 1898 г. В 60-е годы XX столетия страна пережила обострение межнациональных отношений, всплеск национализма, когда из католического университета городаЛувен стали изгоняться студенты, проходившие обучение на французском языке. В результате Лувенский университет стал исключительно фламандским, а для франкоязычных студентов был построен новый университетский городок неподалеку от Брюсселя.
Чтобы выйти из национально-языкового кризиса, страна взяла курс на последовательный федерализм. Ранее унитарная Бельгия ныне разделена на четыре региона – Фландрию, Валлонию, Брюссель и район немецкоязычного населения на востоке страны.
Единого общегосударственного языка в Бельгии нет. Во Фландрии официальным языком является фламандский (точнее нидерландский), в Валлонии – французский. Всё делопроизводство на государственном и муниципальном уровнях на севере ведётся по-фламандски, на юге – по-французски. Но это касается только официальных отношений. В личной жизни, торговле, сфере услуг и так далее каждый волен пользоваться любым языком. В столице страны Брюсселе основная масса населения (80 %) говорит по-французски, однако права фламандского меньшинства оберегаются весьма тщательно. Во всех учреждениях, в официальной переписке и документации, в устных обращениях гарантируется полное двуязычие. Полицейские, почтовые служащие, муниципальные работники обязаны говорить на двух языках. На двух языках делаются объявления на вокзалах, печатаются телефонные и прочие справочники, то же касается дорожных указателей, названий улиц. Если франкоязычное население компактно проживает во Фландрии, то ему предоставлен режим «языкового благоприятствования»: официальный – фламандский, но говорящим по-французски предоставлено право и возможность обращаться в учреждения, вести официальную переписку и получать документы на французском. Однако чтобы стать бургомистром или занять иную должность, франкоязычный житель должен сдать экзамен на знание фламандского языка [Правда 1989: 13 нояб.].
Пример демократической языковой политики даёт Финляндия, в которой проживает 5 млн финнов и 300 тыс. шведов. Шведский и финский языки в 1919 г. были объявлены государственными. Изучение обоих языков является обязательным в школах, а в системе высшего образования обучение ведётся на любом из них по выбору, так же как и защита дипломов и диссертаций. Из 100 газет 12 издаются на шведском языке. И финны, и шведы слушают выпуски новостей на родном языке. Двуязычны все документы, объявления, на двух языках обращаются к клиентам работники сферы услуг. При вступлении в должность новый глава государства приносит присягу на двух языках. Все служащие обязаны владеть обоими государственными языками.
Своеобразна языковая политика в США, где, как и в Англии, нет ни государственных органов, отвечающих за языковую политику, ни «языковых академий» – законодателей и кодификаторов языковой нормы, как во Франции и Испании. Языковую политику определяют организации, представляющие интересы непривилегированных слоев общества, по существу меньшинств, и реализуют её в рамках официальной защиты прав человека. Языковая политика чаще всего сводится к запрету на официальное употребление некоторых слов и устойчивых словосочетаний, вызывающих у представителей меньшинств негативную реакцию. Negro 'негр' и colored 'цветной' заменены на Afro-American 'афро-америка-нец'. Indian стали Native American, азиаты – Asian-American. Пожилые граждане США как объект покровительства перестали именоваться the aged (the elderly) и получили имя senior citizen 'старшие граждане'. Американских журналистов призывают быть поосторожнее со словосочетаниями old age 'старость', поскольку возрастные границы этого понятия в разных культурах и у разных индивидов относительны. Используются эвфемизмы при обозначении представителей сексуальных меньшинств [Швейцер 1996].
Опыт свидетельствует, что идея государственного языка принимается только в том случае, когда все существующие в стране языки получают статус таковых, как в Финляндии, или когда в условиях многоязычия государственным становится язык меньшинства. Например, один и тот же малайский язык в качестве государственного в двух странах – Индонезии и в Малайзии – воспринимается населением по-разному. Когда в 1928 г. малайский язык был переименован в индонезийский и получил статус государственного, политических осложнений не было. Во-первых, это был язык национального меньшинства в условиях численного и политического преобладания других этносов. Во-вторых, он близок к языкам других этносов и относительно прост в сравнении с яванским. В-третьих, малайский язык давно использовался в качестве средства общения на всём архипелаге. В-четвертых, учитывалось наличие на нём классической литературы. В-пятых, он был авторитетен как средство общения патриотических сил в период национально-освободительной борьбы. Предпочтение, отданное малайскому языку в условиях очень сложной языковой ситуации (напомним: 300 этнических единиц, 180 млн человек, свыше 400 местных языков и основных диалектов), не привело к крупным межнациональным конфликтам на языковой почве.
В Малайзии же, где малайцев 54 % и они занимают господствующие политические позиции, малайский язык в качестве государственного не принимается китайцами, которые составляют 35 % всего населения и доминируют в экономике и торговле. В этих условиях усилилась роль английского языка: судопроизводство в высших инстанциях, издание особо важных указов, постановлений, государственных актов, в высших органах государственной власти и здравоохранении [Кондрашкина 1986].
Логика развития современного мира свидетельствует о тенденции к выработке единого средства общения при сохранении ценности других языков в условиях многоязычия. Так, на Филиппинах национальный тагальский язык внедряется во все сферы общественно-политической и культурной жизни. Это способствует процессам интеграции и консолидации в стране.
В Африке расширяется территория распространения языка суахили. Он является государственным языком Кении и Танзании, на нём говорят в Бурунди, Заире, Малави, Мозамбике, Сомали, Руанде, Судане, на Мадагаскаре и на Коморских островах. Всего говорящих на нём свыше 60 млн. Предполагают, что суахили станет языком общения африканцев.
На Ближнем Востоке и в Египте языковая политика носит характер арабизации. Идеологическая основа её – арабский национализм с девизом: «Объединение всех арабов, поскольку они принадлежат к одной нации, имеют общую историю, язык, культуру, интересы и судьбы». Единый язык призван консолидировать всех арабов, развивать на его основе самобытную арабскую культуру.
Интеграционные процессы в Европе, строительство общеевропейского дома тоже делают актуальными вопросы языковой политики. В Европейском сообществе девять официальных языков (не считая почти 40 диалектов). Создание внутреннего рынка, в рамках которого будет обеспечено свободное движение людей, товаров, услуг и капиталов, связано с решением проблем взаимообщения. Полагают, что в условиях Европы содержанием языковой политики станет многоязычие. Разработана и уже реализуется программа ЕЭС «Лингва» – программа широкого изучения иностранных языков. На эти цели в первые пять лет предполагается потратить 250 млн экю. Официально установлено: знание нескольких языков будет способствовать служебному росту граждан единой Европы.
Характерен пример из истории Турции. В 1928 г. правительство Кемаля Ататюрка пошло на латинизацию турецкого алфавита. Народ, более шести веков писавший по-арабски, сменил письменность. Это стоило огромных усилий, но сегодня Турция – самая динамичная страна исламского мира [Знание – сила. 1994. № 5. С. 5].
Поучительны уроки языковой политики в СССР. После революции в стране развернулось небывалое по масштабу языковое строительство, являющееся частью так называемой культурной революции. Началось оно 26 декабря 1919 г. изданием Декрета Совнаркома о ликвидации неграмотности. За сравнительно короткое время – каких-нибудь 10–15 лет – около 50 народностей получили письменность, были заложены основы соответствующих литературных языков. Это была чрезвычайно сложная задача: надлежало выработать нормы единого национального языка на основе одного или нескольких территориальных диалектов, создать новые алфавиты, грамматики, словари, терминологию, определить пути и меры развития многообразных современных жанров письменного литературного языка, и в частности языка художественной литературы. Эти задачи отечественные лингвисты успешно решили [Исаев 1979].
Языковое строительство продолжается и сейчас. Число ранее бесписьменных народов, получивших письменность, увеличилось до 57. Последняя по времени создания – саамская письменность. Группа специалистов разработала алфавит, на основе которого подготовлен букварь. Готов и русско-саамский словарь, содержащий до 80 тыс. слов [Правда. 1984. 27 апреля].
В условиях многонационального государства русский язык стал средством межнационального общения. Для этого было несколько причин. Во-первых, для большинства населения бывшего СССР (свыше 50 %) он родной язык; во-вторых, русский язык близок украинскому и белорусскому, а восточные славяне составляют 3/4 всего населения СНГ; в-третьих, носители русского языка живут на всей территории бывшего СССР (около 22 млн русских проживали за пределами России, вне своих национальных границ проживает свыше 5 млн украинцев и млн. белорусов); в-четвертых, русский язык издавна был основным средством приобщения народов России к достижениям мировой культуры; в-пятых, на русском языке создана выдающаяся культура, включая русскую литературу XIX в. и отечественную философскую мысль начала XX столетия; в-шестых, русский язык – один из самых развитых языков мира.
Русский язык как средство межнационального общения сыграл свою положительную роль. Об этом убедительно свидетельствуют факты. Ограничимся одним, но ярким примером. Основатель осетинской словесности Коста Хетагуров начал свой путь русским писателем, в русле русской поэзии усовершенствовал свой язык. Первые же его стихи на родном языке в конце XIX в. стали образцом литературного осетинского языка.
Поэты и писатели различных национальностей признают определяющую роль русского языка. Представитель народности манси Юван Шесталов писал: «…Русская речь вывела моё родное слово на просторы мировой поэзии». Такого же мнения придерживается и аварец Расул Гамзатов: «Поэзию моего народа вывело в свет русское слово». Красноречиво признание чукотского писателя Юрия Рытхэу: «Великие русские книги, с которыми я знакомился, оказались хорошими воспитателями, оберегавшими меня от нигилистического отношения к собственной культуре, точно так же, как это делал русский язык по отношению к нашему чукотскому языку».
В своё время известный философ и деятель культуры Ж.П. Сартр советовал литовцу Юстинасу Марцинкявичусу писать на английском, русском или французском, чтобы встать вровень с «литературами великими» и влиять на общемировые процессы.
Интересно мнение писателя Б. Казиева: «Я пишу по-русски, но всегда помню, что я кумык, родился кумыком и не вижу причин, почему бы мне и не умереть им. Я не собираюсь забывать родной язык, но исторически сложилось так, что кумыкский в литературном смысле гораздо беднее русского. Русский обладает куда большими возможностями для поэтического отражения как окружающего нас многообразного внешнего мира, так и мира внутреннего, духовного. Одно это разве не оправдывает моё творческое русскоязычие? И второе – желание говорить с огромным русскоязычным миром, без посредников, напрямую» [См.: Литературная газета. 1989. № 45. С. 3]. В Дагестане, где литература создаётся на девяти языках, а тиражи книг мизерны, русский язык позволяет писателям быть услышанными и понятыми «за порогом родного слова». Благодаря русскому языку во сто крат увеличивается читательская аудитория поэтов из рода даргинцев, лакцев и аварцев. Русский перевод, работа опытных писателей и переводчиков способствуют повышению качества молодых литератур.
Русский язык не имел статуса государственного языка. Повсеместное изучение русского языка определялось его высоким авторитетом. Нарушение принципа федерализма и создание унитарного государства деформировало представление о справедливой языковой политике. Гармоничное национально-русское двуязычие медленно, но неуклонно стало перерождаться в русское моноязычие. Это отрицательно сказалось на многих сторонах жизни общества, на развитии национальных культур и на самом русском языке, который по существу тоже национальный язык русских. Из благих побуждений разрушалось многообразие форм языковой жизни. Старописьменные языки Востока были переведены с уйгуро-монгольской и арабской графики на латиницу, а затем и на кириллицу. Во многих республиках родной язык в дошкольных учреждениях и школах был вытеснен языком русским. Практика языковой жизни общества пришла в кричащее несоответствие с теоретическими положениями языковой политики государства.
В начале 90-х годов национальные и языковые проблемы на территории бывшего СССР обострились до крайности. В суверенных республиках принимаются законы, создающие привилегии языку титульной национальности и дискриминирующие другие языки, в том числе и русский.
Прошло десять лет, и стало очевидно, что пренебрежительное и дискриминационное отношение к русскому языку в бывших республиках СССР нанесло большой вред прежде всего народам новых независимых государств. Академик Национальной академии наук Республики Армения Левон Мкртчян в статье «Русский язык и общий дом» пишет о том, что единое образовательное пространство может быть обеспечено только единым языком, в данном случае русским. Русская культура, благодаря русскому языку, стала сокровищницей и других культур. Вряд ли разумно, полагает академик, предавать забвению неоценимое богатство русского «Витязя в тигровой шкуре», русского Нарекаци, русского Хайяма, русского Франко, русского Махтума Кули, русского Туманяна и Исаакяна, русского Кайсына Кулиева.
Оказалось, что молодым армянам трудно получать высшее профессиональное образование, им трудно без русских учебников и русских научных журналов. Русский язык, как и английский, заменяет несколько языков, так как на русском в прекрасных достоверных переводах широко издается учебная и научная литература. Все, продолжает Л. Мкртчян, поняли, что без русского языка мы станем плохими врачами, плохими строителями, плохими учеными. Преодолевается синдром боязни русского языка как языка, ассимилирующего национальные языки и культуры. Академик цитирует крупных государственных чиновников, которые официально утверждают, что принятие антиармянского закона о русском языке (особо подчеркивается: антиармянского) – это попытка искусственно, хирургически отсечь детей от того огромного достояния, которое заложено в русской культуре и в массе книг на русском языке. Чтобы перевести всё это на армянский язык, потребуются десятилетия и десятки годовых бюджетов. Преподавание русского и иностранных языков признается стратегической задачей Армении, так как имеет большое значение для интеллектуального развития общества.
Русский язык как «великая лингвистическая система» не только обеспечивает взаимопонимание многочисленных народов, живущих рядом и вместе, не только поддерживает единое образовательное пространство в государствах Содружества, но имеет и гражданственную окраску: «Трудно сказать, была ли когда-либо Россия страной демократической. Но со времен Пушкина, Достоевского, Толстого по демократизму, по высокой совестливости её литературы она была и остается первой в мире. По своему языку, своей литературе Россия – страна величайшей демократии. Нет в мире такой страны. И о правах человека заявлено здесь, как нигде в мире, с величайшим состраданием к человеку» [Мкртчян 2000]. Ч. Айтматов заметил, что английский язык по своему устройству – это язык коммуникации, тогда как русский язык таит в себе ещё не реализованную в полной мере духовную энергетику [Книжное обозрение. 2000. № 28. С. 5].
В Законе РСФСР «О языках народов РСФСР», принятом 25 октября 1991 г., русский язык объявлен государственным языком на всей территории России. В пункте 2 статьи 3 Закона сказано: «Русский язык, являющийся основным средством межнационального общения народов РСФСР в соответствии со сложившимися историко-культурными традициями, имеет статус государственного языка РСФСР на всей территории РСФСР». В соответствии с конституциями и законами о языках, принятыми в десяти республиках Российской Федерации, языки титульных народов также объявлены государственными.
Статус русского языка как государственного языка Российской Федерации был подтверждён Конституцией Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 г. Статья 68 Конституции гласит: «1. Государственным языком Российской Федерации на всей её территории является русский язык. 2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации. 3. Российская Федерация гарантирует всем её народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития».
Пример цивилизованных стран с многоязычным населением убедительно показывает перспективность активного двуязычия. Двуязычие – благо, отказаться от которого в наш век значит проявить недомыслие. Родной и русский язык образно сравнивают с правой и левой руками человека. Два языка не только не мешают человеку, но всемерно помогают, дополняя друг друга. Поэтесса Танзиля Зумакулова нашла точные слова:
Язык отцов! С тобой нельзя расстаться, — Тобой живу и – как могу – пою. <…> Но русский есть язык. И он навеки Мне близок и понятен, как родной. Две речи в моём сердце, будто реки, Звучат, текут, становятся одной. Да, заменить родное слово нечем, Расстанусь с ним – наступит немота. Но как представить жизнь без русской речи? Лишусь её – оглохну навсегда («Два языка»)Россия XXI в. обязана определить свою языковую политику, которая в принципе должна исходить не из интересов партий, народных фронтов и государств, а из интересов и прав каждой личности. Ключевым понятием демократической языковой политики должно стать языковое самоопределение личности.
В начале 1996 г. указом Б. Ельцина был создан Совет по русскому языку при Президенте Российской Федерации. Этот консультативный орган рассматривает вопросы, касающиеся поддержки и развития языка. Совет принял участие в разработке федеральной целевой программы «Русский язык», утверждённой постановлением Правительства РФ 23 июля 1996 г. (№ 881). В Программе констатируется, что для современной языковой ситуации характерно развитие процессов, которые негативно сказываются на состоянии русского языка, и формулируются цели: духовное возрождение и обновление России; развитие и поддержка русского языка как национального языка русского народа и государственного языка Российской Федерации; повышение статуса русского языка в современном российском и международном образовательном пространстве, в духовном и культурном обогащении народов России и зарубежных стран; укрепление позиций русского языка как средства межнационального общения народов России и СНГ; расширение функций русского языка как одного из распространенных языков мира; разработка комплекса мер, направленных на пропаганду русского языка и культуры в средствах массовой информации.
Программа состоит из трёх разделов: 1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Государственная политика в области русского языка. 2. Русский язык как национальный язык русского народа, основа его духовной и художественной культуры. 3. Русский язык как мировой язык.
Будучи национальным достоянием общества, язык охраняется и поддерживается государством. Языковая политика направлена на обеспечение оптимального функционирования языка во всех сферах жизни общества. Программа ориентирована на обновление языковой политики, осуществляемой прежде всего путём правового регулирования. На территории России традиционно сложившейся нормой является двуязычие и многоязычие. Государственная политика России в языковой сфере исходит из основополагающего принципа равноправия всех языков независимо от их правового статуса, а также численности и характера расселения носителей языка. Стержнем языковой политики, включая политику в области образования, является стратегия сохранения и упрочения сбалансированного национально-русского и русско-национального двуязычия.
Составители Программы полагают, что дальнейшее развитие и оптимальное использование русского языка во всех сферах его функционирования приведёт к приумножению духовного богатства и экономического могущества российского государства.
Остается напомнить слова отечественного лингвиста: «Русская филология – это первая наука, интересы которой совпадают с интересами России» [Комлев 1998].
Дополнительная литература
Аюпова Л.Л. Государственный язык: дефиниции, статус и функционирование // Вопросы филологии. 2000. № 2. С. 31–37.
Баскаков А.Н. Социолингвистические проблемы тюркеких языков в Российской Федерации // Вопросы филологии. 1999. № 2. С. 21–30.
Герд А.С. Языковая политика // Возрождение культуры России: язык и этнос. Вып. 3. – СПб., 1995. С. 6–19.
Клоков В. Т. Языковая политика во франкоязычных странах Африки. – Саратов, 1992.
Новейшая история языковой полигики Франции: Сборник статей и материалов. – М., 2001.
Языковая политика в школе на пороге XXI века // Русская речь. 2000. № 4. С. 39–43.
12. Коллективистическая ментальность, государственная идеология и язык
Известны два основных типа общества – коллективистическое и индивидуалистическое. Примером первого может служить Древний Египет, второго – Древняя Греция. В истории человечества преобладает коллективистический тип общества, для которого характерно абсолютное главенство некоторого коллектива или группы над человеческой личностью. Коллективизм – социальная система, стремящаяся с помощью любых средств, включая и насилие, перестроить общество во имя достижения некой единой всеподавляющей цели и отрицающая автономию мышления индивида. Разграничивают три основные формы коллективистического мышления: 1) древнее коллективистическое; 2) средневековое; 3) тоталитарное мышление XX в. Для последнего характерны догматизм, авторитарность, традиционализм и консерватизм, символизм, иерархизм, универсализм. Социально-психологическими особенностями коллективизма являются упрощенная манера мотивации; легковерие; аскетизм; утилитарный подход к культуре и науке; любовь к дальнему; любовь к «закону и порядку»; пристрастие к сквернословию; специфически отрицательное отношение к эротике, сексу, вкусам и моде [Ивин 1997: 3–8, 93].
Тоталитаризм, в отличие от тираний древности или абсолютистских монархий феодализма, не ограничивается политическим и экономическим подчинением своих граждан, но стремится овладеть умами людей, чтобы делать последних послушными винтиками государственной машины (подробнее об этом см. [Арендт 1996]). Наиболее эффективно проникновение в сознание человека – через язык. Язык как орудие мышления становится орудием идеологического манипулирования сознанием. Совсем не случайно, что тоталитаризм особое внимание уделяет языку, радикально изменяет его, приспосабливая к фундаментальной задаче – управлять сознанием граждан.
Тоталитаризм в любой стране по сути одинаков, общие признаки обнаруживают и языки тоталитарных режимов. Достаточно сопоставить книгу известного немецкого специалиста по германистике и сравнительному литературоведению В. Клемперера «Язык Третьего рейха» (1946), приложение «О новоязе» к антиутопии английского писателя Дж. Оруэлла «1984» (1948) и рассуждения философа М. Мамардашвили о «советском» языке (1987), чтобы прийти к однозначным выводам. Главный же вывод заключается в том, что тоталитарный режим стремится создать свой язык – «язык Третьего рейха» в нацистской Германии, «советский язык» («советское новоречие» – термин М.К. Мамардашвили) в большевистской России, «новояз» в гипотетической стране победившего «англосоца» – английского социализма. Из этих трёх терминов наиболее популярным стал новояз (new speak) Дж. Оруэлла.
Коренная черта новоязов – это, прежде всего, их предельная упрощённость, лексическая бедность. «…Лексикон новояза, – пишет Дж. Оруэлл, – был ничтожен, и всё время изобретались новые способы его сокращения. От других языков новояз отличался тем, что словарь его с каждым годом не увеличивался, а уменьшался» [Оруэлл 1982: 201].
В. Клемперер, во времена гитлеризма отслеживавший состояние немецкого языка в Германии, в своей книге-бестселлере «Язык Третьего рейха: из записной книжки филолога», вышедшей в свет сразу же после Второй мировой войны, убедительно показывает, как язык Третьего рейха после 1933 г. из языка группы превращается в язык нации, т. е. вторгается во все общественные и частные сферы жизни – политику, юрисдикцию, экономику, искусство, науку, образование, спорт, семью, детские сады и ясли. Этот язык подчиняет себе и армию. В документальной повести «Чужие и свои» М. Черненко, в годы войны угнанного в Германию, есть заметка об особенностях немецкого языка того времени. Так, слово «фюрер» стало повсеместным. Директор фабрики именовался Betriebsfiihrer 'вождь предприятия', управляющий любой конторой – Geschaeftsfiihrer. Даже машинист тепловоза назывался Lokomotiv– или даже Locfiihrer.
Язык Третьего рейха, пишет В. Клемперер, беден, как нищий. Везде и всюду используются одни и те же клише, одни и те же интонации. Предельно организованная тирания следит за тем, чтобы учение национал-социализма не подвергалось искажению нигде, в том числе и в языке. Из-за своей нищеты, делает вывод немецкий учёный, новый язык становится всемогущим.
Наши соотечественники в советское время недоумевали, почему «великий и могучий» русский язык беспрестанно беднел, искали причины резкого его обнищания, пытались этому воспрепятствовать и не понимали, что помешать этому в условиях тоталитарного государства принципиально невозможно. Русский язык неуклонно превращался в «советский язык», в основе которого лежал «партийно-хозяйственный диалект». Корней Иванович Чуковский, говоря о переводчиках художественной литературы, грустил: «Запас синонимов у них скуден до крайности. Лошадь у них всегда лошадь. Почему не конь, не жеребец, не рысак, не вороной, не скакун…? Почему многие переводчики всегда пишут о человеке – худой, а не сухопарый, не худощавый, не тщедушный, не щуплый, не тощий? Многие переводчики думают, что девушки бывают только красивые. Между тем они бывают миловидные, хорошенькие, смазливые, пригожие, недурные собой – и мало ли еще какие!» (Чуковский К.И. Высокое искусство). О постоянном обеднении словаря прессы говорят статистические наблюдения. Индекс разнообразия (количество лексем в речевом отрывке из тысячи слов) менялся так: 1911 г. – 112–114, 1940 г. – 54, 1945 г. – 58, 1961 г. – 54.
Зарождение «советского языка» гениально отразили М. Зощенко, Н. Заболоцкий и А. Платонов. «Им принадлежит первенство в попытках особого описания людей неописуемых, странных, говорящих на языке, который можно было бы назвать языком управдомов» [Мамардашвили 1991: 48].
Великий русский писатель Иван Бунин одним из первых показал, как приход новой идеологии отражается на языке: «…Образовался совсем новый, особый язык… сплошь состоящий из высокопарнейших восклицаний вперемешку с самой площадной бранью по адресу грязных остатков издыхающей тирании. Всё это повторяется прежде всего потому, что одна из самых отличительных черт революций – бешеная жажда игры, лицедейства, позы, балагана. В человеке просыпается обезьяна» [Бунин 1990: 91]. Аналогичные наблюдения были сделаны и во времена Великой французской революции. Французские авторы О. Кабанес и Л. Насс в книге «Революционный невроз» выделяют специальный отдел «Фанатизм языка», состоящий из двух глав – «Уравнительное «ты»» и «Возникновение прозвища «гражданин»». Авторы делают вывод о том, что революция отразилась не только на учреждениях и на людях, но и на самом языке. Санкюлотный говор-жаргон стал обязательным для всех. Обязательным стало вскоре и обращение на «ты», которое оказалось неразлучным с грубостью [Кабанес, Насс 1998: 459, 463].
«Обезьяна» начинается со сквернословия. По мнению историка, волна матерной брани в советской России «была вызвана перенесенными тяжелыми испытаниями, скудостью жизненных благ, недостатком образования и общей культурой. Но во многом эту волну поддерживало и, так сказать, вдохновляло обильное сквернословие на высшем уровне власти, когда высокие партийные чиновники, министры, а за ними и все нижележащие ступени партийно-бюрократичес-кой пирамиды считали сквернословие в присутствии подчиненных «хорошим тоном» и верным показателем «близости к народу» и отсутствия всякого зазнайства. Особенно часто был в ходу вульгарный синоним слова «проститутка», употреблявшийся независимо от пола человека, и обвинение в гомосексуализме, особенно обидное, когда оно адресовалось лицу, не замеченному в каком-либо извращении. Функции, выполнявшиеся ругательствами, были разнообразными. Бранные слова вызывали у оскорбляемого человека негативные чувства, причиняли ему моральный урон, принижали его в собственных глазах. Одновременно ругательство возбуждало и подбадривало самого его автора. Ругательство служило также одним из самых простых и удобных способов разрядки, снятия напряжения. К ругательствам обращались также, чтобы показать принадлежность к определенной социальной группе, наладить «непринужденное общение», продемонстрировать, что ты «свой». И, наконец, бранные слова иногда служили не для оскорбления, а для похвалы» [Ивин 1997: 267]. Одним словом, «матерились так густо, что обычное слово вроде «аэроплана» резало слух, как изощренная похабщина», – свидетельствует поэт [Бродский 1999: 14].
Однако не следует думать, что господство мата в общении людей свойственно только россиянам советской эпохи. Пристрастие к ругательствам – характерная черта коллективистических обществ. Блестящий знаток истории и культуры Европы средних веков Й. Хейзинга в книге «Осень Средневековья» пишет об «эпидемии ругательств» в средневековом европейском обществе: «В позднем Средневековье ругань ещё обладает той привлекательностью дерзости и высокомерия, которые делают её сродни чему-то вроде благородного спорта… Один другого старается перещеголять по части остроты и новизны бранных выражений; умеющего ругаться наиболее непристойно почитают за мастера. Сперва во всей Франции… ругались на гасконский или английский лад, затем на бретонский, а теперь – на бургундский… Бургундцы приобрели репутацию наипервейших ругателей» (Цит. по: [Ивин 1997: 176–177]). Симптоматично, что в 1397 г. во Франции был обнародован ордонанс (указ) о наказании за ругательства через рассечение верхней губы и отрезание языка. В советском тоталитарном обществе сквернословие официально не пресекалось, как не пресекается в современной России сейчас.
Яркой приметой тоталитарных языков является их клишированность, стремление использовать готовые речевые блоки. Клише новояза, как правило, ориентированы на абстрактный, условный референт (объект), либо на референт отсутствующий [Земская 1996: 23]. Пример такого рода – слово выборы в советское время, когда выбора фактически не было. Когда же времена изменились и выбор стал действительно выбором, то появилось тавтологическое по существу словосочетание альтернативные выборы. «Язык этот состоит из каких-то потусторонних неподвижных блоков, представляющих собой раковые образования. В самом деле: ну как можно мыслить, например, такими словосочетаниями: «овощной конвейер страны»? За этим языковым монстром сразу возникает образ этаких мускулистых, плакатных молодцов у конвейера. Увидеть же или помыслить о том, что в этот момент происходит с овощами, решительно невозможно. Вы сразу как бы попадаете в магнитное поле и несётесь по нему в направлении, заданном его силовыми линиями» [Мамардашвили 1990: 167]. Не случайно, что особенно много блоков было в советском философском языке, который напрямую обслуживал идеологические потребности тоталитарного строя: «Тексты чудовищной скуки, написанные на языке, который можно назвать деревянным, полным не слов, а каких-то блоков, ворочать которые действительная мысль просто не в состоянии» [Мамардашвили 1991: 50].
Тоталитарный язык ориентирован на сокрытие правды, а потому он полон эвфемизмов, таких, например, как воин-ин-тернационалист, ограниченный контингент советских войск в Афганистане и др. из «советского языка», министерство мира (о Министерстве обороны), радлаг (лагерь радости – о каторжном лагере) из новояза Дж. Оруэлла. «…Пропаганда… отличается особым презрением к фактам как таковым» [Арендт 1996: 462].
Слова тоталитарных языков лишаются смысла, асемантизируются. Так, одним из самых частых слов советского периода было слово план. «О каком плане, – недоумевал М.К. Мамардашвили, – идёт речь, когда используется словосочетание «перевыполнить план»? План, который перевыполняют, не есть план» [Мамардашвили 1990: 205]. План лишен своего общепринятого смысла и на самом деле обозначает механизм внеэкономического принуждения. Столь же далеки от привычного смысла речевые образования морально-политическое единство народа, ошибки, отклонения, необоснованные репрессии (как будто бывают обоснованные), ложный навет, перегибы и т. п.
Все тоталитарные языки обнаруживают особое пристрастие к сложносокращенным словам (наци, гестапо, Коминтерн, чека, агитпроп и др.). Сокращение слов, полагал Дж. Оруэлл, приводит к утрате ими культурно-исторической коннотации, а это как раз и есть одна из целей новояза – вырвать личность из контекста прежней культуры, лишить его способности размышлять. «Слова «Коммунистический Интернационал» приводят на ум сложную картину: всемирное человеческое братство, красные флаги, баррикады, Карл Маркс, Парижская коммуна. Слово же «Коминтерн» напоминает всего лишь о крепко спаянной организации и жёсткой системе доктрин… «Коминтерн» – это слово, которое можно произнести, почти не размышляя, в то время как «Коммунистический Интернационал» заставляет пусть на миг, но задуматься», – рассуждал Дж. Оруэлл. «…Сократив таким образом имя, ты сузил и незаметно изменил его смысл, ибо отрезал большинство вызываемых им ассоциаций» [Оруэлл 1982: 205].
Считается, что языковые изменения подобны изменениям в искусстве и моде, а потому не всегда имеют рациональное объяснение. В качестве примера приводили моду на аббревиацию в первые годы после октябрьского переворота 1917 г.
К.И. Чуковский записывает в дневнике: «Теперь время сокращений: есть слово МОПС – оно означает Московский Округ Путей Сообщения. Люди, встречаясь, говорят: ЧИК, – это значит: честь имею кланяться» [Чуковский 1990: 156]. По мнению русского лингвиста С.И. Карцевского, следившего за изменениями в родном языке из эмиграции, замена полных наименований учреждений аббревиатурами – это стремление придать им «революционный», «рабоче-крестьянский» вид [Карцевский 1999: 35].
На самом деле причина явления иная, и весьма глубокая. Такое, казалось бы, безобидное языковое явление, как аббревиация, может обнаруживать несколько зловещий аспект. Литературовед В. Турбин заметил, что сущность аббревиации – сокращение жизни слова (имени, понятия), сокращение его длительности, устранение его тела. Аббревиация – одна из разновидностей казни слова (эта казнь активна в то время, когда в обществе осуществляются массовые репрессии). Аббревиатуры, продолжает В. Турбин, могут рождаться только в обществе, которое не верит в некое продолжение себя [Турбин 1996: 88–89]. О «дурацких словах с отъеденными хвостами типа продмаг, завуч, домуправуу вспоминает Вас. Катанян [Книжное обозрение. 1997. № 31. С. 6].
Тоталитарные режимы единодушно дискредитируют ключевые слова культуры, ставят их под сомнение, отсюда обилие иронических кавычек у нацистов и незначительное количество утверждающих восклицательных знаков. Этот же режим рождает и ключевые слова своей эпохи. Об одном таком слове – халтура – рассуждает лингвист [Карцевский 1999: 34–38]. Много интересного расскажет не так давно изданный «Толковый словарь языка Совдепии» [Мокиенко, Никитина 1998].
Парадоксально, но факт: тоталитаризм поставил убедительный эксперимент, выявляющий неразрывную связь языка с мышлением. М.К. Мамардашвили объясняет это обстоятельство следующим образом: «В языке как таковом есть всё. Что бы вы ни помыслили, в том числе и новое, вы должны это новое назвать. Вы называете помысленное словом, а слово уже существует. И если представить, что наш язык, имеющий в себе всё, заполнился внеисторическими образованиями, этакими потусторонними блоками, то необходимо признать, что если я, например, что-то испытав, лично пережив, хочу сейчас это высказать, то я оказываюсь в ситуации, когда изображение этого моего высказывания уже существует. Более того, это изображение мне говорит: то, что ты помыслишь и почувствуешь, должно быть вот таким…. Опутывая нас словами-блоками, ирреальный мир начинает властвовать над нами, не имея на то никаких прав…» [Мамардашвили 1991: 50–51].
Предназначение новояза – сузить горизонты мысли, а в пределе – разрушить язык, чтобы стала невозможной сама мысль. Чем меньше слов, тем меньше искушение задуматься. Задача тоталитарного языка состоит в том, чтобы сделать речь – в особенности такую, которая касается идеологических тем, – по возможности независимой от сознания. В конце концов, иронизирует Дж. Оруэлл, членораздельная речь будет рождаться непосредственно в гортани, без участия высших нервных центров [Оруэлл 1982: 206]. Идеал такого развития – «рече-кряк».
Новояз перестаёт быть языком личности. «В пространстве этого языка почти нет шансов узнать, что человек на самом деле чувствует или каково его действительное положение» [Мамардашвили 1990: 201]. Тоталитарный язык – это ритуальное действие унифицированной массы, язык массового фанатизма. В. Клемперер отмечает, что само слово «фанатизм» в фашистской Германии лишается привычной для нормального языка отрицательной коннотации; напротив, гитлеровцы полагали фанатизм национальным благом. Язык-мысль превращается в язык-заклинание. В новоязах нет различия между устной и письменной речью. Преодоление мыслительной и языковой конкретики приводит к господству «историчности». Рейх может быть только тысячелетним, а решения партийных съездов – историческими и судьбоносными. X. Арендт объясняет это тем, что «язык пророческой научности соответствует желаниям масс, потерявших своё место в мире и теперь готовых к реинтеграции в вечные, всеопределяюгцие силы, которые сами по себе должны нести человека, как пловца, на волнах превратности судьбы к берегам безопасности» [Арендт 1996: 462].
Господствующий язык тоталитарного режима встречает в обществе внутреннее противодействие, которое реализуется в различных формах. Это может быть, во-первых, своеобразный антитоталитарный язык, образец которого на примере социалистической Польши описан лингвистом А. Вежбицкой. Такой язык складывается из новых экспрессивных слов, которые легко усваиваются и широко употребляются потому, что вкладываемое в них говорящими прагматическое значение легко определить (на подсознательном уровне) с помощью их формальных и синтаксических связей с другим словами [Вежбицкая 1993: 123].
Во-вторых, возможен индивидуальный антитоталитарный протест писателя или поэта, о котором пишет Ф. Искандер: «Талантливый поэт или уходит в подполье главной частью своего творчества, или зашифровывает стихи, при этом сам процесс зашифровки превращается в часть поэтического вдохновения. Находка шифра приравнивается к политической находке» [Искандер 1992: 3]. Для репрессированного А.И. Солженицына своеобразным протестом против языка тоталитарной культуры явилась идея «языкового расширения». Мат в устах масс в каком-то смысле служит противоядием преимущественно «позитивному», навязчивому монологу власти. Правда, добавляет автор этих слов И. Бродский, в повседневной русской речи объем этого противоядия превышает лечебную дозу [Бродский 1999: 212].
В-третьих, формой противодействия может стать использование языка одной из субкультур – лагерного жаргона. Лагерный новояз возник на основе воровского жаргона 1920-х гг., которым одно время увлекались поэты-конструктивисты (например, Илья Сельвинский). Писатель-фантаст Сергей Снегов в очерке «Язык, который ненавидит» характеризует отличительные черты лагерной речи как речи ненависти, презрения, недоброжелательства, обслуживающей вражду, а не дружбу, выражающей вечное подозрение, страх предательства, ужас наказания, речи глубоко пессимистичной, уверенной в том, что все вокруг мерзавцы и ни один человек не заслуживает хорошего отношения. Это «уродливый, пугливый, скрытный, предательский, жестокий, двусмысленный, гнусный, глубоко укоренившийся роковой язык» (Гюго В. Отверженные, кн. 7). Главная методологическая установка – принцип оскорбления. В лагерном языке нет мышления, нет и возможности интеллектуальной беседы.
Парадокс состоит в том, что блатной жаргон столь же скудный, как и официальный новояз, долгие десятилетия подпитывал народную речь русского населения Советского Союза. Сотни тысяч возвращавшихся из лагерей сограждан несли жаргон в язык миллионов. Элементы лагерной «фени» становились на года модой для молодежи и интеллигенции [Бердинских 1998: 130]. Часть слов лагерного жаргона усилиями публичных политиков и средств массовой информации вошла в широкий речевой обиход (например, тусовка, разборка, беспредел и др.).
Когда заканчивается время тоталитаризма, новояз не сразу сходит со сцены. С одной стороны, его элементы долго ещё присутствуют в речи граждан, с другой – он озвучивается в самих формах его преодоления, например, в стёбе, роде интеллектуального ёрничества. Яркий пример – заголовки в газетах типа: «Призрак бродит по Европе и через СНГ бредёт дальше в Азию» (Литгазета. 1995. 31 мая), «Телевизор как зеркало русской революции» (Известия. 1993. 26 апр.), «Колбаса как зеркало русской революции» (Известия. 1996. 20 нояб.) [Земская 1996: 25]. Тоталитаризм официально дискредитирован, но коллективистическое мышление в обществе может сохраняться достаточно долго, определяя его ментальность.
Крайности сходятся. В США, считающихся оплотом демократии, когда торжествует идеология прав человека как высшей ценности, когда общество накладывает табу на многие привычные понятия и слова типа негр (национальное меньшинство), гомосексуалист, лесбиянка (сексуальное меньшинство) и т. д. и т. п., американский вариант английского языка вдруг приобретает признаки новояза – высокую степень клишированности, демагогическое манипулирование языком с целью сокрытия подлинного смысла, использование условных эвфемистичных наименований, избегание прямых номинаций, – признаки, в сумме обозначаемые термином политическая корректность. Негр становится афро-американцем или афро-канадцем, а толстяк – персоной, «имеющей проблемы в горизонтальном измерении» [Земская 1996: 25].
Дополнительная литература
Купина Н.А. Тоталитарный язык: Словарь и речевые реакции. – Екатеринбург, 1995.
Сарнов Б. Наш советский новояз: Маленькая энциклопедия реального социализма. – М., 2002.
13. Система языка. Внутренняя организованность языка
13.1. Понятие системности и структурности
Мысль о том, что язык представляет собой не механическую совокупность внутренне независимых явлений, а упорядоченное единство взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов, присутствует уже в древнеиндийской грамматике Панини, в философско-лингвистических рассуждениях В. Гумбольдта, в концепции языка как организма А. Шлейхера, в работах отечественных лингвистов конца XIX – начала XX в. А.А. Потебня писал: «…Язык… система, есть нечто упорядоченное, всякое явление его находится в связи с другими. Задача языкознания и состоит именно в уловлении этой связи, которая лишь в немногих случаях очевидна» [Потебня 1989: 209]. Системный характер языка выдающийся филолог показывает на примере гласных звуков: «В какое бы необыкновенное положение мы не привели свои органы и как бы ни был странен произнесенный таким образом гласный звук, всегда он найдёт определенное место в ряду, гласными точками которого служат простые гласные а, и, у, и может быть объяснен этим рядом приблизительно так, как сложные звуки е, о, которые в индоевропейских языках произошли первое из сш, второе из ау. Гласные представляют для нас такую же замкнутую, строго законную, имеющую объективное значение систему, как музыкальные звуки и цвета. Мы чувствуем, что так же напрасно было бы усилие выйти за пределы семи цветов радуги, как и за пределы основных звуков» [Потебня 1989: 86]. Чёткое выражение идея системности получает в учении Ф. де Соссюра.
Переход от механистическо-метафизических представлений о действительности к системно-структурному наметился в естественных и гуманитарных науках в середине XIX– начале XX в. Идея структурности реализовалась в философии (К. Маркс), химии (A.M. Бутлеров, Д.И. Менделеев), физике (Н. Бор, Э. Резерфорд), языкознании (А.А. Потебня, И.А. Бодуэн де Куртенэ, Ф.Ф. Фортунатов, Ф. де Соссюр).
Принцип структурности в науке обусловлен сложным, системным характером самого исследуемого объекта в предельно широком смысле – окружающей действительности, включая самого человека. «…Вся природа, – писал Ф. Энгельс, – простирается перед нами как некоторая система связей и процессов» [Маркс, Энгельс 20: 513].
Освоение идеи системности широким кругом наук, результативность системно-структурного подхода к изучению разнообразных естественных и социальных объектов привели к возникновению в 30-е гг. XX столетия общей теории систем. В общей теории систем более или менее общепринятым является представление о том, что система – это целое, образованное согласованием, взаимоподчинением составляющих его частей. Система отличается от простой механической совокупности прежде всего своим диалектическим свойством: количественные изменения единиц и отношений обязательно ведут к качественным сдвигам в системе.
Все многообразные системы сводятся в два класса – материальные и идеальные. В первых системах объекты материальны и находятся в определенных отношениях. Примером может служить любой живой организм. Материальные системы, в свою очередь, делятся на первичные, в которых элементы значимы сами по себе и не зависят от индивидуального или общественного сознания людей, и вторичные, элементы которых значимы в силу приписанных им свойств и возникают благодаря деятельности людей (например, язык). В идеальных системах элементами служат абстрактные объекты (понятия, идеи), связанные определенными отношениями, например система взглядов учёного [Солнцев 1971].
Сложные системы отличаются сложностью структуры (числом элементов и связей между ними) и разнообразием и обнаруживают такие сущностные свойства, как эмергентность (сложное целое не есть сумма частей, оно обладает неким качеством, ни одной из его частей в отдельности не присущим); адаптивность (умение приспосабливаться к среде); самоорганизация (способность менять свою структуру неким разумным, целесообразным путём).
Первоначально термины система и структура употреблялись как синонимы. Неразграниченностью этих понятий объясняется тот факт, что лингвисты, поставившие в центр внимания системные свойства языка, получили название структуралистов. Однако дальнейшее развитие теории систем и практика конкретных исследований привели к мысли о необходимости строгого разграничения этих понятий. Большинство исследователей пришло к выводу о том, что термином система обозначается объект как целое, а термином структура – совокупность связей и отношений между составляющими элементами. Структура, таким образом, является атрибутом системы. Система – понятие синтетическое, а структура – аналитическое. «…Под системой понимается совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов, образующих более сложное единство, рассмотренное со стороны элементов – его частей, а под структурой – состав и внутренняя организация единого целого, рассматриваемого со стороны его целостности» [Мельничук 1970: 48–49].
Итак, система – это известным образом упорядоченное иерархическое целое, обладающее структурой, воплощенной в данную субстанцию, и предназначенное для выполнения определенных целей [Общее языкознание 1972: 30]. Существенным свойством системы является несводимость её свойств к простой сумме свойств составляющих её элементов.
Языковая система обладает несколькими типами единиц, из которых наиболее определенными и общепринятыми являются фонема, морфема, лексема. Они были интуитивно выделены задолго до утверждения в языкознании принципа системности. Эти единицы фигурируют в двух видах – абстрактном и конкретном. Так, абстрактная единица фонемного яруса – фонема – всегда выступает в виде аллофонов (аллофон – материализация абстрактного понятия фонемы), морфема выступает в виде алломорфов (конкретных реализаций морфемы) и т. д.
13.2. Отношения внутри языковой системы
Все отношения между единицами языковой системы сводятся к трём типам – отношения парадигматические, синтагматические и иерархические.
Парадигматические отношения (Ф. де Соссюр называл их ассоциативными) – это отношения выбора, ассоциация. Они основаны на сходстве и различии означающих и означаемых единиц языка. Парадигму составляют единицы, взаимоисключающие друг друга в одной позиции. Примером парадигматических отношений может служить совокупность всех падежных форм одного слова (стол – стола – столу…), форм спряжения (бегу – бежишь – бежит), всевозможные значения слова, синонимические ряды, чередования звуков и т. п. Элементы, находящиеся в парадигматических отношениях, составляют класс однотипных явлений.
Синтагматические отношения – это отношения единиц, расположенных линейно (например, в потоке речи). Синтагматические отношения понимаются как способность элементов сочетаться. Фонемы, подчиняясь определенным закономерностям сочетаемости, образуют морфемы, те составляют слова и т. д. В языке синтагматика понимается как потенция, в речи – как реализация этой потенции.
Иерархические отношения – это отношения структурно более простых языковых единиц с более сложной единицей. Фонема входит в морфему, морфема – в слово (лексему) и т. д.
Отношения внутри языковой системы не являются изолированными, они определяют друг друга. Синтагматические свойства языка зависят от его парадигматики. Сравним лексему, не имеющую синонимов, с лексемой, входящей в синонимический ряд. В первом случае, где нет парадигмы, лексема обладает широкой сочетаемостью (например, термин), во втором случае возможность широкого выбора из синонимического ряда уменьшает употребительность каждого синонима. С другой стороны, изменение сочетаемости приводит к изменениям парадигматики. Например, употребление двух фонем в одинаковой позиции может привести к избыточности одной из них и выпадению её из системы языка. Парадигматические отношения могут проявляться как синтагматические в виде речевой цепочки синонимов («Время бежало, мчалось, летело»), однородных членов предложения, уточняющих членов предложения и т. д. В этом случае выбор языковой единицы осуществляется не до момента речи, а в процессе её.
Роль отношений как фактора языковой системы часто преувеличивается. Структуралисты, особенно представители копенгагенского направления, всё внимание сосредоточили на изучении отношений, считая их основным фактором языка. Преувеличение роли отношений в структуре языка приводит к отрыву языка от неязыковой действительности. Справедлива мысль о том, что «свойства данной вещи не возникают из её отношения к другим вещам, а лишь обнаруживаются в таком отношении» [Маркс: 23: 67]. Все объекты языковой системы существуют в силу общественной необходимости, только они формируют отношения в системе, и через их применение изменяются сами отношения. Объект более постоянен, чем отношения.
Парадигматические и синтагматические отношения связывают языковые единицы одинаковой степени сложности: фонемы с фонемами, морфемы с морфемами и т. д. Иерархические отношения объединяют единицы различной степени сложности. Противопоставление парадигматических и синтагматических отношений, с одной стороны, и иерархических, с другой, отражает особое свойство языковой системы – её разноуровневый характер. Языковая система не является однородной, она состоит из более частных систем, которые называются уровнями, или ярусами. Поскольку слово уровень имеет два значения: «подсистема» и «разные этапы исследования», проф. Ю.С. Маслов предлагал употреблять термин ярус.
13.3. Ярусная организация языковой системы
Идея ярусной организации системы возникла в биологии. Американскими структуралистами она была использована в языкознании. Как и в биологии, в языкознании понятие уровня связано с качественным своеобразием, но, в отличие от биологии, где между ярусами существует эволюционное отношение (высший ярус развивается из низшего), в языке между ярусами – отношение компонентности (вхождение одного яруса в другой).
На каждом ярусе между единицами возможны только парадигматические и синтагматические отношения, между единицами разных ярусов – только иерархические отношения. Это означает, что в парадигму нельзя объединить фонему, морфему и лексему, в линейной последовательности мы можем говорить о сочетаемости единиц только одного типа: о сочетаемости фонем, но не о сочетаемости фонем с морфемами. Поскольку отношения единиц в пределах каждого яруса однотипны – это или синтагматические, или парадигматические отношения, – то специфику яруса определяют не они, а единицы. От качественной стороны единиц и их количества зависит выделение каждого яруса и определение числа ярусов. Ярусом, таким образом, называется набор относительно однородных единиц одинаковой степени сложности [Солнцев 1971: 80–81].
Ярусы отличаются также особым соотношением плана выражения и плана содержания. Например, на уровне фонем или дифференциальных признаков фонем преобладающим является план выражения, на уровне лексемном и синтаксемном превалирует план содержания. Более высокий уровень обладает большим количеством единиц и большей вариативностью каждой единицы.
Каждый ярус качественно своеобразен, и переход от одного к другому означает принципиальное изменение качества и функции. Существенно отметить особое свойство языковых единиц: они формируются на низшем ярусе, а функционируют на верхнем. Например, фонема строится на фонемном ярусе, а функционирует на морфемном в качестве различительной единицы. Морфемы, в свою очередь, функционируют на лексическом ярусе. Это свойство языковых единиц связывает ярусы языка в единую систему, диалектически объединяя качественную определенность и многообразие.
Различают ярусы основные и промежуточные. Основные ярусы – ярусы минимальных, т. е. с той или иной точки зрения далее неделимых единиц: предложение – минимум высказывания, лексема – минимальный синтаксически неделимый компонент предложения, морфема – наименьшая значащая единица и т. д. Своеобразие и проблематику языковых ярусов покажем на примере некоторых ярусов.
Фонемный ярус
Фонетика как раздел языкознания имеет многовековую традицию. С грамматики Панини до фонетических работ младограмматиков XIX в. звуки речи были в центре внимания и описывались в двух аспектах – артикуляционном и акустическом. Двуаспектный подход к звуку речи в конце XIX в. обнаруживает свою ограниченность. Детально описывая артикуляцию каждого звука речи и акустические характеристики его, фонетисты не могли не заметить бесконечного физического разнообразия звука. В то же время беспредельное варьирование звуков речи никоим образом не мешает процессу восприятия. Видимо, помимо физиологической и акустической сторон, звук речи обладает ещё одной существенной стороной, относящейся в области функционирования.
Первым на необходимость учёта функционального аспекта звуков речи обратил внимание кавказовед П. Услар. Эта мысль о несовпадении физических и функциональных свойств звуков легла в основу теории Бодуэна де Куртенэ, получившей позже название фонологической. Центральным понятием теории стала фонема, определяемая Бодуэном с психологических позиций как звук, различный в исполнении, но одинаковый в представлении. Исследуя природу фонемы, Бодуэн подходил к ней двояко: 1) фонема – это звуковой тип, класс физически сходных звуков; 2) фонема – это такие звуки, тождество которых определяется через тождество морфем.
Идеи Бодуэна де Куртенэ плодотворно разрабатывались русскими и зарубежными лингвистами. В 1939 г. выходит книга Н.С. Трубецкого «Основы фонологии», которая представляет собой первое и законченное изложение основ фонологии с точки зрения реляционно-физической теории фонемы; благодаря своему системно-структурному подходу к языковым явлениям книга стала, говоря словами одного отечественного лингвиста, библией структурализма. По Э. Сепиру, звуки речи лишены структуры. «Если рассматривать язык как постройку и его значащие элементы как кирпичи этой постройки, то звуки речи можно было бы сравнить лишь с бесформенной и необожженной глиной, из которой сделаны кирпичи» [Сепир 1993: 43].
Фонологию сейчас рассматривают как некую философию фонетики, как своего рода «Серебряный век» фонетики, как очень «русский» феномен [Елистратов 2000].
Для Н.С. Трубецкого, как и для всей школы пражского структурализма, фонема является единицей противопоставления, способной различать морфемы или слова. У звука речи множество свойств, но не все эти свойства учитываются слушающими. Например, в словах суд и сад первый звук [с] звучит по-разному: в первом слове он огублен под влиянием следующего гласного [у], во втором слове [с] является неогубленным. Различие лабиальности/нелабиальности согласного для русского языка не является существенным, а вот противопоставление [у] и [а] в этих словах существенно, оно различает смысл слов. Н.С. Трубецкой выделяет с этой точки зрения фонологические и нефонологические противопоставления. Фонологические противопоставления дают разные фонемы, нефонологические – варианты фонем. Н.С. Трубецкой здесь противопоставляет фонетику и фонологию.
Каждая фонема, в свою очередь, состоит из целого ряда фонетических характеристик. Одни из этих характеристик существенны (релевантны) для фонемы, например, твёрдость/мягкость русского согласного, долгота/краткость чешского согласного. Другие характеристики несущественны (нерелевантны), например лабиальность согласного, долгота/ краткость гласного в русском языке. По Трубецкому, фонема – это сумма существенных (релевантных) признаков. Позже это определение ляжет в основу теории дифференциальных признаков фонемы. Известный этнолог К. Леви-Строс резюмировал сущность теории Н.С. Трубецкого: «…Фонология переходит от изучения сознательных лингвистических явлений к исследованию их бессознательного базиса; она отказывается рассматривать члены отношения как независимые сущности, беря, напротив того, за основу своего анализа отношения между ними; она вводит понятие системы» [Леви-Строс 1983: 35]. Теория Трубецкого, основанная на релятивности (относительности) физических свойств звуков речи, критиковалась представителями различных фонологических школ.
Иным путём пошёл ученик Бодуэна де Куртенэ Л.В. Щерба. Он акцентирует внимание на физических свойствах звука речи и его смыслоразличительной функции. Звуковая сторона, по Щербе, обладает известной автономностью. «…Если данное противопоставление фонологично, то каждая фонема, являясь членом такого противопоставления, есть автономная единица звуковой стороны языка» [Зиндер 1967: 85]. Фонема реализуется в отдельных звуках речи, так называемых оттенках, из которых один является типичным. Л.В. Щерба развивает здесь положение Бодуэна о фонеме как звуковом типе. Взгляды Щербы на фонему как звуковой тип, выделяемый в языке благодаря самостоятельности его качества и способности противопоставляться друг другу в сходных фонетических условиях, легли в основу концепции Ленинградской фонологической школы (ЛФШ), представленной Л.В. Щербой, Л.Р. Зиндером, М.И. Матусевич, Л.В. Бондарко и др. ЛФШ, в отличие от Трубецкого, не противопоставляет резко фонетику и фонологию. Напротив, аргументы в пользу истинности своей концепции ленинградцы ищут в фонетике. Их заслугой является дальнейшее развитие экспериментальной фонетики.
Мысль Бодуэна о тождестве фонем в тождественных морфемах легла в основу Московской фонологической школы (МФШ). Основы концепции этой школы заложены в работах Н.Ф. Яковлева и в первом приближении были сформулированы в статье «Математическая формула построения алфавита». Яковлев определяет в ней как одну фонему все позиционно альтернирующие (чередующиеся) звуковые единицы, когда они связаны главными чередованиями. Представители МФШ – Р.И. Аванесов, П.С. Кузнецов, А.А. Реформатский, В.Н. Сидоров, A.M. Сухотин и их ученики.
Существенное различие концепций Ленинградской и Московской школ А.А. Реформатский сформулировал так: «В этих двух направлениях речь идёт о разных предметах: в Ленинградской школе – о звуковом типе реальных звучаний в речи без учёта роли данных явлений в морфеме, а в Московской школе – о «подвижном элементе морфем», о единице, получающей «языковую ценность» и «рассматриваемой лингвистически» без всякой оглядки на «звуковой тип» [Реформатский 1970: 12].
МФШ не признаёт автономии фонетики, которая через морфонологию тесно связывается с морфологией. Фонему нужно рассматривать как элемент морфемы, и только на основе тождества морфем можно выявить ту или иную фонему. Если ЛФШ преодолевает разрыв между фонологией и фонетикой, то МФШ связывает воедино фонологию с морфологией.
Аргументируя необходимость учёта морфологических данных при объяснении фонетических процессов, А.А. Реформатский разбирает пример с двумя словами купаться и пяться. Сочетание звуков [т'с'] в сходных фонетических условиях ведёт себя по-разному: в первом случае [т'с'] переходит в [ц], во втором – этого перехода нет. Объяснить это можно только морфологически: перед нами разные грамматические формы глагола [Реформатский 1970: 59].
Как утверждают А.А. Реформатский и Л.Р. Зиндер, в основе концепции лежит понятие позиции. «…Позиция – это условия употребления и реализации фонем в речи» [Реформатский 1970: 115]. По способности фонологических противопоставлений различаются сильная и слабая позиция: «…Сильная позиция – это позиция благоприятная для выявления функции фонем, а слабая – неблагоприятная, ущербная» [Реформатский 1970: 110].
Фонемы выполняют две функции – узнавания (перцептивная функция) и различения (сигнификативная функция). В зависимости от функции в одних и тех же слабых позициях будут совершенно различные результаты. Перцептивно слабая позиция даёт вариации, а сигнификативно слабая позиция – варианты. Например, в словах [мат, м'ат, мат', м'am'] звук [а] находится в перцептивно слабой позиции (на него влияют окружающие согласные) – перед нами вариации фонемы <а>. В словах пруд и луг последние согласные находятся в сигнификативно слабой позиции (обязательное оглушение согласных в конце слова) – мы имеем варианты фонем <д> и <г>. Вариация относится к одной фонеме, а вариант – к двум. Например, звук [п] может быть основным видом фонемы <п> или вариантом фонемы <б>. Варианты возникают в условиях нейтрализации фонем.
Позиции существенны не для всей фонемы в целом, а для отдельных её признаков. Так, конец слова в русском языке по признаку звонкости/глухости – слабая позиция, а по твёрдости/мягкости – сильная.
Состав фонем, согласно требованию МФШ, выявляется в сильной позиции. Только в этой позиции мы можем определить фонемную принадлежность каждого звукового элемента морфемы. Так, в слове л руд [прут] фонемная принадлежность последнего элемента определяется после того, как он будет помещён в сильную позицию по звонкости/глухости, перед гласным – пруда. Здесь [т] – вариант фонемы <д>, нейтрализующийся (совпадающий) с вариантом фонемы <т>.
Как же быть с многочисленными случаями, когда определяемый звуковой элемент нельзя поставить в сильную позицию, например, первый гласный в слове корова?
{[а/о]пу[с/з]та}, {[в/ф]дру[г/к]} —это образец гиперфонемы в: [Моисеев 1995: 63]. По концепции МФШ, этот элемент отнести к определенной фонеме нельзя, он является членом гиперфонемы, группы чередующихся фонем. В слове корова первый гласный звук относится к гиперфонеме <о-а>. Понятие гиперфонемы критикуется за «агностицизм». Ленинградские фонологи, когда обсуждают вопрос о первом элементе в слове кто и последнем в слове кот, говорят, что определить фонемный статус этих звуков можно только с точки зрения автономности звуковой стороны [Зиндер 1967: 84–85].
Теоретические разногласия ЛФШ и МФШ приводят к различным практическим выводам. Обсуждая вопрос о конечной фонеме в словах дуб, роз, пруд и т. п. сторонники этих школ приходят к противоположным выводам. Для ленинградцев с их автономией звуковой стороны языка здесь будут фонемы <п>, <с>, <т>. Для москвичей, различающих фонему в пределах морфемы, здесь фонемы <б>, <з>, <д> в их вариантах.
Для ЛФШ [и] и [ы] – разные фонемы, поскольку акустически они существенно различаются; для МФШ [ы] – это вариация фонемы <и>, поскольку фонемный состав определяется в сильной позиции и в пределах морфемы. В примерах Иван, с Иваном [иван, с-ываном] [и] и [ы] чередуются, но это чередование не приводит к различению смыслов. Следовательно, [ы] не является самостоятельной фонемой. Второй аргумент москвичей состоит в том, что ни одно русское слово не начинается с [ы], в то время как все другие фонемы в этой позиции встречаются. Доводы в пользу <ы> как особой фонемы см.: [Фонин 1994].
Расходятся школы и в определении статуса мягких [г'], [к'], [х']. Ленинградцы их считают фонемами, так как они акустически отличны от твёрдых [г],[к], [х]. Сторонники МФШ эти звуки самостоятельными фонемами не считают, поскольку они никогда не встречаются в одинаковых с твёрдыми позициях, а без противопоставления звуков в одинаковых условиях невозможно выделить фонему, [г], [к], [х] могут быть только в позиции перед [а], [о], [у], а [г'], [к'], [х'] – перед [э], [и]. Случаи типа кюре, гяур во внимание не принимаются, поскольку эти слова заимствованные. Единственная русская словоформа ткёт – исключение, образовавшееся под действием аналогии. Но даже если это слово исключением не считать, мы не найдём противопоставленной формы типа ткот. В русском языке этот звуковой комплекс лишён значения.
Столь существенные теоретические и практические расхождения концепций ЛФШ и МФШ не могли не породить попыток как-то объединить взгляды ленинградских и московских фонологов в единой, внутренне непротиворечивой теории. Идеи плюрализма (так стала называться попытка свести несколько теорий в одну) разрабатывались С.И. Бернштейном, Р.И. Аванесовым, М.В. Пановым. С.И. Бернштейн выдвинул теорию двух фонем – фонемы первой и второй степени. М.В. Панов говорит о синтагмо-фонемах и парадигмо-фонемах. Р.И. Аванесов строит свою концепцию на понятии «фонемный ряд». Фонема, по Аванесову, является структурной единицей словоформы, а фонемный ряд – структурной единицей морфемы. Фонемный ряд состоит из сильных и слабых фонем. Введением понятия «слабая фонема» Аванесов пытается примирить обе точки зрения. Следует сказать, что компромиссная позиция Р.И. Аванесова не получила всеобщего признания и не сняла разногласий ведущих фонологических школ.
При всём различии подходов к фонеме бесспорным является то, что она представляет собой минимальную словоразличительную единицу, а совокупность фонем составляет особый ярус языковой системы.
Морфемный ярус
Единицей морфемного яруса является морфема – минимальная значимая единица языка. Значение морфемы определяется обычно только в слове. Если в словах мыть, вить выделить корни и не принимать во внимание остальные части этих слов, то мы не сможем определить вещественное значение корней. В ещё большей степени это относится к морфемам, имеющим повышенную омонимичность.
Помимо признака минимальности и наличия значения морфемы обладают такими свойствами, как воспроизводимость и повторяемость. Все морфемы по своему значению и функции распадаются на корневые (с вещественным значением) и аффиксальные, которые в свою очередь делятся на словообразовательные (с деривационным значением) и словоизменительные (с реляционным значением).
Существует мнение, что значение корневых морфем и значение некорневых морфем – явления разного порядка. Значение словообразовательных и словоизменительных морфем предельно обобщено. Окказионализмы, которые мы легко и однозначно понимаем, услышав их даже впервые, говорят о том, что значения морфем для нас реальны и объективны. Знаменитый пример Л.В. Щербы с «глокой куздрой» демонстрирует значимость всего «реляционного каркаса» фразы. Остроумным продолжением этого эксперимента является сказка Л. Петрушевской «Пуськи бятые».
Учение о морфеме было разработано И.А. Бодуэном де Куртенэ, который ввёл в научный обиход и сам термин морфема. Морфема, по Бодуэну, – единица, возникшая в результате обобщения таких частей слова, как приставка, корень, суффикс и флексия. Согласно убеждению Бодуэна, морфема – двусторонняя единица, обладающая формальной и смысловой сторонами и неразложимая на более мелкие единицы без утраты свойства двусторонности (билатеральности).
Мысль о неделимости морфемы, впрочем, как и других базисных единиц языка, в дальнейшем разрабатывалась Л.В. Щербой, написавшим статью «О дальше неделимых единицах языка».
Теорию морфемы продуктивно разрабатывали пражские и американские структуралисты. Обратив внимание на содержательную сторону морфемы, пражцы заменили понятие «значение морфемы» понятием «формальная функция морфемы», что расширило представление о содержательной стороне морфемы: «функция» шире «значения» и гибче, ведь среди морфем есть асемантизированные (лишенные значения), но выполняющие определенную функцию.
Пражцам принадлежит мысль о сложном, синтетическом характере значения морфемы. Вл. Скаличка, основываясь на идее асимметрии языкового знака, говорит о членении содержания морфемы на так называемые семы (элементы значения). В русском слове зубатый морфема-флексия-ЫЙ передаёт значения: а) мужского рода; б) единственного числа; в) именительного падежа. Следовательно, содержание морфемы-ЫЙ состоит из трёх сем. В плане выражения эта морфема состоит из двух фонем, но между двумя фонемами и тремя семами нет раздельного соответствия: только обе эти фонемы передают три семы.
Американские структуралисты, напротив, всё внимание уделили внешней стороне морфемы. Им принадлежит идея разграничения сегментных и супрасегментных морфем. Сегментные, или линейные, морфемы – это значимые части слова, морфемы в собственном смысле слова (пере-движ-ениj-э). Супрасегментные морфемы – это единицы силы, тона и т. п. как регулярно соотносимые с определенным содержанием и поэтому приобретающие качества морфемы. Супрасегментную морфему (морфему ударения, тона и т. д.) невозможно оторвать от сегментной, она как бы наслаивается на всё слово. Воспользуемся аналогией с улыбкой, которая не является структурной частью лица и выражается всеми его частями. Вне сегментной морфемы супрасегментная не существует. Примерами могут служить все значащие переносы ударения: мОря – морЯ [Маслов 1975].
Супрасегментной морфемой может быть дифференциальный признак фонемы, например мягкость. Образование существительного от прилагательного с твёрдой основой происходит с участием именно этой супрасегментной морфемы: чёрный > чернь, голый > голь, старый > старь. «…Сидела рядами всякая калечь (подчёркнуто нами. —А.Х.), гнусила, ныла, показывала свои язвы и изъяны и жалобила богомольных» (Шмелёв И. Неупиваемая Чаша). В словаре В.И. Даля калечь — собирательное от существительного калека. К основе с исходом на твёрдую согласную калек-прибавляется супрасегментная морфема и образуется новое существительное калечь. Аналогично образование каличь от калика /перехожая/, зафиксированное Далем.
Сегментные и супрасегментные морфемы обычно сочетаются друг с другом. Например, в глаголах совершенного вида сегментная морфема – приставка вы всегда перетягивает на себя ударение, т. е. сочетается с супрасегментной морфемой ударения.
Американские структуралисты ввели также понятие вычитательных (отрицательных) морфем; они были описаны Л. Блумфилдом. Во французском языке прилагательное мужского рода образуется от прилагательного женского рода путём отбрасывания конечного согласного. Нулевые морфемы, выделенные Бодуэном, – явление того же порядка.
Американским исследователям принадлежит введение принципа безостаточной членимости слова на морфемы, согласно которому при членении высказывания или слова на морфемы не должно быть никакого остатка. Оставшаяся от членения слова на морфемы часть является тоже морфемой (или морфемами).
В отечественном языкознании этот принцип широко обсуждался в связи с выявлением таких частей слова, которые не удовлетворяют определению морфемы как двусторонней значимой единицы языка. Каким значением обладает-ex-fox], стоящее между двумя «нормальными» морфемами в слове трёхметровый? Или-а-в глаголе читать? Некоторые учёные говорят о том, что не все части слова являются морфемами. Части слова, утратившие значение (ср.: мгУШник, спартакОВский, ялтИНский, чудЕСа, филейный, пеВец, америкАНский и др.), предлагают называть морфемными прокладками, интерфиксами, пустыми морфами, асемантическими морфемами и т. д. Говорят о том, что все части слова выполняют две функции: а) выражают определенное значение; б) участвуют в построении самого слова. Части слова, выполняющие первую функцию, относят к собственно морфемам, а части слов, реализующие вторую, строительную функцию – предлагают называть структемами [Солнцев 1971: 265].
Одним из свойств морфемы считают её повторяемость. В большей мере это относится к некорневым морфемам. Повторяемостью морфем, их воспроизводимостью объясняется сравнительно небольшое (несколько сот) количество морфем. Однако наблюдается ряд случаев нарушения принципа повторяемости. Выделяются части слов, принадлежащие только одному слову. Например, детВОРа, попАДЬЯ, стеклЯРУС, павЛИНидр. Эти части слов предлагают даже вывести за пределы морфем, но, учитывая принцип безостаточной членимости слова, говорят об уникальных морфемах [Кубрякова 1970]. Об уникальных морфемах в словах типа нагишом, голышом, новичок, годовалый, лохмотья, навзничь, архивариус, выкрутасы и т. п. см.: [РЯШ. 1997. № 3].
Многие проблемы, возникающие при членении слова на морфемы, предопределены асимметрией внешней и внутренней сторон морфемы, её подвижным характером, изменчивостью звукового облика. Постоянно действующие процессы переразложения и осложнения обусловливают изменение морфемных границ слов. Особенно активна тенденция к опрощению – слиянию двух морфем в одну. Эта тенденция, видимо, изначальна, поскольку само наличие морфем в языке – результат действия этой же тенденции. Морфемы генетически восходят к самостоятельным словам. Специалисты в области изолирующих языков Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии утверждают, что процесс возникновения морфем из слов можно проследить почти документально [Солнцев 1971: 265]. Возможен и обратный процесс, когда морфема превращается в слово (мой пра-пра-пра; различные измы).
Лексемный ярус
Основной единицей лексемного яруса является слово. Среди других единиц языковой системы слово занимает особое место, его считают центральной единицей языка. Интуитивно это ощущалось издавна. Недаром же слово всегда считалось синонимом языка. Как утверждают исследователи, слово – это такой элемент языка, в котором сливается фонологическое, морфологическое и семантическое.
Несколько характерных свойств слова делают его центральным в механизме языка. Во-первых, слово универсально по характеру и уникально по объёму выполняемых функций. Многофункциональность слова позволяет ему легко превращаться структурно в морфему (выше уже говорилось о том, что морфемы – это в прошлом слова) и в предложение («Стоп/»). Во-вторых, слово существует в двух видах: полисемантический знак в словаре и однозначное слово в речевом использовании. В-третьих, слово обладает чрезвычайно ёмким содержанием: в него входит собственное значение слова, значимость, которая возникает в парадигме, и смысл, появляющийся в синтагматике. В-четвертых, слово может широко варьироваться, чем обеспечивается его гибкость и огромные возможности. Варианты могут быть лексико-семантическими, фонетическими, морфологическими, стилистическими и этимологическими [Уфимцева 1970].
Хотя проблемами лексикологии много и плодотворно занимались М.М. Покровский, Л.В. Щерба, В.В. Виноградов, Д.Н. Шмелёв и др., сложная природа слова до конца ещё не исследована. Трудности начинаются с попыток дать адекватное определение слова. Конечно, каждый говорящий интуитивно знает, что такое слово, и легко вычленяет его из потока речи, но когда возникает необходимость сформулировать определение слова, выясняется, что сделать это трудно. «Я знаю, что это такое только до той поры, пока меня не спросят – что это такое?» (Блаженный Августин). Существует множество определений слова, но ни одно из них не выдерживает критики: оно или настолько обще, что им нельзя пользоваться, или настолько сужено, что за его пределами остаются многие языковые явления, традиционно относимые к словам.
Трудности научного определения лексической единицы носят объективный характер. Они обусловлены тем, что слово занимает центральное положение в языковой системе, включает в себя другие базисные единицы (фонемы, морфемы) и в то же время входит в состав высших единиц (в словосочетания, предложения), к тому же оно вариантно и асимметрично.
Асимметричность плана выражения и плана содержания слова часто обусловливает нечёткость границ между словами в фонетическом и грамматическом отношениях. Действительно, звуковой комплекс, объединяемый ударением и представляющий собой одно фонетическое слово (был бы, на гору), состоит из компонентов, которые расцениваются как самостоятельные слова. Комплекс более сильный в предложении является одним членом предложения и квалифицируется как одно грамматическое слово, хотя состоит из двух словарных единиц.
Как справедливо замечают лексикологи, за термином слово стоят качественно различные единицы: а) словоупотребление – функциональное понятие, относящееся к слову в целом; б) глосса – каждое отдельное словоупотребление; в) лексема – совокупность словоформ, присущих слову в каждом из его значений; г) глоссема – совокупность речевых вариантов одной лексемы; д) вокабула – словарная единица.
Предлагались различные пути преодоления объективных трудностей в поисках адекватного определения слова. Ф. де Соссюр и Ш. Балли вообще отказывались от определения слова. Американские лингвисты понятие слова по существу заменили понятием морфемы. В качестве выхода из создавшегося положения предлагали единое понятие слова заменить рядом понятий: графическое слово – цепочка букв между двумя пробелами; фонетическое слово – звуковой комплекс, объединенный одним ударением (знал бы, на берегу); грамматическое слово – комплекс, являющийся одним членом предложения (самый известный) и т. д.
Отечественные лексикологи вслед за Л.В. Щербой пошли по пути замены универсального определения слова указанием на отдельные его свойства или функции, перечислением характеристичных признаков слов: 1) это свободный знак, обладающий автономным значением; 2) это цельнооформленное единство, обладающее одним ударением; 3) это непроницаемая единица, внутрь которой нельзя вставить звуковой комплекс; 4) это подвижная единица, способная передвигаться в предложении, и т. д. Указанные признаки подчас противоречат друг другу. Возьмём, например, комплекс на берег. С одной стороны, он цельнооформлен (одно ударение), является одним членом предложения, с другой стороны, здесь возможны вставки, т. е. он проницаем. Главнейшей, по мнению Э. Сепира, характеристикой слова – мельчайшего вполне самодовлеющего кусочка отдельных «смыслов», на которые разлагается предложение, – является ударение [Сепир 1993: 51].
Поскольку слово в языковой системе выступает и в номинативной, и в коммуникативной функции, проф. Ю.С. Маслов считает, что лексический ярус в целом обладает не одной единицей, а двумя, и поэтому следует говорить о двух связанных друг с другом ярусах – ярусе лексем и ярусе глоссем. Единицей яруса лексем является каждое знаменательное слово, включая аналитические формы, фразеологические сочетания, составные термины и т. п. (будуписать, более крепкий). Другими словами, лексема есть не что иное, как член предложения. Единицами яруса глоссем являются только синтетические формы знаменательных и служебных слов, обладающие подвижностью. В одной лексеме буду писать содержится две глоссемы буду и писать. В английском словосочетании The man's son две лексемы The man's и son и четыре глоссемы The, man, 's, son [Маслов 1968: 70]. Думается, что разграничение глоссем и лексем продуктивно, но не может снять проблемы определения слова вообще.
Особого рассмотрения требует вопрос о системности лексемного яруса. Большое количество лексических единиц, динамика их численности и подвижность содержания затрудняет изучение системности этого яруса.
Современная лексикология отыскивает всё новые и новые аргументы в пользу признания системного характера лексики. Во-первых, все значения одного полисемантичного слова структурированы и подчиняются закону перехода количества в качество. Появление у слова нового значения приводит к перестройке всей совокупности значений и каждого в отдельности. Например, когда у слова спутник появилось значение «искусственное космическое тело», традиционное значение «находящийся в движении рядом» сузилось.
В XIX в. локомотив 'машина, движущаяся по рельсам и предназначенная для передвижения поездов' и паровоз были абсолютными синонимами. Когда же появились тепловоз, электровоз, турбовоз, отношения смыслового равенства между локомотив и паровоз исчезло. Локомотив стал родовым названием (гиперонимом), а паровоз – одним из видовых (гипонимом) [Хан-Пира 1999: 49].
Во-вторых, слова в языке обнаруживают разную степень связи друг с другом и объединяются по признаку смысловой близости, образуя семантические группы. Примерами семантических групп могут служить синонимические ряды, антонимические пары и так далее. Эти сравнительно небольшие группировки слов входят в несколько большие объединения – микросистемы. Примером микросистем могут служить совокупность терминов родства, колоративных («цветовых») прилагательных, существительных, обозначающих отрезки времени. Микросистемы данного языка хорошо видны в так называемых идеографических словарях (тезаурусах), в которых слова группируются по их смысловой близости. Системный характер знания, одной из форм фиксации и передачи которого является язык и, в частности, его словарный состав, служит сильным аргументом в пользу системности лексики [Морковкин 1977: 115].
Для философа Х. – Г. Гадамера слово предельно системно. «…Всякое слово вырывается словно бы из некоего средоточия и связано с целым, благодаря которому оно вообще является словом. Во всяком слове звучит язык в целом, которому оно принадлежит, и проявляется целостное мировидение, лежащее в его основе» [Гадамер 1988: 529].
В результате поисков системных свойств лексики появилась так называемая теория семантического поля, суть которой сводится к тому, что весь словарный состав языка распадается на несколько больших групп и каждая такая группа, называемая полем, относится к той или иной области отражаемого языком мира [Щур 1974]. Основоположником теории семантического поля был М.М. Покровский.
Наличие полей в лексике не вызывает сомнения, спор идёт только о том, по какому принципу строится это поле, как связываются слова, входящие в него. М.М. Покровский выделял поля на основании трёх критериев: 1) тематическая группа; 2) синонимия; 3) морфологические связи.
Немецкий учёный Й. Трир разграничивал понятийные и лексические поля. Понятийное поле – это система связанных друг с другом понятий и объединенных вокруг центрального понятия, например мораль; лексическое поле – это совокупность слов, образующих семью. Между понятийными и лексическими полями есть соответствие, но нет тождества: они не совпадают по объёму, хотя в совокупности все понятийные и лексические поля совмещаются. Й. Трир отождествлял слово и понятие, отрывал понятие от материального мира и общества и объяснял возникновение полей самочленимостью языка.
Другой немецкий учёный В. Порциг выделял поля на синтаксической основе, помещал в центр их глаголы и прилагательные и учитывал семантико-синтаксические признаки вступающих в словосочетания слов, а также степень их сочетаемости. Например, прилагательное «белокурый» семантически и синтаксически тесно связано с существительным «волосы», глагол «жмурить» – с существительным «глаза», «мяукать» – со словом «кошка» и т. п.
Итак, «вся лексика образует систему в силу того, что каждое слово и соответственно каждое понятие занимают в этой системе определенное место, очерченное отношениями к другим словам и понятиям. Благодаря этому язык может выполнять одно из своих важнейших назначений – быть средством хранения информации, накопленной общественным опытом человечества» [Степанов 1975: 52].
Выясняется, что полевая структура – это компонент не только лексемного, но и других ярусов. По мнению А.В. Бондарко, функционально-семантическое поле – это единство грамматической формы или категории и среды, под которой понимают контекст или речевую ситуацию [Бондарко 1985]. См. также: Михалёв А.Б. Теория фоносемантического поля. Краснодар, 1995.
13.4. Промежуточные ярусы
Своеобразие промежуточных ярусов покажем на примере яруса дифференциальных признаков и морфонологического яруса.
Ярус дифференциальных признаков
Считают, что для яруса дифференциальных признаков основной единицей являются пары дифференциальных (различительных, релевантных) признаков. Число их для всех языков мира колеблется от 10 до 16 пар, причём каждый конкретный язык обходится меньшим количеством пар.
Дифференциальные признаки – это такие свойства звуков, которые позволяют фонеме быть смыслоразличительной единицей. «Фонема, – писал Н.С. Трубецкой, – это совокупность фонологически существенных признаков, свойственных данному звуковому образованию» [Трубецкой 1964: 42]. Позже в дихотомической (бинарной, двоичной) теории дифференциальных признаков эта мысль получила афористическую формулировку: «Фонема – это пучок дифференциальных признаков».
Одно и то же свойство фонемы в одном языке может быть дифференциальным признаком, а в другом – нет. Так, долгота звука в русском языке не различает оболочки слов, а в чешском языке это релевантный признак. Дифференциальные признаки фонем не являются научной абстракцией, их можно экспериментально выделить, а затем на синтезаторе скомбинировать из них новые фонемы.
Несмотря на объективную реальность дифференциальных признаков фонемы, существование особого яруса таких признаков является спорным. Аргументом против признания этого яруса служит то, что дифференциальные признаки не вступают в синтагматические отношения и в речевом потоке располагаются не в одномерном, а в двумерном пространстве [Солнцев 1973: 15].
Морфонологический ярус
Мысль о необходимости особой лингвистической дисциплины, занимающей место между фонологией и морфологией, принадлежит И.А. Бодуэну де Куртенэ, который говорил о роли альтернации фонем в морфемах с синхронной точки зрения. Эта мысль позже получила развитие в небольшой работе Н.С. Трубецкого «Некоторые соображения относительно морфонологии» [Пражский лингвистический кружок 1967], в которой автор намечает цели и задачи морфонологии. Под морфонологией он понимал исследование морфологического использования фонологических средств какого-либо языка. По мнению Трубецкого, морфонология состоит из трёх разделов: 1) теория фонологической структуры морфем; 2) теория комбинаторных звуковых изменений, которым подвергаются отдельные морфемы в морфемных сочетаниях; 3) теория звуковых чередований, выполняющих морфологическую функцию.
Н.С. Трубецкой сформулировал также три главные задачи морфонологии: 1) определение фонологических особенностей морфем разных классов; 2) выявление различных преобразований на стыке морфем, не имеющих фонологического объяснения; 3) определение морфонологических функций (См.: [Кубрякова, Панкрац 1983]).
Морфонологию интересует не только и не столько фонологический состав морфем, сколько пределы варьирования их состава, поэтому любое морфонологическое описание начинается с выявления морфонологических рядов вариантов морфемы. Основная проблема морфонологии связана с корневыми чередованиями.
Не всякое видоизменение морфемы входит в компетенцию морфонологии. С.Б. Бернштейн в своём «Введении в славянскую морфонологию» [Вопросы языкознания. 1968. № 4] различает фонетические изменения и чередования. В примере: ВОДа – ВОДяной – мы имеем фонетическое изменение, обусловленное фонетической позицией [в да] – [въд'иной]. В примерах: ГНать – ГОНять, ПЛЫть – ПЛАВать – случаи чередований, обусловленных морфологическими условиями. Чередование – явление историческое. Большинство их возникает на фонетической основе, часто – по аналогии.
Морфонологические чередования бывают грамматическими и традиционными, продуктивными и непродуктивными. Грамматические чередования выполняют грамматическую функцию, действуют автоматически и предсказуемы: пеКу – пеЧешь, моГу – моЖешь, меТу – меТешь. Традиционные, или несоотносительные, чередования непредсказуемы: СОН – СНа, ДОМ – ДОМа.
Поскольку морфонология занимает промежуточное положение между фонологией и морфологией, необходимо чётко разграничивать соотносительные ряды в фонологии и морфонологии. В морфонологии, в отличие от фонологии, одна и та же фонема может входить в разные соотносительные ряды и выполнять различные функции: пеКу – пеЧешь, суК – су-Чок. Одна и та же фонема может иметь различные корреляты: К/Ч и Ц/Ч [руКа – руЧка, пшиЦа – птиЧка].
В морфонологии рассматриваются также морфологически обусловленные чередования, которые лежат в одной временной плоскости. По замечанию С.Б. Бернштейна, чередование предполагает синхроническое тождество морфем.
Особенностью морфонологии является отсутствие базисной единицы, о чём в весьма категорической форме говорят специалисты в этой области. «Отрицательную роль в истории морфонологии сыграло и выделение фактически несуществующей единицы – морфонемы» (С.Б. Бернштейн). «Никаких морфо/фо/нем как особых единиц не существует» (А.А. Реформатский).
Отсутствие базисной единицы ставит под сомнение и само наличие особого яруса. А.А. Реформатский утверждал: «Между фонологическим и морфологическим ярусами есть зона морфонологии, не образующая особого яруса, а входящая как особая сфера и в фонологию, и в морфологию. От нормальных явлений фонологии объекты морфонологии отличаются тем, что для них не существует фонетических позиций, а существуют морфологические условия, а от нормальных явлений морфологии объекты морфонологии отличаются тем, что они обладают собственной значимостью, как морфемы» [Реформатский 1970: 114].
Если принять точку зрения А.А. Реформатского, то нужно отказаться от промежуточных ярусов вообще, а это усложнит процесс исследования специфики языковой системы. Думается, правы те, кто пересматривает статус промежуточного яруса и не считает необходимым вычленение основной его единицы. По мнению Э.А. Макаева и Е.С. Кубряковой, промежуточные уровни (ярусы) связаны не столько с вычленением или отождествлением каких-либо единиц, а с изучением того или иного аспекта их организации. Промежуточный ярус оперирует единицами основных ярусов и выявляет их взаимоотношения, которые невозможно увидеть на каждом из этих ярусов отдельно. В этом смысл морфонологии, оперирующей фонемами и морфемами и устанавливающий отношения, которые существуют между ними, но не могут быть выявлены ни с точки зрения только фонологии, ни с точки зрения только морфологии [Чурганова 1973; Кубрякова, Панкрац 1983; Касевич 1986].
Можно предположить, что количество ярусов больше, чем их описано в современном языкознании: фонемный, морфемный, лексемный, синтаксемный (эти ярусы издавна служат основными разделами учебников и пособий по языку), а также промежуточные: ярус дифференциальных признаков, морфонологический, ярус служебных слов и др. По мере выявления новых лингвистических единиц или новых сторон этих единиц число промежуточных ярусов будет увеличиваться. В монографии «Общее языкознание. Внутренняя структура языка» говорится о двух «пограничных стратумах» – фонетике и семантике – как нижнем и верхнем пределах языковой системы. Аргументируется это тем, что на ярусах, которые ниже или выше указанных, из трёх необходимых отношений остаются только одни – иерархические, а синтагматические и парадигматические исчезают. Например, дифференциальные признаки – единицы меньшие, чем фонема, – не могут находиться в синтагматических отношениях.
Каждый ярус, представляющий собой подсистему языка, в свою очередь не является монолитным, а состоит из подсистем, обладающих своей мерой упорядоченности. Замечена закономерность: чем меньше единиц в ярусе, тем он сплоченнее, системнее; чем их больше, тем вероятнее большее число микросистем. Фонемный ярус и ярус дифференциальных признаков – минимальные по количеству единиц – предельно системны. Именно отсюда и распространилась идея системности всего языка в целом. Ярусы, располагающие большим количеством единиц, например, лексемный ярус, проявляют системный характер специфично. И тем не менее наличие системности несомненно [Потебня 1989: 209–210].
В языке как открытой динамической системе системность и несистемность не противоречат друг другу. Более того, элементы несистемности – одна из существенных черт языковой системы. Язык, говорят математики, – это яркий пример нечётких множеств с нечёткими переменными. Языковая система постоянно стремится к равновесию, но никогда не бывает «правильной» полностью и потому находится в состоянии относительного равновесия [Общее языкознание 1972: 52; Будагов 1978]. Любая открытая система характеризуется большим количеством потенциальных единиц, которые могут появиться, а могут и не реализоваться. В этом источник развития самого языка. Многоярусная иерархическая структура языка, включающая внутриярусные, межъярусные и различные перекрестные связи, причудливо сочетающиеся участки строгой системности с несистемностью периферии, – типичный образец динамических, самонастраивающихся систем [Мельников 1967: 98–99].
И ярусы языковой системы, и сама система языка существуют объективно, хотя непосредственно и не воспринимаются. В постоянном повторении различных сторон и элементов мы обнаруживаем систему и её структуру.
Дополнительная литература
Елистратов B.C. О философском подтексте фонологии // Вестник МГУ. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2000. № 1. С. 30–35.
Маковский М.М. Системность и асистемность в языке. – М., 1980. Тираспольский Г.И. Система языка и системность в языке // Филологические науки. 1999. № 6.
14. Универсальность языка
Стало аксиоматичным утверждение, что язык как средство общения и орудие мышления обладает особым качеством – универсальностью, под которой обычно понимают возможность при помощи сравнительно ограниченного, во всяком случае конечного, числа элементов передать неограниченное количество сообщений. «Нет более показательной общей характеристики языка, чем его универсальность», – утверждал Э. Сепир. «…Мы не знаем ни одного народа, который бы не обладал вполне развитым языком… Каковы бы ни были недостатки примитивного общества в плане культуры, – продолжает свою мысль Э. Сепир, – язык этого общества всё равно создаёт аппарат референциального символизма, столь же надёжный, полный и творчески активный, как и аппарат самых изощрённых языков, какие мы только знаем» [Сепир 1993: 211].
Хотя художники слова порой и сетуют на недостаточность человеческого языка («муки слова»), в целом мысль о безграничных возможностях естественного языка ни у кого сомнений не вызывает. «Язык всегда готов или быстро может быть подготовлен к выражению индивидуальности художника» [Сепир 1993: 203]. «…Язык устроен таким образом, что, какую бы мысль говорящий ни желал сообщить, какой бы оригинальной или причудливой ни была его идея или фантазия, язык вполне готов выполнить любую его задачу» [Сепир 1993: 251–252].
Обычно исходят из двух посылок: во-первых, с расширением познавательной и производственной практики человека неуклонно увеличивается количество языковых единиц, главным образом слов; во-вторых, элементы языковой системы обладают широкими комбинаторными возможностями.
На самом же деле эти аргументы можно подвергнуть сомнению. Во-первых, количественное увеличение языка сравнительно незначительно, при этом достаточно большая часть слов находится в пассивном словаре или выпадает вовсе. В любом случае количество новых реалий, понятий неизмеримо больше, чем новых слов. Во-вторых, комбинаторные возможности языка при всей их широте конечны. Выведена даже формула, показывающая конечность языка, если принять его как простую комбинацию элементов [Пазухин 1969: 57].
Итак, простая комбинаторика слов даже при очень большом количестве лексем, широкой валентности и возможности построения весьма развернутых высказываний не решает проблемы универсальности языка.
Некоторые ищут источник универсальных свойств человеческой речи в так называемом «двойном членении языка». Суть концепции «двойного членения языка», изложенной французским лингвистом А. Мартине в работе «Основы общей лингвистики» [Мартине 1963], состоит в следующем: «…Любой результат общественного опыта, сообщение о котором представляется желательным, любая необходимость, о которой хотят поставить в известность других, расчленяется на последовательные единицы, каждая из которых обладает звуковой формой и значением» [Мартине 1963: 376]. Это не что иное, как знаки, явившиеся результатом первого членения языка. В свою очередь, звуковая форма тоже членится на единицы. Это второе членение языка. Если итог первого членения – знак, то результат второго членения – фигура, которая служит конструктивным элементом знака и отличается от него своей односторонней (только план выражения) сущностью. По мысли автора концепции, второе членение «делает форму означающего независимой от значения соответствующего, благодаря чему языковая форма приобретает большую устойчивость» [Мартине 1963:381]. «Двойноечленение» обнаруживается не только в языке, но и в других знаковых системах, например, в знаке дорожного указателя фигурами являются цвет и форма.
«Двойное членение языка» отвечает принципу экономии, что «позволяет выковать орудие общения, пригодное к всеобщему употреблению и делающее возможной передачу очень большого количества информации при незначительной затрате средств» [Мартине 1963: 381].
Дальнейшим углублением этой концепции являются поиски фигур плана содержания, так называемых семантических множителей, или сем.
При всех неоспоримых достоинствах концепции «двойного членения языка» она не разрешает проблемы его универсальности. По справедливому замечанию Р.В. Пазухина, наличие в языке двойного или n-степенного членения не способно само по себе сделать его универсальным, поскольку оно, как и рассмотренная выше комбинаторика слов, опирается только на количественную сторону языка и игнорирует качественную, а в рассмотрении именно качественной стороны и заключена загадка универсальности [Пазухин 1969: 61].
Известный американский учёный М. Полани полагает, что фундаментальными законами языка являются «закон бедности» и «закон грамматики». Суть «закона бедности» заключается в следующем. С помощью 25 букв латиницы можно построить 25 в восьмой степени, т. е. около ста тысяч миллионов условных восьмибуквенных слов. В этом случае английский язык «обогатился» бы в миллион раз – и был бы разрушен полностью: эти слова были бы бессмысленны, ибо значение слова формируется и проявляется в его многократном употреблении. Язык должен быть настолько беден, чтобы можно было достаточное число раз употреблять одни и те же слова. Язык держится на постоянстве и повторяемости своих единиц, что предопределяет неизбежность грамматической упорядоченности, без которой нет языка. Суть «закона грамматики», по мнению М. Полани, такова: «…Фиксированный, достаточно бедный словарь должен использоваться в рамках определенных и всегда имеющих одно и то же значение способов комбинирования. Только грамматически упорядоченные группы слов могут выразить с помощью ограниченного словаря безмерное разнообразие вещей, соответствующих известному опыту» [Полани 1985: 116].
Предполагают, что универсальность языка зиждется на асимметрии языковой единицы – знака и его значения. Эта идея впервые была высказана С. Карцевским. Сущность её заключается в следующем. Обе стороны лингвистической единицы не являются неподвижными. «Если бы знаки были неподвижны и каждый из них выполнял только одну функцию, язык стал бы простым собиранием этикеток» (Цит.: [Звегинцев 1965: 85]). Подвижность языковой единицы обусловлена неизбежным нарушением соотношения между двумя её сторонами: постоянно и очень медленно изменяется фонетический облик языковой единицы, столь же постоянно, хотя и гораздо быстрее, изменяется содержание этой единицы. Иначе, форма стремится получить новое, дополнительное значение, а значение стремится обрести новое формальное выражение. Это приводит к тому, что первоначальное соответствие (симметрия) звучания и значения постоянно нарушается, возникает асимметрия. Отсюда следует важный для нас вывод: асимметрия лингвистической единицы делает язык беспредельным, и решающим фактором языкового универсализма считают семантическую, но не формальную неограниченность языка. Язык социально ограничен, языковая единица, по определению, – стереотип, но язык реализуется в речи, и в ней социальный шаблон языковой единицы преодолевается благодаря свойству семантической асимметрии, реализующейся только в речи, и непостижимое, личное, экзистенциональное в мышлении индивида в процессе речевой деятельности становится достоянием других. «…Каждая культурная эпоха обогащает внутреннее содержание слова новыми успехами знания, новыми понятиями человечности. Стоит проследить историю любого отвлечённого слова, чтоб убедиться в этом» [Веселовский 1940: 51]. Безграничные возможности индивидуального выражения, полагал Э. Сепир, обусловлены «текучестью» языка как средства выражения.
Фундаментальными свойствами естественного языка, занимающего особое место среди знаковых систем, являются «принципиальная нечеткость значения языковых выражений, динамичность языковой системы; образность номинации, основанная прежде всего на метафоричности; бесконечные творческие возможности в освоении новых знаний; семантическая мощь словаря, позволяющая выражать любую информацию с помощью конечного инвентаря элементов; гибкость в передаче информации; разнообразие функций; специфическая системность» [Городецкий 1987: 17]. Всё вместе обеспечивает удивительное интеллектуальное могущество языка. «Все языки способны выполнять всю ту символическую и смысловую функцию, для которой предназначен язык вообще, – либо в реальном, либо в потенциальном плане. Формальная техника выполнения этой функции есть сокровенная тайна каждого языка» [Сепир 1993: 253]. Автор процитированных строк полагал, что базой «сокровенной тайны» являются обширные и самодовлеющие сети психических процессов, которые ещё предстоит точно определить [Сепир 1993: 255]. Универсальность языка, по мысли Э. Сепира, соединена с его невероятным разнообразием. Феномен универсальности языка/речи удачно сформулировал А.Н. Радищев: «И весь мир заключён в малой частице воздуха, на устах наших зыблющегося».
15. Контакты языков
15.1. Основные факторы языковых контактов
Теория языковых контактов, которая начала складываться в работах Г. Шухардта и получила развитие в трудах И.А. Бодуэна де Куртенэ, Л.В. Щербы, Н.С. Трубецкого, Э. Сепира, У. Вайнрайха и Э. Хаугена, очень важна для социолингвистики. Глубокое изучение истории языка, его развития и функционирования настоятельно требует учёта всех экстралингвистических факторов, одним из которых являются отношения между языками.
Языки контактируют друг с другом и представляют собой результат многовекового взаимодействия многих языков. «Каждый народ владеет известным количеством слов, терминов, даже оборотов, которых нет и не может быть ни у какого другого народа. Но как все народы суть члены одного великого семейства – человечества… то и необходим между народами размен понятий, а следовательно, и слов» (В.Г. Белинский). «Подобно культурам, языки редко бывают самодостаточными» (Э. Сепир). Так, в албанском языке в основной словарный фонд входит лишь несколько сотен исконных слов, остальные же – заимствования из господствовавших языков: латинского, романских, греческого, славянских и турецкого. Около 60–70 % словарного фонда английского языка составляют заимствования, поскольку формирование английской цивилизации, по выражению Э. Сепира, характеризуется различными пластами заимствований из античной латыни, средневекового французского, латыни и греческого гуманистов эпохи Возрождения и современного французского [Сепир 1993: 174].
Контактирование языков Э. Сепир связывает с процессами культурного взаимовлияния. «Когда есть налицо культурное заимствование, есть полное основание ожидать соответствующего заимствования слова» [Сепир 1993: 240]. Исследование заимствованных слов – интересный комментарий к истории культуры. Анализ происхождения слов языка – убедительное свидетельство направления культурного влияния. Э. Сепир указывает на пять языков (классический китайский, санскрит, арабский, греческий и латинский), игравших важную роль в истории цивилизации в качестве проводников культуры. Даже такие культурно важные языки, как древнееврейский и французский, отходят на второй план, а общекультурное влияние английского языка, полагал Э. Сепир, в этом отношении почти ничтожно [Сепир 1993: 175]. Культурное влияние языка не всегда прямо пропорционально его собственной литературной значимости и месту, занимаемому в мировой культуре его носителями. Так, древнееврейский язык, передающий чрезвычайно значимую культурную традицию, не оказал такого влияния на языки Азии, как родственный ему арамейский язык [Сепир 1993: 240].
Проблема контактирования представляет не только теоретический интерес. Развитие национальных языков, повышение культуры речи и многое другое – всё это требует постоянного обращения к языковым контактам. Контактирование языков – это вопрос историко-географический, социальный, психологический и культурный. Языковые контакты обусловливаются четырьмя основными факторами – экономическим, политическим, религиозным и фактором престижа [Вандриес 1957: 270]. Ограничимся несколькими примерами.
С конца XIX в. в Индии обнаружилось чёткое разделение индусов и мусульман по языковому признаку. Хинди стал восприниматься как один из отличительных признаков индуса, а УРДУ – мусульманина. И это затруднило взаимные контакты двух самых крупных языков Индостана [Халмурзаев 1982].
Один и тот же язык, обслуживающий две части исторически разделенного народа (немцы ФРГ и ГДР в недалеком прошлом и корейцы Севера и Юга в настоящее время), используют разные источники заимствований, что обусловлено идеологическими и политическими ориентациями той или иной части народа. Например, корейский язык в КНДР заимствует из русского языка, а язык Южной Кореи – из английского.
Замечено, что в последние десятилетия на арабский язык существенно влияют индийские языки благодаря популярности в арабском мире индийских и пакистанских фильмов, а также большому числу воспитательниц и нянь из Индии, работающих в Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах, Бахрейне и др. На доминирующем языке сказывается и такое обстоятельство, как национальный состав преподавателей школ, журналистов. Например, в Ливии и Кувейте большинство специалистов этих профессий – египтяне или палестинцы.
15.2. Типология контактов
Контактирование языков многообразно по степени воздействия одного языка на другой – от заимствования отдельных элементов до полного слияния, поэтому вполне правомерны попытки создать классификацию языковых взаимоотношений. Л.В. Щерба в специальной статье «О понятии смешения языков» разграничил три типа контактирования («смешения языков»): 1) заимствования в собственном смысле слова, сделанные данным языком из иностранных языков; 2) изменения в том или ином языке, которыми он обязан влиянию иностранного языка. Это, скажем, калькирование. Например, кальки латинского, немецкого и славянского языков по греческим образцам: conscientia, Gewissen, совесть; 3) факты, являющиеся результатом недостаточного усвоения какого-либо языка [Щерба 1974: 60–61].
В современном учении о взаимодействии языков известна классификация, учитывающая направленность контактов и степень участия в них ярусов языковой системы [Белецкий 1967].
Одностороннее воздействие, при котором давление оказывает лишь один уровень какого-либо языка, чаще всего наблюдается в тех случаях, когда один из контактирующих языков является языком мёртвым, но широко используется в качестве литературного или культурного языка. Таково, например, влияние латинского, древнегреческого или старославянского языков на русский на лексическом уровне.
При обоюдном действии языки взаимодействуют также на уровне лексики. Примером может служить взаимообмен лексемами между английским и французским языками. Отношение русского языка с другими языками народов бывшего СССР полностью укладывается в этот тип контактирования.
При преобразовательном воздействии один язык воздействует сразу на несколько ярусов другого языка. Например, персидский литературный язык фарси преобразовался в результате длительного и широкого воздействия на него со стороны арабского языка.
Если в результате контактов затронуто несколько ярусов взаимодействующих языков, то говорят о скрещивании языков, следствием чего является возникновение так называемых языковых союзов, или лиг. Для языков, входящих в союз, характерны такие черты сходства на всех ярусах, которые возникли только в результате контактирования, а не являются наследием общего происхождения. Примером может служить балканский языковой союз, включающий болгарский, румынский, албанский и новогреческий языки [Трубецкой 1995: 333]. Известны также скандинавская, эфиопская и другие языковые лиги. Считают, что немецкий, французский, итальянский и ретороманский языки в условиях единого государства Швейцарии образуют языковой союз, в пределах которого языки подвергаются качественным изменениям, способствующим этнической консолидации разноязычных граждан Швейцарии в единую нацию. Швейцарско-немецкий (самый распространенный язык страны) в своей литературной форме складывается как язык, очень отличающийся от немецкого языка Германии и Австрии [Бородина 1983].
Когда на основе взаимодействия из двух и более языков возникает новый язык, мы имеем слияние. В Меланезии, например, возникло своеобразное меланезийское эсперанто: большая часть словарного состава заимствована из английского языка, а грамматика – из языка обитателей полуострова Газель на Новой Британии [Стингль 1972].
15.3. Контактные языки
В образовании новых средств массового общения особое место занимают процессы пиджинизации и креолизации. Это результат предельного языкового контактирования. «Под пиджинизацией языка понимается сложный социолингвистический процесс, способствующий формированию контактного языка (неродного ни для кого из говорящих на нём), нерегулярно используемого в ограниченной сфере общения. Пиджинизация является своеобразной разновидностью языковых контактов, в результате которых исходный язык (язык-источник) подвергается значительным структурно-типологическим изменениям, характеризующимся редукцией на всех его уровнях» [Дьячков 1986: 62–63]. Примерами пиджинов могут служить папьяменто на островах Курасао (Антильский архипелаг) – вариант португальского языка; пиджин-инглиш в Китае; бичла-мар, лингва-франка в Северной Африке и др. Пиджинизации подвергаются такие языки, как английский, французский, немецкий, испанский, португальский, русский.
Жители Индостанского полуострова, носители языка урду, массово переселившиеся в арабские страны Персидского залива, используют арабоурду – пиджин на основе урду, на структуре которого сказалось влияние арабского языка [Шагаль 1984: 84].
Структурная особенность пиджинов такова: 90–95 % словаря – лексика исходного языка, слова однозначны, словоизменение почти отсутствует, синтаксические отношения реализуются только через порядок слов, единственная модель предложения – «подлежащее + сказуемое + дополнение». От искусственных языков пиджины отличаются стихийностью формирования и функционированием в специфических условиях.
Пиджинизация происходит в местах оживленной тортовой, портовой и иной деятельности, в условиях принудительного труда, когда контактирует большое количество разноязычного населения. Появлению пиджинов способствует низкий образовательный уровень лиц, участвующих в контакте, социально-психологическая дистанция между угнетающими и эксплуатируемыми. Показательно, что в Индии, где английский язык широко распространён в сфере образования, пиджин не сложился.
Поскольку язык представляет собой элемент всего комплекса человеческих отношений, контактируют, строго говоря, не языки, а их носители, которые одновременно являются и носителями определенных культур, навыков, привычек, ценностных ориентаций. В силу этого контактные языки могут возникать как коллективный знак принадлежности к определенной социально-культурной группе. Этнографы отметили наличие «катаканного английского языка в Японии» – особого подъязыка (функционального стиля), связанного со стереотипами японской массовой культуры, для которой более престижным является всё американское или американизированное. Выяснилось, что реклама на этом языке настолько эффективна, что этот пиджин проник даже в политические лозунги.
Однако может случиться так, что пиджин, ни для кого не являющийся родным, начнёт использоваться в межэтническом общении, расширит свои функциональные возможности и может превратиться в родной язык каких-либо этнических общностей, т. е. нативизироваться (стать родным). Такие расширенные пиджины называются креольскими языками. Креолизация – это процесс нативизации расширенного пиджина, сопровождающийся ещё большим расширением его функциональной валентности и структуры. Известны англокреольские ток-писин в Папуа-Новой Гвинее, сранан-тонго в Суринаме, франкокреольские креоль-сесельва на Сейшельских островах и ансьен на Гаити, португалокреольские языки в Гвинее-Бисау и Кабо-Верде. Само собой разумеется, что креольский язык и язык-источник – это уже две различные системы. Расширенный пиджин на основе русского языка существовал в XIX в. в городе Кяхта, торговом центре на границе России и Монголии [Дьячков 1988].
Другим примером пиджина на русской основе может служить руссенорск, свыше 150 лет функционировавший в арктическом районе Европы, где русские поморы вели меновую торговлю с норвежскими рыбаками. Руссенорск сложился в результате взаимодействия русского поморского диалекта и северно-норвежского варианта лансмола. В условиях полиэтнизма Северной Европы в этот пиджин внесли свой вклад финский, английский, голландский и саамский языки. Большая часть текстов на этом ныне мёртвом пиджине записана в Норвегии. Зафиксировано около 390 слов руссенорска. 47 % словаря – лексемы норвежского происхождения. Морфология предельно проста: практически нет словоизменения и словообразования. Синтаксис – русский со свободным порядком слов.
Этнографам известен ещё один арктический пиджин на территории России. Это таймырский пиджин на базе русской лексики и синтаксиса урало-алтайского типа. Им пользуются представители небольшой северной народности – нганасане – в межнациональном общении с иноязычными земляками (долгане, ненцы, эвенки, энцы) [Возникновение и функционирование контактных языков… 1987].
15.4. Вопрос о пределах взаимовлияния языков
Наиболее благоприятным условием контактирования является билингвизм – владение индивидуумом двумя языковыми системами. «…Всякое взаимное воздействие языков требует наличия людей, которые хотя бы в незначительной степени были двуязычными» [Щерба 1974: 67]. Примером может служить взаимодействие русского и бурятского языков. В силу жизненной необходимости русские обучались бурятскому языку и постепенно стали двуязычными. Бурятские слова стали привычными для русского сибиряка, и он не чувствовал их иноязычного происхождения: жалгай 'рытвина', тулун 'кожаный мешок', дымбэй 'напрасно', отхон 'младший', урген 'охотиться'. Типичная фраза: «—Лонысьмы с братаном по елани сундулой хлымяли, а в пади адали гуран взревел» – «Недавно мы с двоюродным братом ехали вдвоём на одном коне (сундулой), полурысью, а в лощине как будто (адали) закричал козёл» [Дарбеева 1968: 202–203].
Проблема контактирования всегда связана с вопросом о степени устойчивости языка, о возможности заимствования на фонемном и морфемном ярусах языка. Если лексические и синтаксические заимствования никто под сомнение не ставит, то заимствования в области морфологии и особенно фонетики часто оспариваются. Широкие конкретные обследования показали, что заимствования возможны и на этих ярусах. Так, под влиянием русского языка в марийском появились фонемы <ф>, <х>, <ц>,<р'>, <т'>, <б> [Патрушев 1970], а в бурятском языке – фонемы <в>, <ш>, <ч> [Дарбеева 1968: 207]. Правда, новые фонемы встречаются чаще всего в заимствованных словах, что даёт некоторым учёным основание сомневаться в возможности «чисто фонетических» заимствований. Однако здесь не всё так просто, поскольку «характерные фонетические особенности имеют тенденцию к распространению на обширных территориях, вне зависимости от лексики и строя языков, вовлечённых в этот процесс» [Сепир 1993: 241].
Заимствуются целые классы слов. Например, в коми-пермяцком языке класс исконных имён числительных заменяется русскими числительными, которые начинают подчиняться законам грамматического строя коми-пермяцкого языка [Кривощекова-Гантман 1970]. Могут заимствоваться семантические модели (meaning pattern), и в этом случае лексика одного языка во многом представляет собой психологический и культурный перевод другого [Сепир 1993: 241].
Широкие грамматические заимствования возможны, однако, только в результате тесного и длительного контактирования в особых условиях. В 1963 г. Г.А. Меновщиков открыл язык острова Медный. История возникновения языка такова. В 1826 г. Русско-Американская компания создала на необитаемых до того времени Командорских островах постоянные поселения для охраны котиковых лежбищ, забоя котиков и для добычи шкур морских бобров (каланов). Было переселено несколько алеутских и креольских семей. Местная администрация была русской. Проживали на островах представители и других национальностей. Потребности общения привели к возникновению медновского языка, фонетика, морфология и синтаксис которого были заимствованы из алеутского и русского языков. «В целях наилучшего взаимопонимания носители двух разносистемных языков как бы пошли на взаимные уступки: русское меньшинство почти целиком заимствовало лексические и фонетические стороны алеутского языка, но оказало влияние на изменение грамматической структуры глагола» [Меновщиков 1969: 104]. Из русского языка была позаимствована парадигма спряжения глагола и способность с её помощью выражать лицо, число, настоящее и прошедшее время. Будущее время передаётся с помощью синтаксической модели «буд– + инфинитив на-ть».
15.4. Лингвистическая контактология
В современной лингвистике языковые контакты становятся объектом специального лексикографического описания. Создаются словари, в которых язык предстаёт в свете контактов его с другим языком. Болгарский языковед И. Леков ввёл в научный оборот термин лингвистическая контактология. В 1994 г. вышел в свет «Контактологический энциклопедический словарь-справочник» под ред. В.М. Панькина. В первом выпуске этого словаря-справочника рассматриваются проблемы контактного взаимодействия русского и более 30 самобытных языков, преимущественно языков малочисленных народностей и этнических групп, контактирующих с русскими в пределах Северного региона РФ – на обширной территории от Кольского полуострова до Курильских островов, Берингова пролива и острова Таймыр до Амура.
В словаре представлены контактные языки на русской основе – русско-норвежский и русско-китайский пиджины, а также язык алеутов о. Медный. Словарь фиксирует конкретные результаты контактирования русского национального языка с другими языками сопредельных этнокультурных общностей на определенном историческом срезе и в синхронии. Одновременно словарь систематизирует сведения о родных языках нерусских народов на территории России, фиксирует специфические черты этих языков, анализирует особенности бытования самобытного языка в условиях полиэтнической среды (дву-и многоязычия) с известной долей прогнозирования.
Теоретические проблемы контактирования весьма актуальны в сфере культуры речи и определения языковой политики. Вопрос ставился в нескольких аспектах: заимствовать или нет, если да, то в какой степени? Вопрос о заимствовании в русском языке обострился в XIX в., когда поляризовались два мнения. Первое сформулировано В.Г. Белинским: «Что за дело, какое и чьё слово, лишь бы оно верно передавало заключённое в нём понятие! Из двух сходных слов, иностранного и родного, лучше есть то, которое вернее выражает понятие… и, если чужое лучше выражает… чем своё, давайте чужое, а своё несите в кладовую старого хлама». Эта формулировка, несомненно, родилась в полемическом задоре, в борьбе с запретительными установками славянофилов. Иную позицию в вопросе о целесообразности заимствований занимали те, кто говорил об особом историческом предназначении и пути России. Ответ на вопрос, заимствовать или нет, не может быть однозначным. По мнению Л.В. Щербы, у русского языка исторически сложилось свойство «не чуждаться никаких иностранных заимствований, если только они идут на пользу дела» [Щерба 1957: 123].
Конечно, у языка есть определенный «порог заимствований», некий внутренний механизм регулирования. Даже в эпоху, когда нормализаторская деятельность человека практически отсутствовала, язык не переполнялся заимствованными словами. «…Предки наши, в течение двух веков стеная под татарским игом, на языке родном молились русскому богу… едва ли полсотни татарских слов перешло в русский язык. Войны литовские не имели также влияния на судьбу нашего языка, он один составлял неприкосновенную собственность несчастного нашего отечества» (А.С. Пушкин). Как заметил Л.В. Щерба, оригинальность русской языковой культуры заключается в том, что разнородные по происхождению элементы переплавлялись в единую сложную систему. «Воспользовавшись всем багажом Запада, мы остались тем не менее самими собой именно благодаря этой черте всей нашей культуры» [Щерба 1957: 123].
Проблема порога заимствований остро стоит в современной Японии. Японцы старшего поколения жалуются, что они с трудом улавливают смысл диалогов на телеэкране, сталкиваются с языковыми трудностями, когда читают в газетах об образе жизни молодежи. Каждый год в лексиконе появляется около шести тысяч новых слов, многие из английского языка. По этой причине в стране ежегодно издаются три альманаха новых слов. Главный источник новояза – подростки с их порывом к независимости и желанием говорить на сленге, непонятном для взрослых. Очень часто новое – не в самом слове, а в манере его произношения, и причудливый подростковый акцент мешает взрослым понимать их речь [Известия. 1999. 23 декабря. С. 7].
Совершенно очевидно, что проблема контактов языков и языковых заимствований должна рассматриваться в контексте развития культур и цивилизационных процессов.
Проблема контактов языков и культур имеет еще один аспект, на который до сих пор внимание гуманитарных наук не обращалось. Речь идет о такой категории культуры, как языковая толерантность, под которой понимают высокую степень культурного и языкового самосознания, выражающуюся в высоком уважении и к иному языку, и к своему родному. Толерантность – чувство не врожденное, а благоприобретенное, и приобретается оно в результате контактов национальных языков и культур, в преодолении конфликтов через культурное взаимодействие и культурный компромисс. Воспитание языковой толерантности – задача глобальной, общечеловеческой ценности [Нерознак 1994: 27].
Дополнительная литература
Вайнрайх У. Языковые контакты. / Пер. с англ. – Киев, 1979.
Володарская Э.Ф. Заимствование как универсальное лингвистическое явление // Вопросы филологии. 2001. № 1. С. 11–27.
Демьянов В.Г. Иноязычная лексика в истории русского языка XI–XVII вв. – М., 2001.
Крысин Л.П. Иноязычное слово в контексте современной общественной жизни // Русский язык в школе. 1994. № 6. С. 56–63.
Сепир Э. Как языки влияют друг на друга // Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М., 1993. С. 173–184.
Щерба Л.В. О понятии смешения языков // Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. – Л., 1974. С. 60–74.
16. Эволюция языка
16.1. Проблема изменений в языке
Мысль о том, что язык постоянно изменяется, не требует особых доказательств. Достаточно сравнить язык Пушкина с языком современной художественной литературы, чтобы увидеть различия, обусловленные эволюцией лексической и грамматической сторон языка. Ещё более убедительно сравнение с памятниками письменности ранних эпох. «Аще где в книге сей грубостию моей пропись или небрежением писано, молю Вас – не зазрите моему окаянству, не кляните, но поправьте, писал бо не ангел Божий, но человек грешен и зело исполнен неведения» – в этом самооправдании древнерусского писца есть несколько слов, требующих обращения к историческому словарю. Изучая историческую грамматику русского языка, студенты-словесники имеют возможность увидеть значительные фонетические, морфологические и синтаксические изменения в языке, происшедшие за несколько сот лет.
Проблема развития языка включает немало сложных вопросов: что в языке меняется, а что остаётся предельно устойчивым; как осуществляется языковая эволюция; чем обусловлено развитие языка; как оно осуществляется; можно ли говорить о прогрессе в языковом развитии; от чего зависят темпы изменений и т. п. [Будагов 1977].
В специальной литературе, посвященной проблеме изменений в языке, используется несколько терминов, обозначающих этот процесс, – развитие, эволюция, совершенствование, прогресс, изменения, дрейф языка (последний принадлежит Э. Сепиру). Каждый из них в той или иной степени отражает суть стоящего за ним явления и имеет право на использование. «Развитие», «совершенствование», «прогресс» – подчеркивается цель изменений в языке, «эволюция» – делается акцент на целесообразности процесса. Пренебрегая смысловыми нюансами, мы используем в своём изложении термины «развитие» и «эволюция «как абсолютные синонимы.
Сложились полярные мнения о конечном результате развития языка: 1) язык в своём развитии прогрессирует, постоянно совершенствуется, стремится к своему идеалу; 2) язык «деградирует» в своём изменении, от богатства форм идёт к упрощению. Г. Гегель писал о том, что недостаточное развитие мышления человека на заре цивилизации компенсировалось обилием грамматических форм, по мере же совершенствования мышления постепенно упрощается язык, причём упрощение это предельно. «Язык наиболее культурных народов имеет, по-видимому, менее совершенную грамматику, и тот же язык при меньшей культурности народа имеет более совершенную грамматику, чем при большей его образованности» [Гегель 1956: 267]. А. Шлейхер разделял эту точку зрения, когда говорил об отмирании языков, прошедших, как и все организмы, полный жизненный цикл, начиная с рождения.
Младограмматики, собственно говоря, сняли проблему развития языков. Исходя из гуманистической идеи, что языки всех, даже самых нецивилизованных народов одинаково совершенны и в состоянии выразить любое содержание, они тем самым отрицали необходимость развития.
И Гегель, и Шлейхер основывались на очевидных фактах: количество языковых форм, действительно, уменьшается, активно протекают процессы унификации. Так, в истории русского языка произошло сокращение количества временных форм глагола, уменьшение типов склонения существительных (переход от трёх чисел к двум), уменьшение количества падежей и др. Но означает ли это регресс языка? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно точнее определить, о чём идёт речь. Решая проблему языкового развития, надо различать а) расширение функций языка и б) изменение его структуры. Неразграничение функций и структуры – основная причина споров о характере развития языка.
Самое важное для языка – расширение его общественных функций, так как от них зависит его судьба. Если язык утрачивает свои общественные функции, то он становится мёртвым. Примером может служить латинский язык после падения Рима. В целом справедлив вывод о том, что развитость языка – это прежде всего развитость общества. Интенсификация функционального развития обусловливает количественный рост лингвистических явлений, форм, способов – одним словом, обусловливает структурные изменения. Темпы и масштабы функционального развития языка влияют на внутриструктурное развитие, структурное же не определяет функционального развития языка, хотя язык с более развитой структурой имеет больше шансов быть языком многофункциональным.
Развитие общественных функций языка целиком обусловлено экстралингвистическими факторами. Относительно же развития структуры языка существуют взаимоисключающие точки зрения: 1) изменения в структуре определяются только социальными причинами (это, например, утверждали Н.Я. Марр и его последователи); 2) изменения структуры языка порождаются исключительно имманентными (внутриструктурными) причинами. Такой тезис был выдвинут структуралистами и ныне разделяется рядом представителей традиционного направления. Видимо, при решении проблемы языкового развития в одинаковой мере необходим учёт как социальных факторов, так и внутренних законов. Справедливо утверждение: в языке всё социально в том смысле, что он не может ни функционировать, ни развиваться вне общества. Однако при исследовании эволюции языка необходимо и научно оправдано разграничение социального и внутриструктурного.
Наличие внутриструктурных законов языкового развития – факт бесспорный. По мнению Э. Сепира, язык движется во времени по своему собственному течению, он дрейфует. В этом суть жизни языка. Дрейф – явление хотя и незримое, но объективное. У него есть свое направление. Дрейф языка осуществляется через неконтролируемый говорящими отбор тех индивидуальных отклонений, которые соответствуют некоему предопределенному направлению. Движущая сила дрейфа, начавшегося еще в додиалектный период, такова, что языки, уже давно разобщившиеся, проходят те же самые или поразительно схожие фазы развития. История английского языка свидетельствует о трех следствиях дрейфа этого германского языка, которые никакими внешними социальными факторами объяснить невозможно, – тенденции, с одинаковой интенсивностью действующие на самых разных этапах общественного развития. Это, во-первых, упразднение падежных различий; во-вторых, превращение позиции слова в предложении в важный грамматический показатель; в-треть-их, стремление к неизменяемости слова.
Начало всех изменений (дрейфа) в языке начинается с идиолекта – речи индивида. Э. Сепир отмечает, что два человека одного поколения и одной местности, говорящие на одном и том же диалекте и вращающиеся в той же социальной среде, никогда не будут одинаковы по складу речи, они говорят на слегка различающихся диалектах одного и того же языка, а не на одном и том же языке. Правда, индивидуальные различия речи молчаливо «корректируются» или «уничтожаются согласованностью обычая», но никогда не устраняются полностью и дают начало территориальным диалектам. По Сепиру, территориальные диалекты – это лишь проявление в социализированной форме универсальной тенденции к индивидуальному варьированию речи.
Каждое слово, каждый грамматический элемент, каждое выражение и каждая интонация постепенно меняет свои очертания. Фонетические изменения – важнейший и наименее доступный прямому наблюдению тип. Их факторы сложны. Э. Сепир видит в них действие скрытых символизмов, определяющих взаимоотношения разных возрастных трупп, а также бессознательное стремление к экономии усилий при произнесении звуков или звукосочетаний. Высокая степень регулярности внутренних фонетических изменений – их самая поразительная черта. «Разрушительные» фонетические изменения приводят к изменениям грамматической формы. При этом случаи нерегулярности, вызванные дезинтегрирующим воздействием фонетических изменений, «разутюживаются», по выражению Сепира, аналогичным распространением более регулярных форм. Суммарным результатом действия фонетических изменений и тенденции к грамматической аналогии становятся изменения деталей языковой структуры, вплоть до изменения основных характеристик. В отличие от фонетических и грамматических изменения в лексике вызываются весьма разнообразными причинами, большинство которых носит не столько языковой, сколько культурный характер [Сепир 1993: 138–184, 239–240].
В индоевропейских языках было мало гласных. Активнее других использовался <е>. В определенных условиях весьма случайно встречались <i> и <и>, в некоторых типах слов функционировал <а>. Гласные дополнялись h-подобными звуками (ларингалами), которые исчезли. Появились долгие и краткие i, е, а, о, и. В истории согласных индоевропейских языков наблюдался общий процесс перехода от сложных смычных согласных к простым согласным – смычным и фрикативным.
В индоевропейском языке-предке грамматические признаки выражались с помощью аффиксов, а в современных языках многие грамматические значения выражаются независимыми элементами. Языки развили местоимения, вспомогательные глаголы, артикли и предлоги, и эти формы упростили сложную систему склонений и спряжений. В праязыке главными были модальность и вид действия, а в современных языках – временные отличия. Противопоставленность по виду заменилась временными различиями. А. Мейе показал, что во всех индоевропейских языках с редким постоянством реализуется тенденция к утрате падежных флексий существительных, которую учёный объяснял противоречием между именем и глаголом. Лингвистика давно уже отметила утрату формы среднего рода во всех романских языках, а также упрощение форм времени в славянских языках.
Имманентно развивается синтаксис. В эволюции сложного предложения основная тенденция – переход от подчиненных словосочетаний (фраз) к подчиненным предложениям. Порядок слов из-за утраты падежных различий подлежащего и дополнения стал более жёстким. Как утверждал А.А. Потебня, язык идёт от именных форм сказуемого к глагольным, предложение развивается в направлении глагольного сказуемого. Внутреннее саморазвитие синтаксиса получает, по мнению выдающегося филолога, поддержку со стороны «аналогичной эволюции высшего мышления, развивающегося в направлении господства понятия силы» (Цит. по: [Овсянико-Куликовский 1989: 81]). Имманентность структурного изменения подтверждается наблюдениями над французским языком в Алжире, на Гаити и в Новой Каледонии, где он развивается активнее, чем в самой Франции, но сходно, поскольку это развитие не обусловлено влиянием местных языков.
Наличие внутриструктурных законов языкового развития может быть объяснено с позиции закона диалектики – единства и борьбы противоположностей. Подобный подход, как думается, – единственно верный для выявления характера и природы внутренних законов языка. Борьба противоположностей в языке реализуется в виде языковых антиномий.
16.2. Языковые антиномии
Антиномия – парадоксальная пара суждений, в которых одно исключает другое; по отдельности они кажутся в равной степени доказуемыми, правильными [Русский язык и советское общество 1968: 24–28]. Из языковых антиномий важнейшими являются следующие.
Антиномия говорящего и слушающего: говорящий стремится преодолеть избыточность языка, которая в норме оценивается как 2,7, слушающий же требует в целях адекватного восприятия информации повышения избыточности до оптимального уровня.
Антиномия узуса (языковой привычки) и возможностей языковой системы: узус ограничивает говорящего, речевые потребности постоянно заставляют нарушать эти ограничения за счет возможностей языковой системы. Этим объясняются окказионализмы и неологизмы в лексике, детское словотворчество, вариативность на разных уровнях: фонетическом, морфологическом, синтаксическом и т. п.
Антиномия кода и текста: код – языковые знаки, текст – сочетание знаков, набор кодовых единиц. В определении «квадрат – равносторонний прямоугольник» первое слово – код, всё, что после тире, – текст. Код и текст находятся в постоянной обратно пропорциональной взаимозависимости: увеличение кодовых единиц (слов в словаре) ведет к укорочению текста, уменьшение – к удлинению его. Язык не может бесконечно увеличивать, например, количество слов, так как ресурсы самого богатого языка, да и возможности человеческого мозга довольно ограничены, а безмерный внеязыковой мир потребует бесконечного количества слов. Единственный выход – передавать новые понятия текстом, сочетаниями уже имеющихся слов. При этом уменьшение, точнее, ограничение общего числа слов автоматически удлиняет текст, что тоже затрудняет общение.
Обе тенденции наблюдаются в современном русском языке. С одной стороны, словосочетания (текст) заменяются одиночными словами (кодовыми единицами): электрический поезд = электричка, «Литературная газета» = «Литературка», промокательная бумага = промокашка, зачётная книжка = зачётка. Понятие, которое в 50–60 гг. выражалось целым текстом – «разрядка напряженности международных отношений», – в 80-е гг. стало обозначаться одним словом «разрядка». С другой стороны, термины заменяются словосочетаниями экспрессивного характера: продавец =работник прилавка, врачи = люди в белых халата, нефть = чёрное золото и т. д.
Антиномия означаемого и означающего, так называемая асимметричность языкового знака: означаемое может измениться при устойчивом означающем и наоборот. Короче, изменения одной стороны языковой единицы не означают автоматического и в той же степени изменения другой. Например, фонетическое изменение облика слова двенадцать не повлекло за собой изменения его значения, а расширение смыслового содержания слова космос не привело к изменению его фонетического и графического облика.
Антиномия информационной и экспрессивной функций языка. Это, с одной стороны, стремление к регулярности единиц и их унификации, с другой – экспрессивная выделенность, нестандартность. По мнению лингвиста Э. Косериу, языковое изменение имеет одну единственную причину – языковую свободу говорящих и одно универсальное основание – экспрессивную (и коммуникативную) направленность [Косериу 1963: 285].
Все отмеченные антиномии представляют собой частный случай общего закона развития – противоречия между потребностями общения и языковыми возможностями. «Усовершенствование языка, – писал А.А. Потебня, – стоит в прямом отношении к степени живости обмена мыслей в обществе…» [Потебня 1989: 225]. Современный исследователь уточняет: «…Язык стремится к передаче всё большего количества информации в единицу времени» [Николаева 1991: 16].
Некоторые лингвисты сравнивают законы развития языка с экономическими законами свободного рынка, автоматически приводящего в равновесие спрос и предложение.
Указанные внутренние противоречия не являются асоциальными, хотя и существенно отличаются от тех социальных факторов, которые воздействуют на структуру языка извне, от так называемых внешних (экстралингвистических) факторов. Во-первых, они постоянны, а внешние – исторически преходящи, во-вторых, осуществляются бессознательно, в виде тенденции.
16.3. Изменения языковой техники
Наряду с разграничением функции и структуры особо рассматривают понятие языковой техники (лингвотехники), под которой понимают совокупность всех закономерностей, проявляющихся в плане выражения структурных единиц и управляющих их сочетаемостью. Особенностью языковой техники является изменение звучания и грамматических форм при относительно неизменном содержании. Примером изменения языковой техники в области фонетики может служить повсеместное исчезновение неудобопроизносимых слоговых плавных и носовых в индоевропейских языках, ассимиляция, диссимиляция, сингармонизм, появление протетических звуков, устранение зияния (стечение гласных), упрощение групп согласных, редукция безударных гласных и др.; в области морфологии – унификация основ или окончаний. Например, окончание-ов р. п. мн. ч. было у немногих слов, но стало продуктивным в силу звуковой значимости, сообщающей форме выразительность. Заметно стремление языка создать более чёткие показатели грамматических форм, по этой причине полисемантичные формы со временем преобразуются. В синтаксисе просматривается тенденция к объединению слов в тесно связанные группы: предложения в действительности состоят не из слов, а из словесных групп [Серебренников 1968, 1986; Панов 1988]. Мощным импульсом лингвотехники является «давление системы» – влияние системы языка на структуру языка, выражающееся в возникновении, изменении и исчезновении её отдельных элементов [Макаев 1962].
При всей важности учёта внутренних закономерностей эволюции языка ни в коем случае нельзя преуменьшать значение социальных факторов развития языковой структуры. «Жизнь языка открыта всем, каждый говорит, участвует в движении языка, и каждое сказанное слово оставляет на нём свежую борозду» [Мандельштам 1987: 179]. Среди социальных факторов можно выделить две группы: языковые и экстралингвистические. К социальным факторам языкового характера относится влияние одного языка на другой как результат международных контактов и взаимодействие литературного языка с диалектами. Экстралингвистические факторы довольно многообразны: это и объективные (экономические), и субъективные (языковая политика), а также изменение самого субъекта общения, т. е. носителей языка, и др.
Внутриструктурные и экстралингвистические факторы тесно взаимосвязаны. Все социальные факторы влияют на эволюцию структуры языка, воздействуя на внутриструктурные процессы. Одним словом, внешнее и внутреннее в языке сплетаются в единое целое. Примером могут служить семантические изменения, причин коих насчитывают пять: 1) лингвистическая (влияние контекста); 2) культурно-историческая; 3) социальная (переход слова из одной социальной сферы в другую); 4) психическая (эвфемия); 5) психологическая (синестезия). Механизм взаимодействия факторов развития можно продемонстрировать на примере движения слова: «…Под воздействием экстралингвистических стимулов (скажем, эмотивных факторов) слово начинает употребляться в необычном контексте (за счёт этого и создаётся желаемая экспрессивность); с возрастанием частоты употребления слова в новом контексте фиксируется его новое значение и одновременно «затухает», ослабевает, бледнеет экспрессивность; изменяется и расширяется круг сочетаемости слова, захватывая зоны сочетаемости «соседних», близких по смыслу, лексических единиц, – наступает конечный этап во всём сложном процессе семантического развития: сдвиг синонимов в системе языка. Таким образом, речевые причины занимают промежуточное положение между причинами первой степени (внешнелингвистическими) и причинами второй степени (внутрилингвистическими). Через речь (текст) и осуществляется действие причин от верхнего порядка к нижнему» [Левицкий 1984: 8].
Тесная связь развития языка с развитием общества побудила В.К. Журавлёва ввести в научный обиход понятие «социалемы» (языкового, речевого коллектива). Социалема – это такая единица языковой эволюции, в которой перекрещиваются линии развития общества и языка. Через социалему осуществляется «социальное давление» на развитие языка. Социалема определяет многое, но не всё, остаётся значительный простор для действия сил «давления системы», для внутренних законов развития языка [Журавлёв 1983: 8].
16.4. Характер эволюции системы языка
До сих пор мы рассматривали развитие всей системы языка в целом. На самом же деле разные ярусы языковой системы изменяются по-разному, т. е. с различной степенью интенсивности и глубины. Наблюдается закон обратно пропорциональной связи стабильности подсистемы и числа её элементов. Ярус дифференциальных признаков фонем обладает минимальным количеством единиц, и потому он предельно стабилен. Устойчив ярус фонем, оперирующий несколькими десятками единиц, а лексический ярус, насчитывающий сотни тысяч единиц, отличается максимальной подвижностью.
Фонетика эволюционирует путём вытеснения одних элементов и структур другими. Изменения в фонетике охватывают всю систему и изменяют принципы, обеспечивающие её статическое равновесие, радикальным образом. Фонетические изменения носят характер цепной реакции. В лексике изменения происходят иным образом. При познавательном освоении мира в процессе номинации обнаруживаются лакуны (пустоты), которые и заполняются. Развитие словаря идёт за счёт кумуляции элементов, что делает развитие каждого элемента достаточно автономным. В результате лексика не подвержена лавинным перестройкам и, накапливая новое, предельно долго удерживает элементы старого (это мнение А.Ф. Журавлёва. См. тезисы его доклада: Вопросы языкознания. 1993. № 4. С. 150. См. также: [Журавлев 1994]).
Лексику определяют как парадоксальный языковой уровень, поскольку подвижность словаря соединяется с его поразительным консерватизмом. Из лексики уходит немногое, прежде всего то, что словом, строго говоря, и не было (единичные заимствования, например) [Журавлев 1994: 18].
Скорость эволюции языковой системы не является постоянной, она обусловлена в основном факторами экстралингвистическими. «…Прогресс языка тесно связан с прогрессом цивилизации, причём появление у человека новых идей и понятий сопровождается новообразованиями в области слов и выражений, в случае же исчезновения тех или других предметов или понятий, в языке могут иногда удержаться их названия, приспособившись для обозначения новых представлений и явлений, сходных с прежними или заступающих на их место» [Богородицкий 1933: 3]. М. Горький писал, что язык особенно быстро обогащается в эпохи наиболее энергичной общественной деятельности людей вместе с разнообразием новых приёмов труда.
Выделяют три вида развития: слабое развитие (в период стабильного социально-экономического развития общества, 50—70-е гг. XX в. в СССР); интенсивное развитие (в период крупных социально-политических и экономических перемен, интенсивного культурного развития, общественного подъема. Например, эпоха Петра I, Ломоносова, Пушкина); бурное развитие (в эпоху смены общественно-экономической формации. Например, 20—30-е и 80—90-е гг. XX в. в СССР) [Стернин 1998: 85].
Экстралингвистические факторы, предопределяющие темпы языковых изменений, разнообразны: история народа, изменение круга носителей, создание новой государственности, уровень культуры, развитие науки, распространение просвещения, процесс урбанизации, миграции, иноязычное влияние, национальный характер носителей языка, географическое размещение. Так, специалисты говорят о том, что переход в первых веках новой эры латинского и греческого языков к динамическому ударению (греческий освободился от музыкального ударения, латинский – от системы долгот) связан с развитием христианства, с практикой христианских проповедей, с изменением образа жизни европейских и ближневосточных народов [Николаева 1991: 18].
Темпы ускоряются или замедляются под влиянием внутренних законов, действие которых обусловливается, в свою очередь, действием перечисленных выше социальных факторов. «Язык всегда сопутствует быту и в нём развивается: быт вперёд – язык вперёд, быт стоит – язык топчется на месте» (Вяч. Шишков). Достаточно семье изолироваться от общества на несколько десятилетий, как её речь становится весьма отличной от речи общества. Яркий пример – история семьи Лыковых, описанная в серии газетных публикаций В. Пескова «Таёжный тупик». Вот впечатление лингвиста, общавшегося с Лыковыми: «Речьдочерей мы с трудом понимали… В ней было много старинных слов, значение которых надо было угадывать. Манера говорить тоже была своеобразной – глуховатый речитатив с произношением в нос. Когда сёстры говорили между собой, звуки их голоса напоминали замедленное приглушенное воркованье» [Комсомольская правда. 1982. 9 окт.].
Можно полагать, что каждый элемент языковой структуры развивается альтернативно, отсюда принципиальное свойство языка – вариабельность (изменчивость), предопределяемая его избыточностью. Языковое развитие некоторыми учёными понимается не как движение от простого к сложному или более совершенному, а как диахроническая изменчивость, вариабельность языка, способность его к преобразованиям на всех уровнях языковой структуры [Гамкрелидзе 1986: 201]. Настойчивая тенденция проявляется в вариантах, многие из которых случайны и первоначально квалифицируются как ошибки. Язык, как заметил В. Шкловский, движется ошибками. Массовая речевая ошибка через признание её в норме становится «законным» элементом языковой системы, точнее, речевого узуса.
Вариантность, с одной стороны, и способность языка накапливать новое в формах старого, с другой, формируют парадокс: язык изменяется, оставаясь самим собой. Отсюда логичен вывод, что язык в принципе не стареет.
Вариабельность – свойство всех сложных открытых нелинейных систем, к коим относится и язык. В этих системах обычно существует несколько путей развития, и из этих нескольких путей (точек бифуркации) система периодически производит выбор.
Особая взаимосвязь внутренних законов развития языковой структуры с экстралингвистическими факторами, воздействующими на язык, приводит к парадоксу языкового развития: замедленность внешних изменений формы и постоянная достаточность языка для нужд познающего и общающегося человека. Образно сформулировал этот парадокс О. Мандельштам: язык одновременно и скороход, и черепаха.
16.5. Вопрос о прогрессе в языковых изменениях
В лингвистике уже поставлен вопрос о том, можно ли говорить о прогрессе в языковом изменении. А.А. Потебня был уверен, что язык прогрессирует. «…Чем древнее флектирующий язык, тем он поэтичнее, богаче звуками и грамматическими формами; но это падение только мнимое, потому что сущность языка, связанная с ним мысль растёт и преуспевает. Прогресс в языке есть явление <…> несомненное…» [Потебня 1989: 23]. При этом прогресс возможен только в том случае, если язык возникает стихийно вместе с человеком и обществом. «Для теории намеренного изобретения прогресс языка невозможен, потому что имеет место только тогда, когда уже не нужен; для теории божественного происхождения – прогресс должен быть регрессом» [Потебня 1989: 37].
Видимо, решение проблемы не может быть однозначным. Самое понимание слова прогресс весьма относительно. Вспомним парадоксальный вопрос биологов, совершеннее ли человек пчелы или розы. «В отличие от общего движения в истории процесс развития языков, как и процесс развития культуры, – это не только процесс всевозможных изменений, но и процесс укрепления прошлого состояния различных языков. Здесь новое обычно опирается на старое и вместе с тем обогащает это старое» [Будагов 1977: 5].
Одновременное сосуществование нового и старого – характерное свойство сложных систем. Математики доказали, что в некоторых пространственных точках тепловых структур процессы идут так, как они шли во всём объёме системы в прошлом, а в некоторых – так, как им ещё только предстоит протекать в будущем по всей структуре. В то же время все эти участки существуют в настоящем [Знание – сила. 1988. № 11: 40]. Языку присуще «регрессивное восстановление», обеспечивающее устойчивость языка [Бахтин 1992: 56–58].
Расширение и усложнение общественных функций языка безусловно прогрессивно, поскольку каждый язык стремится к более «полному общему и частному соответствию мира слов миру понятий» [Крушевский 1883: 149]. Изменение языковой структуры, поскольку она удовлетворяет функциональной, целевой нагрузке, относительно прогрессивно. Изменения в лингвотехнике едва ли можно квалифицировать как прогресс или регресс. Сами эти понятия диалектичны и относительны. Прогресс может означать и усложнение, и упрощение. Прогресс знает и структурное равновесие: упрощение одной подсистемы ведёт к усложнению другой, с ней связанной. «По мере развития языков и с общим прогрессом мысли, столь тесно связанным с усовершенствованием языка, внешняя, звуковая форма слов (то есть процессы их артикуляции и звуковые эффекты) упрощается', напротив, синтаксическая сторона и с нею тесно связанные морфологические категории усложняются, обогащаются» [Овсянико-Куликовский 1989: 76]. Признаком большего совершенства языка считают всё большую формальность, отвлечённость грамматических форм. «В этом смысле грамматическая форма новых языков (немецкого, французского, английского) гораздо формальнее, то есть совершеннее, чем грамматические формы древних языков, которая вращалась очень близко к порогу сознания и легко проникала в содержание слов, определяя их материальный смысл. Древние мыслили многие понятия по внушению грамматической формы» [Овсянико-Куликовский 1989: 75–76]. Логичен вывод о том, что нужно говорить не о «развитии», а о «движении» языка. Второе понятие шире и включает в себя все динамические процессы в функционировании, структуре и языковой технике речевой деятельности.
Каждый конкретный язык в своём движении вроде бы свободен в выборе альтернатив, однако лингвисты отмечают удивительное единодушие языков в выборе своего пути. А. Мейе писал о том, что языки в основном развиваются в одном общем направлении.
Удивительное сходство конечных результатов в изменении различных, в том числе и неродственных языков привело некоторых учёных к мысли о том, что языки развиваются по законам эволюции в духе Ч. Дарвина. Замечено, что языки эволюционируют путём замены определенных своих признаков другими – эквивалентными им, но усваиваемыми в более раннем возрасте. Эволюция в языке – это сдвиг по направлению к более выгодным альтернативам, что является типично дарвиновским процессом. Конечно, на этот процесс наслаиваются факторы социальной жизни, но они, играя определенную роль в тот или иной период, «не противоречат теории языковой эволюции» [Бичакджан 1993: 132].
16.6. Споры о возможности управлять языковой эволюцией
Проведение активной языковой политики, прогнозирование языковых процессов неизбежно ставит вопрос, возможно ли сознательное регулирование языковых процессов и насколько эффективным оно может быть.
К. Маркс и Ф. Энгельс в «Немецкой идеологии» писали: «Само собой разумеется, что в своё время индивиды целиком возьмут под свой контроль и этот продукт рода» [Маркс: 3: 427]. Многие лингвисты разделяют это мнение. «Если не человек существует для языка, а язык для человека, если человек имеет не только право, но и обязанность совершенствовать все свои орудия, то очевидно, что этому совершенствованию должно подлежать и столь важное и неизбежное орудие, каким является именно язык» [Бодуэн де Куртенэ 1963: 2: 151]. «Разве можно заботиться о чистоте какого бы то ни было языка, не допуская вмешательства свободной воли человека в его чисто естественное развитие?» [Бодуэн де Куртенэ 1963: 1: 40]. Л.П. Якубинский говорило необходимости создания специальной дисциплины, занимающейся активной организацией целесообразной речи. «Технология речи – вот то, что должно родить из себя современное научное языкознание, что заставляет его родить действительность» [Якубинский 1924: 71–72].
Мысль о возможности активного вторжения человека в область языка разделяется и зарубежными учёными: «Чем больше прогрессирует и облагораживается цивилизация, тем больше подвергается язык обработке и обдуманным изменениям» [Балли 1955: 395].
Известные науке факты свидетельствуют, что субъективные факторы в развитии языка весьма существенны и что нет оснований абсолютизировать относительную самостоятельность языковой системы. Сознательное воздействие на ход языковой эволюции становится реальным с созданием письменности и усиливается к началу эпохи капитализма. В 1539 г. король Франциск I особым указом утвердил диалект провинции Иль-де-Франс в качестве единого государственного языка Франции, и этот факт самым существенным образом повлиял на дальнейшее развитие французского языка. Мартин Лютер не только реформировал религию, но и преобразовал немецкий язык, сделав его языком богослужения. Всем известна роль реформ Петра Великого в истории русского языка. Многозначителен тот факт, что эстонский просветитель и учёный Й. Аавик за три десятилетия создал и ввёл в родной язык несколько сот искусственных корней, которые, прижившись, в свою очередь послужили основой для образования новых слов.
Учреждение национальных академий, в том числе и Академии Российской, преследовало прежде всего цель нормализации языка как средства научного познания. В уставе Академии Российской говорилось, что она «долженствует иметь своим предметом вычищение и обогащение российского языка, общее установление употребления слов оного, свойственное оному витийство и стихотворение».
Велика роль крупных писателей и поэтов в становлении и развитии литературных языков. Итальянский литературный язык как высшая форма национального языка своим возникновением обязан Данте, невозможно представить начало современного русского литературного языка без А.С. Пушкина, украинского – без Т.Г. Шевченко, польского – без A. Мицкевича, сербского – без В. Караджича и т. д. «Чрезвычайно ограниченная среда творцов культуры и инженерно-технической интеллигенции, вводящих феноменальное количество слов узкого значения, остаётся главным источником развития языка» [Моль 1973: 247]. Естественность, бытность, разумность, сущее, подлежащее, Провидение, искусство, стихия, внимание – эти слова ввёл в русский язык B. Тредиаковский. Список авторов русских слов можно продолжить: М. Ломоносов (нелепость, тленность), А. Радищев (раздражитель, беззащитность, совокупность, мощность), Г. Державин (изнеженность, скоротечность, хлопотливость), Н. Карамзин (добросовестность, неловкость, несоразмерность),№. Гончаров (обломовщина), А. Толстой (непротивление).
«Чем выше поднимается общество по винтовой лестнице социального и духовного прогресса, тем более организованным и эффективным становится его регулирующее воздействие на развитие языка» [Перетрухин 1968: 59]. Правда, во всех рассмотренных случаях влияние на язык было или опосредованным (указы, реформы), или ограниченным (воздействие на лексический и синтаксический ярусы языка). Остаётся вопрос: возможно ли сознательно коренным образом изменить всю языковую систему со всеми её ярусами и микросистемами?
Очень часто на этот вопрос отвечают отрицательно. Известно скептическое отношение Л.В. Щербы и А.М. Пешковского к попыткам контролировать языковые процессы. По мнению Л.В. Щербы, система и норма языка выше индивида, который не в силах ничего изменить [Щерба 1957:131].
«Норвежский эксперимент»
Ответ на вопрос, возможно ли сознательное управление языковым развитием, могут дать только широко поставленные социолингвистические эксперименты. Прецедентом для подобных экспериментов стала языковая ситуация в Норвегии [Стеблин-Каменский 1968; Берков 1983].
Норвегия в течение долгого времени входила в состав датского государства и пользовалась датским языком в качестве официального и литературного. После обретения независимости в Норвегии возник и развился смешанный городской говор, особенностью которого было соединение норвежской фонетики и синтаксиса и датской морфологии и лексики. В селе говорили на норвежских диалектах без датского влияния.
В 1814 г. страна получила политическую самостоятельность и проблема создания национального языка стала решаться в двух направлениях: во-первых, приведение существующего языка в соответствие с реальной практикой образованных городских слоёв, во-вторых, создание литературного языка на основе народных говоров. Несколько раз проводились реформы с целью «норвегизации» смешанного городского говора, который с 1890 г. стал называться риксмолом. На этом датско-норвежском языке писал Г. Ибсен.
В середине XIX в. П.А. Мунк выдвинул идею создания «народного языка» – ланнсмола, реализованную филологом-самоучкой и поэтом Иваром Осеном. Он четыре года изучал диалекты, издал в 1848 г. «Грамматику норвежского народного языка», а в 1850 г. «Словарь норвежского народного языка». Новый язык представлял собой письменный синтез норвежских диалектов, при этом принимались наиболее архаичные элементы, что было связано с романтическими воззрениями создателей ланнсмола. Язык был искусственным, но он отвечал общественным потребностям. В 1868 г. возникло общество поддержки прав ланнсмола; в 1885 г. ланнсмол был принят официально и уравнен с риксмолом. Языковая ситуация осложнилась: появились два конкурирующих языка. Были попытки административными мерами синтезировать их, но они оказались бесплодными. Существование двух литературных языков создало значительные трудности в области просвещения, культуры и государственности, что вызвало отрицательную реакцию всего норвежского общества. Национальное языковое движение в Норвегии зашло в тупик.
Норвежский опыт печален. Люди, сознательно вызвавшие «языковую лавину», оказались перед ней совершенно бессильными. Следует ли делать из этого пессимистический вывод, что удел человечества – довольствоваться теми языками, которые ему даны, и теми частичными изменениями языковых элементов, которые оно в состоянии произвести? Видимо, нет.
Описав «языковую лавину», М.И. Стеблин-Каменский замечает, что норвежский язык научно не изучался, что норвежская грамматика – самая неисследованная грамматика мира. Именно это привело языковое движение не к тем результатам, к которым стремились создатели нового норвежского языка. Видимо, эффективность регулирования языковых процессов в значительной мере предопределяется точностью научного предвидения дальнейших путей эволюции языка, хотя стихийность развития – это изначальное и неизменное свойство языка. «Подталкивание» языковой эволюции оказывается неуспешным в той же мере, как и стремление устранить изменчивость языка.
Защита языка как фактор воздействия на его эволюцию
В наши дни чрезвычайно актуальной становится проблематика культуры речи, которая «представляет собой теоретическую и практическую дисциплину (или сферу исследования), смежную со стилистикой языка и стилистикой речи, обобщающую их положения и выводы как с целью живого, оперативного воздействия на дальнейшие процессы развития языка, так и с целью определения основных эстетических норм, форм и тенденций связи литературной речи с движением стилей художественной речи» [Виноградов 1964: 9].
Норма литературного языка двулика – она устойчива и подвижна. Устойчивость нормы обусловлена коммуникативной функцией языка, а её подвижность – функцией языка как орудия мышления, познающего бесконечный и изменчивый мир. Постоянно учитывая эту двойственную природу нормы, человек может в какой-то мере управлять языковым развитием. Работа по определению и регулированию норм, кодификация их, тесно связанная с прогнозированием языковых процессов, – пример активного отношения общества к важнейшему средству коммуникации.
На сегодня самая эффективная форма воздействия на язык – это его защита. Европейские языки защищаются от американизмов, которые грозят затопить не только языки небольших народов, скажем, исландский, но и языки мирового уровня. Примером целенаправленной защиты языка может служить Франция. Поскольку терминология является одним из главных каналов проникновения англицизмов (американизмов) в национальные языки, то в 1973–1976 гг. Французское правительство издало ряд декретов и постановлений, регламентирующих употребление терминов, включая изгнание англицизмов. При премьер-министре страны декретом был создан Высший комитет по защите и распространению французского языка, позже переименованный в Высший комитет французского языка. Принят декрет об обогащении французского языка. В 1975 г. был подписан «Закон об использовании французского языка». Количество англицизмов заметно снизилось. «Широкая общественная поддержка основных целей и принципов этой программы в значительной степени определила её в целом успешную реализацию. Как показывает французский опыт <…> сознательное регулирование процессов создания и унификации терминологии, т. е. целенаправленное воздействие на терминологические нормы, способно быть эффективным и дать вполне ощутимые результаты» [Башкин 1982]. Писатель и постоянный секретарь Французской академии Морис Дрюон замечает: «Во Франции язык – дело государственное, и академия имеет статус высшего суда. Но можно ли заточить язык в рамки закона? Это всё равно, что требовать от церкви законодательного контроля над поведением людей. Она может лишь внушить вам чувство греха. Именно в этом – внушить людям, что плохо говорить – грех, видит своё предназначение Французская академия» [Известия. 1995. 12авг.].
Защита языка – дело тонкое. Нельзя превратить её в запретительство, тормозящее необходимую эволюцию языка. Без изменений язык становится мёртвым. Любопытно отношение великой русской поэтессы Анны Ахматовой к языку писателей-эмигрантов: «Ей бросалась в глаза его правильность. Но это мёртвый язык, говорила она. Живя вне стихии языка родного, меняющегося, развивающегося, писать нельзя, утверждала она» [Герштейн 1993: 159].
Дополнительная литература
Влияние социальных факторов на функционирование и развитие языка. – М., 1988.
Журавлёв В.К. Внешние и внутренние факторы языковой эволюции. – М., 1982.
Колесов В.В. История русского языка в рассказах. 3-е изд. – М., 1994.
Костомаров В.Г. Жизнь языка. От вятичей до москвичей. – М., 1994.
Крысин Л.П. Социолингвистические аспекты изучения современного русского языка. – М., 1989.
Николаева Т.М. Диахрония или эволюция? (Об одной тенденции развития языка) // Вопросы языкознания. 1991. № 2. С. 12–26.
17. Экология языка
К концу XX в. выяснилось, что от человека надо защищать практически всё. Отсюда популярность слова экология, потерявшего свою первоначальную терминологическую определенность. Экология (от греч. oikos – дом, жилище, местопребывание и… логия) – наука об отношениях организмов и образуемых ими сообществ между собой и с окружающей средой. Термин экология был предложен в 1866 г. Э. Геккелем (1834–1919). С середины XX в., в связи с усилившимся воздействием человека на природу, экология получила особое значение как научная основа рационального природопользования и охраны живых организмов, а сам термин экология приобрёл более широкий смысл [БЭС 1997: 1393]. Уже говорят об «экологизации» современной науки.
У слова экология актуализировалось значение 'защита' и произошло расширение круга объектов, связанных с понятием «экология»: экология культуры (Д.С. Лихачев; Дж. Стюарт), экология языка (Г.В. Степанов), экология духа (о. А. Мень), экология религии (О. Хульткранц). Эти популярные ныне словосочетания статуса научных терминов пока не получили. «Большой энциклопедический словарь. Языкознание» (1998) обходится без слова экология и словосочетания экология языка.
Язык – это продукт, составная часть и условие существования культуры. Экология языка теснейшим образом связана с проблемой экологии культуры, поскольку условием сохранения и развития культуры считается забота о языке. «Проблема восстановления культуры есть прежде всего проблема восстановления языкового пространства и его возможностей» [Мамардашвили 1990: 203–204]. За «обычным» искажением языковых норм, полагает философ, – обрыв вековых нитей национальной культуры. Сложившийся стихийно в полном согласии с природой, среди которой жили его носители, язык унаследовал от неё и стойкость, и ранимость и, как следствие, требует бережного к себе отношения. «И нет у нас иного достоянья! Умейте же беречь хоть в меру сил, в дни злобы и страданья, наш дар бесценный – речь» (И. Бунин).
М.К. Мамардашвили в статье «Язык и культура» задается вопросом: «…Можно ли восстановить наши порванные внутренние связи с традицией мировой культуры?» и дает краткий и определенный ответ: «Этот вопрос – проблема во многом языковая». Язык – это сама возможность существования культуры. Возвращение от «советского» языка, который целиком состоит из каких-то неподвижных, потусторонних блоков, не поддающихся развитию, из языковых опухолей, которыми нельзя оперировать, мыслить, – к тому самому великому и могучему русскому языку «золотого века» – первейшее условие экологии современной культуры [Мамардашвили 1991].
Правота приведенных слов философа подтверждается опытом сохранения русского языка и русской культуры, находившихся в изгнании. Эмигранты первой волны, несмотря на бедствия, принесенные войной, революцией, расколом общества, гонениями и изгнанием, создали за пределами России русскую культуру, которая явилась важным компонентом всей мировой культуры в ее материальном, интеллектуальном и духовном измерении. Это стало возможным прежде всего благодаря неустанной заботе о родном языке. Язык явился тем базовым элементом, который не просто воплощал в себе традицию русской культуры, отражая ее в литературе, но и представлял собой существенный элемент самосознания «граждан» Зарубежной России, которые отказались от реформы письма 1918 г., боролись с советскими и западными неологизмами, не приняли моды на аббревиацию и создали настоящий культ Пушкина [Раев 1994]. Забота о языке дала свои впечатляющие результаты. «Главное наслаждение произведений Набокова – осязать заповедный русский язык, незагазованный, не разоренный вульгаризмами, отгороженный от стихии улицы, кристальный, усадебный, о коем мы позабыли, от коего, как от вершинного воздуха, кружится голова, хочется сбросить обувь и надеть мягкие тапочки, чтобы не смять, не смутить его эпитеты и глаголы. Фраза его прозы – застекленная, как драгоценная пастель, чтобы с неё не осыпалась пыльца» [Вознесенский 1989: 96].
Задолго до споров об экологии великий немецкий поэт, мыслитель и государственный деятель И.В. Гёте писал: «Очищать и вместе обогащать родной язык – дело выдающихся умов. Очищение без обогащения – занятие для бездарных» [Гёте 1980: 325]. По мнению Гёте, существует много способов очищения и обогащения языка, чтобы тот развивался, как живой организм. Поэзия и страстная речь – единственные источники живой жизни языка, а «мусор» в языке – явление неизбежное, ибо он живой организм и постоянно строится: «строительный мусор» – неудачная попытка обогатить язык или свидетельство недостаточного его знания. В любом случае «мусор» объективно важен: «…В конце концов он осядет и поверх него потечет чистая волна» [Гёте 1980: 325] – оптимистическая нота, которой так не хватает в современных экологических размышлениях.
Итак, что такое экология языка? Современные специалисты под экологией языка понимают культуру мышления и речевого поведения, воспитание лингвистического вкуса, защиту и «оздоровление» литературного языка, определение путей и способов его обогащения и совершенствования, эстетику речи. «…Всякое потерянное, искаженное или непонятое нами слово – это потерянный для нас мир, звено нашей культуры». Автор этой цитаты уверен, что если есть предельные уровни загазованности и радиации, то есть и предельные уровни загрязнения языка, за которым – необратимый процесс разрушения [Скворцов 1994: 82]. Экология речи начинается с завета Н.В. Гоголя: «Обращаться со словом нужно честно. Оно есть высший подарок Бога человеку» [Гоголь 1984].
Сейчас много размышляют о причинах деградации русской речи. Циничное использование языка для пропагандистских целей лишило язык жизни. Именно в официальных письменных текстах наиболее очевидна деградация русского языка. Широкое распространение русского языка в СССР привело к «истончению» его культурной наполненности; обеднило русский язык и негативное отношение к диалектам. Опыт Италии и Японии, стран лингвистически очень консолидированных, но тем не менее широко использующих диалекты в бытовой жизни параллельно с общим литературным языком, весьма показателен.
В перечне того, что угрожает литературному языку, Л.И. Скворцов в полемике с книгой К.И. Чуковского «Живой как жизнь» на первое место ставит заимствования: «иноземное засилье нам грозит» [Скворцов 1994]. На этом настаивают и авторы газетных заметок об иностранных словах в бытовой русской речи и в средствах массовой информации. Только затем говорится о второй угрозе – процессах стилистического снижения и вульгаризации речи, о вторжении инвектив (мата) в литературную речь и даже в словари литературного языка (третье, «бодуэновское», издание Даля, словарь Ожегова – Шведовой), об утрате художественно-эстетическо-го речевого идеала.
Однако в рассуждениях о роли заимствований современной русской речью есть и противоположное суждение: серьезной опасности нет. Так считали В.Г. Белинский – «гений языка умнее писателей и знает, что принять и что исключить» – и Л.В. Щерба, который отмечал свойство русского языка «не чуждаться никаких иностранных заимствований, если только они идут на пользу дела». Многие специалисты говорят о том, что паника по поводу заимствований неуместна. Выясняется, что заимствуется, во-первых, терминология из областей науки и техники, в которых заметно наше отставание, и, во-вторых, отдается дань моде (отсюда многочисленные презентация, рейтинг, консенсус, брифинг, шоп-тур и т. п.). Обе группы заимствованной лексики угрозы языку не представляют. Профессор Орловского университета Ф.А. Литвин проанализировал две статьи из «Российской газеты»: одну – о сотовом телевидении, другую – о финансовом рынке в России, – и сделал вывод, что заимствованные слова в статьях неназойливы и давно уже «приручены» русским языком. По мнению лингвиста, «призывы к спасению русского языка исходят из неверия в его жизнеспособность, а это ни в коей мере не следует из истории языка и оценки его потенциала. Напротив, из предыдущего опыта следует, что русский язык «вынесет все, что Господь ни пошлет»…» [Литвин 1998: 120].
Мировой опыт развития языков свидетельствует, что великий французский язык «сработан» из трех пластов: кельтского, романского и германского; что в английском отразилась культура норманнов и англосаксов плюс заимствования из многих языков и особенно из французского; что язык племен, живших в культурной изоляции, беден и постепенно деградирует; что чистота – не естественное, а искусственное состояние языка; что организм русского языка живет приступообразными периодами заимствований – отторжений; что язык сопротивляется нигилизму истории: иноязычное приручается, старое остается; что язык – такая стихия, которая насилия над собой не терпит; и т. д. и т. п.
Охранители боятся не столько заимствований, сколько исчезновения отечественного. Однако очевидно, что формы «чужое/свое» сосуществуют параллельно: сакральный/святой, сандалии/босоножки, имидж/образ. Такие же пары образуют заимствованные слова: помидоры/томаты, шоп/магазин, лизинг/аренда. Отчизна (из польского) не вытеснила родину, штакетник – забор, брюки – штаны, магазин – лавку. История русской лексики говорит, что поражение потерпели многие заимствования: переводчик вытеснил толмача, подписчик – субскрибента. Ушли из активной речи манифест и рескрипт, циркуляр заменился указом, приказом, постановлением. Свое очень устойчиво. Заимствование может потеснить только заимствованное слово: имбирь вытеснил зензевель, шарф – кашне, студентка – институтку, семинарист – бурсака. По мнению автора, заметки которого мы только что излагали, «даже это запрещено духом языка, защищающим привычное, обрусевшее слово: чаще всего они продолжают сосуществовать» [Иваницкий 1998].
Русский язык по-прежнему «велик и могуч», его лексический инвентарь, запас выразительных средств и возможностей колоссальны и продолжают расти. Русский язык как коммуникативный феномен не требует никакой защиты – ни юридической, ни моральной. «Язык – зеркало того общества, в котором он функционирует. Если больной или переживающий душевный кризис человек смотрится в зеркало, то в зеркале, естественно, отражаются наблюдающиеся у него внешние признаки болезни или душевного кризиса. Но при этом само зеркало никакого кризиса не переживает. Язык как система не переживает кризиса, но можно говорить о наличии критических явлений в отношении общества к освоению и употреблению языка, к соблюдению языковых норм» [Стернин 1998: 4].
Моральной, филологической, а иногда и юридической защиты требует наша речь. Каждый индивид получает язык как нечто данное, уже до него существующее, а речь каждодневно каждому человеку приходится формировать самому. И тут открывается печальная картина. «Культура речевого взаимодействия упала до самой низкой отметки. Русская речь катастрофически отстаёт от высоких эталонов российской словесности» [Комлев 1998:5].Так что защищать надо неязык, аречь и бороться надо не с заимствованиями, а с проводниками этих заимствований, всячески повышая их образовательный и культурный уровень. Бояться надо не заимствований, бояться надо выхолащивания слов. Невысокая речевая культура – зеркало низкой общей культуры. «…Орфографию невозможно улучшить в отрыве от общей культуры. Орфография обычно хромает у тех, кто духовно безграмотен, у кого недоразвитая и скудная психика. Ликвидируйте эту безграмотность, и все остальное приложится», – считал замечательный знаток и ревнитель родного языка К.И. Чуковский.
Специалисты по языкознанию и культурологии говорят о трех главных источниках и регуляторах творческой деятельности и жизни языка. Это 1) школа, 2) лингвистическая наука и 3) художественная литература в ее лучших образцах. Чтобы не засориться, не обмелеть, эти источники требуют к себе повышенного внимания со стороны общества и государства. Постоянно возникает вопрос о необходимости закона о русском языке. Опыт стран, принявших закон о языке (Франция, Исландия), убедительно свидетельствует в пользу подобных законодательных акций. Утверждена федеральная программа «Русский язык», которая, к сожалению, в силу известных причин не выполняется.
Защита языка – дело коллективное, национальное, но эффективной она может быть только при условии личной активности каждого носителя языка. Примером может служить русский эмигрант В. Набоков. «Однажды, на рыночной площади посреди Кембриджа, я нашёл на книжном лотке <… > Толковый Словарь Даля в четырёх томах. Я приобрёл его за полкроны и читал его, по нескольку страниц ежевечерне, отмечая прелестные слова и выражения… Страх забыть или засорить единственное, что успел я выцарапать, довольно впрочем сильными когтями из России, стал прямо болезнью». Слова эти – из автобиографической книги В. Набокова «Другие берега». Сама книга, равно как и другие произведения этого автора, свидетельствует, что усилия молодого эмигранта из России не оказались напрасными: русский язык был им для себя сохранён, обогагцён творческим трудом и возвращён в Россию. Узнику ГУЛАГа А.И. Солженицыну в лагере попался один том Даля, и эта книга для будущего писателя оказалась и средством спасения духа, и базой «языкового расширения» – сохранения и приумножения родного слова.
Синергетика – современная наука о сложных, самоорганизующихся системах, у которых существует несколько альтернативных путей развития, – не считает преувеличенной роль личности в сохранении и преумножении языка. Специалисты полагают, что усилия отдельного человека не бесплодны: «В особых состояниях неустойчивости социальной среды действия каждого отдельного человека могут влиять на макросоциальные процессы. Отсюда вытекает необходимость осознания каждым человеком огромного груза ответственности за судьбу всей социальной системы, всего общества» [Князева, Курдюмов 1992: 5]. Автор идеи синергетики И. Пригожин говорит о наличии в сложных, саморегулирующихся системах так называемых точек бифуркации, под которыми понимается слабое воздействие, радикально изменяющее ход процесса.
Внимание к проблемам культуры и внедрение в систему образования особой научной дисциплины – культурологии – имеют весьма важное значение. Логичнее и легче защитить и сохранить то, что знаешь. В дневнике самобытного русского писателя и философа М.М. Пришвина есть интересная мысль, выраженная афористически: «Увидеть – значит изменить». Изменить отношение к культуре можно только в том случае, если знаешь, что это такое. Как говорил мыслитель, культура есть нечто, что не существует до тех пор, пока она не оказывается понятой. Изучение культурологии, таким образом, преследует цель не только просветительско-образовательную, но и эколого-воспитательную. Столь же необходима и другая учебная дисциплина – лингвокультуроведение.
18. Будущее языка как объект науки
18.1. Понятие об интерлингвистике
Интерлингвистика – особая лингвистическая дисциплина, решающая вопрос об организации эффективной коммуникации в многоязычном мире и перспективах языкового развития человечества. Она тесно связана с философией, социологией, психологией, этнографией и техникой. Оформилось это направление в XX в., большой вклад в исследование проблем интерлингвистики внесли отечественные учёные во главе с Е.А. Бокаревым.
Основными задачами интерлингвистики являются: 1) исследование процессов взаимодействия национальных языков;
2) решение проблемы языковых «интернационализмов»;
3) выработка принципов и методов создания искусственных языков; 4) разработка вспомогательных международных языков и мн. др. [Григорьев 1966].
18.2. Объективные трудности общения в многоязычном мире
Пять с лишним миллиардов жителей Земли пользуются тремя тысячами языков. Эта цифра весьма условна. По данным справочника «Языки мира» под. ред. А. Мейе и М. Коэна (1952), на Земле 2796 языков. В книге «Классификация и указатель языков мира» К.Ф. и Ф.М. Веселинов зафиксировано 25 тыс. говоров, диалектов и языков. Проф. А. Дуличенко (Тарту) считает, что всего языков около пяти тысяч. Немецкий ученый Г.Ф. Майер называет цифру 5600. Российская картотека «Языки мира» содержит 30 тыс. названий говоров, диалектов и языков.
В условиях современности с постоянно усиливающейся тенденцией к максимализации общения многоязычие становится серьезным тормозом прогресса. «Разноязычие является одним из величайших несчастий человечества», – писал Вольтер. Человечество несёт большие убытки в сфере материального производства, так как разноязычная информация, накапливаемая в геометрической прогрессии, становится труднодоступной. Так, отклонение около 70 % всех заявок на открытия обусловлено отсутствием иноязычной информации. Например, почти вся японская научная периодика печатается на родном языке, а японский язык не принадлежит к числу широко изучаемых языков. Американские химики подсчитали, что если синтез нового соединения обойдётся менее, чем в 100 тыс. долларов, выгоднее произвести этот синтез, чем искать описание аналогичной работы. Попытка обобщить материал по климату Африки требует знания 25 языков [Проблемы интерлингвистики 1976: 56].
В Европейском экономическом сообществе в 1980 г. было шесть официальных языков, на которые переводится любой документ. Служба переводов этой организации состояла в 1978 г. из 1300 профессиональных переводчиков, в год они давали приблизительно 600 тыс. страниц продукции; однако уже в 1979 г. число переводчиков увеличилось до двух тысяч. В настоящее время в одной Европе переводится от 80 до 240 млн страниц в год, т. е. от 20 до 60 млрд слов на сумму от 1,5 до 4,8 млрд долларов. Только профессиональных переводчиков в мире насчитывается 90—260 тыс. человек [Наука и жизнь 1994: № 3: 56].
Совместные научные эксперименты, осуществляемые представителями разных стран, осложняются «языковым барьером». Тур Хейердал, предпринявший попытку со своими спутниками на лодке из папируса переплыть океан, вспоминает: «Стараясь перекричать гул ветра, я отдавал команды по-французски Абдулле, по-итальянски Карло, по-английски Юрию, по-итальянски, по-английски или по-французски Жоржу». Позже интернациональный экипаж лодки «Ра» вынужден был придумать несколько кратких команд в духе эсперанто.
Человечество в значительной мере разобщено и в культурном отношении. Поскольку традиционное изучение иностранных языков требует много времени (свыше 5000 часов каждый) и по результатам в массе малоэффективно, всемирная художественная литература доступна многим лишь в незначительной части. Как сказал поэт Расул Гамзатов, «государственная граница разделяет людей, но ещё больше разделяют их языки». Столь же категоричен и лингвист: «То, чего хотел язык, разрушили языки» (Г. Шухардт). Как удачно замечено, язык одновременно служит и мостом, и стеной.
На совместных военных маневрах в рамках НАТО самая большая проблема – проблема языка. Это касается даже англоязычных англичан и американцев, которые в шутку говорят о себе: мы одна нация, только разделенная общим языком. Доля правды в этой шутке весома. При радиосвязи несовпадающая лексика и различия в произношении приводят к нелепым сюрпризам, за которые на войне расплачиваются потерями [Известия 1995: 29 авг.: 3].
В племенном обществе проблема преодоления «языкового барьера» решалась сравнительно легко и безболезненно. Так, у папуасов мальчиков одинакового возраста на несколько лет обменивали. Через некоторое время оба «дипломированных» переводчика возвращались к себе домой и осуществляли межплеменные контакты [Вокруг света 1973: № 1: 54].
В 1986 г. шведский этнолингвист Эмануэль Дрексель, работая в США, доказал, что и сейчас ещё среди индейцев живы сотни людей, которые помнят особое мобильское наречие (мобиль – племя индейцев и Мобиль – посёлок на землях племени), выполнявшее роль индейского «эсперанто». Этот особый язык использовался в местностях, где бытовали десятки диалектов и языков, зачастую не имеющих между собой ничего общего, ибо относились к пяти языковым семьям. Это донельзя упрощенная смесь языков чокто и чикасо. В «языке» нет окончаний, времен глаголов, никаких оттенков. Цель одна – понять друг друга. Фраза «Я забыл песню» выглядит так: «Песня забыть прошлое». Расцвет языка-посредника пришёлся на XVIII в., после чего был вытеснен английским, хотя ещё в сороковые годы XX столетия Дрексель собрал 600 слов, разобрался в грамматике [Вокруг света 1987: № 9: 36].
18.3. Вопрос об эффективной коммуникации в мире и перспективах языкового развития человечества
Общение в современном мире и перспективы языковой политики в будущем становятся чрезвычайно важной проблемой, имеющей не только теоретическое, но и практическое значение. Языковая политика может планироваться и осуществляться только с перспективой на будущее. Вот почему правы те, кто утверждает, что в XIX в. языкознание смотрело назад, в XX в. изучает современное состояние и начинает вглядываться в будущее [Григорьев 1966: 44]. Закладываются основы лингвистической футурологии – науки о будущем языков.
«Единственный мировой язык – единственный путь к информационному равенству, а информация – это хлеб культуры», – так формулирует важную задачу развития цивилизации американская исследовательница этнолог Маргарет Мид [Знание – сила. 1993: № 6: 89]. Несколькими десятилетиями ранее Э. Сепир утверждал, что в конце концов фактически неизбежно цивилизованный мир примет некоторый язык международной коммуникации, например, английский или эсперанто, который может быть предназначен для собственно информационных целей [Сепир 1993: 215].
Считается, что многоязычие может быть преодолено двояким образом – технически и лингвистически. Технический вариант решения (создание универсальных портативных электронных «переводчиков») чрезвычайно сложен, дорог, более того, весьма проблематичен, да и осуществление его потребует таких лингвистических знаний, которые могут подсказать пути более эффективные и надёжные.
Лингвистический путь решения проблемы не является одноколейным. Л.Н. Толстой в статье «О международном языке» (1894) писал: «Для того чтобы люди понимали друг друга, нужно или то, чтобы все языки сами собой слились в один (что если и случится когда-либо, то только через большое время)… или то, чтобы был избран всеми один язык, которому обязательно обучались бы все народы, или, наконец, то (как предполагалось воляпюкистами или эсперантистами), чтобы все люди разных народностей составили себе один международный облегчительный язык и все обучились бы ему… Мне кажется, что последнее предложение самое разумное и, главное, скорее всего осуществимо…» (Цит. по: [Костомаров 1986: 275–276]). Интерлингвистическая литература обсуждает три наиболее перспективных пути: а) создание единого всемирного искусственного языка; б) использование одного или немногих из естественных языков; в) комбинированное использование естественных и искусственных языков.
Уместно заметить, что авторы утопий, антиутопий и фантастических романов о будущем человечества непременно касались вопросов языка, полагая, что общий язык – главная составляющая «счастья» и гармонии общества, свидетельство отсутствия этнических проблем, единства культурного процесса, однако решения их не отличались оригинальностью и лежали в колее указанных выше трех возможных путей преодоления многоязычия [Мясников 1999].
18.4. Искусственные языки: история идеи, практика, достоинства и недостатки перехода человечества на всеобщий искусственный язык
Идея создания единого всемирного искусственного языка («планового языка») возникла и живёт с того времени, как человек осознал факт многоязычия мира и практически столкнулся со всеми неудобствами, связанными с ним. Уже античный врач Клавдий Гален, философ Платон на заре человеческой цивилизации пытались создать единое средство коммуникации. Пожалуй, никто из больших мыслителей в средние века и в последующее время не прошёл мимо этой, ставшей уже вечной, проблемы. Р. Декарт, И. Ньютон, Г. Лейбниц, французские просветители, А. Ампер – вот далеко не полный список тех, кто предпринял практические попытки создать искусственный язык. Не остались в стороне и филологи. Я. Гримм, увлеченный идеей искусственного языка, написал подробную программу для составления такого языка. Бодуэн де Куртенэ высказался весьма определенно: «Если человек мог изобрести столько других средств, предоставляющих ему господство над природою и облегчающих взаимное общежитие, то почему же ему не изобрести тоже искусственного языка. <…> В <…> отрицательном отношении к искусственным языкам следует видеть предрассудок ученых» [Бодуэн де Куртенэ 1989: 382–383].
Создание единственного языка – задача не только научно-теоретическая, но и социальная. Мало личной талантливости того или иного создателя языка, нужна ещё практическая потребность общества в этом языке, поэтому языки, созданные в средние века, в XVII–XVIII вв., остались экспериментом, несмотря на их видимые достоинства. XIX век – век промышленной революции и победного шествия капитализма – взламывал национальные границы, усиливал связи между народами и переводил создание искусственных языков из области экспериментов в область практической деятельности. Именно в XIX в. были созданы сравнительно широко распространившиеся языки. В XVII в. Европа предложила 41 проект «планового» языка, в XVIII в. – 50, в XIX в. – 246.
В 1817 г. француз Ж. Сюдр создал язык сольресоль, использовав разнообразные сочетания семи элементов (семь нот, семь цветов спектра и т. д.). То был остроумный и любопытный проект. Слова этого языка можно было произносить, петь, исполнять на музыкальных инструментах, рисовать, однако трудности практического порядка не позволили ему стать средством общения. Об этом языке можно прочитать в заметке А. Дуличенко «Сольресоль» [Наука и жизнь 1995: № 3: 90].
В 1879–1880 гг. Иоганн Мартин Шлейер, знаток ряда европейских языков, создал искусственный язык воляпюк (из англ. world speak) путём контаминации и усечения слов, взятых из романо-германских языков, и предельного упрощения грамматики. Это был первый язык, который получил сравнительно широкое распространение: им овладело около 210 тыс. человек, возникло около двухсот обществ воляпюкистов, издавалось 30 газет и журналов, было создано и переведено 300 литературных произведений. Несмотря на сравнительную с естественными языками простоту и доступность, воляпюк не избежал некоторой «алогичности», присущей естественным языкам, и для искусственного языка был достаточно труден. В нем отсутствовала фундаментальная научная основа словотворчества. Ограниченные возможности, скудность воляпюка вызвали у многих отрицательное отношение к этому языку.
Удачной оказалась попытка, предпринятая 28-летним варшавским врачом-окулистом, выпускником Московского университета, Людвиком Заменгофом, опубликовавшим в 1887 г. проект «Интернациональный язык. Предисловие и полный учебник для русских». Этот проект, названный псевдонимом автора – «д-р Эсперанто», – был предельно прост в грамматическом отношении (всего 16 правил) и более логичен в словообразовательном плане. Части речи в эсперанто определяются по окончанию, прибавляемому к основе. Окончание существительного – «о», прилагательного – «а», множественного числа – «i». У глаголов всего три простых времени, а в каждом – единственное окончание. Будучи производным от английского и ряда других германских и романских языков, эсперанто напоминает по своему внутреннему ритму и произношению итальянский или испанский. Специалисты утверждают, что этот язык доступен азиатам и африканцам.
Эсперанто сразу завоевал широкую популярность. Многие великие люди изучали и пользовались эсперанто. Среди них Жюль Берн, С. Обручев, А. Эйнштейн, М. Горький. К.Э. Циолковский так оценил новое средство международного общения: «Разумеется, эсперанто самый лучший из всех искусственных языков. Несомненная простота алфавита, изумительная лёгкость грамматики и распространенность словаря – делает его изобретателя бессмертным» [Попов 1971: 91]. Константин Эдуардович написал учебник эсперанто, ему же принадлежит патент на пишущую машинку со шрифтом этого языка.
Первые пятнадцать лет существования нового языка официально именуются «русским» периодом, ибо он развивался преимущественно в русской среде. Первыми переводами на эсперанто стали «Метель» А.С. Пушкина и «Княжна Мери» М.Ю. Лермонтова. Второй период – «французский», когда эсперанто был признан на родине единственного тогда международного– французского – языка. Третий период – «международный» – начался в 1905 г., в год первого всемирного конгресса эсперантистов.
Крупнейшая эсперантистская библиотека в Лондоне насчитывает десятки тысяч названий. Свыше ста лет живёт эсперанто. В 1987 г. был широко отмечен юбилей искусственного языка. Во всех европейских и многих азиатских странах существуют общества эсперантистов, объединяющие около 16 млн человек, ежегодно собираются съезды, публикуется литература, издается до полутора сот журналов, вещают 12 радиостанций. Наиболее популярен эсперанто в странах Восточной Европы – Болгарии, Венгрии, Польше, – а также во Вьетнаме и Китае. В 1979 г. возникла Ассоциация советских эсперантистов, объединившая почти двести первичных организаций. Заинтересовались эсперанто и учёные. Так, международный съезд кибернетиков, состоявшийся в Бельгии, решил в порядке эксперимента включить эсперанто в число рабочих языков Международной ассоциации кибернетиков. О последнем, 84-м, ежегодном конгрессе любителей и знатоков этого самого космополитического языка см.: [Известия. 1999. 20 августа. С. 7].
Эсперанто не осталось единственным искусственным языком. В 1907 г. он реформируется в области словообразования, и в итоге появляется язык идо. В 1950 г. в США был создан язык интерлингва, ставший официальным языком целого ряда медицинских конгрессов. Попытки создать новый искусственный язык продолжаются, число проектов увеличивается (их насчитывается уже свыше 500). Французский инженер по электронике А. Пира с помощью ЭВМ на базе английского, французского, испанского и немецкого языков разработал новый искусственный язык адли. Принцип отбора 25 тыс. слов этого языка – краткость и простота, синонимы и омонимы в нём отсутствуют [Известия: 1989: 4 июня].
Французский лингвист Ж. Ландэ разработал искусственный язык уропи. Автор определил наиболее часто употребляющиеся слова и сравнил их на 23 языках Европы (отсюда и название – уропи). Затем отсёк абсолютно несовпадающие и употребляемые лишь в одном-двух языках. Постепенно выявились закономерности, определились основные корни. Живо, по уропи, – «жить», сто – «стоить», ego – «есть», сэдо – «сидеть». «О» указывает, что это инфинитив, в настоящем времени оно отбрасывается, в прошедшем времени прибавляется «i», в будущем – предшествует частица «Ье». Словарный запас уропи – 10 тыс. слов. По мнению автора, это язык быстрого и динамичного общения. Европейцы с определенной лингвистической подготовкой при помощи уропи могут быстро найти общий язык. Некоторые учёные полагают, что фактически уропи – это восстановленный индоевропейский язык [Комсомольская правда 1987: 21 ноября].
Профессор Хогбен из Абердинского университета придумал искусственный язык глоса, который затем развил и дополнил математик Рон Кларк. В основе – греческие и латинские корни; словарь состоит из 6 тыс. слов. Язык проще эсперанто: в нём нет грамматики в обычном смысле (нет склонения и спряжения), для обозначения времени и множественного числа используется 20 коротких частиц. Например, астро – «звезда», плю астро – «звезды». Прошедшее время – па, будущее время – фу. «Она поёт» – фе канта, «она пела» – фе па канта, «будет петь» – фе фу канта [За рубежом 1992: № 15: 14].
Идея искусственного языка, как видим, не нова, но пока нет единодушного одобрения её, более того, раздаётся достаточно основательная критика самой возможности перехода с естественного на искусственный язык. Сторонники искусственного языка говорят о предельной логичности его, простоте грамматики и стройности, непротиворечивости лексической системы, отсутствии каких-либо трудностей в усвоении, полной регулируемости. Это будет единый язык всего человечества, одинаково трудный (и одинаково лёгкий) для всех жителей Земли. В своё время русский поэт В. Хлебников предложил «звездный язык» – пока что единственный проект международного поэтического языка. Известны утверждения о том, что эсперанто обладает не меньшими художественными возможностями, чем любой естественный язык. На эсперанто переведены шедевры мировой классики, на нём пишут прозу и стихи поэты и писатели различных стран. Да и сама искусственность этого планового языка преувеличена. Э. Сепир утверждал, что предполагаемая искусственность такого языка, как эсперанто или любых других предлагавшихся эквивалентных ему языков, нелепо раздута, ибо на самом деле в этих языках нет практически ничего такого, что бы не было взято из общего фонда слов и форм, развившихся в европейских языках [Сепир 1993: 247].
Противники искусственного языка весьма убедительно говорят о недостатках этого средства общения: в нём отсутствует идиоматика, которая обусловливает неповторимость каждого естественного языка; принятие искусственного языка означает полный отрыв от всей веками созданной мировой культуры; переход на искусственный язык потребует колоссальных материальных затрат (перевод огромной массы информации, коренное переучивание миллионных армий преподавателей и т. п.) и приостановит прогресс земной цивилизации. «Недостаток любого сознательно конструируемого международного языка, – писал Э. Сепир, – состоит в том, что такой язык не ощущается как представитель отдельного народа или культуры. Поэтому его изучение имеет крайне невысокую символическую значимость для взрослого человека, закрывающего глаза на то, что такой язык, по необходимости лёгкий и регулярный, помог бы разом решить многие его трудности в обучении и повседневной жизни» [Сепир 1993: 247].
Известный семиотик и культуролог Ю.М. Лотман утверждал, что «…есть редкий случай доказанной в гуманитарной области теоремы – она доказана как раз тартуской и московской школами семиотики: на искусственном языке стихи писать нельзя. На искусственном языке та область человеческой деятельности, которая составляет искусство, не созидается. <…> на искусственном языке нельзя создать искусства» [Лотман 1994:444]. Резко отрицательно к искусственному языку относится философ Л. Витгенштейн: «Эсперанто. Чувство отвращения, когда мы произносим изобретенное слово с изобретенными же флексиями. Слово холодное, лишенное ассоциаций, и тем не менее оно прикидывается языком. Будь это просто система письменных знаков, она не вызвала бы у нас такого отвращения» [Витгенштейн 1994: 460].
Итак, решение основной проблемы интерлингвистики путём создания единого искусственного языка остаётся гипотетичным, поэтому стали говорить о двух типах искусственных языков: языках с предельно широкими функциями типа эсперанто и языках с предельно узкими функциями, лишенных звуковой формы, – абстрактных машинных языках, языках-посредниках при машинном переводе, алгоритмических языках программирования для ЭВМ и т. п. В ближайшее время наиболее реально использование языков второго типа.
18.5. Выбор одного из естественных языков в качестве всеобщего: достоинства и недостатки этого пути
Другой путь решения основной проблемы интерлингвистики – использование одного или немногих естественных языков в качестве средства международного общения. Эта тенденция может реализоваться через 1) употребление одного из национальных языков в качестве всеобщего языка; 2) скрещение (слияние) всех естественных языков в один; 3) возникновение нескольких зональных языков.
Идея выбора одного из национальных языков в качестве всеобщего средства общения тоже не нова. Практически она проявилась в навязывании своего языка завоёванным народам. Известны также примеры мирной экспансии, мирного доминирования того или иного языка в качестве средства общения представителей различных народов. В Древнем Риме это был греческий язык, и римская культура была двуязычной. В средневековой Европе это была латынь, язык католической религии, науки и литературного творчества. В средневековой Азии был широко распространен арабский язык. Однако эти языки в силу различных причин сузили своё функционирование. Восемнадцатый век в Европе прошёл под знаком французского языка. Сейчас на первое место вышел английский, а через сто лет, возможно, его заменит другой.
В эпоху создания буржуазных наций, когда языковой вопрос приобрёл актуальность, процесс замены диалектов и языков национальных меньшинств единым государственным языком стал интенсивнее. С укреплением международных связей капитала возникла потребность в языке, обслуживающем эти связи. Естественно, им мог быть язык одной из крупнейших буржуазных наций. Предполагалось сделать мировым языком либо английский с его сравнительно простой грамматикой, либо французский с его благозвучием и многолетней традицией использования в качестве официального языка дипломатии, почт и телеграфа, либо немецкий с его развитой словообразовательной системой.
Разумеется, использование какого-то языка в качестве всеобщего имеет свои достоинства: естественность условий усвоения, наличие преподавателей и научных работников, традиции в преподавании родного и иностранного языков, многовековая литература. Однако оно наталкивается на серьезные препятствия:
1) ни один язык не обслуживает абсолютного большинства жителей Земли, на самом крупном языке, китайском, например, говорит немногим более одного миллиарда, а если учесть, что китайский язык – это совокупность очень далёких друг от друга диалектов и что жители разных провинций совершенно не понимают друг друга, то и этот язык практически обслуживает сравнительно малую часть человечества;
2) ни один из национальных языков не является абсолютно совершенным;
3) избрание одного из национальных языков в качестве всеобщего средства общения автоматически создаёт привилегии тем, для кого этот язык является родным, и ущемляет национальное самосознание носителей других языков. В XX в. сознательное выдвижение того или иного национального языка в качестве всеобщего стало фактом идеологической борьбы, политики партий и государств. Например, один из американских сенаторов получил от своего правительства большие субсидии на пропаганду английского языка как международного. Британский премьер-министр У. Черчилль делал специальный доклад о пропаганде английского языка. В 1948 г. министры просвещения стран НАТО приняли постановление о том, что основным языком, который рекомендуется изучать во всех школах мира, является английский, а затем – французский. См.: [Проблемы интерлингвистики 1976: 12–13].
Известный культуролог М. Мид считает, что единым языком будущей культуры должен быть естественный язык, который удовлетворяет следующим требованиям: 1) не из числа политически осложненных и противоречивых; 2) не из страны, столь огромной, чтобы представлять собой угрозу остальным; 3) он должен иметь солидную письменную традицию – иначе невозможно будет быстрое развитие литературных стилей; 4) у него должна быть лёгкая и просто трансформируемая фонетика; 5) он должен принадлежать стране с богатой структурой профессий и ролей, включающей кадры преподавателей, знающих основные современные языки [Знание – сила 1993: № 6: 89].
Довольно логичным, хотя и неожиданным, было прозвучавшее на международном этнографическом конгрессе в Токио (1968) предложение считать всемирным языком армянский язык. Приводились такие доводы: высокая степень развитости этого языка, принадлежность его небольшому народу, представители которого рассеяны по всему свету [Филин 1972: 23]. А главное – он совмещает черты индоевропейского (флективного) и тюркского (агглютинативного) типов. Стоит заметить, что выбор языка на роль всемирного может быть стихийным. Об этом писал Э. Сепир: «…Понятно, что один из великих национальных языков – таких, как английский, испанский или русский, – при надлежащем ходе вещей может оказаться de facto международным языком без какой-либо сознательной попытки придать ему этот статус» [Сепир 1993: 247].
Известны попытки предельно упростить один из естественных языков, т. е. соединить естественность живого языка с логикой и простотой искусственного. Примером может служить BASIC – упрощенный английский язык, характеризующийся чрезвычайно простой грамматикой и малым – всего 850 – количеством слов. Он был создан Ч. Огденом в 1932 г. Название образовано первыми буквами слов British American Scientific International Commercial – Британский, Американский, Научный, Международный, Коммерческий. Аналогичным образом итальянский математик Дж. Пеано в 1908 г. радикально реформировал латынь, получив в итоге по существу искусственный язык, так и оставшийся мертворождённым. Язык с такими бедными ресурсами не может быть всемирным языком с максимумом общественных функций. Китайский сатирик Лао Шэ в «Записках о кошачьем городе» высмеял столь же «экономный» язык: «В нём всего четыреста-пятьсот слов, и, переворачивая их так или эдак, можно сказать, что угодно. Конечно, многие понятия и мысли выразить им невозможно, но люди-кошки придумали на этот случай прекрасный способ – вовсе не говорить… Запомнишь несколько существительных – и разговаривай, а глаголы можешь выражать жестами».
18.6. Идея слияния (скрещения) всех языков в один всеобщий
Идея слияния всех языков внешне очень привлекательна и как будто реалистична. Акад. Н.Я. Марр считал, что идеальный язык будущего, в котором «высшая красота сольётся с высшим развитием ума», возникнет в результате скрещения всех языков. И.В. Сталин, подвергший критике все основные положения «нового учения» о языке Н.Я. Марра, согласился с тем, что будущее всех языков – слияние их в один всемирный язык. Отмечено, что идея слияния языков в России была весьма популярной.
С научной точки зрения, идея слияния языков представляется несостоятельной: во-первых, любой язык и каждый ярус языковой системы имеет ограниченный предел взаимопроникновения, во-вторых, наблюдения над скрещенными языками показывают, что в результате скрещения возникает весьма упрощенный язык. Если слияние двух языков даёт упрощенный вариант, то результат скрещивания всех языков, логически рассуждая, должен быть предельно примитивным, а это будет противоречить языковым потребностям будущей цивилизации Земли. К тому же замечено, что количество языков на Земле практически не уменьшается. Хотя некоторые филологи полагают, что через два поколения исчезнет 5–6 тыс. языков из семи (это мнение французского научно-популярного журнала «Сьянс э ви»). Американский ученый Б. Колари считает, что через сто лет исчезнет 90 % языков, как исчезло большинство индейских языков в Америке. Вымиранию языков способствует сильное централизованное государство. Так, во Франции исчезли бретонский и баскский языки, диалекты Бургундии, Нормандии и др. Вообще в исчезновении языков много загадочного. Таинственно исчез язык этрусков, хотя культура осталась. Галльский язык был мирно и легко вытеснен латынью. При этом до сих пор не слились английский и французский, несмотря на общность их истории.
Если не скрещение языков, то сближение их – отчётливая тенденция в развитии объединенной Европы. Красноречив газетный заголовок «В третьем тысячелетии родится Европа единого языка» [Известия 1996: 28 авг.]. В Милане (Италия) создан самый полный сравнительный словарь языков второго тысячелетия, в котором отразилось троевластие английского, французского и немецкого языков. Создатели словаря считают, что в XXI в. лингвистическая взаимоэкспансия (обмен) в области политической, экономической, исторической, философской и даже бытовой терминологии будет усиливаться, а к середине третьего тысячелетия все европейцы и американцы будут читать и понимать друг друга без переводчиков, с «единым говором». Все ныне действующие языки «снизойдут» до состояния сегодняшних диалектов. Итальянские лингвисты имеют в виду языковую ситуацию в их стране, где существует около ста диалектов и есть единый итальянский язык, на котором говорит все население страны. В литературе и истории будут использоваться национальные языки, а газетно-бытовой язык станет единым.
Реалистической представляется высказанная Яном Амосом Коменским мысль о нескольких зональных языках мира. Тенденция к образованию зональных языков практически реализуется, например, в использовании арабского языка целым рядом сопредельных стран Среднего и Ближнего Востока и Северной Африки, английского языка – в Северной Америке. Зональные языки обретают в рамках ООН статус мировых. Наблюдается, например, появление зонального языка на африканском континенте. Им становится язык суахили, государственный язык Кении и Танзании, широко использующийся в Бурунди, Заире, Малави, Мозамбике, Сомали, Руанде, в Судане, на Мадагаскаре и на Коморских островах. Всего говорящих на нём 60 млн чел. По мнению учёных, суахили должен стать на африканском континенте одним из ведущих языков международного общения наряду с европейскими языками – английским, французским и португальским. Перед лингвистами поставлена задача выработать единую грамматику, после чего суахили будет объявлен рабочим языком Организации африканского Единства. Конечно, несколько мировых языков, официальных языков ООН (ныне их шесть – английский, французский, русский, арабский, китайский, испанский) – это еще не окончательное решение проблемы интерлингвистики, но весьма возможный и необходимый этап в переходе к единому средству общения. Тем более что, по оценкам филологов, 95 % языков мира известны не более чем полумиллиону человек. Г. Уэллс в романе «Спящий пробуждается» прогнозировал, что в XXI в. останутся четыре языка: английский, немецкий, французский и русский. Доминировать будет английский, а русский будет предельно галлицизирован (перенасыщен элементами французского языка).
Всё большее внимание исследователей привлекает вопрос о комбинированном использовании естественных и вспомогательных искусственных языков. Искусственный язык с предельно суженной функцией станет средством передачи необходимой информации, а естественные языки сохранят за собой право быть орудием мышления, закрепления результатов познания, орудием культуры и основным средством внутринационального общения.
Интерлингвистика знает ещё один путь облегчения общения в многоязычном мире – создание пазиграфии («письменности для всех»), международной смысловой письменности, образцом которой может служить китайское письмо. Один и тот же иероглиф в различных регионах Китая читается по-разному, но смысл его воспринимается одинаково. Примером пазиграфии могут считаться цифры, знаки математической и химической символики и т. п. Проектов пазиграфии немало. Системы пазиграфии по своим возможностям заметно уступают искусственным языкам типа эсперанто [Проблемы интерлингвистики 1976: 79–91].
18.7. Ценность многоязычия как базы развития общечеловеческой культуры
Конечно, многоязычие, «Вавилон языков», создаёт большие трудности в общении людей, однако переход человечества на один язык, по мнению многих, обеднит цивилизацию, так как языки, по-своему членящие познаваемый мир, находятся друг с другом в отношениях дополнительности. Впервые, как нам представляется, эта мысль прозвучала у В. Гумбольдта: «До сих пор больше заботились о том, как избавиться от препятствий, возникавших из-за разнообразия, нежели о том, какую пользу извлечь из добра, порождаемого самобытностью» [Гумбольдт 1984: 7]. А.А. Потебня показал, в чем польза множества самобытных языков: «Само раздробление языков с точки зрения истории языка не может быть названо падением; оно не гибельно, а полезно, потому что, не устраняя возможности взаимного понимания, дает разносторонность общечеловеческой мысли. Притом медленность и правильность, с которою оно совершается, указывает на то, что искать для него мистического объяснения было бы так же неуместно, как, например, для изменения земной коры или атмосферы» [Потебня 1989: 23].
В.А. Богородицкий развивает эту мысль: «В разных языках слова для сходных понятий нередко представляют различие не только по своему образованию, но вместе с тем и по оттенку или нюансу мысли, и отсюда может проистекать и своеобразие в направлении мысли. Таким образом, различие языков заставляет человечество идти к истине как бы различными путями, освещая её с разных точек зрения, а это служит залогом наиболее полного достижения истины, а не одностороннего. Поэтому-то угнетение языка народности, уже само по себе жестокое и несправедливое, не может не сопровождаться ущербом для человеческой культуры [Богородицкий 1933: 3].
Глубокие мысли о целесообразности множества языков и культур содержится в теоретическом наследии С.Н. Трубецкого. Законы эволюции народов, писал С.Н. Трубецкой, устроены так, что неминуемо влекут за собой возникновение и сохранение национальных отличий в области языка и культуры. Диалектное дробление языка и культуры проистекает из сущности социального организма. Многообразие языков – это следствие интимных духовных потребностей и предрасположений, эстетических вкусов, нравственных устремлений народа. Только в духовной части культуры, проникнутой своеобразной национальной психикой, интимно и органически близкой её носителям, могут возникать морально положительные, духовно возвышающие человека ценности. Отсюда логический вывод – любая попытка уничтожить национальное многообразие языков ведёт к культурному оскудению и гибели. Единая, общечеловеческая, лишенная индивидуального, национального признака культура с развитием науки и техники приводит к полной духовной бессодержательности и нравственному одичанию [Трубецкой 1995].
Итак, многообразие языков и культур рассматривается как фундаментальное их свойство, обусловленное принципом дополнительности. «Множественность языков, основанная на семантическом различии, – это исторически обусловленное продуктивное многообразие, объясняющее многие факты специфики культурного творчества. Семантическое сравнение языков на фоне общности предметного мира и логического мышления может послужить одним из объективных методов установления разнообразных форм культурно-языкового подхода к миру, а также возможностей и диапазона человеческого интеллекта» [Рамишвили 1981: 110].
Интуитивное ощущение целесообразности множества национальных языков присутствует в высказываниях многих писателей, например, Р. Гамзатова: «Для меня языки народов – как звезды на небе. Я не хотел бы, чтобы все звезды слились в одну огромную, занимающую полнеба звезду. На то есть солнце. Но пусть сияют и звезды. Пусть у каждого человека будет своя звезда». А вот мнение Ч. Айтматова: «Когда мы теоретически предполагаем, что со временем, в каком-то отдаленном будущем все языки сольются и будет только один или два языка в мире, захваченные этой перспективой, вряд ли мы отдаём себе отчёт, что мир от этого обеднеет. Эти «победившие» языки не будут иметь окружающей подпитывающей среды. Однообразие не может обеспечить развития. Поэтому важно сохранить как можно дольше многообразие языков» [Айтматов 1986: 4]. По мысли писателя, будущее за полилингвизмом, практическим владением каждым гражданином несколькими языками.
Весьма примечательно, что ученые всегда ратовали за единый язык, а художники слова отстаивали многообразие языков. Этот факт отражает двойственное отношение человека к языку, который одновременно выступает средством общения, научного познания и художественного отражения мира. В учёте сложного соотношения единства и многообразия – успех решения интерлингвистических проблем. Единый язык человечества и множественность языков – в этой антиномии отразилось соотношение культур и цивилизаций. Каждая культура может существовать только на базе своего языка, а цивилизация требует для себя единого языка.
Дополнительная литература
Исаев М.М. Международный вспомогательный язык эсперанто: вопросы теории и практики // Вопросы языкознания. 1987. № 4. Кузнецов С.И. Теоретические основы интерлингвистики. – М., 1987. Проблемы международного вспомогательного языка. – М., 1991. Трубецкой С.И. Вавилонская башня и смешение языков // Трубецкой С.Н. История. Культура. Язык. – М., 1995. С. 327–338.
Часть III Методы изучения и описания языка
1. Понятие о лингвистическом методе
Известны три типа получения знаний: 1) интуитивный, 2) научный и 3) религиозный. Наука (по Хайдеггеру) есть знание, проверяющее себя, экспериментирующее со своим объектом и переделывающее его. Полагают, что наука в состоянии познать только те явления, свойства которых можно оценить числом. Например, работу гипнотизера нельзя описать математическими формулами, и тем не менее результаты её несомненны и воспроизводимы. Достижения индийских йогов – экспериментальный факт, многократно проверенный. Однако эти феномены не могут стать объектами точной науки, поскольку они не поддаются количественному описанию с помощью чисел и формул. Ограниченность науки также и в невозможности понять секрет искусства. И даже сам метод открытия глубоких научных истин лишь отчасти принадлежит науке и в значительной мере лежит в сфере искусства [Пономарёв 1989: 354–355].
Любая область человеческого познания, претендующая на звание науки, должна обладать, наряду с 1) объектом, 2) предметом изучения и 3) метаязыком (метаязык – это язык, посредством которого описываются и исследуются свойства некоторого другого языка, в частном случае это набор специальных лингвистических терминов), 4) определенными исследовательскими методами. Подлинная наука возникает только тогда, когда формируются и систематически используются особые научные методы – методы эмпирического и теоретического исследования явлений природы [Мостепаненко 1972: 19].
С помощью научных методов добываются знания, которые можно проверить, сохранить и передать. От правильно выбранного метода зависит судьба научного открытия, а потому «не только результат исследования, но и ведущий к нему путь должен быть истинным. Исследование истины само должно быть истинно» [Маркс: 1: 7]. «Подлинная наука – это знание, в которое входит знание о методах и границах знания» (К. Ясперс). Требование научности предполагает чётко осознанную методологию: 1) используемые исследовательские приемы должны быть выделены именно как приемы, методы; 2) неизвестное не объясняется через непонятное; 3) четко определяется понятие результата; 4) при условии применения тех же методов и приемов, результат должен быть принципиально воспроизводим [Фрумкина 1999: 30].
Методы в науках складывались первоначально стихийно и не всегда осознавались. Ученого интересовали прежде всего итоги исследования, а не приемы и методики, при помощи которых они и достигались. Сами методы – результат великих научных открытий. Оформившийся в практике прошлой исследовательской работы метод затем используется в работе предстоящей. Известный ученый Дж. Бернал не без иронии заметил: «Изучение научного метода идет гораздо медленнее, чем развитие самой науки. Ученые сначала находят что-то, а затем уже – как правило, безрезультатно – размышляют о способах, которыми это было открыто» [Бернал 1956: 21]. Аналогично думал и художник П. Пикассо: «Сначала я нахожу, потом я ищу».
В век научно-технической революции, когда наука проникает во все сферы производства, быта и даже искусства, когда наука сама становится объектом и предметом исследования и складывается науковедение – наука о науке, методам исследования начали придавать большое значение. Внимание к ним усилилось, когда перед наукой встали актуальные практические задачи:
упрощение и формализация процедуры научного анализа, разработка более экономных и эффективных схем поиска информации и ее интерпретации;
перенос методов одних наук в другие, смежные науки в связи с возникновением новых отраслей знания;
подготовка научных кадров и связанная с этим необходимость ускоренного овладения методами научного поиска [Кодухов 1967: 127].
«…Метод – самая первая, основная вещь. От метода, от способа действия зависит вся серьезность исследования. Все дело в хорошем методе. При хорошем методе и не очень талантливый человек может сделать много. А при плохом методе и гениальный человек будет работать впустую и не получит ценных, точных данных» [Павлов 1952: 21].
Конечно, метод не может заменить творческую силу ума, но он дисциплинирует мышление, повышает его культуру, дает возможность экономить силы и время и идти к научной цели кратчайшим путем. Нельзя сбрасывать со счетов и эстетическую сторону хорошего метода. «Красота научной работы состоит главным образом в красоте исследовательских приемов, в новизне и скрупулезности научной методики» [Лихачёв 1981: 203]. Метод напрямую связан с теорией, ибо теория – основа для выработки метода, а метод обогащает и развивает теорию.
Знакомство с разнообразными методами, методиками и приемами лингвистического анализа необходимо не только специалисту-филологу, но и учителю средней школы, так как это является обязательным условием создания современной эффективной методики преподавания языка в школе.
Термин метод употребляется в широком – философском – ив узком – специальном – смысле слова. В философском смысле метод – это путь познания и истолкования явления действительности, «способ построения и обоснования системы философского и научного знания; совокупность приемов и операций практического и теоретического освоения действительности» [ФЭС 1987: 387]. Философский метод задает общее направление исследований, принципы подхода к объекту изучения, он отправная точка при мировоззренческой оценке полученных результатов.
В узком смысле метод представляет собой определенный подход к изучаемому явлению, систему положений, научных и чисто технических приемов и процедур, способствующих целенаправленному изучению объекта с определенной точки зрения. «Под методом я разумею точные и простые правила, соблюдение которых способствует увеличению знания» [Декарт 1950: 89]. Известный врач и учёный Г. Селье развивает это понимание метода: «Под научным методом мы понимаем ряд таких процедур, которые используются в процессе приобретения знаний и которые основываются на следующем: 1) распознавании и чётком формулировании проблемы; 2) сборе данных посредством наблюдения и, насколько это возможно, эксперимента; 3) формулировании понятия посредством логических рассуждений; 4) проверке этих гипотез» [Селье 1987: 47—248]. Говорят, что теория есть специфическая практика, которая воздействует на собственный объект и ведёт к собственному продукту – знанию. Одним из основных требований к научному методу является предсказуемость результатов эксперимента, в то же время сам итог научного исследования непредсказуем. Известный учёный К. Поппер предложил следующий критерий научной теории: «Теория только тогда является научной, когда можно указать принципиально осуществимый эксперимент, её опровергающий («принцип фальсифицируемости»)» [Наука и жизнь. 1992. № 10. С. 4].
Разграничивают методы а) оперирующие с имеющимся научным знанием и б) служащие для получения нового знания.
Философский метод отличается от научно-исследовательского метода той или иной науки своей широтой: он является достоянием всех наук, изучающих природу, общество и человека, поскольку позволяет обнаружить наиболее общие, глубинные закономерности мира. Философский метод, если он истинный, способствует более глубокому проникновению в сущность явления. Проникновение это осуществляется не только с помощью науки и ее методов, но и с помощью искусства, не менее важной области человеческого познания. Наука ограничена. Доказательство тому – невозможность средствами науки понять секрет искусства. Ограниченность научных методов в значительной мере преодолевается с помощью философии [Об отличии философии от специальных науки о ее эвристической способности см.: Бердяев 1989: 262–293]. Философия определяет стратегию поиска научной или художественной истины. Частнонаучный анализ уравновешивается философским синтезом.
Однако только философского метода, каким бы истинным он ни был, недостаточно, так как конкретное познание требует более частных, специальных методов, число и специфика которых обусловливается уже не общим философским взглядом на действительность, а объектом той или иной науки и ее предметом. «Если отсутствует теория, то философский анализ лишен критериев значимости фактов и подтверждений» [Уайтхед 1990: 624].
Философия влияет на развитие науки через так называемую научную картину мира, которая представляет собой систему наиболее общих понятий о мире, возникших на основе знаний, полученных в какой-либо одной области наук. Через научную картину мира философия влияет на развитие конкретных наук, а конкретные науки способствуют возникновению новых философских идей. Замечено, что богатство философских идей прямо пропорционально богатству специальных – естественнонаучных и социальных знаний. Добавим, что философия повышает методолого-мировоззренческую культуру исследования. Появление новых философских идей и развитие конкретных наук приводит к изменению научной картины мира, а смена научной картины мира означает революцию в науке [Мостепаненко 1972: 24].
Органическая связь конкретных наук с философией реализуется в методологии научного познания, которая представляет собой конкретизацию и приложение теории познания к тому специфическому виду познания, который сложился в науке. Известно и более узкое понимание термина методология как теории научно-познавательной деятельности, направленной на изучение и разработку методов научного познания: «Значение методологии научного познания состоит в том, что она позволяет, во-первых, выяснить подлинную философскую основу научного познания, во-вторых, произвести на этой основе систематизацию всего объема научных знаний, что дает возможность эффективнее овладеть всеми имеющимися знаниями, и, в-третьих, создать условия для разработки новой, еще более эффективной методики дальнейших исследований во всех областях знаний» [Мостепаненко 1972: 24].
В науковедении говорят о подходах – основных путях решения исследовательских задач. Подходы определяют стратегию решений. Известны системный, структурный, функциональный, информационный, вероятностный, модельный и другие подходы.
Конкретное содержание метода выражают принципы, присущие соответствующему подходу. Под научным принципом понимают основополагающее начало решения научной проблемы, способ организации знания, обеспечивающий органическую связь различных элементов знания в рамках целостной теоретической системы. Они носят нормативно-регулятивный характер, т. е. исследователь должен неукоснительно им следовать, в противном случае научное исследование перестает быть таковым.
Научными принципами языкознания считают знаковость языка, асимметрию языкового знака, системно-структурную организацию языка, изоморфность разных ярусов и единиц языковой системы, социальную обусловленность языка и его динамический характер. Определяющим научным принципом филологии считается принцип историзма. «Исторический подход во всех его видах – от истории текста, истории жизни, истории литературы и общей истории до истории самого вопроса – это нерв нашей науки, корни ее доказательности…» [Лихачёв 1981: 214]. Эти слова в полной мере справедливы и по отношению к изучению языка.
Аксиомой современной науки является тезис об ограниченности любого метода: «…Каждый метод представляет собой удачное упрощение. Однако с помощью любого удачного метода можно открывать истины только определенного, подходящего для него типа и формулировать их в терминах, навязываемых данным методом» [Уайтхед 1990: 624]. Познаваемые объекты настолько разнообразны, многоаспектны и связаны между собой такими многообразными отношениями и связями, что полностью постичь их природу, функцию и генезис при помощи одного – пусть самого эффективного – метода невозможно. «…Не существует ни одной более или менее интересной теории, которая согласуется со всеми известными фактами» [Фейерабенд 1986: 162]. Метод зависит от изучаемого объекта, является его аналогом и по мере расширения знаний об объекте изменяется сам. Более того, считается, что методы зависят от постановки проблем, для решения которых они должны быть применены, т. е. проблемы требуют соответствующих им методов [Пильх 1994: 67].
Методы различаются уровнем: а) общенаучные; б) специально-научные; в) конкретно-проблемные.
Как заметил известный языковед академик Г.В. Степанов, лингвисту мало своих собственных методов, он должен знать акустику, психологию, социологию, историю, литературоведение, теорию информации, статистику, этнографию, антропологию, культурологию, текстологию, географию, философию, и знать не только факты, накопленные этими науками, но прежде всего, как добыть эти знания, методы наук.
Методы разнообразны: экспериментальные и теоретические, эвристические и алгоритмические. Важно заметить, что методы очень «живучи». Появление нового метода не означает отмену уже имеющихся, а только изменяет соотношение старых и новых методов.
Наличие значительного количества исследовательских методов требует, во-первых, уточнения самого понятия «метод языкознания», и, во-вторых, ставит вопрос о классификации методов. Оба эти вопроса тесно связаны друг с другом и до сих пор не решены современной лингвистикой. Отмечалось, что термин метод является многозначным: им обозначается аспект исследования, методика, приемы, способы описания и т. д. Естественно, что при таком недифференцированном подходе к определению метода трудно провести сколько-нибудь научную классификацию лингвистических методов. Именно поэтому даже лучшие работы по методологии языкознания ограничиваются описанием более или менее бесспорных методов и обычно располагают их в одном ряду без указания на классификационную иерархию.
Думается, что любая попытка уточнить термин метод и представить непротиворечивую классификацию полезна для языкознания, поскольку в эмпирических науках, к коим относится и наука о языке, классифицирование – это способ получения новых знаний о взаимоотношениях изучаемых явлений и объектов.
При определении метода наиболее продуктивным является рассмотрение его как системы с определенной структурой. Метод как система состоит из а) теории метода, б) совокупности научно-исследовательских приемов, содержание которых определяется лингвистическими основами метода, в) комплекса технических приемов и процедур [Общее языкознание 1973: 260].
Мысль о том, что лингвистические методы, несмотря на разнообразие целей, аспектов, методик и приемов исследования языка, сводятся в небольшое количество основных методов, в неявной форме содержится в самых значительных работах, посвященных лингвистической методологии. Так, В.И. Кодухов выделяет четыре метода [Кодухов 1963], небольшое количество методов рассматривается и в капитальной обобщающей работе «Общее языкознание: Методы лингвистических исследований» (М., 1973).
Само собой разумеется, что определить лингвистический метод без учета его цели и задач невозможно. Это фундамент метода, без него нельзя объяснить набор процедур исследования. Основные цели лингвистического исследования сводятся к обнаружению конкретного языкового факта, его описанию, определению его положения среди других фактов данного языка, выяснению его генезиса, эволюции, функции и интерпретированию с точки зрения универсальных или национальных свойств языка.
Если в основу классификации языковедческих методов положить цель исследования, то четко выделяются описательный, таксономический, лингвогенетический и типологический методы. Возможно выделение и социолингвистического метода, при помощи которого исследуется язык как общественное явление.
Характеристика метода должна предваряться уточнением исходных понятий. Такими понятиями мы считаем 1) понятие базы, 2) понятие специализации, 3) понятие аспекта, 4) понятие методики.
Базой метода может быть один язык или совокупность языков. Совокупности могут различаться по количеству включаемых языков и по характеру их включения, поэтому выделяются три типа совокупностей: а) родственные языки, б) ареальные (или сродственные) языки, в) все языки мира. При выделении одного языка в качестве базы того или иного метода возникают определенные трудности, связанные с тем, что в понятие язык включены диалекты, а разграничение языков и диалектов до сих пор не имеет строгих научных критериев. Учет базы данного метода в языкознании необходим, так как ею подчас определяется весь метод в целом. Традиционно разграничиваемые сравнительно-исторический и сопоставительный (типологический) методы отличаются друг от друга своей базой. Привлечение в качестве объекта исследования одного или нескольких языков определено целью такого исследования. Изучение одного языка акцентирует внимание на особенностях его структуры, сравнение языков дает нам знание об универсальном, общем в этих языках.
Поскольку языковая система в целом очень сложна, то усилия исследователей чаще всего сосредоточены на одном каком-либо ярусе языка – фонемном, морфемном и т. д. Это мы называем специализацией. Естественно, что изучение фонологии или синтаксиса, например, вносит в методику исследования и в самый метод определенную корректировку.
Необходимо выделить аспекты метода, под которыми понимаются исследуемые стороны языка, его структурные особенности или функциональные свойства. Аспекты метода обнаруживают парный характер: 1) внутриструктурный/ внешнеобусловленный, 2) количественный/качественный, 3) пространственный/непространственный (точечный), 4) синхронный/диахронный, 5) функциональный/генерализованный (нефункциональный), 6) нормативный/некодифицированный, 7) универсальный/идиоэтнический (специфичный для данного языка) и т. д. Аспект как важная составная часть метода очень часто подменяет сам метод, поэтому говорят о количественных методах, о методе лингвогеографическом (пространственный аспект) и т. д.
Необходимой частью любого метода является методика, которая представляет собой включение приема в процедуру исследования. Методик много, важнейшими из них являются методики наблюдения, вычленения лингвистической единицы, обобщения единиц в классы, компонентного анализа, классификации, сравнения (сопоставления фактов одного порядка), корреляции (сопоставление фактов разного порядка), моделирования, эксперимента, картографирования, реконструкции и др.
Итак, метод является сложной совокупностью цели, базы, специализации, аспекта и методик. О том, что метод включен в методологию и тем самым связан с философским и общенаучными принципами, сказано выше. Реализация метода немыслима без использования технических приемов: изучение литературы, накопление картотек, составление диаграмм, таблиц, беседа с информантами и т. п.
Общие лингвистические методы взаимосвязаны, поскольку взаимосвязаны цели языковедческого исследования. Так, таксономический метод является логическим продолжением описательного, а сам он, в свою очередь, служит основой для сопоставительного и лингвогенетических методов. Взаимосвязанность лингвистических методов как реализация принципа дополнительности не исключает, а, наоборот, подчеркивает качественную определенность каждого метода. Выбор метода (или методов) зависит от подхода языковеда к языку. Замечено, чт.е. два таких подхода: а) стремление свести многообразие речевых фактов к одному языковому закону (А.А. Потебня, И.А. Бодуэн де Куртенэ, Ф. де Соссюр, Л. Ельмслев) и б) тщательное собирание и систематизация речевого материала (В.И. Даль, И.И. Срезневский, Л.В. Щерба, В.В. Виноградов, A.M. Пешковский) [Степанов 1988: 22–23]. «…Отношение описательных и объяснительных наук (и методов! – А.Х.) вовсе не есть простая последовательность двух ступеней. Оба типа наук существуют рядом. Непосредственною целью и руководящею идеею описания служит не объяснение, а классификация и систематизация. Напротив, объяснение имеет место там, где получены некоторые обобщения характера эмпирических законов, объясняемых из более общих положений, содержащих указания на причины объясняемых явлений» [Шпет 1989: 549].
В методологическом отношении лингвистика занимает особое место среди гуманитарных наук, являя собой образец научности. Об этом писал А.А. Потебня: «Если языкознание стоит на высоте своего предмета, то по отношению ко всем гуманитарным наукам оно есть наука основная, рассматривающая элементарные условия явлений, составляющих предмет других наук этого круга» [Потебня 1905: 643]. Это мнение разделяет известный этнолог К. Леви-Строс: «Из всех общественных явлений, видимо, только язык может подвергаться истинно научному исследованию, объясняющему способ его формирования и предусматривающему некоторое направление его последующего развития» [Леви-Строс 1985: 56]. Лишь лингвистика, по его мнению, может претендовать на звание науки.
Дополнительная литература
Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике. – М., 1991.
Лосев А. Ф. В поисках построения общего языкознания как диалектической системы // Теория и методология языкознания: Методы исследования языка. – М., 1989. С. 5—92.
Каде Т.Х. Научные методы лингвистических исследований: Учебн. пособие. – Краснодар, 1998.
Мухин A.M. Лингвистический анализ // Теория и методологические проблемы. – Л., 1976.
Подкорытов Г.А. О природе научного метода. – Л., 1988.
Пуанкаре А. О науке / Пер. с фр. – 2-е изд., стереотип. – М., 1990.
Сартр Ж.П. Проблемы метода / Пер. с франц. – М., 1993.
Сергеев Ф.П. Основы лингвистического исследования: Учебн. пособие. – Волгоград, 1997.
Серебренников Б.А. К проблеме взаимоотношения общей методологии лингвистической науки и частных методов лингвистического исследования // Соотношение частнонаучных методов и методологии в филологической науке. – М., 1986.
Степанов Г.В. Соотношение общенаучных и частных лингвистических методов // Степанов Г.В. Язык. Литература. Поэтика. – М., 1988.
Степанов Ю.С. Язык и метод. К современной философии языка. – М., 1998.
2. Описательный метод
2.1. Понятие об описательном методе
«В начале исследовательского пути ищет не столько мысль, строящая формулы и определения, сколько глаза и руки, пытающиеся нащупать реальную наличность предмета» [Волошинов 1928: 55]. Вот почему описательный метод является наиболее древним методом языкознания. Он возникает на заре науки и является универсальным методом эмпирических наук. Базой этого метода служит один язык на уровне основных ярусов, рассматриваемых в аспектах синхронном, внепространственном, нефункциональном, идиоэтническом, неколичественном (если не считать грубые оценки «всегда», «часто», «редко»).
Господствующей методикой является методика наблюдения с интуитивным выделением языковых единиц и сведением последних в совокупности. Целью этого метода является установление фактов и явлений, включение их в обиход научного исследования. Он позволяет накапливать большое количество эмпирического материала, расклассифицированного и интерпретированного в первом приближении, что давало основание многим лингвистам считать описательный метод ненаучным. Действительно, результаты, добытые этим методом, как правило, подвергались дальнейшему исследованию и проверке другими методами, но противопоставлять описательный метод другим методам неправомерно. Без определенной суммы фактов нет науки вообще.
Факты – воздух ученого. Уже само по себе наблюдение ведется на основе определенных, более или менее осознанных исходных теоретических установок, которые в процессе описания уточняются и углубляются. Любые теоретические построения немыслимы без предварительного объективного описания фактического материала. «Мы ценим факты, потому что они непреходящи и образуют почву для идей, но истинное своё значение факт получает только через идею, которая из него может быть развита» (Либих). Поэтому, несмотря на свой более чем почтенный возраст, описательный метод широко используется и современным языкознанием, занимая свое место в системе методов, что не противоречит общему мнению лингвистов о совершенной неразработанности методологии описательного языковедения.
«Простое наблюдение – это самый удивительный и доступный из всех… методов, и от него зависит большинство других. Разумеется, просто держать глаза открытыми бывает порой недостаточно. Надо учиться тому, как смотреть, на что смотреть и каким образом помещать изучаемый объект в рамки нашего поля зрения… Великое преимущество наблюдения состоит в том, что оно в отличие от химических или физических методов воздействия выявляет в объекте его бесчисленные свойства и взаимосвязи. Наблюдение даёт целостный и естественный образ, а не набор точек» [Селье 1987: 230]. Мнение врача Г. Селье поддерживает и лингвист, считающий, что наиболее адекватным методом сбора данных является не опрос говорящего, а «наблюдения за текущей, спонтанной речью» [Пильх 1994: 7]. В лингвистике фактологическая основа значит больше, чем искусственная концептуализация.
2.2. Полевая лингвистика
Описательный метод в чистом виде реализуется в описании неизученных бесписьменных языков и диалектов. «Полевая лингвистика «открывает» язык, описывает все уровни его структуры, на основании чего дает ему генетическую и типологическую атрибуцию, т. е. определяет принадлежность к той или иной семье или группе родственных языков, к тому или иному типу или классу языков» [Нерознак 1986: 208].
Полевая лингвистика – «это комплекс лингвистических методов (точнее, приемов. —А.Х.), направленных на самостоятельное творческое (а не ученическое – по грамматикам и учебникам) изучение и описание живого языка, не являющегося родным для исследователя» [Кибрик 1972]. Задача полевого лингвиста – «выработать такие косвенные средства активного управления способностью информанта к языковой деятельности, которые давали бы желаемый результат» [Кибрик 1972: 26].
Методика полевой лингвистики складывается из приемов описания языка-объекта, обнаружения языковых, грамматических фактов, из гипотезы о свойствах языка вообще, из приемов извлечения лингвистической информации у информанта, из методик практического обучения языку-объекту [Кибрик 1972: 17].
Полевая лингвистика тесно связана с различными областями науки о языке – типологией, теорией грамматики, психолингвистикой, дешифровкой, теорией детской речи, методикой обучения иностранному языку.
Значительна теоретическая ценность полевой лингвистики, которая, говоря словами одного из специалистов, одновременно и испытательный полигон различных теорий, и поставщик нового необходимого лингвистике материала о языках и их свойствах, и заказчик на решение многочисленных вопросов, на которые теоретическая лингвистика не нашла еще ответов. Особую привлекательность полевой лингвистической деятельности видят в неповторимом единстве общетеоретических лингвистических исканий со скрупулезным, но поэтическим наблюдением за реальным функционированием живого человеческого языка и со всеми человеческими проблемами.
В истории языкознания было много замечательных практиков полевой лингвистики. Это американцы Ф. Боас, Л. Блумфилд, Э. Сепир, Б. Уорф, М. Сводеш; русские П.К. Услар, В.Г. Богораз, И.А. Бодуэн де Куртенэ, Н.Ф. Яковлев, Е.Д. Поливанов, Л.В. Щерба, П.С. Кузнецов и др. Полевая лингвистика способствовала созданию письменности для народов Севера, Средней Азии и Кавказа в 20—30-е гг. XX в., активизации диалектологических исследований и изучению синхронного состояния языков.
Классическим примером реализации описательного метода в его полевой версии могут служить ранние грамматики русского и других языков, первые толковые словари, многочисленные записи миссионеров, зафиксировавших образцы языка экзотических племен и народов, сюда же можно отнести и диалектологические записи.
Существенным недостатком этого метода считают его «атомизм». Выявленный и описанный факт представляется, как правило, вне связи с другими фактами, при этом, естественно, теряется значительная часть информации. По мере изучения языка-объекта и накопления сведений о нем полевая лингвистика уступает место описательной экспериментальной лингвистике.
2.3. Методика лингвистического эксперимента
В XX в. описательный метод углубляется и совершенствуется через внедрение методики лингвистического эксперимента. Эксперимент выступает как качественно иное, усложненное наблюдение. «Эксперимент – это форма научного опыта, представляющая собой систематизированное и многократно воспроизводимое наблюдение объекта, его отдельных сторон и связей с другими объектами, которые выявляются в процессе преднамеренных, строго контролируемых пробных воздействий наблюдателя на изучаемый объект» [Мостепаненко 1972: 91]. Обязательные признаки эксперимента – наличие контролируемых условий и воспроизводимость.
Существует разграничение наук на экспериментальные и теоретические, причем эксперимент рассматривается как условие повышенной точности, объективности науки; отсутствие эксперимента принято считать условием возможной субъективности. В середине XX в. укрепилось мнение, что эксперимент в общественных науках не только возможен, но и просто необходим.
В языкознании первым, кто поставил проблему лингвистического эксперимента, был академик Л.В. Щерба. В программной работе «О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании» он утверждал, что «в сфере социальной эксперименты всегда производились, производятся и будут производиться» и боязнь его «является пережитком натуралистического понимания языка» [Щерба 1974: 35].
Между тем без эксперимента невозможно дальнейшее теоретическое изучение языка, особенно таких его разделов, как синтаксис, стилистика и лексикография. Психологический элемент методики заключается в оценочном чувстве правильности/ неправильности, возможности/невозможности того или иного речевого высказывания [Щерба 1974: 32].
Как следует из работы Л.В. Щербы, возможны три типа лингвистического эксперимента. Во-первых, эксперимент как способ проверки адекватности теоретических построений фактам языка. Движение исследовательской мысли здесь – от системы к языковому материалу. «…Построив из фактов этого материала некую отвлеченную систему, необходимо проверить ее на новых фактах» [Щерба 1974: 31]. Во-вторых, «можно произвольно сочетать слова и, систематически заменяя одно другим, меняя их порядок, интонацию и т. п., наблюдать получающиеся при этом различия» [Щерба 1974: 32]. В-третьих, анализ отрицательного материала – всякого рода неправильностей, неудачных высказываний, ошибок, оговорок, детской речи. К экспериментальным относят приемы, связанные с обращением к информантам, а также приемы, связанные со статистической обработкой количественных данных о статусе и функционировании языковых единиц («статистический эксперимент»). Эксперимент, по мнению Л.В. Щербы, возможен только при изучении живых языков.
Различают эксперименты технические (в фонетике) и лингвистические. Хрестоматийным примером лингвистического эксперимента, доказывающего, что грамматический контур предложения содержателен, стало предложение Л.В. Щербы «Глокая куздра штеко будланула бокра а курдячит бокренка». Дальнейшим развитием этого веселого по форме эксперимента стала сказка Л. Петрушевской «Пуськи бятые».
Методика эксперимента применялась и применяется в целом ряде языковедческих работ. Вначале она использовалась в фонологии и морфологии, в которых лингвистические единицы либо не имеют значения вообще, либо не имеют значения лексического. Экспериментальная семасиология начинается в 50-е гг. XX столетия, когда в арсенал лингвистов пришла методика ассоциативного эксперимента и методика семантического дифференциала Ч. Осгуда. В настоящее время экспериментально изучается значение слова, смысловая структура слова, лексические и ассоциативные группировки, синонимические ряды, звукосимволическое значение слова. Насчитывается свыше 30 экспериментальных приемов, каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны. Они не могут претендовать на монополию в лингвистических исследованиях, но существенно разнообразят методологический арсенал лингвиста [Левицкий, Стернин 1989].
Широко представлен эксперимент в синтаксических работах, например, в известной книге A.M. Пешковского «Русский синтаксис в научном освещении». Ограничимся одним примером из этой книги. В стихах М. Лермонтова «По санам волнам океана лашь звезды блеснут в небесах» – лашь употреблено не в ограничительном, а во временном смысле, ибо его можно заменить союзами когда, как только, следовательно, перед нами придаточное предложение времени.
Возможности лингвистического эксперимента в развитии языковой компетенции учащегося демонстрировал выдающийся русский филолог М.М. Бахтин в своей методической статье «Вопросы стилистики на уроках русского языка в средней школе: Стилистическое значение бессоюзного сложного предложения» [Русская словесность. – 1994. № 2: 47–56].
В качестве объекта эксперимента М.М. Бахтин избрал три бессоюзных сложных предложения и преобразовал их в сложноподчиненные предложения, фиксируя структурные, семантические и функциональные отличия, возникшие в результате трансформации.
Печален я: со мною друга нет (Пушкин) > Печален я, так как со мною друга нет. Сразу же выяснилось, что при наличии союза инверсия, употребленная Пушкиным, становится неуместной и требуется обычный прямой – «логический» – порядок слов. В результате замены пушкинского бессоюзного предложения союзным произошли следующие стилистические изменения: обнажились и выдвинулись на первый план логические отношения, и это «ослабило эмоциональное и драматическое отношение между печалью поэта и отсутствием друга»; «роль интонации заменил теперь бездушный логический союз»; драматизация слова мимикой и жестом стала невозможна; снизилась образность речи; предложение утратило свой лаконизм и стало менее благозвучным; оно «как бы перешло в немой регистр, стало более приспособленным для чтения глазами, чем для выразительного чтения вслух».
Он засмеётся: все хохочут (Пушкин) > Достаточно ему засмеяться, как все начинают угодливо хохотать (по мнению М.М. Бахтина, эта трансформация наиболее адекватна по смыслу, хотя и слишком свободно перефразирует пушкинский текст). Динамическая драматичность пушкинской строки достигается строгим параллелизмом в построении обоих предложений, а это обеспечивает исключительную лаконичность пушкинского текста: два простых нераспространенных предложения в четыре слова с невероятной полнотой раскрывают роль Онегина в собрании чудовищ, его подавляющую авторитетность. Пушкинское бессоюзное предложение не рассказывает о событии, оно драматически разыгрывает его перед читателем. Союзная же форма подчинения превращала бы показ в рассказ.
Проснулся: пять станций убежало (Гоголь) > Когда я проснулся, то оказалось, что уже пять станций убежало назад. В результате трансформации смелое метафорическое выражение, почти олицетворение, употребленное Гоголем, становится логически неуместным. В итоге получилось вполне корректное, но сухое и бледное предложение: от гоголевской динамической драматичности, от стремительного и смелого гоголевского жеста ничего не осталось.
Примеры педагогически и методически уместного лингвистического экспериментирования можно продолжить. Так, определяя тип придаточного в предложении: «Нет ничего на свете, чего бы не сумели руки твои, что было бы им не под силу, чего бы они погнушались» (А. Фадеев), учащиеся почти не задумываясь отвечают – придаточное изъяснительное. Когда же учитель предлагает им заменить местоимение на эквивалентное ему слово или словосочетание, скажем, «такого дела» или просто «дела», то обучаемые осознают, что перед нами придаточное приместоименно-определительное. Этот пример нами взят из книги А.К. Федорова «Трудные вопросы синтаксиса» (М., 1972). Кстати, в ней немало образцов удачного использования эксперимента при обучении русскому языку. В этом отношении весьма полезна и книга проф. Н.Н. Холодова «За древними тайнами русского слова «и»» (Иваново, 1992).
По традиции, среди синонимов выделяют группу абсолютных, у которых будто бы нет ни семантических, ни стилистических отличий, например, луна и месяц. Однако экспериментальная подстановка их в один и тот же контекст: «Ракета запущена в сторону Луны (месяца)» – красноречиво свидетельствует, что синонимы функционально (а следовательно, и по смыслу) различаются (пример из книги: Гречко В.А. Лексическая синонимика современного русского литературного языка. Саратов, 1987. С. 46).
Сравним два предложения: «Оя неторопливо вернулся к своему столу» и *«Он неторопливо вернулся в Москву». Второе предложение убедительно свидетельствует, что наречие неторопливо предполагает, что действие совершается на глазах наблюдателя.
Чаще всего языковые эксперименты сводятся к различного рода трансформациям. Так, элементы содержания слова выявляются в результате преобразований синтаксических конструкций, включающих данное слово в качестве одного из компонентов. Многое дают диахронические и синхронические сопоставления слова как внутри одного языка, так и на базе разных языков. Особое место занимает методика психолингвистических экспериментов, с помощью которых исследователи проникают в глубь слова, изучают, к примеру, его эмоциональную нагрузку и коннотацию в целом. Использование лингвистического эксперимента требует от исследователя языкового чутья, эрудиции и научного опыта.
На эксперименте основывается вся современная психолингвистика. «Экспериментами над языком занимаются все: поэты, писатели, остряки и лингвисты. Удачный эксперимент указывает на скрытые резервы языка, неудачные – на их пределы» [Арутюнова 1987: 6].
Ныне описательный метод используется уже для представления языка не в виде номенклатуры отдельных слов и грамматических форм, а в виде определенной действующей системы и во многом смыкается с таксономическим методом.
Дополнительная литература
Кибрик А.Е. Методика полевых исследований (к постановке проблемы). – М., 1972.
Левицкий В.В., Стернин И.А. Экспериментальные методы в семасиологии. – Воронеж, 1989. Мустайокки А. О лингвистических экспериментах // Язык – система.
Язык – текст. Язык – способность. – М., 1995. С. 155–160. Федоров А.К Использование лингвистического эксперимента при изучении некоторых вопросов синтаксиса // Русский язык в школе. 1969. № 1.
Щерба Л.В. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании // Щерба Л.B. Языковая система и речевая деятельность. – Л., 1974. С. 24–39.
3. Таксономический метод
Таксономический метод является тоже описательным методом, но на качественно иной его ступени. «Таксономия – совокупность принципов и правил классификации лингвистических объектов (языков и языковых единиц), а также сама эта классификация» [АЭС: 504].
Таксономический метод применим в науках, где исследуемые объекты находятся в сложных иерархических отношениях друг с другом и где классификация представляет собой познавательную процедуру. Таксономия первоначально складывается в зоологии и ботанике (в разделе систематики). Систематика – альфа и омега науки, считали биологи К. Линней и А.А. Любищев. Позже таксономия входит в арсенал средств лингвистического исследования, поскольку языку свойственна многоярусная, иерархически организованная структура. «Классификация – самый древний и самый простой научный метод. Она служит предпосылкой всех типов теоретических конструкций, включающих сложную процедуру установления причинно-следственных отношений, которые связывают классифицируемые объекты» [Селье 1987: 276].
Базой таксономического метода является один язык, однако результаты его приложения широко используются и в общетипологических исследованиях. Этим методом язык исследуется преимущественно в аспектах внутриструктурном, внепространственном, синхронном, нефункциональном, универсальном и, как антитеза, идиоэтническом. Основная задача таксономического метода – описание системы языка (языков). Первым примером использования этого метода служит древнеиндийская грамматика Панини.
Мы уже говорили о том, что таксономический метод близок к описательному, вырастает из него и основывается на нем, однако нужно отметить и принципиальное различие этих методов. Описательный метод имеет дело с реально наблюдаемыми явлениями, таксономический выявляет и описывает систему языка, которая в непосредственном опыте и наблюдении не дана, а выводится из языкового материала путем сложных умозаключений [Кацнельсон 1972: 101].
Если основной целью таксономического метода является представление структуры языка, описание его системы, то возникает вопрос, не лучше ли говорить о структурном, а не таксономическом методе. Действительно, в нашем перечне основных методов нет структурного метода. В то же время в монографии «Общее языкознание: Методы лингвистических исследований» есть глава «Основные принципы и методы структурного анализа».
Думается, что следует говорить не о структурном методе, а о системно-структурном подходе к языку. Действительно, принцип структурности заметен в применении других лингвистических методов, например, в типологическом [Успенский 1965]. Широко внедряется этот принцип в такие гуманитарные науки, как фольклористика и этнография, литературоведение и музыковедение и др. Структурный принцип реализуется в целом ряде методик.
Видимо, при разграничении метода и методики нужно учитывать критерий универсальности. Метод может использоваться при исследовании любого яруса языка, для методики это необязательно. Так называемый «метод непосредственно составляющих (НС)» успешно используется в синтаксисе и ограниченно применяется в словообразовательном или морфемном ярусах, поэтому логичнее говорить о методике НС.
Существует мнение, что структурная лингвистика – это не специальная наука, а логика науки, поскольку она никаких новых языковых фактов не находит. «Структурный метод» является не методом науки, а методом изложения ее результатов. Основная цель его – превратить интуитивные, приблизительные представления о языке в нечто точное и научное. «…Никаких новых фактов языка, никаких новых методов изучения языкового развития, никаких новых законов языка, будь то исторических, будь то систематических, структуральная лингвистика никогда не устанавливала, не имеет никаких средств установить, даже не должна их устанавливать, а должна все это предоставить методам т. н. традиционной лингвистики. Структуральная лингвистика имеет своей целью, как показывает само ее название, устанавливать только структуры языка» [Лосев 1968: 273].
Процедурной основой таксономического метода являются структурные методики вычленения лингвистических единиц, обобщения их в классы, классифицирование (установление иерархических отношений), моделирование и др. К описанию наиболее распространенных методик мы и переходим.
Методика коммутационной проверки в общем виде сложилась в трудах датских лингвистов. Она последовательно учитывает соотношение плана содержания и плана выражения в пределах лингвистической единицы и ставит своей целью выделение таких единиц из звуковой последовательности. Эта методика применима в основном при исследовании фонемного яруса.
В общем виде методика коммутационной проверки формулируется следующим образом: «…Если в звуковой последовательности АВ оба элемента А и В или один из этих элементов (либо А, либо В) не могут быть заменены другим элементом, в том числе нулевым, то АВ является реализацией одной фонемы; в противном случае комплекс АВ может рассматриваться как реализация двуфонемного сочетания» [Общее языкознание 1973: 183].
Обратимся к примерам. Известно, что подчас трудно решить вопрос об одно-или двуфонемности того или иного звукового комплекса. Испанское слово chato 'курносый' (в транскрипции [tsato] начинается со звукового комплекса ch [ts] [Общее языкознание 1973: 184]. Необходимо определить, является ли этот комплекс особой фонемой испанского языка <ts> или совокупностью фонем <t> и <s>. В слове [tsato] [s] можно опустить – [tato] – 'братик' или заменить – [trato] 'обращение', но [t] опустить нельзя. Вывод: <ts> является одной фонемой испанского языка. В русском слове строиться [т'с'] произносится как [ц]. Проведя коммутационную проверку путем опускания [т'] и [с'], утверждаем, что здесь две фонемы, сливающиеся в одну аффрикату Ц.
Шире применяется методика дистрибутивного анализа. «Дистрибутивный анализ… – метод исследования языка, основанный на изучении окружения (дистрибуции, распределения) отдельных единиц в тексте и не использующий сведений о полном лексическом или грамматическом окружении этих единиц» [АЭС: 137]. Сущность методики сводится к следующему. Каждая лингвистическая единица в линейной последовательности речи всегда находится в окружении других однотипных единиц. При этом очевидно, что языковая единица отличается от другой единицы своим окружением. Если в куче камней любой камень может находиться рядом с любым другим, то в языке картина иная: на сочетаемость единиц накладываются определенные ограничения. Вспомним хотя бы закон открытого слога в древнерусском языке, согласно которому слог должен был оканчиваться гласным звуком.
Процедура дистрибутивного анализа начинается символической записью текста, когда каждое слово получает определенное формализованное обозначение, например, С им (сущ. в им. падеже), С род (сущ. в род. падеже), Г л (глагол личный), Г бл (глагол безличный). Текстовый материал подвергается идеализации (восстанавливаются эллиптированные элементы, устраняются конструктивно необязательные элементы типа междометий, вводных слов и т. п.). Идеализированный текст записывается в символической форме. Например, Человек требует справедливости = С им Г л С род. Затем составляется дистрибутивная таблица, в которой «левое окружение» – это те элементы, от которых зависит данное окружение, а «правое окружение» – элементы зависимые. Последующий анализ таблицы позволяет увидеть дистрибутивные особенности единиц данного языка [Распопов 1970: 4—18].
Вторая ступень методики дистрибутивного анализа – идентификация, т. е. объединение множества текстовых единиц в одну единицу языка. Если две текстовые единицы никогда не встречаются в одних и тех же окружениях, то они принадлежат одной и той же единице языка (например, [и] и [ы] в русском языке). Если же встречаются в одних и тех же окружениях, но при этом в значении не различаются (например, землей и землею), то перед нами тоже одна единица языка. Однако если текстовые единицы встречаются в одном и том же окружении, но различаются значениями (например, звуки [л] и [к] в словах лом и ком), они принадлежат разным единицам языка.
Третья ступень методики – объединение выделенных языковых единиц в классы. Тест на объединение – способность одной языковой единицы замещать другую в одном и том же окружении (например, качественным прилагательным является такое слово, перед которым возможно слово очень).
С помощью методики дистрибутивного анализа можно изучать все ярусы языка, включая синтаксис и семантику, однако она во многих случаях громоздка и противоречива. По этой причине она дополняется методикой эксперимента и количественного анализа (теория множеств) и в свою очередь способствует усовершенствованию техники лингвистического эксперимента.
Методика анализа по непосредственно составляющим (НС) была впервые использована Л. Блумфилдом при описании языков американских индейцев и вошла в арсенал средств дистрибутивного анализа как одна из первых его ступеней [Слюсарева 1960]. Методика НС в известной мере является реакцией на недостатки традиционной теории членов предложения и частей речи. Правда, конкретные результаты анализа НС очень часто совпадают с выводами традиционного описания.
Методика НС основывается на следующих теоретических положениях: а) язык представляет собой строго организованную систему ярусов; б) единицы этих ярусов находятся друг с другом в неоднородных, иерархических отношениях; в) языковые единицы, реализуясь в линейной последовательности речи, связаны попарно (принцип бинарности).
Анализ по непосредственно составляющим призван ответить на два основных вопроса: каковы отношения между языковыми единицами и как эти единицы расположены (аранжированы). Последовательность анализа НС складывается из следующих операций: снятие супрасегментного слоя (в предложении это интонационный контур, в слове – ударность), выделение основных звеньев (группы подлежащего и сказуемого в предложении), дальнейшее членение каждой группы до конечных составляющих – слов или морфем. Логика движения анализа: от наиболее прочных связей к предельно свободным.
Технику анализа НС можно показать на следующем примере [Слюсарева 1960: 100]:
Хотя и в предложении любое слово связано с любым словом, степень их связи различна, и анализ НС как раз и показывает иерархию слов в высказывании. При членении на НС словосочетания или предложения одна из НС является ядром членимой конструкции, а другая – маргинальным элементом. Например, в именной группе моя книга ядром является существительное, а в глагольной группе прочитать интересную книгу ядро – глагол, а маргинальный элемент – именная группа.
Технически анализ НС можно вести не только в виде схемы, как в данном случае, но и в виде скобочной записи, если актуальный порядок не противоречит структурному. Например: Предложение Мой брат за день написал большую статью может быть представлено так: //Мой/брат//за/день// написал//большую/статью/. Пример взят из: [ЛЭС: 332].
Возможна и символическая запись: А№ 1 Vfin Advl Adv2, при этом каждая пара символов сводится к одному.
Методика анализа НС может быть использована не только при описании синтаксического, но также морфемного и фонемного ярусов.
Анализ по непосредственно составляющим обладает своими достоинствами: раскрывается системная организация речи и выявляются интересные, не лежащие на поверхности закономерности структурных взаимоотношений, преодолевается линейность и обнаруживается интеграция синтаксических конструкций в высказывании. Заслуживает всякого внимания попытка выработать единую для всех ярусов методику. В 60-е гг. методики НС начали использовать в системах автоматического перевода для синтаксического анализа и синтеза предложений (свертывания и развертывания по НС).
Однако исследователи, использующие анализ НС, столкнулись со значительными и до сих пор не преодоленными трудностями. Спорно применение методики НС при описании однородных членов предложения и сложноподчиненных предложений – игнорируются синтаксические связи, не ясен статус служебных слов, не разграничиваются свободные и устойчивые (фразеологические) сочетания слов, с трудом анализируются слова и конструкции, которые естественно членятся не на две, а на три части. Например, взморь-е или дом-и-сад и т. д. Практика анализа НС показала, что эта методика пока менее эффективна, чем традиционный анализ словосочетаний.
Содержательную сторону языковых единиц исследуют также с помощью методики компонентного анализа. Она основывается на предположении, что значение слова (шире: любой значимой единицы языка) состоит из далее неделимых минимальных единиц смысла, находящихся друг с другом в системных отношениях. Например, в значении слова термометр выявляются три минимальные единицы смысла: 'прибор', 'измерение', 'температура (тепло)'. Эти единицы называются по-разному: семы, компоненты значения, семантические множители, дифференциальные признаки, дифференциальные элементы значения, фигуры содержания, семантический примитив, семантический маркер и т. д. Чаще других употребляется термин сема. Семы элементарны (далее неразложимы), одно-плановы (у них только план содержания) и универсальны. Эффективно попарное сравнение лексем. Сема выявляется, если ей есть противопоставление; в результате семы идентифицируются и дифференцируются. В сумме они составляют семему. Полагают, что в составе семемы может быть не более шести сем.
Семы выявляются, во-первых, логически, т. е. путем расщепления понятия, лежащего в основе значения (это понятие иногда называют формальным), на существенные признаки. При этом используются логические приемы анализа, синтеза, абстрагирования и сравнения. Например, в слове дядя выделяют такие семы, как 1) 'мужской член семьи', 2) 'относящийся к поколению родителей', 3) 'но не являющийся прямым родственником по восходящей линии'.
Семы можно выделять логико-лингвистическим путем, когда одновременно используют и логические приемы анализа, и данные лингвистических словарей, а также с помощью эксперимента.
Возможен чисто лингвистический способ выделения сем, когда изучают сочетаемость семантически близких слов [Долгих 1974: 105–111]. Например, синтагматические связи слова казна в древнерусском языке выявляют его четырехсемный состав [Смолина 1986: 102]. Важную роль в семантическом анализе слова играют языковой опыт лингвиста и его интуиция, опирающиеся на приемы оппозиции и комбинирования, на процедуру анкетирования и опроса информантов, на прием компонентного синтеза.
Семы неоднородны. Они могут быть архисемами, интегральными, дифференциальными и потенциальными. Воспользуемся таблицей:
Методикой компонентного анализа широко пользуются лексикологи, когда определяют в системе языка семантические поля, синонимические ряды, антонимические пары и т. п. Перспективно использование данной методики и в лексикографии. Дать точное и исчерпывающее толкование слова – это значит выделить в его значении все семы и расположить их в должном порядке. В целях тренировки откройте словарь С.И. Ожегова, возьмите несколько слов, например, брат, учитель, бежать, с помощью словарных статей выделите семы, обратите внимание на их соотношение. Возможно, вы найдете такие семы, на которые не обратил внимания замечательный лексикограф.
Создание системы автоматического перевода также не мыслится без точного структурирования значений слов.
Методика компонентного анализа хорошо «работает» в случаях, когда объектом его являются слова так называемых «четких закрытых систем»: термины родства, наименования воинских званий, термины цветообозначений, музыкальные термины, названия положительных эмоций и т. п. Когда же анализируются слова открытых систем, возникают большие трудности [Лукин 1985]. Существенно отметить, что методика компонентного анализа позаимствована из этнологии и этнографии, где с ее помощью изучались термины родства и цветообозначения.
В последние два десятилетия методика компонентного анализа стала использоваться и в грамматических исследованиях, особенно при изучении морфологии, а также синтаксиса.
Дополнительная литература
Засорина Л.Н. Введение в структурную лингвистику. – М., 1974. С. 157–255.
Распопов И. П. Методология и методика лингвистических исследований. – Воронеж, 1976.
Цветков Н.В. К методологии компонентного анализа // Вопросы языкознания. 1984. № 2. С. 61–71.
4. Лингвогенетические методы
Лингвогенетические методы основываются на диахронном подходе к языку и используются при изучении истории отдельного языка или группы родственных языков. Поскольку базой диахронного исследования может быть и один язык, и целая языковая семья, четко противопоставляются два лингвогенетических метода – исторический и сравнительно-исторический.
Исторический метод складывается в недрах другого лингвогенетического – сравнительно-исторического – метода. От идеи сравнения родственных языков лингвистика перешла к сравнению внутри одного языка. Оба метода, основанные на принципах сравнения и историзма, практически пользуются общим арсеналом методик. «Комплекс этих приемов входит в равной мере как в методику исторического исследования отдельно взятого языка, так и в методику сравнительного изучения группы родственных языков – в сравнительно-исторический метод» [Общее языкознание 1973: 9]. Процедурное сходство обоих методов приводит к тому, что очень часто они не разграничиваются.
4.1. Исторический метод
Исторический метод был разработан гораздо позже описательного, по существу исторический метод ограничивается рамками одного языка и фиксирует внимание на отдельных языковых ярусах – фонетическом, морфологическом, синтаксическом, лексическом. Практические достижения этого метода воплощаются и закрепляются в исторических грамматиках языков.
Техника исторического метода сводится к методике сравнения одного явления, взятого на разных этапах языкового развития и соответственным образом интерпретированного. Наиболее эффективно в этом методе используется методика внутренней реконструкции и «филологический метод».
Методика внутренней реконструкции исходит из того, что высшая форма выступает ключом для понимания низших форм развития, и основывается на предположении о системном характере языка, в противном случае всякое восстановление (реконструкция) сомнительно. Особенностью любой языковой системы является сосуществование фактов, относящихся к разным этапам истории языка. Мы не можем представить себе языка, в котором не было бы архаизмов и новообразований. В любой момент язык включает в себя и остатки прошлого, и зачатки будущего. Выявление архаизмов языка и является основой методики внутренней реконструкции. Архаизм представляется архетипом.
Элементарным примером использования описываемой методики является реконструкция исходной формы при наличии двух сосуществующих и соотносящихся форм. Так, в современном русском языке соотносятся формы класть и кладу, веста и веду. Учет соответствий позволяет реконструировать праформы *кладти, *ведти, в которых взрывной [д] диссимилируется во фрикативный [с].
Итак, под «внутренней реконструкцией подразумеваются те диахронические выводы, которые можно сделать из синхронического анализа языковых данных, не прибегая ни к сравнению, ни к лингвистической географии, ни к «ареальной лингвистике», ни к глоттохронологии» [Общее языкознание 1973: 82].
Разновидностью методики внутренней реконструкции является так называемый филологический метод, описанный французским лингвистом А. Мейе. Этот метод основывается на анализе памятников письменности, из которых извлекаются те языковые формы, которые имеют значение для последующей истории языка [Мейе 1954: 16]. Разумеется, эта методика возможна при изучении языков с длительной письменной традицией.
Исторический метод освещает этапы развития языка в их хронологической последовательности от форм архаических до форм современных. Однако возможно и обратное – ретроспективное – движение исследовательской мысли: от состояний языка современных, развитых, зрелых форм к формам предшествующим. Этот путь познания получил терминологическое обозначение актуализма. Отсюда актуалистический метод, который основывается на предположении, что высшая форма является ключом для понимания низших форм развития. Прошлое познается с помощью и на основе настоящего. Актуалистический метод теоретически реконструирует прошлое исследуемых языков посредством использования современных данных и их экстраполяции на историю.
Исторический и актуалистический методы обычно используются в единстве. Ученые полагают, что с помощью актуалистического метода можно познать такие отдаленные от нас явления, которые другим методам не подвластны; например, пытаются реконструировать начало мышления, сознания и языка [Ерахтин 1985: 55–68].
4.2. Сравнительно-исторический метод
Языки обнаруживают ту или иную степень родства между собой, причем общность происхождения обусловливает определенную схожесть в закономерностях развития. На этой идее возник в XIX в. сравнительно-исторический метод, с которого начинается теоретическое языкознание как самостоятельная наука. Основным результатом метода было открытие законов, определявших развитие родственных языков в прошлом. Благодаря ему уже в XIX в. были достигнуты большие успехи в изучении истории звуковой и морфологической структуры индоевропейских языков. Сравнительно-исторический метод – совокупность исследовательских приемов, направленных на решение ряда задач: 1) установление генетического родства между различными языками определенного ареала; 2) объяснение генетической общности определенных языков; 3) объяснение причин и условий распада праязыка, образования отдельных языковых ареалов и самостоятельных языков; 4) обнаружение и объяснение закономерностей эволюции группы родственных языков, выявление вторичных схождений и расхождений между ними, выявление архаизмов и новообразований в языках той или иной генетически родственной языковой группы.
Фундаментальным положением сравнительно-исторического метода является признание того, что родственные языки, образовавшиеся в результате распада одного языка, типологически и материально едины, связаны постоянными звуковыми и морфологическими соответствиями и развиваются несимметрично, что позволяет их сравнивать, а сравнение, как говорилА. Мейе, – «единственное орудие, которым располагает языковед для построения истории языков» [Мейе 1954: 18].
Общая процедура использования сравнительно-исторического метода складывается из ряда этапов: а) отбор материала для сравнения, б) установление ряда сравниваемых единиц и их отождествление, в) установление относительной хронологии фонетических изменений и г) реконструкция архетипа.
Основными приемами сравнительно-исторического метода являются прием генетического отождествления фактов, прием лингвистической хронологии, прием внешней реконструкции и прием лингвистической географии.
Методика генетического отождествления – основа сравнительно-исторического метода, потому что сам метод имеет право на существование только в том случае, если будет доказано генетическое тождество большого количества разнородных языковых элементов. Без этого нет родства языков, а следовательно, проблематичен и сам метод.
Разработка критериев родства языков – самая актуальная проблема сравнительно-исторического метода. Для сравнения может быть использован только самый устойчивый языковой материал: некоторые тематические группы из основного словарного фонда (термины родства, обозначения жизненно необходимых понятий, личные местоимения, числительные первого десятка и сто), формы словоизменения и средства словообразования. Генетически тождественные слова могут быть внешне совсем непохожими друг на друга, например, русское чадо и немецкое Kinder, однако они находятся в закономерных звуковых соответствиях.
Весьма эффективна методика внешней реконструкции. Сущность ее заключается в следующем: устанавливая закономерности развития родственных языков при помощи сравнительно-исторического метода, мы можем восстановить языковую картину в период, не зафиксированный памятниками письменности. «Реконструкция праязыковой системы достигается путем сопоставления исторически засвидетельствованных родственных языковых систем и путем ретроспективного движения от одного языкового состояния к другому, более раннему состоянию» [Гамкрелидзе 1986: 205].
Обратимся к примеру, взятому из книги: [Перетрухин 1968: 297–298]. Если сравнить русское слово гость с соответствующими словами других славянских языков, то легко восстановить праславянский архетип *gostb. Сопоставляя общеславянское слово с латинским hostis и готским gasts, видим звуковые и структурные соответствия:
Соответствия эти регулярны, и можно предположить, что [д] и [h] – рефлексы одного и того же звука, который совмещает в себе качества [д] и [h], – [gh], т. е. [д] придыхательный. Гласные [о] и [а] восходят к индоевропейскому [о]. Краткий [i] в праславянском языке превратился в [ь], а в готском выпадал перед [s]. Итак, реконструируемая индоевропейская форма слова гость имеет вид *ghostis.
Ярким примером эффективности использования рассматриваемой методики является открытие Ф. де Соссюром так называемых ларингалов в индоевропейском языке. Опираясь на данные родственных индоевропейских языков, ученый высказал предположение о существовании в праиндоевропейском языке звуков, которые не сохранились, но дали в разных языках различные рефлексы. Значительно позже эти звуки были открыты чехом Б. Грозным в расшифрованных хеттских памятниках.
Пользуясь приемом внешней реконструкции, А.Х. Востоков выявил носовой характер юсов и звуковую природу редуцированных в старославянском языке.
Любое лингвогенетическое исследование обязательно учитывает временной фактор: без этого нельзя построить надежную историю языка. В недрах лингвогенетических методов сложились методики относительной хронологии и глоттохронологии.
Методика относительной хронологии позволяет установить, какое из двух языковых явлений предшествовало другому. В исторической грамматике русского языка методика относительной хронологии использовалась для выявления, какая из трех палатализаций заднеязычных была первой, а какая второй или третьей. Методика относительной хронологии позволяет, например, установить, что сочетание звуков типа an, am, en, em, on, от существовали раньше носовых гласных [а], [е], [о]. Очень широко используется она и при установлении подлинности памятников письменности.
Сравнительно недавно начала применяться методика глоттохронологии, которая помогает ответить на вопросы, с какой скоростью происходят изменения в языке и насколько постоянна эта скорость. «Глоттохронология (от греч. glotta — язык, chronos – время и logos – слово, учение) – область сравнительно-исторического языкознания, занимающаяся выявлением скорости языковых изменений и определением на этом основании времени разделения родственных языков и степени близости между ними» [ЛЭС: 109].
Методика была создана в 1948–1952 гг. Автор методики американский учёный М. Сводеш первоначально отобрал 250 слов, обозначающих самые необходимые понятия, имеющиеся в каждом языке; они не переходят из языка в язык, не зависят от географических, исторических и социальных условий (это личные и вопросительные местоимения, некоторые глаголы движения, элементарные физиологические функции, обозначения размеров, космических явлений, животных, цвета, родства и т. п.), предельно устойчивы и существуют во всех родственных языках. Сравнив родственные языки, имеющие длительную литературно-письменную традицию, Сводеш установил, что примерно 20 % таких слов изменяется в течение тысячи лет. Когда же М. Сводеш уточнил исходный список слов (его принято называть основным списком) и сократил его до 100 слов, оказалось, что за тысячу лет изменяется 14 % этих слов. Проверка на разнообразном материале показала, что процент изменяемости лексики каждого языка примерно одинаков. Итак, процент сохраняемости основной лексики 86 %. На этом основании лингвисты строят таблицу:
Помимо таблицы известна формула, по которой можно определить наименьшее время/t/ разделения двух родственных языков:
t = log С: 2 log R,
где С – доля совпадающих слов в основном списке, R – коэффициент, характеризующий степень сохранности основного списка за интервал времени (R = 86 %).
Если учесть, что у двух родственных языков исчезнет по 14 % слов и не обязательно это одни и те же слова, то окажется, что через тысячу лет у них будет примерно 74 % общих слов (86 % х 0,86). Выявив количество совпадающих древних слов в какой-либо паре языков, можно практически определить, когда эти языки начали расходиться. Если обнаружим, что у двух родственных языков осталось 74 % общих слов основного списка, то делаем вывод, что эти языки начали расходиться тысячу лет назад. Так, данные славянских языков позволяют утверждать, что они разошлись полторы тысячи лет тому назад, т. е. в V в., что не противоречит данным о времени распада общеславянского единства, полученным другим путем. У русского и английского языков совпадает 25 слов из основного списка, следовательно, они разошлись около пяти тысяч лет назад.
Методика глоттохронологии использовалась при изучении «Слова о полку Игореве». Согласно полученным выводам, великий памятник восточнославянской культуры возник около 760 + 60 лет тому назад. Установлено также, что доля совпадения базисной лексики южновеликорусского и северновеликорусского наречий составляет 0,74, т. е. наречия существуют около 1,01 тысячелетия.
Методика глоттохронологии небезупречна, за что и подвергается критике. Спорными являются принципы составления основного списка; игнорируется то обстоятельство, что не у всех слов равные возможности сохранения или исчезновения; установлен также факт «старения» лексики языка, а это требует введения коэффициента – поправки на «старение»; не учитываются языковые контакты, которые способствуют сохранению слов; недооценивается консервирующая роль литературных языков и т. п.
Известны попытки усовершенствовать методику М. Сводеша. Так, Ш. Эмблтон ввела различные для разных языков коэффициенты изменчивости базисного лексического фонда и серию коэффициентов темпов заимствований, различной для каждой пары контактирующих языков. Усовершенствованная методика была проверена на материале креольского языка ток-писин (официального языка Папуа – Новой Гвинеи) и английского языка. Выяснилось, что оба языка начали расходиться с 1850 (точнее с 1842 г.). За 130 лет из 196 слов базисного лексического фонда разошлись 89 слов.
С.А. Старостин учитывает не слова, а корневые морфемы (основы), сохраняющиеся в текстах определенной длины. Вычисления по уточненной методике дают лучшие приближения к датам, основанным на исторических данных. С.А. Старостин предлагает коэффициент 5 % (а не 14 % за тысячелетие). Он применил также новую формулу расчёта времени расхождения языков и новую процедуру применения методики: берется текст на некотором языке, делится на морфемы, и для каждой корневой морфемы проверяется наличие генетически родственного соответствия. Если родственной морфемы нет, ставится (—), если есть – (+). При этой процедуре процент совпадения более высок, и методика позволяет работать на большую временную глубину. См. хроникальную заметку в: [Вопросы языкознания. 1991. № 1. С. 174].
Исследование происхождения и истории языков требует, наряду с учетом фактора времени, еще и учета пространственного распределения языковых фактов. Пространственный аспект языка успешно исследуется методикой лингвистической географии, которая основывается на понятии изоглоссы (изо – «одинаковый», глосса – «слово»). Изоглосса – это линия, соединяющая конечные пункты распространения того или иного языкового явления. Изоглоссы отделяют друг от друга районы, отличающиеся языковыми особенностями. Если какой-либо пункт обладает уникальной языковой особенностью, то изоглосса будет просто линией вокруг данного пункта. Учет совокупностей (пучков) изоглосс позволяет решать важные лингвистические и социально-исторические проблемы. Так, пучки диалектных изоглосс помогли уточнить границы древнерусских княжеств.
Наличие того или иного языкового факта в населенном пункте чаще всего обозначается на карте условным знаком (кружок, квадрат, треугольник, «птичка» и т. п.). Россыпь одинаковых значков может сменяться знаками другого лингвистического явления.
Картографирование языковых фактов впервые было использовано в начале XIX в., когда группа английских ученых предприняла обзорное описание языков Индии. Позже Г. Венкером и Ф. Вреде создается атлас немецких говоров, составленный по анкетным данным. Наиболее известным атласом XIX в. стал «Лингвистический атлас Франции», составленный Ж. Жильероном и Э. Эдмоном на базе личных полевых наблюдений.
В русском языкознании первым обратил внимание на возможность изучения языка в пространственном отношении И.И. Срезневский. В 1903 г. по инициативе акад. А.А. Шахматова создается Московская диалектологическая комиссия (МДК), которая провела систематическое изучение русских говоров ив 1915 г. издала «Опыт диалектологической карты русского языка в Европе, с приложением очерка русской диалектологии». К 1949 г. относится завершение «Лингвистического атласа района оз. Селигер». Большим достижением явилось создание «Диалектологического атласа русского языка. Центр Европейской части СССР. В трёх выпусках» [М.: Наука, 1986, 1989, 1996 (Справочные материалы ко всем выпускам ДАРЯ)]. В настоящее время усилиями диалектологов-славистов создается общеславянский диалектологический атлас, который поможет решению таких важных проблем, как прародина славян, миграция славянства, границы славянских языков и диалектов и т. д. [Сухачев 1984].
Известны два типа лингвистических атласов: 1) общеязыковые (общенациональные), которые отражают наиболее важные для данного языка явления, и 2) региональные (областные, территориальные), цель которых охватить сравнительно небольшую территорию и выявить локальные языковые черты. Примером атласа первого типа могут служить «Общеславянский лингвистический атлас», представляющий родственные языки, и «Лингвистический атлас Европы» – типологически различные языки. В качестве образца межнационального специального атласа может быть приведен «Общекарпатский диалектологический атлас», ориентированный на «карпатизмы». В 1988 году отмечалось, что в распоряжении ученых мира уже свыше двухсот атласов.
Известный специалист по антропонимике В.А. Никонов показал, что даже такая категория языка, как фамилия, может изучаться в пространственном плане. Четыре самые часто встречающиеся русские фамилии – Иванов, Смирнов, Попов и Кузнецов – распространены на Европейской части России не равномерно, а тяготеют к определенным регионам. Так, на Севере преобладает фамилия Попов, в северном Поволжье – Смирнов, южнее и восточнее Москвы больше Кузнецовых (особенно их много в районе Тулы), а на северо-западе России (Новгород, Ленинградская и Тверская области) самая частая фамилия – Иванов [Никонов 1988]. Такая связь частых фамилий и регионов объясняется историей страны, особенностями экономического и культурного развития России. Фамилии, как «меченые атомы», позволяют судить, откуда и как шло переселение масс населения, в частности, как заселялось Зауралье. Об этом как раз и рассказывает одна из глав книги В.А. Никонова.
С помощью методики лингвистической географии изучается и диалектный синтаксис. В одном из последних исследований сведены и обобщены лингвогеографические материалы по синтаксису русских говоров. Описано 60 явлений, которые создают территориальные различия русских говоров. На картах показано 27 синтаксических явлений [Кузьмина 1993].
Исследовательская эффективность методики лингвистической географии зависит от 1) доброкачественности вопросника, 2) продуманности технологии сбора и записи материала и 3) четкости принципов картографирования. Диалектологи пытаются улучшить методику картографирования с помощью компьютеров.
Методика лингвистической географии, обогащенная идеей системности языка, имеет большое теоретическое и практическое значение, она превращает диалектологию, в недрах которой и зародилась, в точную языковедческую дисциплину и позволяет уточнить многие исторические данные. Более того, методика лингвистической географии способствует возникновению особой области лингвистической науки – ареальной лингвистики, которая изучает лингвистическое пространство в целом, общие закономерности дифференциации этого пространства, его структуру и развитие.
Возникновение и развитие сравнительно-исторического метода широко известно по многочисленным работам. Этот метод в своем развитии прошел несколько этапов:
1) первая половина XIX в. – зарождение метода в работах Ф. Боппа, Р. Раска, А. X. Востокова, Я. Гримма и А. Шлейхера;
2) вторая половина XIX в. – начало XX в. – развитие метода в трудах младограмматиков, возникновение понятий фонетического закона и аналогии;
3) 50-е гг. XX в. – начало современного этапа, характеризующегося освоением нового языкового материала, привлечением новых памятников, использованием последних достижений языкознания в целом. «…Индоевропеисты постепенно выработали методику, пожалуй, более совершенную, нежели методы других наук, имеющих дело с человеческими институтами» [Сепир 1993: 259].
В поле пристального внимания исследователей, работающих в области генетической классификации языков, находятся и так называемые «изолированные» языки, среди которых и древнейший по письменным памятникам шумерский язык и бесписьменный язык малой северной народности – юкагиров. К «изолированным» языкам относят древние хуррито-урартс-кие языки, хаттский, языки этрусков, басков, японцев.
Выдвинута идея языковых «макросемей», в которые входит несколько известных в настоящее время языковых семей. Советский ученый В.М. Иллич-Свитыч ввел понятие «ностратической» языковой семьи, включив в нее индоевропейскую, афразийскую, картвельскую, уральскую, алтайскую и дравидийскую языковые семьи. Установление макросемей перспективно, ибо в этом случае возможно углубление реконструкции, выявление наиболее глубоких архаизмов, уточнение представления о прародине языков. Перспективен последующий синтез лингвистических результатов с результатами, полученными историками, археологами, этнографами и антропологами, в результате чего можно будет представить целостную картину развития человеческой культуры.
Несмотря на значительные достижения и исследовательские возможности в целом, сравнительно-исторический метод нельзя пока признать универсальным, так как в нем есть и известные слабости: во-первых, метод эффективен только при наличии ряда родственных языков, исследовать изолированные языки им нельзя; во-вторых, почти невозможно выявить уже утраченные отличия в родственных языках, к тому же материальная общность элементов в родственных языках может быть не только следствием их генетического тождества, но и результатом заимствования; разграничить эти два источника во многих случаях бывает трудно.
Дополнительная литература
Блумфилд Л. Язык. – М., 1968. Глава XIX.
Бондалетов В.Д. А.Н. Гвоздев и лингвогеография Пензенского края. Пенза – Самара, 1997.
Бурлак С.А., Старостин С.А. Введение в лингвистическую компаративистику. – М., 2001.
Журавлев В.К. Внутренняя реконструкция // Сравнительно-историческое изучение языков разных семей. – М., 1988. С. 68–90.
Никонов В.А. География фамилий. – М., 1988.
Новое в зарубежной лингвистике: Вып. 21.
Новое в современной индоевропеистике. – М., 1988.
Судаков Г.В. География старорусского слова. – Вологда, 1988.
5. Типологический метод
В современном языкознании все больший вес приобретает типологический (сопоставительный) метод, сущность которого заключается в том, что сравниваются языковые структуры в их сходстве и различии независимо от генетической принадлежности самих языков. «Кто хочет обнаружить истинную природу языка, должен прежде всего обратить внимание на то, что в нём общего с иными системами того же порядка» (Ф. де Соссюр).
Базой этого метода являются все языки мира, рассматриваемые в синхронном, внутриструктурном, непространственном, генерализованном и универсальном аспектах. Типологические исследования опираются в основном на сопоставительные и классификационные методики.
Основанием для возникновения типологического метода стало убеждение в том, что все языки мира при всем их внешнем различии изоморфны, т. е. в основе их структуры лежат одни и те же общие принципы. Французский лингвист Ж. Вандриес заметил: «…Существует только один человеческий язык под всеми широтами, единый по своему существу» [Вандриес 1937: 217]. А.А. Потебня полагал, что мысль о сравнении всех языков есть для языкознания такое же великое открытие, как идея человечества – для истории [Потебня 1989: 55].
Типологический метод интуитивно используется очень давно. Многовековая традиция изучения иностранных языков опиралась на сравнение чужого языка с родным – это и есть сопоставительный метод в зачаточном состоянии. Чешский лингвист Вл. Скаличка справедливо заметил, что типология – самый древний, хотя и менее других разработанный раздел языкознания [Скаличка 1963: 19].
Общая неразработанность проблем типологии вообще и типологического метода в частности во многом обусловлена тем, что до сих пор нет общепринятого определения целей и задач подобного подхода к изучению языка. По авторитетному мнению В. Скалички, сами типологи не знают, что является предметом типологии, поскольку существует широкое и узкое понимание ее. Одно из них: «Целью типологического описания языков мира является их распределение по сумме сходных и различительных признаков, характеризующих их системы» [Ярцева 1986: 493].
Анализ литературы, посвященной лингвистической типологии, обнаруживает следующие подходы к определению цели сопоставления в изучении языков: классификационный, характерологический, признаковый, внутрисистемный, контрастивный, универсологический.
Первым по времени осознания является классификационный подход, согласно которому все языки мира по одному какому-либо признаку разграничиваются на группы языков. Известны генеалогическая, ареальная и морфологическая классификации, единицами которых являются языковая семья, языковой союз и класс языков.
В морфологических классификациях все многообразие языков укладывается в три-четыре типологических класса: языки корнеизолирующие, агглютинативные, флективные (иногда еще и инкорпорирующие). Достоинством классификационного подхода является стремление построить непротиворечивую и удобную классификацию языков. Существенным же недостатком этого подхода считают, во-первых, произвольность критерия типологической классификации, следствием чего является большое и все увеличивающееся число классификаций (в то время как генеалогическая и ареальная классификации единственны в своем роде); во-вторых, то, что он не дал более конкретных сведений об отдельных языках.
С 50-х гг. XX в. стала развиваться контрастивная лингвистика, цель которой – сопоставительное изучение двух, реже нескольких языков для выявления их сходств и различий на всех уровнях языковой структуры. У контрастивной лингвистики ярко выражен практический акцент – улучшение методики изучения иностранных языков, однако несомненна и её теоретическая ценность.
Если рассмотренный подход отыскивал общее в языках, то характерологический подход выявлял своеобразие каждого языка. Отмечалось, например, что для русского языка характерно обилие шипящих и свистящих, наличие палатальных (мягких) согласных, множество падежей, суффиксов и т. п. В других языках отмечались иные особенности. Выявление своеобразия каждого языка в конечном счете должно было определить существенные черты языков. Недостаток этого подхода – в отсутствии прочной теоретической базы, «которая позволила бы ему оценивать различные явления не в зависимости от их своеобразия, а в соответствии с их ролью в общей системе языка, оценивать их на основе точных и определенных критериев» [Скаличка 1963: 28].
Учитывая сложность изучения многоярусной структуры языка, некоторые лингвисты пошли по пути создания типологий отдельных языковых явлений и ярусов: фонетическая типология, лексическая типология, синтаксическая типология и т. д. Например, классифицируют славянские языки по соотношению гласных и согласных в их фонологических системах. По морфологическим особенностям различают языки вербальные, с развитым спряжением и ослабленным склонением (романские и германские) и невербальные, с развитым склонением и ослабленным спряжением (русский). Известна типология словообразования, разработанная главой пражской школы функциональной лингвистики В. Матезиусом.
Такой подход интересен и продуктивен, он позволяет обнаружить важные закономерности, так как оперирует конкретным языковым материалом. При этом подходе возможно применение и количественных методик. Ограниченность же его обнаруживается в том, что невозможно выявить универсальные типологические свойства и, следовательно, создать общую классификацию языков.
Стремление преодолеть недостатки классификационного подхода, основывающегося на учете только одного критерия, породило так называемую многоступенчатую классификацию, учитывающую три и более критериев.
Трудность и спорность сопоставительной классификации обусловили появление совершенно иного типологического подхода, при котором выявляются отношения между отдельными явлениями в данном языке. Такой подход основан на признании системности языка, внутренней взаимообусловленности его элементов: какие элементы могут выступать в определенном языке, а какие не могут, какие элементы обязательно сосуществуют, какие элементы с необходимостью вызывают появление других и какие элементы не связаны подобным образом, какие элементы вызывают отсутствие других – вот вопросы, на которые призван ответить типолог.
В современной литературе по типологии языков все больше внимания уделяется обнаружению так называемых лингвистических универсалий, т. е. таких языковых явлений, которые присущи всем без исключения языкам. «За бесконечным поражающим многообразием языков мира складываются общие для них всех свойства. При всем безграничном несходстве оказывается, что языки созданы как бы по единому образцу» [Гринберг и др. 1970: 31]. Так, всем языкам присуща такая категория, как часть речи; во всяком языке не может существовать менее 10 и более 80 фонем; если в языке слово всегда односложно, то оно одноморфемно и в языке существует музыкальное ударение; нет языков, в которых не было бы согласных [р], [t], [к]; изменение древнего, исходного лексического ядра всех языков происходит примерно с одинаковой скоростью; если в языке присутствуют так называемые звонкие придыхательные звуки, то обязательно должны существовать и глухие придыхательные. Чем богаче содержание лексической единицы, тем реже она встречается в тексте. Средняя глубина слов во всех языках (глубина слова – это количество морфем в нем) составляет 2,5 морфемы на одно слово. Психологические эксперименты подтверждают, что это обусловлено свойствами оперативной памяти человека. Много интересных универсальных закономерностей обнаруживается при помощи лингвостатистики.
В наши дни складывается социолингвистическая типология, интересующаяся сходством и различиями языковых состояний и ситуаций [Виноградов В.А. и др. 1984].
Типологический метод дополняет и усиливает сравнительно-исторический метод, так как вооружает его способностью предсказывать и оценивать реконструируемые факты. Например, существовала точка зрения, согласно которой в индоевропейском праязыке был всего один гласный звук. Типологическое же изучение не обнаружило ни одного языка, в котором был бы один гласный. Реконструкция сомнительна, если она противоречит общим законам, которые установлены типологией. Результаты, полученные лингвогенетическими методами, корректируются при помощи типологического метода. Если лингвогенетические методы устанавливают факт языковых изменений, то типологический метод позволяет объяснить причины этих изменений. Типологический метод обладает прогнозирующей силой [Серебренников 1974], с его помощью ученые должны ответить на вопрос, что такое язык, как он возник. В сравнении с лингвогенетическими методами, у типологической реконструкции историческая глубина больше. Вокруг сопоставительного метода строится всё здание естествознания, и многие учёные полагают, что сравнительный метод может самостоятельно решить все научные задачи, а другие методы самостоятельно это сделать не могут.
Дополнительная литература
Кацнельсон С.Д. Лингвистическая типология // Вопросы языкознания. 1983. № 3. С. 9–20.
Литвинов В.П. Типологический метод в лингвистической семантике. – Ростов н/Д, 1986. Методы сопоставительного изучения языков. – М, 1988
Нерознак В.П. Метод сравнения в синхронном языкознании: (К основаниям лингвистической компаративистики) // Известия АН СССР. Серия лит. и яз. – М., 1986. – Т. 45. № 5. С. 402–412.
Нерознак В.П. О границах типологического анализа языков // Литература. Язык. Культура. – М., 1986, – С. 279–287.
Новое в зарубежной лингвистике: Вып.25. Контрастивная лингвистика. – М.: Прогресс, 1989.
Основы лингвистической компаративистики. – М.: Наука, 1990.
Ярцева В Н. Теория и практика сопоставительного исследования языков // Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. – М., 1986. – Т. 45. № 6. С. 493–499.
6. Методика количественного анализа
XX век – век победного шествия математики, время проникновения ее во все области человеческого знания, превращения ее в универсальный язык науки. Физик Н. Бор писал: «…Мы не будем рассматривать чистую математику как отдельную область знания; мы будем считать ее скорее усовершенствованием общего языка, оснащающим его удобными средствами для отображения таких зависимостей, для которых обычное словесное выражение оказалось бы неточным или слишком сложным» [Бор 1961: 96].
Усвоение науками отвлеченных понятий и методов математики расширяет их возможности, способствует открытию новых, более глубоких закономерностей. Не случайно, что еще в X в. ученый и философ эпохи Возрождения Николай Кузанский в трактате «Об ученом познании» утверждал, что все познания о природе необходимо записывать в цифрах, а все опыты над нею производить с весами в руках. Философ И. Кант был убеждён, что точное естествознание простирается до тех границ, в пределах которых возможно применение математического метода.
Если науки естественного цикла сравнительно давно заговорили на языке математики, то гуманитарные науки обратились к нему только в XX в. Первой среди них была лингвистика, занимающая особое, срединное положение среди всех областей человеческого познания. Системность языка, обобщенный характер его единиц – вот та благодатная почва, в которой стали плодотворно укореняться идеи и методы современной математики. В лингвистике есть все условия, необходимые, с точки зрения известного кибернетика Н. Винера, для математического исследования. Во-первых, в лингвистике влияние наблюдателя на объект наблюдения ничтожно мало, осознания явления наблюдателем недостаточно для того, чтобы его изменить. Во-вторых, язык обладает длинными статистическими рядами [Леви-Строс 1985: 54–55].
Языкознание первым из гуманитарных наук от установки на полное и исчерпывающее описание отдельных фактов перешло кустановке на обобщение, на поиски единого закона, объясняющего необозримое множество отдельных фактов. Эта познавательная установка и определила интерес к математическим методам. Связь языкознания с математикой наметилась уже давно. Известный русский математик В.Я. Буняковский пророчески писал о необходимости применения математики в области грамматических и этимологических разысканий. В наши дни стали известны лингвистические исследования основоположника генетики И.Г. Менделя, пытавшегося применить статистические методики не только в области биологии, но и в языкознании. И.А. Бодуэн де Куртенэ, набрасывая контуры будущего языкознания, непременным условием его считал тесную и органическую связь с математикой. «Нужно чаще применять в языкознании количественное, математическое мышление и таким образом приблизить его всё более к наукам точным» [Бодуэн де Куртенэ 1963: 17]. Перспективные мысли высказаны Бодуэном в статье «Количественность в языковом мышлении». Выдающийся лингвист практически использовал квантитативную методику в исследованиях по фонетике (исчисление альтернаций) и по грамматике (описание типов склонения).
Крупнейший теоретик языка Е.Д. Поливанов, говоря о точках соприкосновения между математикой и лингвистикой, особо выделял следующее: а) анализ кимографических кривых; б) диалектологическая статистика; в) приложение теории вероятностей к определению относительной вероятности этимологий – как достоверных, так и гипотетических и, наконец, фантастических [Поливанов 1968].
Связь языкознания с математикой не была односторонней. Используя методы математики, лингвистика в свою очередь питала математику плодотворными идеями. Наблюдения известного математика А.А. Маркова (1856–1922) над текстом «Евгения Онегина» (распределение доли гласных и согласных среди первых 20 ООО букв – «испытания, связанные в цепь») привели к открытию знаменитых «марковских цепей», обогативших теорию вероятностей и математическую статистику. Примером использования лингвистических знаний в математике служит создание математической лингвистики [Гладкий, Мельчук 1969].
Для описания и исследования лингвистических фактов привлекаются различные разделы математики: алгебра, теория множеств, математическая логика, теория информации, теория вероятностей и математическая статистика. В силу этого математическая лингвистика стала развиваться в нескольких направлениях – алгебраическая лингвистика, комбинаторная лингвистика, которая опирается на разделы «неколичественной» математики (теория множеств, математическая логика, теория алгоритмов), и квантитативная лингвистика, которая изучает лингвистические явления с помощью «количественной» математики (математическая статистика, теория вероятностей, теория информации и др.).
Квантитативная лингвистика отличается от математической лингвистики большим вниманием к языковой специфике, которая стоит за количественными отношениями. Главная её задача – поиск связи между количественными и качественными сторонами языка: между употребительностью и возрастом слов, длиной слова и его употребительностью, полисемией и употребительностью; делается попытка выявить объективный критерий таких лингвистических категорий, как продуктивность классов слов, однородность и регулярность отношений между единицами словаря [Арапов 1988].
Пока наиболее перспективным представляется исследование сущностных характеристик языка при помощи аппарата теории вероятностей и математической статистики – квантитативная лингвистика. Собственно говоря, связь математики с языкознанием началась с попыток установить статистические свойства речи, поскольку языку присущи объективные количественные характеристики. Благодаря вероятностной природе языковой структуры, она легко поддается изучению математическим аппаратом теории вероятностей и математической статистики. Основа тому – регулярность, упорядоченность языковых явлений. Уже существует большая специальная литература, отразившая результаты применения статистических методик в исследовании различных ярусов языковой системы.
Статистически исследуется фонетика, закладываются основы статистического изучения морфемного состава слова и морфологических категорий. В частности, установлена связь между числом фонем и средней длиной морфемы, стало известно, что количество фонем отражается на качестве морфем и слов, а количество морфем на качестве слов. Интересна попытка количественно выразить степень силы управления. Намечается статистическая классификация синтаксических конструкций, обследуются закономерности связи размера предложения с характером текста. Выявлено, что с XI до XX в. вероятность использования предлогов увеличилась с 0,096 (XI–XIII вв.) до 0,123 (XX в.), а союзов уменьшилась с 0,126 (XI–XIII вв.) до 0,085 (XX в.) [Русинов 1983: 37]. Количественной интерпретации подвергается даже такая «качественная» сторона языка, как семантика. Особенно эффективны статистические подсчеты в стилистике. Количественными параметрами обладают такие явления, как ритм и рифма. С применением статистики увеличивается надежность типологических разысканий. С помощью статистических методов устанавливается мера генетической близости между славянскими языками, сохраняемой, по данным праславянской лексики, каждым из них [Журавлев 1994].
С помощью формально-количественных методов изучается авторский идиостиль, под которым В.П. Григорьев понимает взаимосвязь между языковыми средствами и особенностями творческой позиции писателя, его взгляда на мир, на окружающую действительность [Баранов 1998: 121]. Замечено, например, что частицы разве и неужели по-разному распределены в романах М. Булгакова «Мастер и Маргарита» и «Белая гвардия». В первом романе значительно чаще встречается частица разве, значение которой предполагает более активную, действенную позицию говорящего, подвергающего сомнению некоторое положение дел. В «Белой гвардии» чаще используется частица неужели, которая указывает на то, что некоторое положение дел практически принимается говорящим и он лишь недоумевает, почему оно имеет место. Исследователь видит пассивное «изумление», «удивление» автора в «Белой гвардии» и активное восприятие в «Мастере и Маргарите» [Баранов 1998: 121]. Сопоставляя более разговорное по крайней мере с книжным по меньшей мере в художественных текстах Ф.М. Достоевского, А.Н. Баранов гипертрофированную частотность по крайней мере объясняет творческой позицией Достоевского, осознающего всю сложность и противоречивость окружающего мира. Книжное по меньшей мере, будучи более точным и определенным, требует определенности и в суждениях о мире [Баранов 1998: 134].
Шире всего количественные методики используются при описании лексического уровня языковой системы. Лингвисты убеждены, что лексемный ярус системен, но его системность особого рода. В лексике целостность и устойчивость системы сочетается с автономностью частей (подсистем). В ней заметна массовость и случайность и одновременно господствует необходимость. Всё это характерно для вероятностных систем. Известен вывод Б.Н. Головина: «Язык вероятностен, речь частотна». Квантитативная лингвистика возможна потому, что для речи характерна относительная стабильность частот отдельных элементов или групп элементов и устойчивое распределение элементов, выражающее наличие внутренней упорядоченности в системе. Единицами и уровнями квантитативного анализа являются словоформы, лексема и словоупотребление [Тулдава 1987].
Практическим результатом статистического изучения лексики являются частотные словари, отличающиеся от обычных лингвистических (толковых, орфографических и других) тем, что словарные единицы располагаются в них не только в алфавитном порядке, но и в порядке убывающей частотности. В первом случае это будет алфавитный частотный словарь, а во втором – ранговый частотный словарь. Частотные словари характеризуются следующими параметрами: объём текста (число словоупотреблений), объём словаря словоформ, объём словаря лексем.
Первым частотным словарём был словарь Кединга (1898). За девяносто лет XX столетия было составлено несколько сот частотных словарей и частотных списков для нескольких десятков языков. Первым частотным словарём русского языка был словарь Г. Йоссельсона (США, Детройт, 1953). В нашей стране первый частотный словарь русского языка был составлен Э. Штейнфельд (1963). Интересны материалы к частотному словарю языка Пушкина (1963). В 1977 г. вышел в свет «Частотный словарь русского языка» под редакцией Л.Н. Засориной. Создавался он на основе выборки в один миллион словоупотреблений из четырёх жанров (художественная проза, драматургия, научная публицистика, газетно-журнальные материалы). В нём около 40 тыс. слов. Самое частотное слово – предлог в (во) далее идут служебные слова и местоимения (и, не, на, я, быть, что, он, с, а, как, это). Самое частотное существительное – год.
В 90-х гг. XX в. в Швеции вышел в свет «Частотный словарь современного русского языка» (Уппсала, 1993).
Идея частотных словарей возникла из практической потребности решения ряда вопросов: 1) создание рациональной методики изучения родного и иностранного языков; 2) усовершенствование различных кодовых систем; 3) выявление специфики разных стилей литературных памятников или языка отдельных авторов. Вслед за частотными списками слов появляются словари, отражающие частоты морфем и грамматических форм.
Частотные словари позволили обнаружить целый ряд количественных закономерностей в лексическом составе языка. Первые 1500 слов частотного словаря для любого языка составляют примерно 80 % всех словоупотреблений. Причём 12 самых частотных слов – артикли и предлоги – из 20 тыс. слов (словарь Эсту) составляют примерно 40 % всех словоупотреблений. По Г. Йоссельсону, в русском языке наречия, предлоги, союзы, частицы составляют 13,9 % всего текста. Сделан общий вывод, что первые 50 слов охватывают грамматический словарь любого языка.
Нет сомнения, что частотные словари окажутся мощным инструментом теоретического и практического языкознания. Они могут дать корректные в научном смысле выводы о структуре общенародной лексики и количественном соотношении её различных пластов, помогут решить проблему языковой нормы и строго определить понятие функционального стиля.
Характерно, что математические методы обладают следующими возможностями:
– делают точными суждения, основанные на количественно-частотных соображениях;
– указывают на такие обстоятельства функционирования языка или диалекта, которые иными способами не обнаруживаются;
– позволяют глубже и всесторонне понять причины и результаты языковой эволюции, длительность эволюционных процессов и их хронологию, и даже прогнозировать будущее языковое развитие;
– расширяют сферу прикладного использования языкознания [Русинов 1983: 42].
Количественная методика стала более эффективной с появлением вычислительной техники.
Определение авторства с помощью формально-количественных и статистических методов стимулировало поиск и выявление характерных структур авторского языка. На этом строятся многообразные методики, представленные в книге «От Нестора до Фонвизина. Новые методы определения авторства» (М., 1994).
Два специалиста исследовали несколько простых параметров авторского стиля и на базе большого количества произведений писателей XVIII–XX вв. статистически доказали, что доля всех служебных слов в данном прозаическом произведении является авторским инвариантом [Фоменко В.П., Фоменко Т.Г. 1996]. Д.В. Хмелев, опираясь на модель цепей А.А. Маркова, предложил методику определения авторства, основанную на том, что по произведениям автора, которые достоверно им созданы, вычисляется матрица переходных частот употреблений пар букв. Затем такие матрицы строятся для каждого из авторов, «подозреваемых» в написании анонимного текста, и для каждого автора оценивается вероятность того, что именно он написал анонимный фрагмент текста. В результате автором анонимного текста полагается тот, у которого вычисленная оценка вероятности больше [Хмелев 2000].
В многолетний спор по поводу того, кто является истинным автором романа «Тихий Дон», в свое время включились скандинавские ученые, норвежско-шведский коллектив под руководством Г. Хьетсо. Они взяли тексты, бесспорно принадлежащие М. Шолохову, и тексты донского писателя Ф. Крюкова, которому приписывалось авторство великого романа, и проанализировали их, выявляя особенности писательской манеры каждого. Учёные сравнили длину предложений, распределения длины предложений по количеству слов, распределение частей речи, сочетание частей речи в начале и в конце предложения, частоту применения союзов в начале предложений, лексические спектры, повторяемость словарного запаса по богатству. Естественно, сделать это оказалось возможным только с помощью мощной вычислительной техники. Математическая статистика при контрольной выборке на ЭВМ 12 тыс. фраз при 164 637 словах представлена в 250 таблицах, формулах и графиках [Книжное обозрение. – 1999. № 18–19. С. 6]. Вывод однозначен: из двух претендентов на авторство «Тихого Дона» Крюков явно обладает наименьшим правом. «…Применение математической статистики позволяет нам исключить возможность того, что роман написан Крюковым, тогда как авторство Шолохова исключить невозможно». Найденная сравнительно недавно рукопись великого романа (885 рукописных страниц, 605 из которых написаны рукой самого Шолохова, а 285 страниц – женой писателя и её сестрой) окончательно утвердила авторство М.А. Шолохова и правоту скандинавских ученых [Наука и жизнь. 2000. № 1. С. 24–25].
В Эдинбурге (Англия) разработан аналитический метод, основывающийся на учёте зависимости частоты употребляемого слова и длины предложения, в котором оно появляется. Этот метод получил название «диаграммы накапливающихся сумм». С его помощью установлено, что каждому человеку свойствен прочно укоренившийся, неизменный стиль, который не поддаётся имитации. Например, стиль Т. Харди в «Руке Этельберты» (1876) убедительно совпадает со стилем «Джуда Неизвестного». Анализ показал, что авторы приобретают и сохраняют постоянный стиль, как бы ни сложилась их жизнь. Например, стиль В. Скотта в «Антикварии» (1816) полностью совпадает с его стилем в «Замке опасностей», написанном после того, как знаменитый английский писатель перенёс три инсульта, один из которых лишил его речи и нарушил двигательные способности. Метод выявляет в тексте инородные вставки, обнаруживает попытки подделать авторский стиль. Английская писательница Джейн Остин не окончила повесть «Сандиция», которая обрывается на семьдесят третьем предложении одиннадцатой главы. Повесть была дописана другой писательницей. При чтении невозможно определить, где заканчивается текст Д. Остин, а метод позволяет точно найти инородную часть повести [За рубежом. 1990. № 44. С. 20–21].
Тот факт, что объём активного лексикона Шекспира составляет от 15 до 24 тыс. слов и что количество новых слов, введенных в язык Шекспиром, превышает 3200 единиц, свидетельствует в пользу тех, кто считает, что Шекспир – это псевдоним, под которым творил не один человек. У Ф. Бэкона, которому некоторые приписывают авторство пьес и сонетов Шекспира, лексикон составлял 9—10 тыс. слов (у современного англичанина с высшим образованием словарный запас включает 4 тыс. лексем) [Знание – сила. 2000. № 2. С. 109].
Специалисты говорят о безусловной возможности и целесообразности постановки на ЭВМ исследований по любой лингвистической теме. Реальная перспектива – глобальная информатизация языкознания – от сбора данных до выхода научных трудов из печати [Хант 1993; Использование ЭВМ 1990].
Использование количественных методик в языкознании не означает, что наука о языке стала одной из математических дисциплин. Устойчиво мнение о том, что язык как целое не является подходящим объектом для эффективной математической обработки. Как заметил А.Ф. Лосев, в языке нет никакой однородности и никакого постоянства. Родительных падежей столько же, сколько и тех контекстов, в которых они встречаются; и отношений между членами предложений фактически столько же, сколько и самих предложений. Математика же имеет дело с сущностями устойчивыми [Лосев 1983], даже с омертвевшими, как полагал философ и культуролог О. Шпенглер. «Становление «не имеет отношения к числу». Только безжизненное можно сосчитать, измерить, разложить. Чистое становление, жизнь не имеет границ в этом смысле. Оно лежит вне границ области причины и действия, закона и меры»; «Средством для понимания мертвых форм служит математический закон» [Шпенглер 1993: 35, 112]. Математик М. Клайн заметил, что количественное описание может дать о богатом и разнообразном опыте не более полное представление, чем рост человека о человеке, а специалист в области вычислительной математики Р. Хэммингтон говаривал, что цель расчетов – понимание, а не числа. Всё более популярной становится мысль о том, что в науке островки рациональных рассуждений соединены мостами иррациональных озарений. Отмечается тенденция к «дематематизации» физики, к превращению её (как и химии) в качественную физику, которая в отличие от классической физики, опирающейся на изощренный математический аппарат, стремится отразить в своих понятиях интуицию исследователя-практика, достигающего необходимых результатов без излишних вычислений, опираясь на один только здравый смысл (Из доклада акад. Д.А. Поспелова. См.: [Философские науки. 1995. № 2–4. С. 233]).
Сущностные характеристики языка могут быть исследованы только с помощью целого ряда методов и методик, среди которых своё место занимают и количественные методики. Они являются хорошим вспомогательным средством глубокого проникновения в суть языка. Лингвистика остаётся единой наукой, сочетающей качественные и количественные методики для более адекватного описания системы языка и характеристики его функций.
Лингвистике в союзе с математикой ещё предстоит проверить истинность утверждения, что все слова в языке имеют суммарные численности меры, подчиняющиеся строгой закономерности, что слова-синонимы имеют одну и ту же сумму чисел, что в древних языках слово одного смысла имеют одинаковую числовую меру [Мартынов 1989: 122].
Петербургский поэт и переводчик «Слова о полку Игореве» Андрей Чернов нашёл, что построение стихов загадочного древнерусского памятника подчиняется определенным математическим закономерностям, а именно – формуле «серебряного сечения». А. Чернов сделал заключение о том, что «Слово о полку Игореве» имеет девять песен и что в основу текста легла круговая композиция. Если в композиции «Слова» лежит круг, то у него должен быть «диаметр» и некая математическая закономерность. Число стихов во всех трёх частях «Слова» (их 804) А. Чернов разделил на число стихов в первой (или последней) части (256), в итоге получил 3,14, т. е. число «пи» с точностью до третьего знака. Эту же закономерность А. Чернов выявил при изучении «Медного всадника» Пушкина, в котором использована круговая композиция, а также храма Софии Полоцкой. Исследователь сделал вывод: математический модуль автор «Слова» использовал интуитивно, неся внутри себя образ древнерусских архитектурных памятников. В те времена храм являл собой всеобъемлющий художественный идеал, оказывающий влияние на композицию и ритмику стихосложения.
Исследователь назвал обнаруженную им закономерность в построении древнерусского литературного памятника и древнерусских храмов принципом «серебряного сечения» [Известия. 1995. 1 февр. С. 7].
Точность в общественных науках определяется степенью адекватности отражения предмета и далеко не всегда выражается языком математики. Не количество математических формул на странице научного труда, а степень строгости определения элементарных структур и явлений, которые характеризуют данную область исследования, определяют точность научного поиска. «Точность достигается культурой специальных и точных исследований. Ни одна из точных наук не развивается путём создания общих курсов и монографий, а путём кропотливых, математически чётких частных исследований». «Точность нужна в той мере, в какой она допускается природой материала. Излишняя точность может оказаться помехой для развития науки и понимания существа дела» [Лихачёв 1981: 196–197]. Не голые цифры и не наукообразные формулы, а культура математического мышления нужна прежде всего гуманитарным наукам и языкознанию в частности. И вообще существо математики никоим образом не определяется числом (М. Хайдеггер).
Языкознание, по существу, занимает среди гуманитарных наук особое место, дав классические образцы научной точности. Так, по мнению учёных, сравнительно-историческое языкознание до сих пор остаётся примером точного лингвистического исследования. Не случайно установленные лингвистикой факты широко используются историками, литературоведами и представителями других смежных общественных наук. «Нет анализа более точного, чем языковой. В самые смутные вопросы лингвистика нередко вносит математическую прозрачность» [Осетров 1970: 23]. Из множества примеров воспользуемся одним. Так, лингвостатистический анализ был использован в исследовании «Илиады» Гомера. Чтобы доказать, что Гомера не существовало и все 24 песни «Илиады» – по происхождению самостоятельные произведения, соединенные в эпос позднее без особой переработки с целью унификации, была использована статистика отношений внутри синонимических пар (имен собственных, просто лексических пар, формул и т. п.).
По мнению автора исследования Л.С. Клейна, наиболее полные возможности для классификации текстов представляют главные этнонимы греков (ахейцы, данаи и аргивяне): они все три синонимичны, массовы (употребляемость исчисляется сотнями), и они неравномерно и неодинаково распределяются по книгам «Илиады». Окончательно вывод исследователя состоит в том, что разная употребительность имен, а также предлогов и частиц говорит о том, что это (песни. – А.Х.) были не просто и не только источники, а самостоятельные вклады, ставшие составными частями поэмы; сохранность в окончательном тексте первоначально выбранных этнонимов, топонимов, теонимов и служебных слов (и это при наличии других синонимов) говорит о том, что переработка поэтической ткани при объединении самостоятельных песен в поэму была незначительной [Клейн 1998: 18, 96, 112, 436]. Как показано исследователем, фольклорные песни, составленные в разных местах древнегреческого мира, воспевали подвиги разных героев – участников и троянской войны, и прочих мифических кампаний. Песни приспосабливались к ранее существующим сюжетам, взаимопересекаясь, часто противоречили друг другу. «Стыки» разных песен были обнаружены вдумчивым и тонко проведенным анализом.
Слова Гёте «Я уважаю математику как самую возвышенную, полезную науку, поскольку её применяют там, где она уместна, но не могу одобрить, чтобы ею злоупотребляли, применяя её к вещам, которые не входят в её область и которые превращают благородную науку в бессмыслицу», – чрезвычайно актуальны и в наше время – время взаимопроникновения наук.
Дополнительная литература
Арапов MB. Квантитативная лингвистика. – М., 1988.
Арапов М.В., Херц М.М. Математические методы в исторической лингвистике. – М., 1974.
Головин Б.Н. Язык и статистика. – М., 1971.
Журавлев А.Ф. Лексикостатистическое моделирование системы славянского языкового родства. – М., 1994.
Клейн Л.С. Анатомия «Илиады». – СПб., 1998.
Крейдлин Г.Е., Шмелев А.Д. Математика помогает лингвистике: Кн. для учащихся. – М., 1994.
Носенко И.А. Начала статистики для лингвистов. – М., 1981.
От Нестора до Фонвизина: Новые методы определения авторства. – М., 1994.
Пиотровский Р.Г., Бектаев КБ., Пиотровская А.А. Математическая лингвистика. – М., 1977.
Сухотин Б.В. Исследование грамматики числовыми методами. – М., 1990.
Хант Дж. Вычислительная лингвистика в Летнем Институте лингвистики // Вопросы языкознания. 1993. № 6. С. 114–125.
Частотный словарь русского языка / Ред. Л.Н. Засорина. – М., 1977.
Шайкевич А.Я. Дифференциальные частотные словари и изучение языка Достоевского (на примере романа «Идиот») // Слово Достоевского. Сб. статей. – М., 1996. С. 195–253.
Вместо заключения
Наука о языке в системе человеческого знания
Учитель-словесник нередко слышит полувопрос-полуутверждение ученика: «Русский язык – разве это наука? Вот физика, химия…» Действительно, то, что представлено в школьных учебниках по русскому и иностранному языку, трудно назвать наукой, по крайней мере, по внешним признакам. Это, скорее, набор определений, правил, исключений из них, кратких комментариев и упражнений с заданиями. И даже многим хорошим учителям не удаётся переубедить молодого скептика, ибо сам учитель не всегда представляет цели, задачи, теоретические и практические возможности науки о языке, общенаучной и обыденной ценности её. Уважительное отношение обучаемых к лингвистике можно воспитать, осознавая её как важную и интересную область человеческого познания, зная место лингвистики в системе наук и общественной практики.
Познание материального мира не было равномерным. В каждую отдельную эпоху различные науки как составные интеллектуального освоения мира обладали неодинаковой степенью актуальности. Неравномерность развития каждой науки и значительное колебание её престижа в общественном сознании обусловливается различными причинами, главной из которых является развитие производительных сил и производственных отношений.
История лингвистики показывает, как меняется роль науки в различные периоды жизни общества. Сложившись в недрах филологии, языкознание постепенно становится самостоятельной наукой. В XIX в. оно переживает расцвет, питает плодотворными идеями и методами другие науки, усваивая в свою очередь достижения иных областей познания. Времена, когда, по признанию выдающегося лингвиста Е.Д. Поливанова (1881–1938), «в смысле отхода от реальной жизни выбрать своей специальностью лингвистику – это было почти то же, что постричься в монахи», прошли. Лингвистика второй половины XX в. претерпела качественные и количественные изменения, из науки периферийной она стала одной из самых перспективных наук. Сейчас вся наука стала производительной силой. Расширяются области её практического применения.
Сохраняются традиционные точки практического применения лингвистических знаний – преподавание родного и иностранных языков. Без хорошего теоретического осмысления таких проблем, как системный характер языка, связь его с мышлением, соотношение языка и речи, добротной методики преподавания языка не создать. «Самая тонкая и глубокая теория всегда приводит к практике», – заметил известный отечественный учёный А.Л. Чижевский.
Традиционные проблемы перевода с одного языка на другой в эпоху интернационализации жизни становятся ещё более актуальными. Расширяется и совершенствуется словарное дело, создаются новые и новые типы грамматик и учебников по языку. Внимание исследователей привлекают вопросы письменности.
В эпоху научно-технической революции, во времена коренных преобразований в жизни общества особенно актуальным становится так называемый человеческий фактор. Отсюда развитие средств массовой коммуникации и переход на новый виток развития древней науки об ораторском искусстве. Складывается особое направление – экспериментальная риторика, поверяющая тысячелетиями накопленные факты языкового взаимодействия человека и аудитории строгими научными экспериментами и вырабатывающая систему средств речевого воздействия на слушающих.
Эти области практического применения языкознания учащимся хотя бы в общих чертах очевидны и известны, гораздо меньше они знают о нетрадиционном практическом приложении лингвистики.
Несколько десятилетий тому назад словосочетание «инженерная лингвистика «или «кибернетическая лингвистика» вызывало бы удивление даже у языковедов, а в наши дни появление сборников типа «Инженерная лингвистика» представляется закономерным по логике развития и науки вообще, и лингвистики в частности. В задачи прикладного раздела языкознания – инженерной лингвистики – входит решение множества больших и сложных проблем, из которых актуальнейшими являются машинный перевод, общение в системе «человек – машина – человек», оптимизация речевого общения, телеграфия и радиотелефония, информационный поиск и др.
Инженерная лингвистика, которую часто называют прикладным языкознанием, ориентирована на создание промышленных систем, управляемых с помощью естественной речи. Перед ней стоит задача осуществлять диалог человека с ЭВМ на естественном языке и на базе ЭВМ создать информационно-поисковые системы с устным речевым вводом-выводом [Златоустова 1986].
По недавним подсчётам швейцарских журналистов, в мире сейчас издаётся сто тысяч научных и технических журналов. Они публикуют в год два миллиона статей и заметок по разным отраслям знаний. Ежегодно выходит в свет более 10 тыс. научных книг. Прибавим ещё два миллиона экземпляров специальных публикаций типа бюллетеней, отчётов о конференциях и симпозиумах, рефератов. Короче, темпы роста этих изданий – от 5 до 10 % в год. Естественно, что обработка такого количества информации под силу лишь компьютерам с огромным объёмом памяти. Вот почему права гражданства получила вычислительная лингвистика, которая решает вопросы обработки данных в системах с использованием ЭВМ, теоретические и прикладные проблемы, связанные с автоматизацией обработки текстовой информации. С полным основанием профессор МГУ В.А. Звегинцев назвал одну из своих работ «Язык как фактор компьютерной революции». На повестке дня современной науки создание искусственного интеллекта – совокупности средств, которые позволили бы компьютерам, роботам и иным искусственным системам при возникновении некоторой проблемы, требующей решения, строить самостоятельную процедуру, позволяющую разрешить эту проблему. Складывается наука интеллектроника, которая не мыслится без разрешения сложных вопросов лингвистического плана. Сборник «Когнитивная и компьютерная лингвистика» (Казань, 1994) – яркая примета современного языкознания.
Следствием компьютеризации исследовательского процесса стало появление новой научной дисциплины, именуемой корпусной лингвистикой, которая основывается на использовании корпуса, т. е. большого объема языкового материала, извлеченного из разнообразных источников и сведенного в компьютеризованную систему (например, Cobuild Bank of English включает более 500 млн словоупотреблений). У исследователей открывается доступ к большому объему текстов, что позволяет избежать неправомерных обобщений о состоянии языка, которые возможны при работе с ограниченным и разрозненным эмпирическим материалом [Гвишиани, Герви 2001].
Огромный и постоянно пополняющийся массив языкового материала, фиксирующий накопление тех или иных свойств, позволяет увидеть то, что традиционным словарям не под силу. Выясняется, что многие слова и словосочетания имеют тенденцию появляться в определенном семантическом окружении (так, глагол happen, как правило, ассоциируется с неприятными событиями), стало очевидным, что между словами существуют семантические ассоциации, своего рода «семантическое притяжение». Замечено, что каждое слово тяготеет к определенному месту или позиции в составе предложения (так, заурядное слово sixty «шестьдесят» в 2/3 случаев встречается в тематической части предложения, в 71 % контекстов является первым словом в предложении, а в 10 % – первым словом в тексте). Корпусные исследования аргументируют тезис, что семантические и функциональные особенности слов находят отражение в частотности их употребления. Корпусный подход постулирует «фразовость и контекстуальность языка» [Гвишиани, Герви 2001].
Корпусная лингвистика сосредоточила своё внимание на грамматике речи, на грамматике выбора, отражающей установившуюся практику использования слов. Корпусный подход используется и при решении традиционных вопросов, таких, как проблемы разграничения полисемии и омонимии.
Для лингвокультуроведов важным представляется вывод пионеров корпусной лингвистики о том, что она пересекается с когнитивными исследованиями, поскольку большинство речевых решений говорящего продиктовано определенной культурой и зависит от нашего знания и понимания мира. Отсюда вытекает идиоматический принцип языка, под которым понимают специфические и уникальные черты языкового употребления. Эти черты выводятся из привычек, традиций, навыков, норм и стандартов, принятых говорящими в построении. В качестве примера приводится различие французского и немецкого языков: в ряде случаев в немецком представлены три или четыре специальных глагола, соответствующих одному общему наименованию во французском языке [Гвишиани, Герви 2001: 50–51].
Каждая наука обладает своим метаязыком, т. е. совокупностью терминов и других средств, при помощи которых она описывает объект и предмет исследования. Поступательное развитие наук приводит к расширению метаязыка, его терминологии. В некоторых науках (например, органическая химия) количество терминов достигает астрономических размеров. Выработка самих основ и упорядочение существующей терминологии, выявление важнейших тенденций в терминообразовании – задача не только специальных наук, но и лингвистики.
Факты, установленные лингвистикой, и самые её методы начали учитываться в такой новой для неё сфере, как медицина. Это связано прежде всего с необходимостью лечения нарушений работы участков головного мозга, ведающих речью (афазия). Работы крупнейшего отечественного афазиолога А.Р. Лурия свидетельствуют о серьёзном интересе психиатров к глубинным вопросам языкознания. Так, складывается лингвостатистический подход к оценке речевой продукции больных шизофренией, поскольку шизофрения выражается прежде всего в нарушениях личностной сферы, что больше всего заметно в мышлении и языке. Сравнение частотного списка слов в речи больного шизофренией с частотным словарём русской разговорной речи укажет степень отклонения от нормы. В таком случае психиатр ставит диагноз на более объективных данных. Интерес читателя вызовет «Лингвопсихологический учебник здоровья» [Надель-Червинская 1996]. Популярными становятся работы из новой области исследований – нейролингвистического программирования [Известия. 1997. 29 ноября. С. 6].
Специалисты, изучающие измененные состояния сознания – стресс, переутомление, тревоги, страх, волнения, – обратили внимание на то, как меняется речевая деятельность людей при нарушении жизненных стереотипов или резком изменении обстановки. Установлена связь частоты встречаемости отдельных частей речи со степенью эмоциональной устойчивости человека. В состоянии стресса увеличивается число устойчивых словосочетаний, эмоционально значимых слов, растёт число глаголов при уменьшении числа существительных и прилагательных. Выяснилось, что, изучая речь человека, можно предсказать характер и степень глубины измененных состояний сознания во время деятельности человека в необычных условиях. Появилась возможность прогнозирования при массовом отборе людей для работы в сложных условиях.
По данным речи разработан тест для прогноза о характере приспособления испытуемых к необычным условиям существования. С его помощью, например, отбирались участники 28-й Советской Антарктической экспедиции. Этими исследованиями заинтересовались специалисты в области средств массовой информации. Полагают, что можно найти такую эффективную структуру текстов сообщения о надвигающихся природных катастрофах, которая позволяет представить информацию максимально быстро и убедительно, не создавая при этом паники [Спивак 1985]. Небесполезным может стать критическое прочтение переведенной с английского книги Р. Бендлер и Дж. Гриндер «Рефрейминг: Ориентация личности с помощью речевой стратегии» (Воронеж, 1995).
Как сообщает пресса, в Германии с помощью фонетического анализа раскрывается свыше тысячи преступлений в год. Дело в том, что голос человека так же неповторим, как и его отпечатки пальцев. С помощью компьютерной программы голос человека можно расщепить, преобразовать в цифровую форму и представить на экране графически. Оказалось, что звуки речи связаны между собой устойчивыми зависимостями. Так, по интенсивности, с которой был произнесен звук [р], можно вычислить степень твёрдости [т]. Измеряется амплитуда колебаний при гласных звуках, скорость артикуляции, специфический шум дыхания, степень хрипоты – десятки акустических параметров, собранных вместе, придают каждому голосу неповторимую специфику. Изменение голоса столь же бессмысленно, как и попытка избежать опознания с помощью скорченной гримасы [За рубежом. 1993. № 48–49. С. 10]. По сообщению той же прессы, российские спецслужбы тоже активно используют фонетический анализ в борьбе с «телефонным терроризмом». С помощью анализа не только идентифицируется голос, но и выявляется возраст позвонившего, его вес и даже форма лица. Сообщается о разработке нового направления в науке – лингвокриминалистике [АиФ. 2000. № 43. С. 13].
Данные науки о языке широко используются в военном деле. Так, создаётся особый командный язык, который при широком использовании технических средств позволяет в сложнейших условиях ведения боевых действий эффективно осуществлять связь с подразделениями. Данные лингвистики используются также специалистами в области кодирования и дешифровки.
Лингвисты помогают геологам. Так, древний казахский топоним помог значительно пополнить сырьевую базу химической промышленности Казахстана. Геологоразведчики обратили внимание на возвышенность в районе безводного хребта Каратау, которая с незапамятных времен называется Актау (Белая гора). И не ошиблись: она оказалась огромным природным хранилищем известняка. За последнее время разведчики недр подтвердили догадки далёких предков, давших названия урочищам, горам и долинам между Каспийским морем и Алтайским хребтом. Учёные по просьбе геологов продолжают поиск древних топонимов.
Внешне неожиданным выглядит соединение понятий «лингвистика» и «бизнес», но если с вниманием прочесть книгу Т.А. Соболевой и А.В. Суперанской «Товарные знаки» (М., 1986), то откроется мир тонких отношений «человек – слово – товар». Для покупателя машины важны не только колёса, замечают специалисты, но и её имя. Невероятно трудно подыскать имя, которое было бы звучным, соответствовало сути изделия, не было вызывающим и никому при этом не принадлежало. Дело это дорогое, расходы порой достигают 200 тыс. долларов. Проблема похожести имён – торговых марок – предмет частых судебных разбирательств с привлечением экспертов-филологов [Известия. 1993. 22 мая. С. 9].
Здесь приведены лишь отдельные примеры практического приложения достижений языкознания. Дальнейшее изучение языка и речи в их органической связи с мышлением поможет проникнуть в мир человеческой мысли, в механизм порождения речевого процесса. Это сделает возможной оптимизацию речевого общения, а в дальнейшем и управление языком, его процессами.
Последующее развитие лингвистики и других наук обнаружит новые точки соприкосновения её с практикой. Такой точкой может считаться прикладная филология – система филологических дисциплин, которые содержат разработки, непосредственно направленные на совершенствование речевых коммуникаций общества. Главные области прикладной филологии – языковая семиотика, информационное обслуживание и лингвистическая дидактика. Область языковой семиотики – разработка правил оптимизации создания знаков, например, шрифтов, теория графики, орфографии, формулярный анализ текстов, орфоэпия, автоматический синтез речи и автоматическое распознавание речи, автоматизированный перевод.
Под информационным обслуживанием понимается разработка и использование средств передачи, хранения, обработки текстов различного рода. Сюда относится устный речевой этикет, составление письмовников, дипломатика, документоведение, архивное дело, библиотечное дело, теория массовой информации, системы информационного поиска и автоматизированного управления. Лингвистическая дидактика разрабатывает технические средства и правила изучения языков и способствует субъективному освоению культуры через языковые тексты [Рождественский и др. 1987].
Для эпохи научно-технической революции характерны два диалектически связанных процесса – дифференциация и интеграция наук. Познаваемый мир широк и глубок. Проникновение в глубь исследуемого объекта, сосредоточение внимания на том или ином аспекте изучаемых явлений приводит к дроблению наук, их дифференциации. Но единство материального мира, принципиальное единство логической структуры всех – естественных и гуманитарных – наук обусловливают их сближение (интеграцию) и появление многочисленных пограничных научных дисциплин, что также приводит к дифференциации.
В процессе углубления и расширения познания языка лингвистика расчленяется на длинный ряд дисциплин, исследующих различные аспекты языка. С другой стороны, интересы лингвистов совпадают с интересами представителей других наук, и на стыке их возникают специфические разделы знания (например, психолингвистика, этнолингвистика, математическая лингвистика и др.).
По признанию известного генетика, лауреата Нобелевской премии Ф. Жакоба, лингвистика предложила молекулярной генетике совершенную модель. К сожалению, сама генетика пока не внесла ощутимого вклада в прогресс лингвистики, хотя ведутся поиски связи языковой компетенции человека с генетическим уровнем [Жакоб 1992].
Связь лингвистики с кругом исторических дисциплин особенно заметна, когда решаются такие вопросы, как прародина того или иного народа, пути его миграции, утраченные этнические связи и т. п. Так, недавно одним африканским лингвистом было сообщено о разительных совпадениях между японским языком и одним из языков Западной Африки – акан (Гана, Берег Слоновой Кости). Фонетические особенности географических названий (известно, что топонимы очень устойчивы) и собственных имён на языке акан схожи со строем японского языка. Это не простое звуковое совпадение. Фонетически сходные слова в обоих языках имеют одинаковое значение. Само слово акан переводится с японского как «сошедшая с небес божественная роса». Лингвисты поставили перед историками и этнографами поисковую задачу объяснить этот феномен. Этнографы выяснили, что некоторые статуэтки, музыкальные инструменты и предметы народных промыслов африканских народов акан напоминают аналогичные предметы, созданные в древней Японии. Известно, что народы акан оказались в Западной Африке в результате миграции с востока, а родословная японцев уходит корнями в район Индокитая [Известия. 1984. 10 июня].
Лингвисты активно участвуют в решении таких вопросов, как прародина индоевропейцев, в том числе славян, нынешних жителей Индии и т. п. В этих розысках языковые аргументы чаще всего оказываются решающими.
С большим интересом была встречена большая монография Т.В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова «Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры», в которой авторы, используя типологический метод и привлекая данные языков индоевропейской и других семей, сформулировали оригинальную теорию прародины индоевропейцев.
Учёные сопоставили словарь лексики индоевропейцев с данными палеоботаники (раздел палеонтологии, изучающий ископаемые растения), палеозоологии (разделпалеонтологии, изучающий ископаемых животных), экологии, палеографии (историко-филологическая дисциплина, изучающая развитие письменности), археологии, а также с данными дошедшего до нашего времени фольклора. Выяснилось, что в языке прана-рода много слов, означающих высокие горы, скалы, возвышенности, названия южных деревьев, растений, животных, много заимствований из картвельских и семитских языков. Отсюда вывод учёных о том, что прародина индоевропейцев – не Центральная Европа, а Передняя Азия, точнее, районы Малой Азии и Северной Месопотамии.
Язык индоевропейцев свидетельствует, что они разводили домашний скот, выращивали ячмень, пшеницу, лён, виноград, умели делать колесницы, а это, как показывают специалисты, включая археологов, было свойственно тем, кто жил в IV тысячелетии до н. э. в северной Месопотамии.
В наши дни наблюдается бум культурологии. Постепенно в многочисленных работах по теории культуры и истории культур начала утверждаться мысль, давно уже сформулированная лингвистами: изучение истории языка – это глубинное изучение культуры.
Языкознание, вооруженное ЭВМ, может убедительно доказать или опровергнуть авторство того или иного документа. Вот пример из отечественной истории. Известна переписка Ивана Грозного с изменившим ему сподвижником, талантливым военачальником, князем Курбским. Поскольку письма Ивана Грозного переписаны писцом, возникли сомнения историков в авторстве Ивана Грозного: действительно ли на письма Курбского отвечал сам царь? Многие исследователи считали, что ответы написаны известным русским публицистом, современником Ивана Грозного Иваном Пересветовым, и находили аргументы в пользу этой версии. На помощь пришли ЭВМ и методы языкового анализа. Зафиксировав особенности построения фраз, характерные словосочетания, некоторые другие признаки, машина «запоминает» стиль автора и может определить, написан ли данный документ предполагаемым автором. Изучив стиль Ивана Грозного по бесспорным памятникам и проанализировав его тексты писем к Курбскому, машина сообщила: и те и другие документы писцам диктовал один и тот же человек. Подобных «детективных» дел в активе лингвистики немало. В основе успеха лежит историко-лингвистическая работа по подготовке текста для компьютера [Известия. 1985. 21 янв.].
Взаимоотношения науки и практики отличаются диалектическим характером: наука, вторгаясь в ту или иную сферу деятельности человека, вызывает коренные изменения в характере этой деятельности и формирует новые потребности, однако практическая деятельность, в свою очередь, вносит существенные коррективы в проблемы, задачи и методы науки. По словам великого физика Макса Планка, «Наука состоит из жизни, к жизни она и возвращается». Теоретически глубже познавая свой объект и предмет, наука в то же время расширяет сферу практического приложения результатов. Поэтому совсем не случаен одновременный расцвет прикладной лингвистики и теоретического языкознания. Научно-техническая революция заставила лингвистов глубже изучать вопросы сущности теории языка, цели, задачи и перспективы его развития.
История мировой лингвистики свидетельствует, что к активному изучению языка приступают в тех странах, где высок уровень общественного сознания, экономики, культуры и науки в целом; недостатком культуры в США начала XX в. объяснял Э. Сепир непопулярность лингвистических исследований в этой стране.
Итак, на вопрос школьника, является ли языкознание наукой, мы можем и должны ответить утвердительно и при этом воспользоваться возможностью показать любознательному, что язык это не только великий дар человеку, не только уникальное орудие коллективного сотрудничества, теоретического и практического освоения мира, но и благодатная область приложения исследовательских усилий. «Лингвистика не обладает ни размахом, ни инструментальным могуществом математики, не обладает она и универсальным эстетическим очарованием музыки. Однако под её суровой, скучноватой, технической внешностью скрыт тот же классический дух, та же свобода в рамках ограничений, которая одушевляет математику и музыку в их чистейших проявлениях» [Сепир 1993: 258].
Дополнительная литература
Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику: Учебное пособие. – М… 2001.
Использованная и цитируемая литература
Авакян В.А. Гносеологический анализ гипотезы Сепира – Уорфа: Автореф. дисс…. канд. философ, наук. – Ереван, 1972.
Аветян Э.Г. Природа языкового знака. – Ереван, 1968.
Аветян Э.Т. Семиотика и лингвистика. – Ереван, 1989.
Аврорин В.А. Опыт изучения функционального взаимодействия языков у народов Сибири // Вопросы языкознания. 1970. № 1.
Аврорин В.А. Проблемы изучения функциональной стороны языка (к вопросу о предмете социолингвистики). – Л, 1975.
Адамович Г.В. Воспоминания // Знамя. 1988. № 4.
Айтматов Ч. Цена – жизнь // Литературная газета. 1986. 13 авг. С. 4.
Акишина А.А., Кано X., Акишина Т.Е. Жесты и мимика в русской речи: лингвострановедческий словарь. – М., 1991.
Алексеев МП. Многоязычие и литературный процесс // Многоязычие и литературное творчество. – Л., 1984.
Алисова Т.Е. Опыт анализа концептуального мира Данте с позиций современной лингвистики // Вестник МГУ. Серия 9. Филология. 1996. № 6. С. 7–19.
Алпатов В.М. История лингвистических учений. Учебное пособие. 2-е издание, исправленное. – М., 1999. С. 7—53.
Алпатов В.М., Крючкова Т.Е. О мужском и женском вариантах японского языка // Вопросы языкознания. 1980. № 3.
Алпатов В.М. Япония. Язык и общество. – М., 1988.
Алпатов В.М. Об антропоцентричном и системоцентричном подходе к языку // Вопросы языкознания. 1993. № 3.
Алпатов В.М. 150 языков и политика 1917–1997: Социолингвистические проблемы СССР и постсоветского пространства. – М., 1999.
Алпатов В.М. История лингвистических учений. – М., 1999.
Амирова Т.А., Ольховиков Е.А., Рождественский Ю.В. Очерки по истории лингвистики. – М., 1975.
Ананьев Б.Г. Психология чувственного познания. – М., 1966.
Арапов. В. Квантитативная лингвистика. – М., 1988.
Арендт X. Истоки тоталитаризма / Пер. с англ. – М., 1996.
Арно А., Лансло К. Грамматика общая и рациональная Пор-Рояля (1664). – М., 1990.
Арно А., Лансло К. Всеобщая рациональная грамматика (Грамматика Пор-Рояля (1676). – Л., 1991.
Арутюнов О.А., Чебоксаров Н.Н. Передача информации как механизм существования этносоциальных и биологических групп человечества // Расы и народы. – М., 1972. Вып. 2.
Арутюнова Н.Д. Аномалии и язык (К проблеме языковой «картины мира») // Вопросы языкознания. 1987. № 3. С. 6.
Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. – М. 1955.
Балли Ш. Французская стилистика. – М., 1961.
Барт Р. Избранные работы. – М., 1989.
Барт Р. Семиология как приключение // Мировое дерево. Вып. 2. – М., 1993.
Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетика. – М., 1975.
Бахур В. Т. Это неповторимое «я». – М., 1986.
Башкин Е.И. Опыт регулирования языковых отношений в современной Франции: Автореф. дисс…. канд. филол. наук. – Л., 1982.
Белецкий А.А. Генезис и этимология // Проблемы языкознания: Тезисы докладов на X Международный конгресс лингвистов. – М., 1967.
Белоусов В Н., Грыгорян Э.А. Русский язык в межнациональном общении в Российской Федерации и в странах СНГ: (По данным социолингвистических опросов 1990–1995 гг.). – М., 1996.
Белый А. Пушкин, Тютчев и Баратынский в зрительном восприятии природы // Семиотика. – М., 1983. С. 551–556.
Берберова Н. Курсив мой // Серебряный век. – М., 1990.
Бердынских В. Вятлаг. – Киров, 1998.
Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. – М., 1989.
Береговская Э.М. Молодежный сленг: формирование и функционирование // Вопросы языкознания. 1996. № 3. С. 32–41.
Берков В.П. Языковое положение в Норвегии // Ареальные исследования в языкознании и этнографии. – Л., 1983.
Бернал Дж. Науки в истории общества. – М., 1956.
Бырюкова С.К. Словарь культуроведческой лексики русской классики: По литературным произведениям школьной программы. – М., 1999.
Бычакджан Б.Х. Эволюция языка: развитие в свете теории Дарвина // Вопросы языкознания. 1992. № 2.
Блюменшайн Р.Дж., Кавалло Дж. А. Гоминиды-падальники и эволюция человека //В мире науки = Scientific American. – М., 1992. № 11/12.
Богородицкий В.А. Этюды по татарскому и тюркскому языкознанию. – Казань, 1933.
Богушевич Д.Г. Единица, функция, уровень: К проблеме классификации единиц языка. – Минск, 1985.
Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию: В 2-х т. – М., 1963.
Бодуэн де Куртенэ И.А. Об искусственном языке (1905) // Проблемы структурной лингвистики. 1985–1987. – М., 1989.
Бондалетов В.Д. Арготизмы в словарях русского языка. – Рязань, 19876.
Бондалетов В.Д. Социальная лингвистика. – М., 1987.
Бондалетов В.Д. Типология и генезис русских арго. – Рязань, 1987а.
Бондарко А.В. Опыт лингвистической интерпретации соотношения системы и среды // Вопросы языкознания. 1985. № 1.
Бор Н. Атомная физика и человеческое познание. – М., 1961.
Бородина М.А. Проблема консолидации и единства швейцарского народа // Ареальные исследования в языкознании и этнографии. – Л., 1983.
Братусь Б. «Утаенный план сознания» // Знание – сила. 1993. № 8.
Бродский И. Сочинения. Т. 5. – СПб., 1999.
Брутян Г.А. Язык и картина мира // Научные доклады высшей школы. Философские науки. 1973. № 1.
Брутян Г.А. О гипотезе Сепира – Уорфа // Вопросы философии. 1969. № 1.
Будагов Р.А. Система и антисистема в науке о языке // Вопросы языкознания. 1978. № 4.
Будагов Р.А. Что такое развитие и совершенствование языка? – М., 1977. Глава 1.
Буй дин Ми. Взаимоотношения языка, культуры и национальной специфики в познавательной деятельности: Автореф. дисс…. канд. филол. наук. – М., 1973.
Булгаков М. Мастер и Маргарита. – Воронеж, 1987.
Бунин И.А. Окаянные дни. – М., 1990.
Вайлерт А.А. О зависимости количественных показателей единиц языка от пола говорящего лица // Вопросы языкознания. 1976. № 5.
Вандриес Ж. Язык / Пер. с франц. – М., 1937.
Бахтин Н.Б. К типологии языковых ситуаций на Крайнем Севере (предварительные исследования) // Вопросы языкознания. 1992. № 4.
Вежбицкая А. Антитоталитарный язык в Польше // Вопросы языкознания. 1993. № 4.
Верещагин Е.М. Вопросы теории речи и методики преподавания иностранных языков. – М., 1969.
Веселовский А.Н. Историческая поэтика. – Л., 1940.
Ветров А.А. Семиотика и её основные проблемы. – М., 1968.
Вечоркевич Б. Из наблюдений над варшавским говором // Филологические науки. 1969. № 1.
Виноградов В.В. Проблемы культуры речи и некоторые задачи русского языкознания // Вопросы языкознания. 1964. № 3.
Виноградов В.В. Русская речь, её изучение и вопросы речевой культуры // Вопросы языкознания. 1961. № 4.
Виноградов В.А., Коваль А.И., Порхомовский В.Я. Социолингвистическая типология. – М., 1984.
Виноградов В.А. Этнолингвистика // Русский язык. Энциклопедия. – М., 1997. С. 647–649.
Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. – М., 1994.
Вознесенский А. Три бабочки культуры // Красная книга культуры? – М., 1989.
Возникновение и функционирование контактных языков. – М., 1987.
Волошинов В Н. Марксизм и философия языка. – Л, 1928.
Волошинов В Н. Философия и социология гуманитарных наук. – СПб., 1995.
Воронин С.В. Основы фоносемантики. – Л, 1982.
Выготский Л. С. Избранные психологические исследования. – М., 1956.
Гадамер X. – Г. Истина и метод. – М., 1988.
Газов-Гинзбург A.M. Был ли язык изобразителен в своих истоках? – М., 1965.
Гамкрелидзе Т.В. Языковое развитие и предпосылки сравнительно-генетического языкознания // Литература, язык, культура. – М., 1986.
Гамкрелидзе Т.В. P.O. Якобсон и проблема изоморфизма между генетическим кодом и семиотическими системами // Вопросы языкознания. 1988. № 3. С. 5–8.
Гачев Г. Национальные образы мира. – М., 1988.
Гвишиани Н. Б., Герви О. Ю. Корпусная лингвистика и грамматика речи // Вестник МГУ. Серия 9. Филология. 2001. № 2. С. 46–62.
Гегель Г. Сочинения. – М., 1958. Т. 14.
Гегель Г. Сочинения. Энциклопедия философских наук. – М., 1956. Т. 3.
Герд А. С. Языковая политика // Возрождение культуры России: язык и этнос. Вып. 3. – СПб., 1995. С. 6–15.
Герстнер Г. Братья Гримм. – М., 1980.
Герштейн Э. Реплики Ахматовой // Филологические записи!. Вып. 1. – Воронеж, 1993.
Гёте И.В. Максимы и рефлексии // Гёте И.В. Собр. соч.: В 10-ти т. – М., 1980, – Т. 10.
Гладкий А.В., Мельчук И.А. Элементы математической лингвистики. VI.. 1969.
Говорят дети: Словарь детских речевых инноваций. – СПб.: Нива, 1996.
Гоголь Н. В. О том, что такое язык // Собрание сочинений в 8-ми т. – М., 1984. Т. 7. С. 196.
Городецкий Б. Лингвистические аспекты компьютеризации человеческой деятельности // Наука и жизнь. 1987. № 2.
Григорьев В.П. О некоторых вопросах интерлингвистики // Вопросы языкознания. 1966. № 1.
Гринберг Д., Осгуд Ч., Дженкис Д. Меморандум о языковых универсалиях // Новое в лингвистике. Вып. 5. – М., 1970.
Гроссман В. Всё течет // Октябрь. 1989. № 6.
Губанов Н.И. О специфике знака // Философские науки. 1981. № 4.
Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. – М., 1984.
Гурина М. Философия / Пер. с фр. – М., 1998.
Гусейнов Г. Заметки к антропологии русского интернета: особенности языка и литературы сетевых людей // Новое литературное обозрение. 2000. № 43. С. 289–321.
Гусейнов Ч. Два языка, оба – родные // Литературная газета. 1987. 23 сент.
Дамазиу А.Р., Дамазиу А. Мозг и речь //В мире науки = Scientific American. – М., 1992. № 11/12. С. 55–61
Дарбеева А.А. О некоторых вопросах взаимодействия разносистемных языков на уровне говоров // Язык и общество. – М., 1968.
Декарт Р. Избранные произведения. – М., 1950.
Десницкая А.В. Наддиалектные формы устной речи и их роль в истории языка. – Л., 1970.
Десницкая А.В. Об историческом содержании понятия «диалект» // Ленинизм и теоретические проблемы языкознания. – М., 1970а.
Долгих Н.Г. О трех направлениях в разработке метода компонентного анализа применительно к лексическому материалу // НДВШ. Филологические науки. 1974. № 2.
Дольник В. Происхождение человека: Широко известная теория, дошедшая, наконец, до нас // Наука и жизнь. 1993. № 8.
Дон-Аминадо. Поезд на третьем пути. М., 1991
Дранникова Н. В. Материалы к Пинежскому этнодиалектному словарю // Живая старина. 2000 № 1. С. 45–47.
Дубровский Д.И. Существует ли внесловесная мысль? // Вопросы философии. 1977. № 9.
Дуличенко А. Д. О перспективах лингвистики XXI века // Вестник МГУ. Серия 9. Филология. 1996. № 5.
Дьячков М.В. Социально-исторические условия пиджинизации языка // Вопросы социолингвистики. – М., 1986.
Дьячков М.В. Специфика процессов пиджинизации и креолизации языков // Вопросы языкознания. 1988. № 5.
Елистратов B.C. О философском подтексте фонологии // Вестник МГУ. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2000. № 1. С. 30–35.
Ерахтин А.В. Актуалистический метод и его роль в реконструкциях филогенеза мышления, сознания и языка // Диалектика познания и активность сознания. – Иваново, 1985.
Ерахтин А.В. Мышление и язык // Сознание и диалектика познавательной деятельности. – Иваново, 1984.
Ерахтин А.В., Портнов А.Н. О предпосылках возникновения человеческого мышления и языка // Философские науки. 1986. № 1.
Жакоб Ф. Лингвистическая модель в биологии // Вопросы языкознания. 1992. № 2.
Жесты: словарь-справочник. – М., 1995.
Жинкин Н.И. Язык – речь – творчество (Избранные труды). – М., 1998.
Жинкин Н.И. О кодовых переходах во внутренней речи // Вопросы языкознания. 1964. № 6.
Жолъ К.К. Язык как практическое сознание. Киев, 1990.
Журавлев А.П. Звук и смысл. – М., 1981.
Журавлёв А.Ф. Лексикостатистическое моделирование системы славянского языкового родства. – М., 1994.
Журавлёв В.К. Внутренние и внешние факторы языковой эволюции. – М., 1983.
Журавлев В.К. Истоки лингвистического мировоззрения XX века // Язык: теория, история, типология». Эдиториал УРСС. – М., 2000.
Зайцев Б. Далекое. – М., 1991.
Залевская А.А. Введение в психолингвистику. – М., 1999.
Звегинцев В.А. История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. – М., 1964. Ч. I.
Звегинцев В.А. История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. – М., 1965. Ч. II.
Звегинцев В.А. Проблема взаимоотношения языка и мышления и НТР // Вопросы философии. 1977. № 4.
Звегинцев В.А. Искусственный интеллект и лингвистика // Вопросы философии. 1983. № 11.
Звегинцев В.А. Хрестоматия по истории языкознания XIX–XX веков. – М., 1956.
Земская Е.А. Клише новояза и цитация в языке постсоветского общества // Вопросы языкознания. 1996. № 3.
Зиндер Л.Р. Основные фонологические школы // Учёные записки ЛГПИ. Т. 354. Вопросы общего языкознания. – Л., 1967.
Златоустова Л.В. Прикладное языкознание – народному хозяйству // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1986. № 2.
Иваницшй В. Порча языка и невроз пуризма // Знание – сила. 1998. № 9-10. С. 82–90.
Иванов Вяч. Вс. Нейролингвистика // Биологические и кибернетические аспекты речевой деятельности: Сборник обзоров. – М., 1985.
Ивин А.А. Введение в философию истории. – М., 1997.
Ивушкина Т.А. Язык английской аристократии: социально-исторический аспект. – Волгоград, 1997.
Илаич-Свитыч В.М. Опыт сравнения ностратических языков. Сравнительный словарь. [Т. 1–3]. – М., 1971–1984.
Ильенков Э.В. Учись мыслить смолоду. – М., 1977. Глава «Откуда берётся ум».
Исаев М.И. Языковое строительство в СССР. – М., 1979.
Искандер Ф.А. Государственный бокал // Лит. газета. 1992. № 46.
Искандер Ф.А. Сандро из Чегема. – М., 1991. – Т. 2.
Использование ЭВМ в лингвистических исследованиях. – Киев: Наукова думка, 1990.
История лингвистических учений: Средневековая Европа. – Л., 1985.
Калнынь Н.Э. Русские диалекты в современной языковой ситуации и их динамика // Вопросы языкознания. 1997. № 3. С. 115–124.
Капанадзе Л.A. Семейный диалог и семейные номинации // Язык и личность. – М., 1989.
Капинос В.И., Львова С.И. Об интегрированном курсе «Язык и речь» // Русская словесность. 1994. № 4.
Караулов Ю.Н. Русская языковая личность и задачи её изучения // Язык и личность. – М., 1982.
Карташова Е.П. Языковая личность В.В. Розанова в истории русского литературного языка рубежа XIX–XX веков // Язык образования и образование языка. – В. Новгород, 2000. С. 138–139.
Касевич В.Б. Морфонология. – Л., 1986.
Кацнелъсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. – Л., 1972.
Кибрик А.Е. Методика полевых исследований (к постановке проблемы). – М., 1972.
Кибрик А.Е. Порождающая грамматика // ЛЭС. – М., 1998.
Клаус Г. Сила слова. – М., 1967
Кирилина А.В. Тендер: лингвистические аспекты. – М., 1999
Клейн Л.С. Анатомия «Илиады». – СПб., 1998.
Клемперер В. Дайджест] // Поиск. – 1992. № 40. С. 6.
Князева ЕЙ., Курдюмов С.И. Синергетика как новое мировоззрение: диалог с И. Пригожиным // Вопросы философии. 1992. № 12. С. 3—20.
Кодухов В.И. Методология науки и методы лингвистического исследования // Ученые записи! ЛГПИ, т. 354. Вопросы общего языкознания. – Л., 1967.
Кодухов В.И. Методы лингвистического анализа. – Л., 1963.
Кодухов В.И. Общее языкознание. – М.: Высшая школа, 1974.
Комлев Н. Доведет ли язык до Киева? Судьба языкового и общественного союза // Книжное обозрение. 1998. № 35. С. 9.
Кондрашкина Е.А. Язык как фактор интеграции в странах Зарубежного Востока // Народы Азии и Африки. 1986. № 4.
Кондратов Н.А. История лингвистических учений. – М., 1979.
Конецкий В. Среди рифов и мифов. – Л, 1972.
Конрад Н.И. О «языковом существовании» // Японский лингвистический сборник. – М., 1959.
Косериу Э. Синхрония, диахрония и история // Новое в лингвистике. – М., 1963.
Костомаров В.Г. Общее и особенное в развитии языков // Литература, язык, культура. – М., 1986.
Коул М., Скрибнер С. Культура и мышление. – М., 1977.
Кривощёкова-Гантман А. С. К проблеме языковых контактов // Вопросы финно-угроведения. Вып. 5. – Йошкар-Ола, 1970.
Кронгауз М.А. Гипотеза Сепира-Уорфа и конец века // Лингвистика на исходе XX века: итоги и перспективы. – М., 1995. Т. 1. С. 275–276.
Крушевский Н.В. Очерк науки о языке. – Казань, 1883.
Крысин Л.П. О речевом поведении человека в малых социальных общностях (постановка вопроса) // Язык и личность. – М., 1989.
Кубрякова Е.С., Демъянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов. – М., 1996.
Кубрякова Е.С. О типах морфологической членимости слов, квази– морфах и маркерах // Вопросы языкознания. 1970. № 2.
Кубрякова Е. С., Панкрац Ю Г. Морфонология в описании языков. – М., 1983.
Кузьмина И.Б. Синтаксис русских говоров в лингвогеографическом аспекте. – М., 1993.
Кукушкина Е Ю. «Домашний язык» в семье // Язык и личность. – М., 1989.
Курилович Е. Лингвистика и теория знака // Курилович Е. Очерки по лингвистике. – М., 1962.
Кучинский Г.М. Психология внутреннего диалога. – Минск, 1988.
Кюхельбекер В.К. Парижская лекция // Лит. наследство. – М., 1954. – Т. 59.
Лабов У. Единство социолингвистики // Социально-лингвистические исследования. – М., 1976.
Лапшина М.Н. Антифеминизм в языке (на материале семантических сдвигов в значении английских слов) // Вестник СпбГУ. Серия 2. История, языкознание, литературоведение. 1996. № 2. С. 59–65.
Леви-Строс К. Структурная антропология. – М., 1985.
Левицкий В.В. Фонетическая мотивированность слова // Вопросы языкознания. 1994. № 1.
Левицкий В.В. О причинах семантических изменений // Семантические процессы в системе языка. – Воронеж, 1984.
Левицкий В.В., Стернин И.А. Экспериментальные методы в семасиологии. – Воронеж, 1989.
Ленин В.И. Полное собрание сочинений:
Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1975.
Леонтьев А.Н. Мышление // Вопросы философии. 1964. № 4.
Лингвистика на исходе XX века: Итоги и перспективы: Тезисы Международной конференции. Т. 1–2. – М., 1995.
Литвин Ф.А. Почему шум? // Язык и коммуникация: изучение и обучение. Вып. 2. – Орел, 1998.
Лихачёв Д.С. Заметки о русском // Новый мир. 1980. № 3.
Лихачев Д.С. Литература – Реальность – Литература. – Л., 1981.
Ломтев Т.П. Общее и русское языкознание. – М., 1976.
Лосев А.Ф. Введение в общую теорию языковых моделей. – М., 1968.
Лосев А. Ф. О пределах применимости математических методов в языкознании //Лосев А.Ф. Языковая структура. – М., 1983.
Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Лосев А.Ф. Из ранних произведений. – М., 1990.
Лотман ЮМ. «Нам всё необходимо. Лишнего в мире нет…» // Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. – М., 1994.
Лоя Я.В. История лингвистических учений. – М., 1968.
Лукин В.А. Некоторые проблемы и перспективы компонентного анализа // Вопросы языкознания. 1985. № 3.
Лурия А.Р. Основные проблемы нейролингвистики. – М., 1975.
Лурия А.Р. Язык и мозг // Вопросы психологии. 1971. № 1.
Лурия А.Р., Юдович Ф.Я. Речь и развитие психических процессов у ребёнка. – М., 1956.
Лурье С. Антропологи ищут национальный характер // Знание – сила. 1994. № 3.
Лысенкова Е.Л. Языковая личность P.M. Рильке: генезис и эволюция // Язык образования и образование языка. – В. Новгород, 2000. С. 191.
Макаев Э.А. Понятие давления системы и иерархия языковых единиц // Вопросы языкознания. 1962. № 5.
Макаров В.И. «Такого не бысть на Руси преже…»: Повесть об академике А.А. Шахматове. – СПб., 2000.
Маковский М.М. Взаимодействие ареальных вариантов «слэнга» и их соотношение с языковым «стандартом» // Вопросы языкознания. 1963. № 5.
Мальцева Р.И. Словарь молодежного жаргона. – Краснодар, 1998.
Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. – М., 1990.
Мамардашвили МК. Язык и культура // Вестник высшей школы. – М.
Мамардашвили М.К. Язык и культура // Вестник высшей школы. VI.. 1991. № 3.
Мамардашвили М.К. Язык осуществившейся утопии // Мамардашвили М.К. Необходимость себя. – М., 1996.
Мандельштам О. Слово и культура. – М., 1987.
Манин Ю.И. К проблеме ранних стадий речи и сознания (филогенез) // Интеллектуальные процессы и их моделирование. – М., 1987.
Манн Т. Иосиф и его братья. – М., 1987.
Манн Т. Собр. соч.: В 10 т. – М., 1960. Т. 9.
Маркс К, Энгельс Ф. Соч. Т. 20.
Мартине А. Основы общей лингвистики // Новое в лингвистике. Вып. III. – М., 1963.
Мартынов А. Исповедимый путь. – М., 1989.
Маслов Ю.С. Введение в языкознание. – М., 1975. С. 175–181.
Маслов Ю. С. Об основных и промежуточных ярусах в структуре языка // Вопросы языкознания. 1968. № 4.
Мейе А. Сравнительный метод в историческом языкознании. – М., 1954.
Мельников Г.П. Системная лингвистика и её отношение к структурной // Проблемы языкознания. Доклады на X Международном конгрессе лингвистов. – М., 1967.
Мельничук А. С. Понятие системы и структуры языка в свете диалектического материализма // Ленинизм и теоретические проблемы языкознания. – М., 1970.
Меновщиков Г.А. К вопросу о проницаемости грамматического строя языка // Вопросы языкознания. 1969. № 5.
Миллер Е.Н. К определению языка // Вопросы языкознания. 1987. № 3.
Мкртчян Л. Русский язык и общий дом // Поиск. 2000. № 14. С. 14.
Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Толковый словарь языка Совдепии. – СПб., 1998.
Моль А. Социодинамика культуры. – М., 1973.
Морковкин В.В. Опыт идеографического описания лексики. М., 1977.
Морозов В.П. Акустический язык эмоций в жизни и науке // Язык эмоций, мозг и компьютер. – М., 1989.
Морозова Н.Г. О «безъязычных глухонемых» и об овладении ими словесной речью // Вопросы языкознания. – 1963. № 3.
Моррис Ч. Основания теории знаков // Семиотика. – М., 1983.
Мостепаненко В.М. Философия и методы научного познания. – Л., 1972.
Мустайоки А. О предмете и цели лингвистического исследования // Язык: система и функционирование. – М., 1988.
Мыркин В.П. Некоторые вопросы понятия речи в корреляции: язык – речь // Вопросы языкознания. 1970. № 1.
Мясников Л.Н. Общий язык в утопии // Человек. 1999. № 4. С. 158–166; № 5. С. 151–159.
Набоков В. Другие берега // Собр. соч.: В 4-х т. – М., 1990. Т. 4.
Надель-Червинская М.А. и др. Лингвопсихологический учебник здоровья. – Ростов-на-Дону, 1996.
Национально – культурная специфика речевого поведения. М., 1977.
Нерознак В.П. Современная этноязыковая ситуация в России // Известия РАН. Серия литературы и языка. 1994. Т. 53, № 2.
Нерознак В Н. О границах типологического анализа языков // Литература. Язык. Культура. – М., 1986.
Николаева Т.М. Диахрония или эволюция? (Об одной тенденции развития языка) // Вопросы языкознания. 1991. № 2.
Николаева Т.М. Теории происхождения языка и его эволюции – новое направление в современном языкознании // Вопросы языкознания. 1996. № 2.
Никольский Л.Б. Языковая политика как форма сознательного воздействия общества на языковое развитие // Язык и общество. – М., 1968.
Никонов В.А. География фамилий. – М., 1988.
Новейший философский словарь. – Минск, 1998.
Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. XXI. Новое в современной индоевропеистике. – М., 1998.
Новое в лингвистике. Вып. 1. – М., 1960.
Норман Б.Ю. Грамматика говорящего. – Спб., 1994.
Общее языкознание: внутренняя структура языка. – М.,1972.
Общее языкознание: Методы лингвистических исследований. – М., 1973.
Общее языкознание: формы существования, функции, история языка. – М., 1970.
Овсянико-Куликовский Д.Н. О значении научного языкознания для психологии мысли // Овсянико-Куликовский Д.Н. Литературно-критические работы. – М., 1989. Т. 1.
Овчинников В. Корни дуба // Новый мир. 1979. № 5. С. 226.
Орлов Л.М. О социальных типах современного территориального говора // Язык и общество. – М., 1968.
Ортега-и-Гассет X. Нищета и блеск перевода // Ортега-и-Гассет X. Что такое философия? – М., 1991.
Оруэлл Дж. «1984» и эссе разных лет. – М., 1982.
Осетров Евг. Живая Древняя Русь. – М., 1970.
Оссовецкий И.А. Лексика современных русских народных говоров. – М., 1982.
Павлов И.П. Лекции по физиологии. – М., 1952.
Павлова НД. Семантика речи в различных условиях общения // Психологические и психофизиологические исследования речи. – М., 1985.
Пазухин Р.В. К определению универсального кода // Вопросы языкознания. 1969. № 5. С. 57 (сноска).
Панов Д.А. Общее языкознание. – Пермь, 1973.
Панов М.В. Московская лингвистическая школа (МЛШ). 100 лет» // Русистика сегодня. 1995. № 3.
Панов М.В. О причинах фонетических изменений // Влияние социальных факторов на функционирование и развитие языка. – М., 1988
Панфилов В.З. О гносеологических аспектах проблемы языкового знака // Вопросы языкознания. 1977. № 2.
Парандовский Я. Алхимия слова. – М., 1972.
Патрушев Г. С. К вопросу о русско-марийских языковых контактах // Вопросы финно-угроведения. Вып. 5. – Йошкар-Ола, 1970.
Пенг Ф. Сопоставление социолингвистики и нейролингвитики: к теории соционейролингвистики // Концептуализация и смысл. – Новосибирск, 1990 (пер. с англ.).
Перетрухин В.П. Введение в языкознание (Курс лекций). – Белгород, 1968.
Петренко В.Ф. Экспериментальная психосемантика: исследование форм репрезентации в обыденном сознании. – М., 1983.
Пиз А. Язык телодвижений: Как читать мысли других людей по их жестам / Пер. с англ. – Н. Новгород, 1993.
Пильх Г. Язык или языки? Предмет изучения лингвиста // Вопросы языкознания. 1994. № 2. С. 5—28.
Плотников Б.А. О форме и содержании в языке. – Минск, 1989.
Подолянюк И. Говорит человек из Тотавеля // Известия. 1986. 4 авг. С. 5.
Полани М. Личностное знание. – М., 1985.
Поливанов Е.Д. По поводу «звуковых жестов» японского языка // Поливанов ЕД. Статьи по общему языкознанию. – М., 1968.
Поливанов Е.Д. И математика может быть полезной // Поливанов Е.Д. Статьи по общему языкознанию. – М., 1968. С. 287–294.
Пономарёв Л.И. Под знаком кванта. – М., 1989.
Попов М.П. Циолковский об эсперанто // Циолковский в воспоминаниях современников. – Тула, 1971.
Постовалова В.И. Лингвокультурология в свете антропологической парадигмы (к проблеме оснований и границ современной фразеологии) // Фразеология в контексте культуры. – М., 1999. С. 25–33.
Потебня А.А. Из записок по теории словесности. – Харьков, 1905.
Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Т. 1–2. – М., 1958.
Потебня А.А. Слово и миф. – М., 1989.
Поэзия и проза древнего Востока. – М., 1973.
Правоторов ТВ. Зоопсихология для гуманитариев: Учебное пособие. – Новосибирск, 2001.
Пражский лингвистический кружок. – М., 1967.
Принципы и методы лексикологии как социолингвистической дисциплины. – М., 1971.
Пришвин М.М. Дневники. – М., 1990.
Проблемы интерлингвистики. – М., 1976.
Пронников В.А., Ладанов И.А. Японцы: Этнопсихологические очерки. – М., 1985.
Радченко О.А. Лингвистические опыты В. фон Гумбольдта и постгумбольдтианство // Вопросы языкознания. 2001. № 3.
Раев М. Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции 1919–1939. – М., 1994.
Рамишвили Г.В. Языкознание в кругу наук о человеке // Вопросы философии. 1981. № 6.
Распопов И.П. Современные методы синтаксических исследований. – Воронеж, 1970.
Рерих Н. Глаз добрый // Мир через культуру. – М., 1990.
Рерих Н. Книга большого пути // Студенческий меридиан. 1987. № 9.
Реформатский А.А. Из истории отечественной фонологии. – М., 1970.
Рождественский Ю.В., Волков А.А., Марчук Ю.Н. Введение в прикладную филологию: языковая семантика. – М., 1987.
Розанов В.В. Опавшие листья. – М., 1990.
Розанов В.В. Опавшие листья. – М., 1991.
Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2-х т. – М., 1989.
Рубинштейн С.Л. К психологии речи // Рубинштейн С.Д. Проблемы общей психологии. – М., 1973.
Рузин И.Г. Природные звуки в семантике языка (Когнитивные стратегии именования) //Вопросы языкознания. 1993. № 6.
Русановский В.М. Культура и язык // Современные славянские культуры. – Киев, 1982.
Русинов Н.Д. Математические методы лингвистики и преподавание вузовских дисциплин цикла «Русское языкознание» // Спорные вопросы русского языкознания. – Л, 1983.
Русская разговорная речь. – М., 1973.
Русский язык и советское общество. Лексика современного русского литературного языка. – М., 1968.
Русский язык: Энциклопедия. – М., 1979. С. 327 (формулировка Макаева Э.А.).
Савинов М. Народная этимология на почве языка русского // Русский филологический вестник. 1889. Т. 21. № 1. С. 55.
Савченко А.Н. Лингвистика речи // Вопросы языкознания. 1986. № 3.
Селъе Г. От мечты к открытию. М., 1987.
Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М., 1993.
Серебренников Б.А. Вероятностные обоснования в компаративистике. – М., 1974.
Серебренников Б.А. Об относительной самостоятельности развития системы языка. – М., 1968.
Серебренников Б.А. Следует ли пренебрегать законами лингвотехники? // Литература, язык, культура. – М., 1986.
Сеченов И.М. Избранные произведения. – М., 1952. Т. I.
Сифоров В.И., Канделаки Т.Л. Методологические аспекты терминологической работы Комитета научно-технической терминологии АН СССР // Вопросы языкознания. 1983. № 2.
Скаличка В. О современном состоянии типологии // Новое в лингвистике. Вып. 3. – М., 1963.
Скворцов Л.И. Язык, общение и культура (Экология и язык) // РЯШ. 1994. № 1.
Слобин Д.И. Когнитивные предпосылки развития грамматики // Психолингвистика. – М., 1994.
Слюсарева Н.А. Лингвистический анализ по непосредственно составляющим // Вопросы языкознания. 1960. № 6.
Смолина К.П. Компонентный анализ и семантическая реконструкция в истории слова // Вопросы языкознания. 1986. № 4.
Соколов А.Н. Внутренняя речь и мышление. – М., 1968
Солнцев В.М. Язык как системно-структурное образование. – М., 1971
Солнцев В.М. Языковой знак и его свойства // Вопросы языкознания. 1977. № 2.
Солнцев В.М. О понятии уровня языковой системы // Вопросы языкознания. – 1973. № 3.
Соловьёв В. Национальный вопрос в России // Соловьёв В. Соч.: В 2-х т. – М., 1989. Т. 1.
Соловьёв В. С. О русском языке // Соловьёв B.C. Литературная критика. – М., 1990.
Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. – М., 1933.
Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики // Соссюр Ф де. Труды по языкознанию. – М., 1977.
Спивак Д.Л. Лингвистика измененных состояний сознания: проблемы и перспективы // Вопросы языкознания. 1985. № 1.
Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. – М., 1972.
Срезневский И.И. Мысли об истории русского языка. – М., 1959.
Стеблин-Каменский М.И. Возможно ли планирование языкового развития? (Норвежское языковое движение в тупике) // Вопросы языкознания. 1968. № 3.
Степанов Г.В. Язык. Литература. Поэтика. – М., 1988.
Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры: Опыт исследования. – М.: Языки русской культуры, 1997.
Степанов Ю.С. Основы общего языкознания. – М., 1975.
Степанов Ю.С. Основы языкознания. – М., 1966
Степанов Ю.С. Семиотика. – М., 1971..
Степанов Ю.С. В мире семиотики // Семиотика. – М., 1983.
Стернин И.А. Общественные процессы и развитие современного русского языка. – Пермь – Воронеж, 1998.
Стернин И.А. // Язык и коммуникация: изучение и обучение. – Вып. 2. – Орел, 1998.
Стинглъ. По Меланезии без переводчика // Вокруг света. 1972. № 2.
Сухачев Н.Л. Лингвистические атласы: Аннотированный библиографический указатель. – Л., 1984.
Тагор Р. Прекрасное и литература // Собр. соч.: В 12-ти т. – М., 1965. Т. 11.
Твен М. Собрание соч.: В 12-ти т. – М., 1961. Т. 12.
Тимофеев В.П. Диалектный словарь личности. Шадринск, 1971.
Тихонов А. И. Морфема как значимая часть слова // Филологические науки. 1971. № 6.
Толстой А.Н. Собр. соч.: В 8-ми т. – М., 1972. – Т. 1.
Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 22-ти томах. Т. 21. – М., 1985.
Толстой Н.И. Некоторые проблемы и перспективы славянской и общей этнолингвистики // Известия АН СССР. Серия лит. и языка. 1982. № 5.
Томсен В. История языковедения до конца XIX века. – М., 1938.
Торопцев И. С. Язык и речь. – Воронеж, 1985.
Трубецкой Е.Н. Старый и новый национальный мессианизм // Новый мир. 1990. № 7.
Трубецкой Н.С. Основы фонологии. – М., 1964.
Трубецкой С.Н. Вавилонская башня и смешение языков // Трубецкой С.Н. История. Культура. Язык. – М., 1995. С. 327–338.
Тулдава Ю.А. Проблемы и методы квантитативно-системного исследования лексики. – Тарту. 1987.
Турбин В. Импровизации // Русская словесность. 1996. № 3.
Тургенев И. С. С.А. Венгерову. 25 мая (6 июня) 1875 // Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. – М., 1966. Т. 11.
Уайтхед А.Н. Избранные работы по философии / Пер. с англ. – М., 1990.
Успенский Б.А. Структурная типология языков. – М., 1965.
УфимцеваА.А. Проблемы системной организации лексики. – М., 1970.
Ушинский К. Д. Родное слово // Ушинский К.Д. Избранные педагогические произведения. – М., 1968.
Файгенберг Е.И., Асмолов А.Т. Некоторые аспекты исследования невербальной коммуникации: за порогом рациональности // Психологический журнал. 1989. Т. 10, № 6.
Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. – М., 1986.
Филин Ф.П. Современное общественное развитие и проблема двуязычия // Проблемы двуязычия и многоязычия. – М., 1972.
Филин Ф.П. К проблеме социальной обусловленности языка // Вопросы языкознания. 1966. № 4.
Филичёва Н.И. Языковая общность как лингвистическое понятие // Вопросы языкознания. 1985. № 6.
Флоренский И.А. У водоразделов мысли. – М., 1990. – Т. 2.
Фонин Д. С. Еще раз о фонеме (ы) в русском языке // РЯШ. 1994. № 6. С. 50–55.
Фортунатов Ф.Ф. Избранные труды. Т. 1. – М., 1956.
Фрумкина P.M. Самосознание лингвистики – вчера и завтра // Известия АН. Серия лит. и языка. 1999. Т. 58, № 4. С. 28–38.
Фуко М. Археология знания / Пер. с фр. – Киев, 1996.
Халмурзаев Т. Урду и хинди в колониальный период // Народы Азии и Африки. 1982. № 2.
Хан-Пира Эр. Привносит ли лексиколог системность в лексику? // Русская речь. 1999. № 2. С. 47–52.
Хант Дж. Вычислительная лингвистика в Летнем Институте лингвистики // Вопросы языкознания. 1993. № 6.
Хигир Б. Имя, талант, власть! – СПб., 1999.
Хроленко А. Т. Говорим словами – беседуем телом // Ученые записки РОСИ. выпуск 4. – Курск 1999. С. 45–58.
Хроленко А. Т. Лингвокультуроведение. – Курск: Изд-во ГУИПП «Курск», 2000.
Цвейг С. Борьба с демоном. – М., 1992.
Цейтлин С. Жил король со своей королицей // Наука и жизнь. 1976. № 7.
Чемоданов Н. С. Проблемы социолингвистики в современном языкознании // Новое в лингвистике: Вып. VII: Социолингвистика. – М., 1975.
Ченки А. Современные когнитивные подходы к семантике: сходства и различия в теориях и целях // Вопросы языкознания. 1996. № 2. С. 68–78.
Чужое: опыты преодоления. Очерки из истории культуры Средиземноморья. – М., 1999.
Чуковский К.И. Дневник // Новый мир. 1990. № 7.
Чурганова В.Г. Очерки русской морфонологии. – М., 1973.
Шагалъ В.Э. Арабские страны: язык и общество. – М., 1998.
Шагалъ В.Э. Миграционные процессы на арабском Востоке и этнолингвистическая ситуация // Народы Азии и Африки. 1984. № 5.
Шагалъ В.Э. Языковой аспект национальных процессов в арабских странах. – М., 1987.
Шкловский В. Конвенция времени // Вопросы литературы. 1969. № 3.
Шмелёв А.Г. Введение в экспериментальную психосемантику: Теоретике-методологические основания и психодиагностические возможности. – М., 1983.
Шмурак Ю.И. Пренатальная общность //Человек. 1993. № 6.
Шоу Б. Избранное. – М., 1953.
Шпенглер О. Закат Европы. – Новосибирск, 1993.
Шпет Г.Г. Введение в этническую психологию // Шпет Г.Г. Сочинения. – М., 1989.
Шукуров Э.Д. Концепция дополнительности и проблема генезиса общения // Вопросы философии. 1972. № 4.
Щерба Л.В. Литературный язык и пути его развития // Щерба Л.B. Избранные работы по русскому языку. – М., 1957.
Щерба Л.В. О понятии смешения языков // Щерба Л.B. Языковая система и речевая деятельность. – Л., 1974.
Щерба Л. В. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании // Щерба Л.B. Языковая система и речевая деятельность. – Л., 1974.
Щур Г. С. Теория поля в лингвистике. – М., 1974.
Энциклопедический словарь юного филолога. – М., 1984.
Юганов И., Юганова Ф. Словарь русского сленга (Сленговые слова и выражения 60—90-х годов). – М., 1997.
Язык и личность. – М., 1989.
Язык и структура представления знаний. Сборник научно-автоматических обзоров. – М., 1992.
Язык: теория, история, типология. – М., 2000.
Якобсон Р. В поисках сущности языка // Семиотика. – М., 1983.
Якобсон Р. К языковой проблематике сознания и бессознательности // Бессознательное: природа, функции, методы исследования. Том 3. – Тбилиси, 1978.
Якубинский Л.П. О снижении высокого стиля у Ленина // ЛЕФ. 1924. № 9.
Якушин Б.В. Гипотезы о происхождении языка. – М., 1985.
Ярцева В Н. Теория и практика сопоставительного исследования языков // Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. 1986. Т. 45. № 6.
Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991.
ЛЭС — Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990.
ФЭС — Философский энциклопедический словарь. – 2-е изд. – М., 1987
ЭРЯ — Энциклопедия русский язык. – 2-е изд. – М., 1997






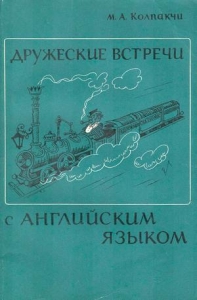

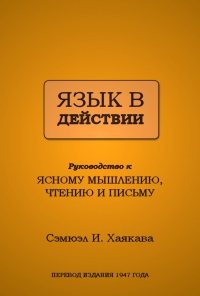
Комментарии к книге «Теория языка: учебное пособие», Александр Тимофеевич Хроленко
Всего 0 комментариев