Русская литература XIX века. 1880–1890: учебное пособие
Россия 80—90-х годов
Характер эпохи 80—90-х гг. определился царствованием Александра III, которое пришлось на 1881–1894 гг. Бурная эпоха правления Александра II, с её реформами, надеждами на обновление жизни и бесконечными покушениями на царя, завершившимися в итоге его гибелью, сменилась совсем иным временем.
Трудно однозначно оценить политику ограничения общественных свобод. Демократическая история западной государственности с большим трудом проецируется на Россию, да и путь либерализма, пройденный ведущими европейскими странами и США, был значительно длиннее. Кажется, что национальное призвание русского народа не соответствует западным цивилизаторским, культурным устремлениям. Русской душе нужно нечто иное. Данную особенность формулировали многие русские мыслители, сталкиваясь с тайной России. Достаточно вспомнить знаменитый историософский афоризм Тютчева: «Умом Россию не понять, / Аршином общим не измерить. / У ней особенная стать – / В Россию можно только верить». Этот интуитивный пассаж М. Волошин в поэме 1924 г. «Россия», оглядываясь назад, формулирует в форме исторического парадокса, основанного на особенностях национального характера: «В анархии – всё творчество России: / Европа шла культурою огня, / А мы в себе несём культуру взрыва». Возможно, если бы не контрреформы Александра III, кровавая катастрофа революции разразилась раньше.
Политика Александра III существенно отличалась от самодержавия 50—70-х гг. с его либеральным духом. Достаточно назвать лишь главные реформы предшествующего периода, чтобы почувствовать эмоциональный накал, который охватил общество в то время: отмена многовекового крепостного права в 1861; введение земского самоуправления в 1864; городского – в 1870; осуществление судебной реформы в 1864; демократизация образования 1863–1864 гг., реформа печати в 1865. Вероятно, необходимо было время для воспитания поколений, выросших в условиях гражданских свобод, подобно тому как библейский Моисей 40 лет ожидал смены поколения в избранном народе, чтобы был забыт рабский дух. Освобождённый раб часто теряет разум от хмеля свободы. Тот же Волошин в стихотворении 1923 г. «Благословенье» так выражает эту антиномию русской души периода социальных перемен: «На подвиг встанешь жертвенной любви? / Очнёшься пьяной по плечи в крови».
Александр III был мало похож на отца. Воспитанный В. А. Жуковским, Александр II отличался изысканными манерами, прекрасным образованием. В личных отношениях был мягок и добр. Проведение же революции сверху требовало личных качеств Петра Великого, который при всех своих европейских нововведениях оставался подлинным русским самодержцем-деспотом.
Таким «народным» царем отчасти стал и Александр III. По воспоминаниям С.Ю. Витте, он «походил на большого русского мужика из центральных губерний, к нему больше всего подошел бы костюм: полушубок, поддёвка и лапти… он не был красив, по манерам был скорее более или менее медвежатый…». Свою неожиданную власть (законный наследник – старший брат Николай Александрович – умер от туберкулеза в 22 года) он воспринял как миссию спасения России от хаоса.
Либеральное правительство Александра II сменили министры охранительно-консервативной направленности: Д.А. Толстой, К.П. Победоносцев, С.Г. Строганов, В.П. Мещерский, ставший советником царя. Либеральный проект министра внутренних дел, графа М.Т. Лорис-Меликова, предлагавшего введение общероссийского представительного органа в духе европейских парламентов, был отклонен. Идеологом новой власти стал К.П. Победоносцев. В подготовленном им манифесте 20 апреля 1881 г. подчеркивалась решимость «стать бодро на дело правления, с верою в силу и истину самодержавной власти», которую император призван «утверждать и охранять» для народного блага.
«Наведение порядка» началось с принятия 14 августа 1881 г. «Распоряжения о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия и приведении определенных местностей империи в состояние усиленной охраны». Согласно этому документу любая местная власть могла быть объявлена на чрезвычайном положении и каждый житель подвергнут аресту, предан военному суду или даже сослан без суда на пять лет. Администрация могла закрывать учебные заведения, торговые и промышленные предприятия, приостанавливать деятельность земств и городских дум, закрывать органы печати. Изданное как «временное» (на три года) распоряжение фактически действовало вплоть до 1917 г.
В 1890 г. было принято «Положение о губерниях и уездных земских учреждениях». Оно привело к преобразованию земских учреждений, начатому после реформы 1864 г. Предполагалось, что земство будет строиться на основе народного представительства и его органы смогут решать вопросы местного самоуправления. Согласно новому положению деятельность земства перестраивалась. Дворянство получило возможность формировать большую часть земских деятелей – гласных. Имущественный ценз для депутатов понижался в пользу дворянства и повышался для недворянских сословий. Крестьяне вообще лишались возможности напрямую выбирать гласных. Вновь избранных утверждал губернатор, что ставило орган самоуправления под жёсткий контроль государственного чиновника. Суть положения 1890 г. состояла в том, чтобы свести на нет участие в местных органах власти нежелательных людей, в особенности недворянского происхождения. Дворянство снова становилось главной опорой самодержавия.
Городского самоуправления коснулись те же меры. По новому положению 1892 г. повышался имущественный ценз, дающий право участвовать в выборах. Исключалась статья о том, что городские думы и управы действуют самостоятельно. Правительство получало право не утверждать вновь избранного председателя городской думы. Реальной властью в городах по-прежнему владел начальник полиции – пресловутый городничий.
Судебная контрреформа в целом не затронула систему, утверждённую в 1864 г. Суд присяжных по-прежнему оставался соревновательным и гласным. Однако информация по политическим делам ограничивалась, публикация судебных отчетов запрещалась. Кроме того, из ведения суда присяжных изымались псе дела о насильственных действиях против представителей власти. Так называемые мировые суды, занимавшиеся решением спорных вопросов между крестьянами и помещиками, в большинстве своем были ликвидированы. Они действовали только в Москве, Петербурге и Одессе. Однако и здесь прежние мировые судьи заменялись на участковых земских начальников, должности которых занимали исключительно дворяне с высоким имущественным цензом. Если мировой судья по самому определению стремился к примирению конфликтующих сторон, учитывая интересы обоих в достижении компромисса, то участковый чиновник решал все вопросы единолично, считаясь лишь с мнением местной администрации из дворян.
В 1884 г. был принят новый университетский устав. Он имел целенаправленное охранительное содержание, ведь именно университеты заслуженно считались источником вольнодумства и революционных идей. Студенческая молодёжь была наиболее радикальным слоем общественного движения 60—70-х гг. (тип такого радикального студента, в частности, воплотил Достоевский в образе Раскольникова, обозначив лишь более глубокий философско-психологический аспект его борьбы за справедливость). Новый устав упразднял автономию университетов, запрещал любые студенческие объединения, ликвидировал студенческий суд. Преподаватели, избранные учёными советами, проверялись на благонадежность и утверждались в министерстве просвещения. Управление университетами сосредоточилось в руках попечителя учебного округа, государственного чиновника, который назначал деканов (ранее это была выборная должность). Попечитель обладал правом административного воздействия на руководство университета. Он мог созывать учёный совет, контролировать его деятельность, наблюдать за преподаванием. Ограничивались льготы по призыву на военную службу, минимальный срок службы в армии увеличивался. Нравственный долг «служения» интеллигенции народу заменялся долгом «службы» государству.
Контрреформы существенно коснулись среднего образования. Министр народного просвещения граф И.Д. Делянов (1818–1897) разработал известный циркуляр «о кухаркиных детях», согласно которому ограничивался сословный состав ! средней школы. Детей «кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей… за исключением разве одаренных необыкновенными способностями, вовсе не следует выводить из среды, к коей они принадлежат». Понятно, что «гениальные способности» определялись самим школьным начальством. Ограничивался набор в средние и высшие учебные заведения и для лиц еврейской национальности. Хотя каких-либо реальных последствий охранительный циркуляр Делянова все-таки не получил, он определил ту нравственную атмосферу бессознательного страха, которую А. П. Чехов выразил в словах учителя древних языков Беликова: «Как бы чего не вышло».
Уже в 70-е гг. все гимназии были превращены в классические. Решающее значение в воспитании гимназистов здесь уделялось верноподданнической идеологии. Вместо современности в программах на первый план выдвигалась древность. Поступить в университет могли только выпускники классических гимназий.
В 1885 г. были введены стеснительные правила сдачи университетских экзаменов. Как «существенное средство» надзора за студентами вновь вводилась форменная одежда. Увеличилась плата за обучение – с 10 до 50 рублей в год, для того времени значительная сумма. Реальные училища были преобразованы в технические школы, после их окончания поступать в университет было нельзя. В 1882–1883 гг. было закрыто большинство высших женских курсов, тем самым фактически ликвидировалось высшее женское образование.
Меры правительства в области просвещения затрагивали значительную часть российской молодежи, что вызвало ряд студенческих волнений в 1887–1893 гг.
Охранительные мероприятия, помимо образования, конечно же, затронули сферу печати. В 1882 г. был принят документ «Временные правила о печати», устанавливающий полный контроль над издательской и публицистической деятельностью. При этом «временные» правила стали постоянными. Согласно постановлению, администрация имела право закрывать любые газеты и журналы, лишать издателей и редакторов юридического и коммерческого права на продолжение своей деятельности в будущем. По требованию полиции редакторы были обязаны раскрывать псевдонимы авторов. Ужесточались цензурные запреты.
В 1884 г. в соответствии с новым положением был закрыт оппозиционный журнал «Отечественные записки», редактором которого был М.Е. Салтыков-Щедрин. Перестали выходить и другие издания критической направленности: «Дело» Н.В. Шелгунова, либеральные газеты «Голос», «Земство», «Страна», «Московский телеграф».
Главным проправительственными органами печати становятся газеты «Московские ведомости» М.Н. Каткова и «Новое время» А.С. Суворина. В 1881 г. правительство стало издавать дешёвую массовую газету «Сельский вестник», в которой пропагандировалась верноподданническая идеология. Активно внедрялась бульварная пресса. Так, рассчитанный на городского обывателя «Московский листок», выходивший с 1881 г., публиковал скандальные материалы о быте и выходках купцов, романы о знаменитых разбойниках и т. п. Подобные издания должны были отвлечь читателя от острых вопросов общественно-политического характера. Важную роль в формировании консервативной публицистики сыграл М.Н. Катков. После либерального периода деятельности он занял противоположную позицию. Пользуясь большим авторитетом как дальновидный и талантливый публицист, он отстаивал мысль о том, что либеральные реформы не оправдали себя, и поэтому новый охранительный курс спасал Россию от окончательного краха.
Среди журналов большую популярность приобрели еженедельники. Наиболее заметным из них был еженедельник «Нива» А.Ф. Маркса. Он начал издаваться с 1870 г. и в конце века стал самым распространённым «тонким» журналом в России. Его тираж, вначале составлявший 9 тысяч, к 1900 г. достиг 235 тысяч экземпляров.
С другой стороны, активизировалась деятельность крупных книгоиздателей – А. С. Суворина в Петербурге и И.Д. Сытина в Москве. Суворин, следуя консервативно-охранительной политике, выпускал дорогие подарочные издания и справочники: «Вся Россия», «Весь Петербург», «Вся Москва». Начиная с 80-х гг., издатель публиковал знаменитую «Дешёвую библиотеку», составившую 300 выпусков. Она включала произведения писателей конца XVIII – первой половины XIX в., произведения древнерусской литературы. Близким по типу изданием была серия «Библиотека для самообразования», выпускавшаяся Сытиным. Эти недорогие книги «для народа» были особенно востребованы в рабочей среде. Закрыв доступ в гимназии и университеты, правительство невольно стимулировало народное самообразование. В 1897 г. в Москве открылись Пречистенские рабочие курсы. Действовали воскресные школы и так называемые народные дома. Это были своеобразные клубы с библиотекой, читальней, театрально-лекционным залом, а также чайной и торговой лавкой. Новая интеллектуальная прослойка из рабочих стала опорой для деятельности революционных партий начала XX в.
Кроме подарочных, научно-популярных и справочных книг Суворина и Сытина, с 1890 по 1907 гг. выходит фундаментальная энциклопедия акционерного общества Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, до сих пор считающаяся одним из самых авторитетных справочных изданий.
1898–1913 гг. стали временем расцвета издательской деятельности товарищества «Знание», возникшего в Петербурге. С 1902 г. его возглавлял М. Горький, стремившийся объединить писателей-реалистов начала века.
В целом проведённые контрреформы были направлены на усиление вертикали власти. Властная пирамида предполагала установление тотального контроля на всех уровнях жизни общества. В духе патриотической Идеи эти меры не были лишь выражением властолюбия, слепого деспотизма: царь воспринимался в народе как воплощение русского духа, святости и незыблемости самодержавия.
Самым заметным деятелем охранительной политики времен Александра III стал обер-прокурор Синода К.П. Победоносцев. Он считал, что западные парламентские демократии отстаивают корыстные эгоистические интересы отдельных групп, непрерывно меняя законы в соответствии с текущими задачами. Самодержавие же находится над групповыми интересами и заботится о народе в целом. Единство власти и народа обеспечивается через принцип соборности. Православные вне зависимости от происхождения и состояния причащаются из одной Чаши. В церкви народ оказывается единым, а монарх является его соборным представителем, главой единого родового сообщества.
Самодержавно-соборная общественная система в России, увы, с трудом осуществлялась исторически. Самодержец вместо отца народа становился деспотом, да и сам народ воспринимался как умозрительная абстракция. Бездна между реальными людьми и властью в национальной истории оказывалась трагически непреодолимой. К тому же её неизменно заполняла корыстная бюрократия, созданная как институт при Петре I. Эту «петербургскую» бюрократическую монархию в реальности и укреплял обер-прокурор Синода.
Благодаря деятельности Победоносцева идеология российской государственности окончательно приобретает формы незыблемой самодержавности. В сознании людей рубежа веков фигура Победоносцева получила зловещий демонический характер.
А.А. Блок писал в поэме «Возмездие» (1910–1917): «В те годы дальние, глухие, / В сердцах царили сон и мгла: / Победоносцев над Россией / Простёр совиные крыла, // И не было ни дня, ни ночи, / А только – тень огромных крыл…».
Усилению российской государственности в 80—90-е гг. способствовала энергичная внешняя политика. В 1877–1878 гг. страна участвовала в победоносной русско-турецкой войне, реабилитировав себя за поражение и политические потери Крымской войны 50-х гг.; в 80-е гг. присоединила огромные среднеазиатские территории.
Русско-турецкая война вызвала мощный патриотический подъем. Зверства турков по отношению к восставшим в 1875–1876 гг. христианам Герцеговины и Боснии, Болгарии, Черногории и Сербии вдохновляли русских как на жертвенные миссии медсестёр и врачей (среди которых были знаменитые С.П. Боткин и Н.В. Склифософский), так и на военную добровольческую помощь. Войско восставших сербов возглавил русский генерал М.Г. Черняев. По всей России создавались «славянские комитеты» для сбора денежных средств и другой помощи братьям-славянам. В Сербию отправлялись выходцы из разных сословий. Кроме профессиональных военных и врачей, туда ехали и интеллигенты. В их числе были Г. И. Успенский, В.Д. Поленов, К.Е. Маковский. Но одной общественной инициативы было недостаточно.
Дипломатические усилия русского правительства остановить резню христиан оказались неэффективными. В балканском вопросе столкнулись также интересы ведущих европейских стран: Австро-Венгрии, Англии, Франции, Пруссии. Новое усиление Российского государства было невыгодным для Европы в целом, но сыграла роль и внутриевропейская борьба держав, в итоге позволившая России проявить инициативу.
Русско-турецкая война 1877–1878 гг. была осознана как Освободительная, её называли «славянским крестовым походом». Несмотря на огромные потери, действия армии развивались столь успешно, что возникла реальная возможность взять Константинополь, освободив легендарную христианскую святыню – храм Святой Софии, получить контроль над Босфором и Дарданеллами. И хотя этого по ряду причин не произошло, Россия вернула себе авторитет ведущей мировой державы.
Поражение Турции завершило пятивековое рабство православной Болгарии, сохранившей и возродившей свою культуру, религию, язык, традиции. В памяти России и Болгарии остались героические страницы сражений при Плевне, Шипке, освобождение Софии, зимний переход 165-тысячной русской армии через Балканы, определивший победу над ошеломлённым противником. Гордостью России стали имена «Ак-паши» – «Белого Генерала» М.Д. Скобелева (1843–1882, умер в возрасте 39 лет), дипломатов князя А. М. Горчакова (1798–1883) и графа Н.П. Игнатьева (1832–1908). В боевых действиях русской армии участвовал и великий князь Александр Александрович, будущий Александр III.
Создание русско-французского союза стало противовесом Тройственному союзу и послужило восстановлению военно-политического равновесия в Европе на рубеже XIX–XX вв. В октябре 1893 г. состоялся ответный визит русской эскадры во Францию. Русских военных моряков ожидал радостный дружественный прием. Однако при всём этом Россия оставалась страной обособленной. По словам А.М. Горчакова, во внешней политике империи прежде всего необходимо было искать опору в «самих себе». Этот принцип выражался и в известном афоризме Александра III о том, что у России всего два союзника – её армия и флот.
Сложившееся в конце XIX в. равновесие сил было вновь нарушено обострением внешнеполитической обстановки в начале XX в., завершившимся катастрофической Первой мировой войной и кровавыми революционными потрясениями.
Военные действия 80—90-х гг. в Средней Азии во многом были продолжением политики укрепления Российского государства в южном направлении. Эти мероприятия имели комплекс политических и экономических факторов внутреннего и международного характера. Важную роль здесь играло и усилившееся противостояние России и Англии, не желавшей уступать своих позиций в этом направлении. Бухарский эмират, Хивинское и Кокандское ханства, территория туркменских племен существенно расширили границы Российской Империи. Успешные военные действия генерала Скобелева при Геок-Тепе в 1880–1881 гг., несмотря на происки Англии, позволили взять инициативу в переговорах о разграничении владений России и Персии (Ирана) в декабре 1881 г. в Тегеране. В марте 1884 г. в состав России вошел весь Мервский оазис, населённый туркменами. Утвердив свое политическое господство в Средней Азии, Россия получила важные торговые и экономические преимущества, необходимые для укрепления империи.
С 80-х гг. началось строительство железных дорог, связавших центральные и южный регионы России. Ташкент, Самарканд, Бухара, Коканд постепенно становились крупными торгово-промышленными городами.
Продолжалось освоение Сибири. В 90-е гг. на средства казны была проложена Транссибирская железная дорога, соединившая европейскую часть страны с Сибирью и Дальним Востоком. В 1900 г. путь был проложен до Байкала, а к 1905 г. завершилось создание «кругобайкальского» участка дороги. Строительство велось одновременно от Владивостока и Челябинска, удалённых друг от друга более чем на семь тысяч километров. К концу XIX в. территория Российской Империи обрела не только географическое, но и экономическое единство.
После смерти Александра III на русский престол с 1894 г. взошел Николай II. На рубеже веков Россия оставалась единственной мировой державой, где сохранялась абсолютная монархия. Высшая власть была сосредоточена в руках императора. Революционные события 1917 г., гибель царской семьи завершили более чем тысячелетний период монархического правления в России и более чем трехсотлетнее пребывание на российском престоле династии Романовых.
Основные события, связанные с правлением Николая II, развернулись в XX в. Однако последние шесть лет XIX столетия приходятся на царствование именно этого императора. Его мировоззрение и психология становятся во многом символичными для рубежа веков. Судьба Николая II интересна как знаковое явление русской жизни этого периода.
В русской истории и историософии личность Николая II обычно воспринимается негативно. Его обвиняют в слабости. Сравнивая с другими Романовыми и прежде всего с отцом, подчеркивают некоторую безликость, заурядность царя. Как негативный фактор обычно отмечают «мистицизм» и «фатализм» императора. Он родился 6 мая 1868 г. в день Св. Иова многострадального и относился к этому знаку со всей серьезностью верующего человека. При его коронации в мае 1896 г. в Москве произошла страшная ходынская катастрофа. В ней угадывается почти апокалиптический символ, касающийся судьбы самого царя и всей России.
В политической жизни Николай II придерживался консервативной позиции. Среди его воспитателей и учителей главенствующее место занимал К.П. Победоносцев. Он преподавал наследнику государственное, гражданское и уголовное право. Охранительный курс Николай наследовал и от отца. Опирался он также на собственный опыт. Реформаторская политика деда, Александра II, привела к революционно-террористической активности в обществе и гибели царя, а отец умер в спокойной домашней обстановке, оставив страну в состоянии стабильности и покоя. Александр III завещал сыну хранить основы самодержавия, говоря, что если «рухнет самодержавие, не дай Бог, тогда с ним и Россия рухнет». При этом отец при жизни не обременял Николая государственными проблемами. Опыта управления гигантской Российской империей у нового императора практически не было. Он занимал представительские посты председателя комитетов по борьбе с голодом 1891–1892 гг. и по постройке Транссибирской железной дороги, присутствовал на заседаниях Государственного совета и Комитета министров. Поэтому при воцарении Николай прежде всего воспринял идеологию и политику отца.
В этом направлении нового императора поддерживало и ближайшее окружение: вдовствующая императрица Мария Фёдоровна, его дяди, великие князья Владимир (командовавший расстрелом крестного хода 9 января 1905 г.), Алексей и Сергей Александровичи, занимавшие важные государственные и военные посты, но больше любившие светскую жизнь и изящные искусства.
Романовы жили той инерцией, которая была создана курсом охранительно-консервативной политики Александра III. История же требовала новых шагов. Ведь несмотря на консерватизм, а возможно, именно благодаря ему, в конце века Россия становилась одним из самых развитых индустриальных и сельскохозяйственных государств. В политическом плане страна рубежа веков требовала гения масштаба и мощи Петра Великого.
Николай же был более сосредоточен на частной жизни. Будучи человеком утончённой классической культуры, он любил музыку и балет, ценил живопись, хорошо знал историю и литературу, увлекался достижениями современной техники: водил автомобиль, занимался фотографией, пользовался телеграфом и телефоном. Особую роль в жизни царя играла горячо любимая семья. При этом психологически Николай был больше похож на древнерусских царей типа Алексея Михайловича «Тишайшего» (1645–1676 гг.).
Последние годы XIX в., пришедшиеся на начало царствования Николая II, стали затишьем перед апокалиптической бурей. В эти внешне спокойные годы сформировались явления, люди и идеи, определившие собой судьбу России в XX в.
Консервативно-охранительная политика создала необходимую стабильность для поступательного развития российской экономики. В конце столетия меняется сам тип общенациональной жизни. Буржуазные отношения выражаются не только в торговле и ремесле. Развивается крупная промышленность. Особенно успешно идут дела в текстильной отрасли, у производителей сахара, в металлургической промышленности, в угле– и нефтедобывающих производствах. Активно развивались Урал и Донбасс. Вообще фабрика и завод становятся важной составляющей новой цивилизации, символами городского культурного пространства.
В 80-е гг. была построена первая электростанция. В квартирах и на улицах зажглось электрическое освещение. На дорогах появились автомобили. В конце столетия вместо конно-железных экипажей и минипаровозов в крупных городах появляются первые электрические трамваи.
На рубеже веков активно распространяется телеграфное сообщение, внедрялась телефонная связь. В жизнь города, быт горожан входили последние достижения технического прогресса.
Развивается банковское дело. В 1864 г. был основан Санкт-петербургский частный коммерческий банк. Его учредителями были глава крупнейшей торговой фирмы столицы Г. П. Елисеев и председатель Санкт-Петербургского биржевого комитета Е.Е. Брандт. Через три года объем операций банка составлял свыше 3 миллионов рублей – огромная по тем временам сумма. К концу XIX в. в России действовало 38 частных коммерческих банков. Наибольшую известность имели основанный в 1866 г. Московский купеческий банк и основанный в 1870-м Волжско-Камский банк, организатором которых был В.А. Кокорев. Он привлёк авторитетных учредителей и пайщиков, среди которых были крупные предприниматели – Морозовы, Мамонтовы, Милютин, петербургские банкиры Штиглиц и Утин. Правильно поставленная финансовая деятельность позволила модернизировать текстильное производство, развивать железнодорожное дело, открывать новые банки и другие учреждения. Становлению торгово-промышленных отношений способствовала денежная реформа 1895–1897 гг., узаконившая «золотой стандарта – свободный обмен рубля на золото. Деньги становились самостоятельной экономической силой.
Несмотря на то что в России по-прежнему ведущей отраслью было сельское хозяйство и на предприятиях сохранялась значительная доля ручного труда, к концу XIX в. страна вышла на пятое место в мире по темпам промышленного производства.
Возникало новое сословие капиталистов. В большинстве своём это были передовые люди того времени. Яркой фигурой среди русских промышленников был хозяин Никольской мануфактуры в подмосковном Орехово-Зуеве С.Т. Морозов. Он не только выстроил здание для Художественного театра в Москве и другие здания, его фабрики и капиталовложения имели градообразующий характер. Так, в Орехово-Зуеве были построены Зимний театр (ставший «спутником» МХАТа), огромная больница (которые используются до сих пор), жилые казармы для рабочих, с продуманным и организованным бытом (перенаселённые в советское время), и другие здания. Сам хозяин обучался и стажировался в Англии, в Манчестере, был специалистом в электрооборудовании, в производстве красителей, в работе ткацких станков; отличался огромной энергией, по-европейски и по-русски демократичным стилем общения с инженерами, мастерами и рабочими фабрик
Среди промышленников делом чести и престижа были благотворительность и меценатство. В этом во многом сказывались религиозные (часто старообрядческие) традиции русских купеческих династий. В историю русской культуры вошли имена Морозова, Мамонтова, Солдатенкова, Третьяковых, Алексеевых, Боткиных, Щукиных, Рябушинских. Действительно, в судьбе России со временем вполне мог бы сформироваться особый «христианский социализм», если бы не действия социализма радикального. Следует лишь помнить, что источником революционного сознания часто является не столько бедность, сколько благополучие. По утверждению русского философа Н.А. Бердяева, революции совершаются не от нужды, а от достатка. Революцию вдохновляет рабочая элита, которая хочет жить ещё лучше. Нищий озабочен не революцией, а тем, как прокормиться и выжить. При всех социально-экономических сложностях в целом уровень жизни людей рубежа веков был стабильным и постепенно улучшался.
В конце XIX в. активно развивается национальная наука. Организуются многочисленные научные общества: Русское математическое общество, Русское химическое общество, преобразованное затем в физико-химическое, Русское техническое общество, Русское историческое общество.
На рубеже столетий были сделаны важные открытия: в 1895 г. Вильгельм Рентген (1845–1923) обнаружил новое электромагнитное излучение, «рентгеновские» лучи; открыты радиоактивность, делимость атома, считавшегося до этого неделимым, возможность превращаемости элементов, возникли новые научные направления, связанные с синтезом знаний о мире.
Свои открытия в области радиактивности совершают французский физик Пьер Кюри (1859–1906) и его жена М. Складовская-Кюри (1867–1934), которая родилась в Польше, входившей тогда в состав Российской Империи (другом отца Марии был Д.И. Менделеев). В 1898 г. супруги Кюри открывают полоний и радий и исследуют радиоактивное излучение. В 1903 г. ученые были удостоены Нобелевской премии. За работой учёных с интересом наблюдали и в России.
В апреле 1895 г. А.С. Попов (1859–1905/06) на заседании Русского физико-химического общества выступил с докладом об использовании электромагнитных волн для передачи сигналов на расстоянии. Это был первый в мире радиоприёмник.
В естествознании формируется теоретический синтез и как следствие возникают новые науки: геохимия, биохимия, биогеохимия и т. п. Складываются научные концепции, связанные с пересмотром устоявшихся представлений о Вселенной. Оказалась востребованной не понятая современниками геометрия Н.И. Лобачевского (1792–1856), постулаты которой были опубликованы ещё в 1829–1830 гг. Альберт Эйнштейн (1879–1955) работает над своей теорией относительности, принципы которой были изложены уже в XX в.: в 1905 – частная теория относительности, в 1907–1916 – общая. Научные новости быстро доходили до русских учёных, чему способствовали многочисленные журналы – «Вокруг света», «Научное обозрение», «Природа» и др.
В конце XIX столетия разрабатывается современная аэродинамика, основоположником которой считается Н.Е. Жуковский (1847–1921). КЭ. Циолковский (1857–1935) в своих трудах формирует основы космонавтики. В 1903 г. в статье «Исследование мировых пространств реактивными приборами», опубликованной в журнале «Научное обозрение», учёный изложил теорию движения ракет. Последователем Циолковского был А.Л. Чижевский (1897–1964), ставший одним из основоположников гелиобиологии.
П.Н. Лебедев (1866–1912), создатель русской научной школы физиков, экспериментально доказал существование давления света, возможность измерения его величины. Его труды сыграли важную роль в разработке теории относительности, квантовой теории и астрофизики. Русский физик Б. Б. Голицын (1862–1916) разрабатывает основы сейсмологии как науки.
Труды В.И. Вернадского (1863–1945) определили создание смежных областей знания: биохимии, радиогеологии, биогеохимии. Учёный считается основоположником научно-философского учения о ноосфере как особой оболочке планеты.
Физиолог И.П. Павлов (1849–1936) создает учение об условных рефлексах и высшей нервной деятельности человека и животных. В 1904 г. И.П. Павлову, первому из русских учёных, была присуждена Нобелевская премия. Открытия в области биологии и патологии совершает И.И. Мечников (1845–1916), он разрабатывает эволюционную эмбриологию и иммунологию. В 1886 г. учёный основал первую в России бактериологическую станцию, а в 1908 г. стал Нобелевским лауреатом.
Продолжается деятельность основоположника русской научной школы физиологии растений К.А. Тимирязева (1843–1920) и Д.И. Менделеева (1834–1907), открывшего в 1869 г. Периодический закон химических элементов – один из основных законов естествознания. В 1865–1890 гг. он был профессором Петербургского университета; ушёл в отставку в знак протеста против притеснения студенчества. В 1880 г. выдвигался в академики, но был забаллотирован, что вызвало резкий общественный резонанс. В 1893 г. Д.И. Менделеев организует Главную палату мер и весов.
На рубеже веков наука действительно прикоснулась к основам мироздания. Однако русские учёные были не только сосредоточены на научной деятельности. Они вели огромную просветительскую работу, отстаивали либеральные ценности, достоинство человеческой личности, свободу познания.
Общественная мысль 80—90-х гг. претерпевала существенные изменения. Ужесточение полицейского давления на интеллигенцию совпало с кризисом революционно-демократической идеологии.
Разгром революционного народничества, последовавший за событиями 1 марта 1881 г., привел к угасанию этой идеологии. Надежда на то, что убийство царя вызовет народную революцию, провалилась. В этой революционной утопии выразился своеобразный идеализм террористов, книжное представление о народе, незнание его мировоззрения и потребностей.
Для общественных настроений большого числа разночинской интеллигенции этих лет становятся характерными упадничество, пессимизм, неверие в эффективность революционной борьбы, увлечение теориями «малых дел», «постепенного прогресса», толстовства.
В то же время снижение массовости общественного движения позволило сосредоточиться на новых учениях.
Осенью 1880 г. глава «Чёрного передела» Г.В. Плеханов (1856–1918) предложил создать в России массовую революционную партию и выработать новую идеологию. Б 1883 г. в Женеве возникла группа «Освобождение труда», в которую вошли Г.В. Плеханов, П.Б. Аксельрод, Л.Г. Дейч, В.И. Засулич, В.Н. Игнатов. Идеологией нового объединения стал марксизм. Соединение рабочего движения с марксизмом в России сформировало пролетарское революционное движение.
Плеханов считал, что Россия идет по пути западноевропейских стран, что капитализм в стране уже существует и что он вступает в неизбежный конфликт с самодержавием. Рабочему классу, по мнению Плеханова, необходимо вместе с буржуазией свергнуть абсолютизм, а затем вступить в борьбу с самой буржуазией. Идя по этому пути, пролетариат уничтожит частную собственность и создаст новое общественное устройство: социализм и коммунизм.
Социализм не был новой теорией в России. Он разрабатывался уже в рамках кружка М. В. Буташевича-Петрашевского (1821–1866). Работы западных социалистов А. Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. Оуэна воспринимались во многом через призму русского идеализма. Для отдельных участников кружка, в частности для молодого Ф.М. Достоевского, социалистические идеалы пересекались с религиозными христианскими ценностями, которые со временем сформировали другое его учение – почвенничество, в основе которого была русская общинно-религиозная система бытия. На основе этого соединения позже возник «христианский социализм» русского философа и православного богослова С.Н. Булгакова, также в свое время прошедшего через увлечение марксизмом. Булгаков доказывал, что исторический процесс складывается не только из экономических отношений. На него влияет комплекс других факторов: религиозных, философских, культурных, психологических. Н.А. Бердяев в книге «Судьба России» (1918) добавлял еще «географические» составляющие, формирующие национальную психологию, он развивал своеобразную космософию.
Социализм Плеханова опирался на экономические концепции, был адресован конкретной общественной прослойке – промышленному пролетариату. По существу, это было элитарное «городское» учение. Промышленный пролетариат отнюдь не был самым многочисленным классом русского общества. Сосредоточенный в крупных городах, он был в процентном отношении несопоставим с другими сословиями, в том числе с многомиллионным русским крестьянством. Плеханов же считал крестьянство обречённым классом. Позже это трагическим образом выразилось в политике военного коммунизма и сталинской коллективизации.
В рамках марксизма, породившего в России множество нелегальных рабочих кружков, в конце столетия сформировалось два главных направления. Так называемые легальные марксисты придерживались реформаторских взглядов. Теоретик этого направления П.Б. Струве (1870–1944) выдвинул тезис «идти на выучку к капитализму», позже он станет одним из создателей буржуазно-либеральной Конституционно-демократической партии (кадетов). Другая группировка считала учение марксизма идеологией радикальной революции, целью которой была сама борьба за власть для разрушения капитализма и уничтожения самодержавия. К этому крылу принадлежали глава будущей российской социал-демократической партии, один из лидеров меньшевизма (с 1903 г.) Ю.О. Мартов (1873–1923) и вождь радикального крыла партии большевиков, вдохновитель Октябрьской революции и создатель советского государства В.И. Ульянов-Ленин (1870–1924).
Кризис народничества породил не только марксистские идеи. Проблема разрыва интеллигенции и народа, Европы и России, преобладание позитивизма в разночинской среде, гибельность идеи «права на кровь» – насильственной борьбы за справедливость определили специфику поздних философских взглядов Ф.М. Достоевского. 8 июня 1880 г. на заседании Общества любителей российской словесности он произнес свою знаменитую «Пушкинскую речь», в которой говорил о русском гении как «всечеловеке», о примирении-синтезе западничества и славянофильства – о национальном призвании как «всемирной отзывчивости». «Пушкинская речь» по существу завершила цикл философской публицистики, связанный с изданием «Дневника писателя» (1873–1881).
Стиль и проблематика взглядов Достоевского сформировали специфику русской философской мысли конца XIX в. и определили так называемый русский религиозный ренессанс начала XX в. Мир Достоевского повлиял и на софиологию B.C. Соловьёва, а позже П. А. Флоренского и С.Н. Булгакова, на эсхатологию, историософию и экзистенциализм Н.А. Бердяева, на экзистенциализм В.В. Розанова, символизм Д.С. Мережковского и В.И. Иванова, на интуитивизм Н.О. Лосского, а они – на работы более поздних русских философов и публицистов – Г. П. Федотова, И.А. Ильина и других, прославившихся уже в эмиграции. Религиозно-философский, профетический характер получила в их творчестве и литературно-критическая мысль.
Важно подчеркнуть, что религиозно-философская мысль стала не келейной и кабинетной, а приобрела общественное содержание и направление. Публичные выступления мыслителей собирали большую аудиторию, становились предметом полемики и обсуждения. Книги воспринимались как пророческие послания современникам и потомкам, как откровения Вечности в настоящем. Общественная мысль не замерла в период политического «застоя», а приобрела новые жанровые формы и содержание.
В 80—90-е гг. не было таких «массовых» общественных концепций, какими являлись западничество или славянофильство, нигилизм или почвенничество в 50—70-е гг. Однако сокровенные думы и мистические созерцания мыслителей конца века стали магическим «новым словом» для следующего исторического периода. Брошенные семена принесли богатые плоды в начале XX столетия.
Собственно 80—90-е гг. во многом воспринимаются не как завершение XIX в., а как начало, как преддверие новой эпохи. Культурологическая, духовная хронология не всегда соответствует календарному делению времени. Ведь и человек живет не по общему, а по собственному календарю, по-разному взаимодействуя с культурными и историческими процессами, связывая или разделяя отрезки времени своей личной судьбой.
Б.В. Розанов (1856–1919) осознавал себя наследником и учеником Достоевского. Противопоставляя позитивистам 60-х гг. Достоевского, который утверждал, что главной общественной проблемой современности является проблема бессмертия человеческой души, Розанов создал свой «провокационный» стиль философствования. В статье 1891 г. «Почему мы отказываемся от “наследства 60—70-х гг."» он одним из первых начал борьбу с идеями материализма и дарвинизма. Его литературно-критические статьи конца века о Достоевском, Л.Н. Толстом, Пушкине, Вл. Соловьёве, его ветхозаветно-языческое прославление сексуально-родовых отношений (в особенности «Люди лунного света», 1913), его философская эссеистика «Уединённое» (1912), «Опавшие листья» (1913–1915) и др. были выражением культа частной жизни и частной мысли – мысли, отрешённой от непосредственного, телесного, повседневного существования. В связи с этим Бердяев назвал Розанова «гениальным обывателем». Противопоставляя иудаизм и язычество как религии плоти, рождения и христианство как религию «смерти» и аскетизма, Розанов пересекался с антихристианскими построениями Ницше («Так говорил Заратустра», 1882–1885 и «Антихрист» (или точнее «Антихристос», «Антихристианин»), 1888). Публикация работы Розанова «Апокалипсис нашего времени» (1917–1918) вызвала резкую критику и осложнение личных контактов с отцом Павлом Флоренским (Розанов как и Флоренский, жил в это время в Сергиевом Посаде), который предупреждал, что если Розанов не перестанет «хулить» Христа, то он прекратит с ним всякие отношения.
В конце столетия просиял философский и мистический гений Вл. Соловьёва (1853–1900). Первые работы философа были посвящены критическому анализу западной мысли: «Кризис западной философии (против позитивистов)» (1874), «Философские начала цельного знания» (1877), «Критика отвлечённых начал» (1877–1880), направленная против умозрительной философии. Событием культурной жизни России стали его «Чтения о Бого-человечестве» – цикл публичных лекций и печатных статей 1877–1881 гг. На них присутствовала интеллектуальная элита того времени, в том числе Достоевский и Толстой. Учение о Богочеловечестве стало центром его историософской интуиции, и в поздней работе «Три разговора» (1899–1900) он оформляет свою окончательную эсхатологию, завершая философские диалоги «Краткой повестью об Антихристе». Богочеловеческий мессианизм Вл. Соловьёв обнаруживал у «русского пророка» Достоевского. Преемственность идей Соловьёва и Достоевского обозначается в философско-критическом цикле «Три речи в память Достоевского» (1881–1883). Достоевский, по словам Вл. Соловьева, применял к России видение Иоанна Богослова о жене, облечённой в солнце (Откр. 12: 1). Он говорил, что «жена – это Россия, а рождаемое ею есть то новое Слово, которое Россия должна сказать миру». Это «новое слово» по-своему пытался сформулировать и Соловьёв.
Софийные интуиции, мистически вдохновившие русских символистов второй волны и многих религиозных философов, воплощались и в других его работах – «Красота в природе» (1889), «Общий смысл искусства» (1890), «О лирической поэзии» (1890), «Смысл любви» (1894), «Поэзия Ф.И. Тютчева» (1895). Эстетика и критическая методология философа получила мистериальный, теургический характер.
Еще большее влияние имела поэзия Соловьёва. В своей лирике он возродил средневековый жанр видений. Но сами видения имели уникальное содержание. В поэме «Три свиданья» (1898), в стихотворениях 1875–1876 гг. «Вся в лазури сегодня явилась…», «Близко, далёко, не здесь и не там…», «В тумане утреннем неверными шагами…» (1884), «Земля-владычица! К тебе чело склонил я…» (1886), «Бедный друг, истомил тебя путь…» (1887), «Иммануэль» (1892), «Знамение» (1898), «Das Ewig-Weibliche» (Вечная Женственность – нем.) (1898) окончательно сформировалась русская мистическая символическая лирика, содержанием которой стало откровение Софии – Вечной Женственности, Живого Богочеловечества и всеединства. Эти мифологемы станут предметом мистического и художественного освоения в русском символизме, получив при этом национальный характер, связанный с мифологемой сакральной Души России. Именно Вл. Соловьёв стал родоначальником русской метаисторической, апокалиптической поэзии, которая в эпоху революций XX в. наполнилась конкретным содержанием.
Не менее интересным мыслителем конца века был Н.Ф. Фёдоров (1828–1903). Его идеи имели меньший общественный резонанс, но произвели глубокое впечатление па Вл. Соловьёва, Достоевского, Толстого.
Фёдоров не был профессиональным философом и вообще публичным литератором. В течение многих лет он работал библиотекарем в Румянцевской библиотеке в Москве (сегодня Российская государственная библиотека), где, по преданию, знал по памяти каждую книгу и её место в фонде. Его статьи печатались под псевдонимом или вообще оставались в рукописях. Главный труд Фёдорова «Философия общего дела» был опубликован его друзьями В. Кожевниковым и Н. Петерсоном тиражом в 480 экземпляров после смерти философа (в 1928 г. книга была переиздана в Харбине).
В основе учения мыслителя было соединение научного мировоззрения и христианской мистики. По существу, это был своеобразный неомагизм, научный оккультизм. Фёдоров считал, что целью «общего дела» является совместное воскрешение «отцов». Термин «общее дело» – это русский перевод греческого слова «литургия», названия главного христианского богослужения, на котором совершается таинство «пресуществления» хлеба и вина в мистические «Тело и Кровь» Иисуса Христа и происходит «причащение» этими Святыми Дарами, соединяющее верующих с Богочеловеком Христом. Причащению предшествует таинство исповеди, также имеющее мистический характер.
В учении Фёдорова «чудо» получает магический смысл. Воскрешение отцов совершается самими «детьми» – научным путём (Маяковский в поэме «Про это» (1923) просит его воскресить, обращаясь к «большелобому тихому химику» – это отголоски федоровского учения). По мысли Н.О. Лосского (История русской философии. М., 1991), это воскрешение непреображенного, материального тела. Иисус Христос после воскресения мог появляться и исчезать перед апостолами, минуя границу между мирами.
Научный магизм Фёдорова производил наибольшее впечатление, поскольку соединял мистическое мироощущение, онтологию смерти и научный тип мышления. Философ верил в возможности науки и религиозно благословлял её развитие. Стиль его философствования получал почти что научно-фантастический характер. Так, он говорил, что, овладев электромагнитными полями Земли, можно превратить планету в своеобразный космический корабль. Он верил в возможность заселения других планет. Научно-хозяйственная деятельность для него также обретала вдохновенно-романтическое, пьяняще-магическое содержание. Он призывал к управлению погодой, что обеспечило бы получение хороших урожаев, к освоению солнечной энергии, которая должна заменить каменный уголь и т. п.
Отголоски федоровской религиозно-магической науки и социологии слышны в первых планах Советской власти. Такова ленинская формула коммунизма в плане ГОЭЛРО – «Советская власть плюс электрофикация всей страны». Коммунизм превращался в иррационально-рациональный, т. е. магический предмет советской квазирелигии, а наука – в алхимию, занимающуюся поиском философского камня и эликсира бессмертия.
Яркой фигурой философии конца XIX в. был Л.Н. Толстой (1828–1910). Его воздействие на современное общество было огромным. «Толстой, – пишет Н.А. Бердяев в «Русской идее» (1946), сравнивая его с Достоевским, – как религиозный нравственный проповедник…имел влияние на более широкий круг, захватывал и народные слои». И поясняет далее: «…толстовская мораль имела большое влияние на моральные оценки очень широких кругов русского интеллигентного общества».
Собственно, Толстой-мыслитель существенно отличается от Толстого-художника, с его эмоциально-интуитивным восприятием мира. В этом отношении он, несмотря на свое «опрощение», был порождением дворянской интеллигенции. Его отличал культ разума, восходящий к Руссо, критический рационализм философских оценок, связанный с увлечением Шопенгауэром, которого Толстой считал гениальнейшим из людей, в в то же время для него характерен мистицизм, отрицаемый им интеллектуально.
Основными религиозно-философскими работами Толстого стали труды 1880-х и последующих годов. Это «Так что же нам делать?» (1882–1886), «Исповедь» (188i2), «Критика догматического богословия» (1884), «В чем моя вера?» (1884), «Царство Божие – внутри нас» (1893), «Христианское учение» (1894–1897), «Круг чтения» (1906–1910), «Путь жизни» (1910).
Современниками Толстой воспринимался прежде всего как философ этический, как морализатор, и потому как голос «интеллектуальной» совести. Важное этическое и философско-психологическое значение имела его «Исповедь» (1882). Писатель и мыслитель призывал к нравственному совершенству. Ему было свойственно острое чувство греховности, и отсюда происходил его пафос покаяния. Главной моральной идеей Толстого было представление о том, что нужно исправить прежде всего себя, а не улучшать жизнь других. Этот тезис восходит к христианскому учению, в частности, к притче о соринке в чужом глазу и бревне в своём.
Впоследствии Толстой предпринял попытку по-своему «перевести» Евангелие («Соединение, перевод и исследование четырех Евангелий», 1880–1881), устранив оттуда всё сверхъестественное, связанное с категорией чуда. Чудо он считал «выдумкой» попов для обмана народа.
Скандальный характер получила история церковного отлучения Толстого. Собственно, Св. Синод лишь констатировал то, что уже состоялось. Недоразумение заключалось в том, что, создав собственное религиозно-философское учение, Толстой доказывал, будто это и есть подлинное учение Христа, истинное христианство. В действительности он выступил своеобразным вероучителем, типологически близким Конфуцию или другим религиозным учителям. Учение Толстого породило так называемое толстовство, известное прежде всего в связи с буддийским пассивно-активным «непротивлением злу насилием». Однако в нем были отголоски и христианского мученичества, и православного юродства.
Несмотря на решение Синода, даже православно мыслящие философы видели в Толстом знаковую фигуру. Отец Василий Зеньковский в своей «Истории русской философии» (1948) утверждает, что «не веря в Божество Христа, Толстой следует Ему, как Богу». Главной заслугой Толстого-мыслителя В.В. Зеньковский считает его призыв к построению культуры на религиозной основе и отвержение секуляризма в его светских и (стоит добавить) государственно-церковных проявлениях. Символический характер получил последний этап жизни великого художника и мыслителя – уход из Ясной Поляны, ставший его последним путем к нравственному аскетическому совершенству.
В конце XIX в. обозначилось философско-эстетическое движение, определившее содержание духовного процесса начала следующего столетия. В 1893 г. вышла книга Д.С. Мережковского (1866–1941) «О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы». Мыслитель стремился соединить религиозно-философские искания с общественной деятельностью, став одним из организаторов Религиозно-философского общества, которое ставило своей целью объединить интеллигенцию и церковь.
Главную причину упадка литературы писатель и мыслитель видел в ограниченности позитивистского мировоззрения и в исчерпании возможностей реализма. Будущее он связывал с божественным идеализмом. Основами нового искусства должны стать «мистическое содержание» и новая форма – «символы» как способ «расширения художественной впечатлительности». Таким «новым искусством» стал символизм.
Основные критико-философские работы Мережковского приходятся на XX век. Это «Л. Толстой и Достоевский. Жизнь и творчество» (1901–1902), «Рождение богов» (1925), «Тайна трёх» (1925), «Тайна Запада. Атлантида и Европа» (1931), «Иисус Неизвестный» (1932). Религиозно-философский характер имело также критическое и художественное наследие Мережковского. Это статьи «Пушкин» (1896), «Гоголь и чёрт» (1906), «Пророк русской революции» (1906), «Грядущий Хам» (1906), «М.Ю. Лермонтов – Поэт сверхчеловечества» (1908–1909), «Две тайны русской поэзии (Некрасов, Тютчев)» (1915) и др. Апокалиптические искания художника и философа-символиста выразились в его историософской трилогии «Христос и Антихрист» («Смерть богов (Юлиан Отступник)», 1896; «Воскресшие боги (Леонардо да Винчи)»,1901; «Антихрист (Петр и Алексей), 1905»).
Суть литературно-критических и религиозно-философских построений Мережковского, обозначенная уже в исследовании о Л. Толстом и Достоевском, сводилась к синтезу духа и плоти.
Художественная литература конца XIX в. также переживала эстетический и философский кризис. Эстетика этого периода имела переходный характер. С одной стороны, были сильны традиции классического реализма. С другой, формировались новые тенденции, определившие обновление реализма и возникновение модернизма.
80—90-е гг. стали особым периодом в творчестве Л.Н. Толстого. После религиозно-философского перелома 80-х гг. он создает такие шедевры классического реализма, как «Смерть Ивана Ильича» (1886), «Крейцерова соната» (1889), «Дьявол» (1889–1890), «Отец Сергий» (1890–1898). В этих произведениях поднимаются проблемы жизни и смерти, физической страсти и брака. Внимание к частной жизни человека намечает стилистику, в которой угадываются черты экзистенциализма XX в,
В 80-е гг. Толстой пишет пьесы «Власть тьмы», «Плоды просвещения». В 1911 г. была опубликована пьеса «Живой труп». Самым значительным художественным свершением позднего периода творчества является роман «Воскресение» (1899), в котором поднимается проблема нравственной ответственности дворянина-интеллигента за судьбу девушки из народа. Катюша Маслова отказывается от «жертвы» Нехлюдова и связывает свою жизнь со ссыльным революционером Симонсоном. Образ и судьбу главной героини романа символисты впоследствии использовали для обозначения драматической судьбы России (стихотворение А. Блока «На железной дороге», 1910). Произведение Толстого заканчивалось цитированием «Нагорной проповеди» Христа и звучало как призыв к сословному и личному покаянию.
С увлечением писатель работал над повестью «Хаджи-Мурат» (1896 1904), сопоставляя два типа власти – европейский абсолютизм, олицетворяемый Николаем I, и кавказский, исламский абсолютизм, олицетворяемый фигурой Шамиля. Они оказываются близки своим властолюбием и ненавистью к иноверцам. Мотивы «войны и мира», критика общественного зла, симпатия к частному человеку и неприятие насилия воспринимаются сегодня как пророчество мудреца.
В 80-е гг. в русскую литературу приходит А.П. Чехов (1860–1904). В его рассказах отразился мир маленького человека, обывателя. Соединение комического и серьезного позволило писателю изобразить пошлость и мещанство, тоску повседневного существования и выразить протест, высказать мечту о лучшей жизни и «прекрасном» человеке. Чехов канонизировал малые жанры прозы, и эта «камерность» была выражением нового эстетического мышления, основанного на субъективном видении мира, концентрации художественной впечатлительности.
Традиции классического бытописательского реализма выражаются в творчестве П.Д. Боборыкина (1836–1921) и Д.Н. Мамина-Сибиряка (1852–1912). Однако, уходя от социально-психологических и философских обобщений, писатели этого типа тяготели к эмпирической фактографий, близкой к наследию «натуральной школы».
Кроме новой религиозно-философской критики, представленной работами Вл. Соловьёва, В.В. Розанова, Д. С. Мережковского и др., развивалась и традиционная линия критической мысли. Это статьи Н.К. Михайловского (1842–1904), А.М. Скабичевского (1838–1911), К.Н. Леонтьева (1831–1891).
В 80—90-е гг. Н.К. Михайловский по-прежнему развивал сложившуюся у него ранее социологическую, публицистическую методологию восприятия художественных явлений. После закрытия «Отечественных записок» критик печатался в журналах «Северный вестник», «Русская мысль», газете «Русские ведомости». С 1892 г. активно сотрудничает с журналом «Русское богатство», а в 1894 г. возглавляет его редакцию.
При этом в стиле его мысли и суждений чувствовалось наследие идеализма 40-х гг. Михайловский любил эмоционально-образные определения, вроде «гонители истины», «гасители света», да и сами понятия «истины», «идеала», «правды», «справедливости» и т. п. активно используются в его построениях без философского разъяснения, как нечто очевидное. В его образной риторической многословности чувствуется традиция Белинского.
Рассматривая литературу как часть общественной жизни, Михайловский выдвигал и соответствующие критерии ценности художественных явлений. Он следовал практическому здравому смыслу. Показательно стилизованное название цикла его критических статей 1875–1877 гг. «Записки профана», т. е. не профессионального литератора, представителя богемы, а обычного человека, труженика.
В целом высоко оценивая творчество Л.Н. Толстого в статье 1875 г. «Десница и шуйца Льва Толстого», он подчеркивал его силу и правоту («десницу») в разделении народного мира и так называемого «общества». Михайловский наделяет Толстого собственными взглядами, указывая на стремление писателя показать личность, считающую своим долгом бороться с негативными историческими условиями за достижение своих идеалов (как будто идеалы личности, (т. е. цели) непременно должны быть высокими, общественно значимыми). Недостатком критик считал излишнее внимание Толстого к изображению салонной жизни, а по существу – к человеческой психологии, «шуйцу» (слабость) видел в мистическом ощущении истории. Для Михайловского она развивалась по законам социологии.
Знаменательно, что творчество Достоевского оценивается критиком-социологом негативно. Характерно само название статьи о писателе – «Жестокий талант». Прилагательное «жестокий» он использует не в метафорическом, а в прямом смысле. Героев Достоевского критик считает патологическими личностями, которые наслаждаются ненужным тиранством. Эти качества невольно переносятся и на писателя, стиль которого, по мысли Михайловского, отличается вычурностью в изображении зла, «психологическими кружевами» в раскрытии жестокости и мучительства. Культ страдания превращается в «самооплевание», в своеобразный мазохизм. На этом фоне указание на проповеднический характер творчества Достоевского выгладит саркастически, неубедительно. Критик категорически не мог принять оценку Вл. Соловьёва в цикле «Три речи в память Ф.М. Достоевского» (1882), считавшего писателя религиозным, апокалиптическим пророком и духовным вождем России.
Вообще психологическая и религиозно-философская, философско-этическая сторона произведений для Михайловского отодвигалась на второй план. В произведениях Тургенева (статья «О Тургеневе», 1883) он видит не живых личностей, а абстрактные общечеловеческие психологические типы, далёкие от «скорбей» Родины и народа, не стремящиеся к определённости и решительности в осуществлении «идеалов». Это приводило к своеобразной социальной аморфности творчества писателя. Заслугой «дворянской» литературы критик считал выведение типа «кающегося дворянина».
Большую симпатию Михайловского вызвали писатели демокртической и народнической ориентации – Гаршин («О Всеволоде Гаршине», 1885; «Ещё о Гаршине и других», 1886), Г. Успенский («Г.И. Успенский как писатель и человек», 1888). Главной заслугой писателей-разночинцев, и в особенности Успенского, критик считал последовательное развитие народной темы в её живой непосредственной данности.
Близким идейно и биографически писателем для Михайловского был Салтыков-Щедрин. Не случайно критик активно сотрудничал с журналом «Отечественные записки» до его закрытия. В статье «Щедрин» (1889) он отмечает, что сущность творчества Щедрина состояла в борьбе с пережитками крепостного права. При этом сатирическое обличение определялось не только отрицанием современных пороков, но и служением высоким идеалам. Критик доказывал, что из произведений писателя можно составить «целую хрестоматию» веры в будущее.
Среди «новых» писателей 80—90-х гг. Михайловский особенно ценил Чехова, которому посвящена статья «Об отцах и детях йог. Чехове» (1890). При этом сталевая манера Чехова оказалась чуждой критику. Он упрекает писателя в безразличии по отношению к действительности, в отсутствии «идеи», «убеждений», характерных для литераторов старшего поколения – поколения «отцов»: Белинского, Герцена, Некрасова. Очевидно, что чеховский подтекст и скрытая гуманистическая идея критиком-трибуном, критиком-публицистом не воспринимались.
Михайловский приветствовал литературный дебют Горького и в статье «О г. Максиме Горьком и его героях» (1898) отмечает социальную направленность его творчества, открывшего психологический тип босяка (хотя босяки изображаются уже в рамках «натуральной школы» или в романе Крестовского «Петербургские трущобы», 1864–1866). Выступивший в печати с проповедью народнической идеологии, в 80—90-е гг. он по-прежнему оставался критиком тенденциозного, социально-публицистического характера. Такова его фундаментальная работа 1892–1897 гг. «Литература и жизнь».
Л.М. Скабичевский, дебютировавший в 1866 г. в «Современнике», продолжил свой литературный путь в «Отечественных записках», «Деле», а после их закрытия – в либеральном журнале «Русская мысль», который редактировал В.А. Гольцев. Идейно Скабичевский был во многом близок Михайловскому. Характерно пересечение названий их концептуальных трудов: «Жизнь в литературе и литература в жизни» (1882) Скабичевского – «Литература и жизнь» (1892–1897) Михайловского. Однако есть и существенная разница.
В 70-е гг. Скабичевский во многом переосмысливает прежние господствующие установки, связанные с авторитетами Белинского и Чернышевского. Вместо теории «отражения действительности» он выдвигает тезис о субъективном отражении «впечатлений» о действительности. По сути, импрессионистическая концепция искусства ставит под сомнение позитивистскую теорию реализма. В работе «История новейшей русской литературы» (1891) Скабичевский ниспровергает положения знаменитой диссертации Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности». Исходя из этой концепции, он оценивает Пушкина и Гоголя как художников чистого искусства и не считает Гоголя основоположником реализма. Это было своеобразным возрождением эстетического направления в критике после засилия социологического метода.
Как историк литературы в 1891–1894 гг. он выпустил цикл биографических очерков о Пушкине, Лермонтове, Грибоедове, Добролюбове, Писемском. Большой резонанс вызвали его «Очерки по истории русской цензуры (1700–1763)»
Вообще критика больше интересовали общенаучные теоретические и историко-литературные проблемы, чем текущая современность. Так, в статье «Чем отличается направление в искусстве от партийности» (1891) он поднимает проблему художественного метода, считая что «партийность» как форма «отрицания» в литературе 1860-х гг. не оправдала себя. Так называемый «критический», т. е. «отрицающий», реализм в понимании теоретика является лишь одной из форм художественного воплощения действительности.
Достижением Скабичевского становится концептуальный анализ произведений писателей народнической ориентации. Статья 1888 г. «Беллетристы-народники» по существу вводит в научный обиход это понятие. Заслуга Г. Успенского в разработке темы отмечается уже в статье 1882 г. «Новый человек в деревне». Итоговой работой в этом направлении стала статья 1899 г. «Мужик в русской беллетристике (1847–1897)». При этом и от народнической литературы критик требовал художественности, а не только тенденции, подчеркивая, что писатель, пренебрегающий художественностью, пренебрегает своим «гражданским долгом».
Среди современных писателей высокую оценку критика получают Короленко, Гаршин, Надсон, Горький («Максим Горький», 1898). Скабичевский одним из первых попытался оценить творчество модернистов. Этому посвящены статьи «История новейшей литературы» (1891), «Заметки о текущей литературе» (1893), «Больные герои больной литературы» (1897), «Новые течения в русской литературе» (1901). Модернизм критик воспринимал как законную реакцию на натурализм, однако этим значение новых веяний для него и ограничивалось. Манифест Мережковского «О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы» он воспринял негативно.
Анализируя произведения Сологуба, Куприна, Чехова, Андреева, Скабичевский отмечает деградацию героя современной литературы. В программной статье «Больные герои больной литературы» он называет прежних «лишних» и «новых» людей богатырями по сравнению с нынешними персонажами. Все эти представители поколения «отцов» были здоровыми, здравомыслящими людьми с прочными идеалами на фоне депрессивного мироощущения типичного современного человека. Даже творчество Чехова вызвало у него подозрение о том, что «героем времени» вскоре станет пациент психиатрической больницы. Это критическое, «осуждающее» замечание, по сути, было предчувствием тенденции, приведшей к формированию экзистенциализма. Отсутствие общей социальной идеи возвращало литературу к миру частного человека с его болезненными онтологическими проблемами.
Проблема безыдейности современной литературы разрабатывается в статье «Очерки литературного движения после Белинского и Гоголя» (1888), где высоко оценивается творчество Н.С. Лескова, в котором Скабичевский видит продолжение гоголевской традиции. В статьях «Есть ли у г. Чехова идеалы?» (1903), «Антон Павлович Чехов» (1905) окончательно развеивается подозрение в безыдейности Чехова и его мнимом безразличии к острым проблемам современности. Переоценка творчества Чехова была во многом вызвана осмыслением его новаторской художественной манеры.
Поздние работы К.Н. Леонтьева воплощали две главные тенденции: усиление православно-консервативного мироощущения и интереса к стилевым проблемам. Религиозные искания Достоевского и Толстого, анализу которых посвящена статья «Наши новые христиане Ф.М. Достоевский и гр. Лев Толстой» (1882), он воспринял как интеллигентскую философскую игру, ведущую к ереси, к уклонению от церковного предания. Еще в большей степени это выразилось в полемике с Вл. Соловьёвым по поводу его мессианской эсхатологической интуиции, в центре которой оказывается откровение Софии и духовное призвание России в становлении богочеловеческого, христианского Всеединства. Православие Леонтьев переживал почти как национальную собственность, отсюда его искренняя религиозная ревность, которую Бердяев оценивал как консервативную романтику.
В поздней работе «Анализ, стиль и веяние» (1890), посвящённой осмыслению поэтики Л.Н. Толстого, Леонтьев реализует свой, по существу, эстетический тип мышления (он также раскрывается в его художественном творчестве, например, в романе «Египетский голубь», 1881–1882). В своих оценках Толстого критик пересекается с концепцией «органической» критики Ап. Григорьева.
Так, Леонтьев отмечает искусственность построения системы идей в романе «Война и мир», указывая на то, что автор наделяет героев мыслями своей культурной эпохи, что не соответствует принципу естественного, «органического» историзма. Как недостаток Леонтьев отмечает излишнее внимание художника к деталям, подробностям, нарочитую описательиость. Вероятно, на эти предвзятые оценки решающим образом влиял монашеский аскетизм его позднего самосознания. Эстетические «пороки»
Толстого были в полной мере свойственны как художнику ему самому. В этом отношении критик отдает предпочтение «Анне Карениной», считая поэтику романа «органически» связанной с действием. Недостатком критик считал и однобокое изображение народа как персонажа по преимуществу положительного. Это нарушало духовно-эстетическое чувство правды как критерия прекрасного, воспринималось как искусственно-идиллический вымысел.
В целом в 80—90-е гг. критики все больше уходили от социальной тенденции в эстетику, собственно филологию, философию и психологию. Эволюция критической методологии выражала общую эволюцию культуры конца XIX в. в сторону большей камерности и субъективности.
Субъективные стилевые черты усиливались и в литературном процессе. Индивидуалистическое начало подчеркивалось пессимистическими настроениями, в которых угадывался отголосок лермонтовского романтизма. Таково по преимуществу было творчество В.М. Гаршина (1855–1888). В его художественном и душевном мире жизненные ситуации и настроения эпохи приобретают характер напряженной драмы, придавая произведениям особую эмоциональную интенсивность, черты экспрессионизма, который затем станет главенствующим в творчестве Л.Н. Андреева (1871–1919).
В творчестве В. Г. Короленко (1853–1921) субъективное начало соединяется с неприкрашенной правдой факта. Однако жанровая природа его прозы тяготела к сентиментальному наследию. Его излюбленная форма – это путевой очерк, дорожные зарисовки.
Субъективное восприятие мира и художественное мышление особенно последовательно выразилось в поэзии. В 1883–1891 гг. выходят четыре выпуска «Вечерних огней» А. Фета (1820–1892) с их утончённой музыкальностью и импрессионизмом. Сложный мир внутренних переживаний выражается в творчестве поэтов «больного поколения» – К.К. Случевского (1837–1904), К.М. Фофанова (1862–1911), С.Я. Надсона (1862–1887). Этот своеобразный русский «декаданс» (французских символистов называли «проклятыми» поэтами) сформировал ту психологическую почву, на которой возник символизм.
После книги Мережковского «О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы» выходят сборники «Русские символисты» (1894–1895), которые редактировал и создавал В.Я. Брюсов. В 90-е гг. возникает символизм первой волны, объединивший творческие устремления В.Я. Брюсова (1873–1924), КН. Бальмонта (1867–1942), Д.С. Мережковского, З.Н. Гиппиус (1869–1945), Ф.К. Сологуба (наст, фамилия Тетерников; 1863–1927). Особняком стоит творчество И.Ф. Анненского (1855–1909). Именно он в поэтическом уединении начал осваивать новый художественный язык, воспринятый от французских символистов.
Субъективно-лирическое начало определило стилистику первых публикаций новых реалистов рубежа веков: И.А. Бунина (1870–1953), A.M. Куприна (1870–1938), JI.H. Андреева (1871–1919), М. Горького (1868–1936). Бунин в поэзии и прозе, сохраняя верность традиции, тяготел к импрессионизму. Стиль Андреева принято считать экспрессионизмом. Куприн использовал традиции романтизма и натурализма. Ранний Горький соединял романтизм и очерковый бытописательский реализм, близкий к натуральной школе и эстетике Короленко.
Новые тенденции формировались также и в других областях искусства. Передвижничество в живописи теряло острую народническую направленность. Знаковой картиной стала работа И.Е. Репина «Арест пропагандиста» (1880–1892). Теряя социальность, живопись приобретает эстетическую камерность, сосредоточенность на внутреннем мире человека, на красоте как цели искусства. В работах В.А. Серова (1865–1911) «Девочка с персиками» (1887), «Девушка, освещенная солнцем» (1888), К.А. Коровина (1861–1939) «Зимой» (1894), «У балкона» (1888–1889) формируются черты русского импрессионизма.
В работах художников М.А. Врубеля (1856–1910) «Демон (сидящий)» (1890); «Пан» (1899); «Царевна-Лебедь» (1900) и др., М.В. Нестерова (1862–1942) «Видение отроку Варфоломею» (1889–1890); «Труды Преподобного Сергия» (1898); «Великий постриг» (1898) и др., В.М. Васнецова (1848–1926) «Крещение Руси» (1890); «Богоматерь с младенцем» (1890); «Богатыри» (1881–1898); «Иван-царевич на сером волке» (1889) и др. возникает и развивается религиозно-мифологическая живопись, типологически близкая символизму.
Романтический пафос выражается и в музыке. Идея непримиримой борьбы добра и зла раскрывается в творчестве П.И. Чайковского (1840–1893). Его поздние оперы «Пиковая дама» (1890), «Иоланта» (1891) развивают традиции «литературно-музыкальной» драмы – опер «Евгений Онегин» (1878), «Мазепа» (1883), «Черевички» (1885). В 70—90-е гг. создаются балетные шедевры композитора – «Лебединое озеро» (1876), «Спящая красавица» (1889), «Щелкунчик» (1892). Высшей точкой развития романтического пафоса у композитора стала 6-я «Патетическая» симфония 1893 г. Близким по духу было музыкальное творчество Н.А. Римского-Корсакова (1844–1908), создавшего в 1898 г. лирическую оперу «Царская невеста». Новые черты музыки рубежа веков нашли свое яркое выражение в творчестве С.В. Рахманинова (1873–1943) и А-Н. Скрябина (1871/72—1915).
Активно развивается театральное искусство. Главными центрами музыкальной жизни России были Мариинский театр в Петербурге и Большой театр в Москве. Возникает так называемая частная опера С.И. Мамонтова (1841–1918) и С.И. Зимина (1875–1942). На сцене Московской частной (основана в 1885 г.) оперы Мамонтова раскрылся талант Ф.И. Шаляпина (1873–1938).
В 1898 г. в Москве состоялось открытие Художественного театра, основанного К.С. Станиславским (1863–1938) и В.И. Немировичем-Данченко (1858–1943). Создатель своей режиссерской системы, Станиславский требовал от актеров не имитации переживаний, а своеобразного «перевоплощения», подлинности сценических чувств. 14 октября 1898 г. на сцене театра «Эрмитаж» состоялось первое представление пьесы А К. Толстого «Царь Федор Иоаннович». В 1902 г. усилиями промышленника и мецената С.Т. Морозова (1862–1905) для театра было построено новое здание (архитектор Ф.О. Шехтель), оборудованное по последнему слову техники, установку которой осуществлял лично Морозов. С Московским художественным театром связано творчество Чехова-драматурга Духовным рождением театра стала постановка его «Чайки» в декабре 1898 г. Летящая чайка с тех пор служит эмблемой театра.
На рубеже XIX–XX вв. в России появилось кино. Первые видовые и хроникальные фильмы демонстрировались в мае 1896 г. сначала в Петербурге, в увеселительном саду «Аквариум», а затем в Москве, в саду «Эрмитаж». С 1908 по 1917 г. в России будет создано около двух тысяч игровых кинокартин.
Политический застой, парализовавший социальную сферу в начале 80-х гг., по существу закрывший ее для литературы, философии и искусства, направил творческие искания конца века вглубь человеческой души. Предметом художества стал частный, внутренний мир человека. Эта сосредоточенность и самоуглубление в итоге выплеснулись в радугу модернизма начала XX столетия.
Проза 80—90-х годов
Последнее двадцатилетие XIX в. является значимым этапом развития русской литературы в целом и русской прозы в частности. В этом периоде подводились своеобразные итоги развития социально-психологического реализма, наиболее последовательно выразившегося в жанре романа и во многом определившего литературный процесс всей 2-й половины столетия. Наряду с этим 80—90-е гг. наметили важные тенденции литературного процесса, выявившиеся на рубеже XIX–XX вв.
Реализм 50—70-х гг. тяготел к созданию масштабных эпических картин русской жизни. Социальные перемены пореформенного периода сначала «расшатали» устойчивые формы действительности, привели к освобождению деструктивных, революционных сил, а затем началось целенаправленное подавление общественной и индивидуальной свободы. Исторический процесс как бы потерял свою линейность, поступательность. Единство мира, с одной стороны, формировалось всей консервативной политикой Александра III, а с другой, чувствовалась искусственность, недолговечность этой стабильности.
Писатели практически уходят от художественного освоения общественно-исторического процесса, который лишался сформированной до этого логики: освобождение крестьян, демократические реформы, свобода печати и т. д. С исчезновением историзма эстетический образ мира лишается эпического единства. Изменение целостного образа реальности деформирует и сам реализм. Эпический реализм 50—70-х гг. начинает восприниматься как пройденный этап развития литературы.
Изменение природы реализма меняет и жанровую тенденцию литературного процесса. Социально-психологический роман в разных его модификациях уходит в прошлое. На первый план выдвигаются малые эпические жанры: повести, рассказы. Усиливается тенденция к очерковым формам прозы. Не стремясь достичь концептуального обобщения действительности, художники сосредоточиваются на фактографическом изображении быта и на частном мире человека.
Показательна эволюция художественного мышления классиков, писателей, переживших эти онтологические изменения.
И. С. Тургенев в своем позднем творчестве тяготеет к иррациональной, интуитивной, импрессионистически субъективной картине мира. Это такие произведения, как «Сон» (1877), «Песнь торжествующей любви» (1881), «Клара Милич» (1883), «Стихотворения в прозе» (1882).
М.Е. Салтыков-Щедрин создает свои «Сказки для детей изрядного возраста» (1886) и «Мелочи жизни» (1886–1887) – само название симптоматично, своим последним крупным произведением «Пошехонская старина» (1887–1889) он подводит своеобразный итог критического реализма в его непосредственной форме – форме родовой хроники.
На 80—90-е гг. приходится позднее творчество Н.С. Лескова, который в 1881 г. завершает формирование цикла о праведниках, выражая свое понимание этого нравственно-философского и социального явления в статье «О героях и праведниках» (1881). Вместе с Л.Н. Толстым Лесков заостряет этические проблемы современности. В статьях «Граф Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как ересиархи» и «Золотой век» он защищает «религию любви», полемизируя с К.Н. Леонтьевым, вставшим на позиции иерархического монашеского православия и «религии страха». Лесков преодолевает «распад» единого эпического пространства, объединяя свои произведения в циклы. Кроме цикла о праведниках, это «рассказы кстати» и святочные рассказы.
Л.Н. Толстой тяготеет к экзистенциальному реализму. Традиции классического реализма в его повестях 80—90-х гг. смещаются в сторону осмысления пограничных, переломных состоянии бытия и мира души. В объективное видение мира властно вторгается религиозно-философская идеология, сформированная после духовного перелома 1881 г. Таковы «Смерть Ивана Ильича» (1886), «Крейцерова соната» (1889), «Дьявол» (1889–1890), «Отец Сергий» (1890–1898). Да и последний социально-психологический роман писателя «Воскресение» (1899) выражает острую религиозно-философскую, экзистенциальную проблематику, связанную прежде всего с миром личности – осознанием греха и ответственности.
Даже А.П. Чехов при всей его эпической уравновешенности подчеркнуто остро выразил проблему утраты идеала, исчезновения поступательного чувства истории, показал мыслящего человека, погрязшего в повседневных мелочах и потерявшего высокий смысл существования. Такова, например, «Скучная история», опубликованная в 1889 г. В жанровом отношении писатель тяготел к малым формам, а его внимание к мелочам, к деталям, к, казалось бы, второстепенным репликам определялось эстетической тенденцией к интуитивному постижению реальности.
Характерным явлением времени становится бытописательская беллетристика. Именно она определяла основное содержание литературного процесса. Противопоставляя художников своего типа живым классикам, А.И. Эртель писал в 1899 г.: «…Беллетристическим талантам нашего объема нечего пока делать в литературе. Теперь только Толстым и Чеховым дорога, ибо они настолько крупны, что им даже безвременье не страшно».
Воспитанная масштабом русских классиков, критика даже выработала специальный термин «второстепенные» писатели. Обычно в этот ряд включают писателей, преломлявших в своем творчестве народнические тенденции. Среди них оказываются И.Н. Потапенко, Н.Н. Златовратский, П. В. Засодимский, A.И. Эртель и др. Близким по типу оказывается и творчество B.М. Гаршина, В.Г. Короленко. По инерции в разряд «второстепенных» попадают также П.Д. Боборыкин, П.И. Мельников-Печерский, Д.Н. Мамин-Сибиряк. Конечно, их художественный мир отличается от мира Тургенева или Лескова, Достоевского или Л.Н. Толстого. Но отличается не в смысле качества или масштаба.
Если воспринимать творчество прозаиков 80—90-х гг. как «завершение» периода реалистической классики, то они оказываются в тени, на закате общего философско-эстетического процесса. Однако если видеть в их творчестве движение к новому, понимать как явление симптоматическое, сквозь которое сквозит рубеж XIX–XX вв. и предчувствие нового века, – оценка этого «второстепенного» периода меняется.
Бытописательский, «этнографический» эмпирический реализм Боборыкина, Мельникова-Печерского и Мамина-Сибиряка выражал стремление к сохранению образов, духа и плоти эпохи и культуры, признанной классической.
Творчество писателей «народников» приоткрывало духовные искания Высшей Правды, попытку прозрения в народную Душу, веками чающую Царствия Божия на земле.
Проза Гаршина и Короленко намечала субъективное в объективном, формировала «лирический» образ мира, несмотря на жёсткую фактографию художественного видения бытия.
Конец века стал началом творческого формирования художников нового столетия: Бунина, Куприна, Л. Андреева, Горького. Развивая традиции классического реализма, преодолевая кризис «безвременья», о котором говорил Эртель, эти писатели создали реализм XX в., с его тенденциями к романтизму, натурализму, экспрессионизму, импрессионизму, символизму, мифологизму и другим стилевым формам нового эстетического мышления.
Проза 80—90-х гг. в такой системе становится важнейшим этапом развития русской литературы. Подобно кристаллу, она преломляет в себе и прошлое, и будущее многогранной национальной словесности. И в этом заключается её настоящее — её настоящее, подлинное значение.
П.И. Мельников-Печерский (1818–1883)
Павел Иванович Мельников (псевдоним Андрей Печерский) родился в небогатой дворянской семье. Его детство прошло в небольшом городе Семёнове, окруженном старообрядческими скитами. Родное Заволжье с его богатыми народными традициями, не тронутыми европейской цивилизацией, дикая колоритная природа сильно повлияли на мироощущение будущего писателя «этнографа».
В ранней юности Мельников пережил глубокое влияние французской литературы и культуры. Он вспоминал, что с 14 лет «с жаром» читал Вольтера, знал наизусть песни Беранже и «презрение ко всему» отечественному считал своей «обязанностью». Это «французское воспитание» смешалось с русским в период поступления в Нижегородскую гимназию, где учителя были «люты» и редко обходились без розог и «площадной брани».
Высшее образование Мельников получил в Казанском университете, окончив словесный факультет со степенью кандидата в 1837 г. В университете он увлекся изучением Востока: учил арабский, персидский и монгольский языки, общался со студентами-бурятами и даже подружился с бурятским ламой. Увлечение восточной культурой, накладываясь на изначальное французское воспитание, помогло осознать себя по-настоящему. Мельников, по собственному признанию, пережил внутренний переворот и «переродился» в русского.
После окончания университета планировал продолжить научную карьеру на кафедре славянских наречий. Но из-за неизвестного конфликта был выслан в сопровождении солдата в город Шадринск Пермской губернии. Однако вскоре он был «прощён» и получил назначение на должность учителя в Пермской гимназии, где преподавал историю и статистику. Позже становится учителем истории в Нижегородской гимназии. Учителя-разночинцы относились к нему неприязненно. Им не нравились его светские привычки, поездки на балы, маскарады и т. п. Работу учителем Мельников соединял с должностью библиотекаря гимназии, правителя дел Нижегородского статистического комитета, члена тюремного комитета. Всё это давало большой жизненный материал для будущего литературного творчества.
Как писатель Мельников тяготел к традициям натуральной школы, чему способствовала служба в комитете по статистике. Первой публикацией стал цикл из девяти очерков по истории и экономике края – от Саровской пустыни до Перми. Это были «Дорожные записи на пути из Тамбовской губ. в Сибирь» (1840). Произведения носили фактографический характер. Данная черта сохранится как важная стилевая особенность на протяжении всего творчества писателя.
Первые собственно художественные произведения 1840 г., написанные в сатирической манере в подражание Гоголю, успеха не имели. Это были отрывки из романа «О том, кто такой был Эльпидифор Перфильевич и какие приготовления делались в Чернограде к его именинам» и «О том, какие были последние приготовления у Эльпидифора Перфильевича и как собирались к нему гости». По замыслу это должен быть роман «Торин», где Мельников хотел высмеять подражателей А.А. Бестужева-Марлинского, в особенности их «кудреватый слог». Вскоре сам автор писал брату о том, что никогда не простит себе, что «напечатал эту гадость». После первой литературной неудачи он оставляет писательство на 12 лет. Следующее художественное произведение Мельников опубликовал лишь в 1852 г.
Важными событиями в его жизни становятся знакомства в Нижнем Новгороде с В.И. Далем и с архиепископом Иаковом – специалистом по истории русского раскола. Под их влиянием Мельников сосредотачивается на изучении археологии, статистики, истории, работе с архивами. С 1841 г. становится корреспондентом Археологической комиссии, с 1846 г. членом Русского географического общества, с 1847 г. – членом-корреспондентом Общества сельского хозяйства.
В 1845 г. по приглашению Нижегородского губернатора князя М.А. Урусова Мельников становится редактором неофициальной части «Нижегородских губернских ведомостей», где, по существу, был автором большинства публикаций. В основном это были исторические и этнографические очерки краеведческого содержания. Эти произведения выходили анонимно, а под статьей 1850 г. «Концерты на Нижегородском театре» впервые появился псевдоним Печерский, предложенный В.И. Далем. Мельников жил на улице Печерской, отсюда, по-видимому, и псевдоним. Позже писатель подписывал этим псевдонимом свои художественные произведения, а исторические и этнографические материалы выходили под его фамилией.
Кроме редакторской работы Мельников прославился своими публичными лекциями по истории края и публикациями древних архивных документов.
В 1847 г. он становится чиновником особых поручений при князе Урусове и сосредотачивается на вопросах, связанных с делами раскола. По протекции. Даля в 1850 г. Мельников был причислен к Министерству внутренних дел. В 1852–1853 гг. он руководил Статистической экспедицией министерства по изучению раскола и в 1854 г. представил «Отчет о современном состоянии раскола в Нижегородской губернии», который представлял собой не сухой документ, а своеобразную энциклопедию жизни самобытной культурно-религиозной прослойки русского общества.
Мельников придерживался официальной церковной и государственной точки зрения на раскол как вредное социальное и духовное явление. Он считал даже, что старообрядцы примут любую власть, которая даст им возможность следовать своим верованиям и традициям. Как чиновник Министерства внутренних дел он страстно боролся с раскольниками, закрывая заволжские скиты, часовни, конфискуя древние, чтимые раскольниками иконы, за что попал в отрицательные персонажи – «зорители» (разорители) – старообрядческого фольклора. В преданиях раскольников Комаровского скита Мельников со «всем своим воинством» ослеп от света чудотворной иконы, но дьявол вернул ему зрение и наделил даром видеть сквозь стены.
Государственная политика преследования староверов изображается, например, в повести Н.С. Лескова «Запечатлённый ангел», где православные «древ л его» благочестия изображаются с большим уважением и симпатией, хотя сама идея раскола и разоблачается как фанатическая и сектантская. Характерно, что преп. Серафим Саровский, которого многие раскольники глубоко почитали как подвижника, советовал им вернуться «в православие», уйти из «раскола» и соединиться с церковью. Преп. Серафим сравнивал Православную Церковь с большим кораблем, а раскольничью – с маленькой лодкой, к этому кораблю привязанной. Мельников применял не только административные меры, но и вступал в религиозные споры и даже обратил в православие несколько скитов (за что получил орден св. Анны 3-й степени).
Осуждая раскол, он в то же время писал и о привлекательных чертах староверов. Наряду с нетерпимостью и упрямством он отмечал сообразительность и деловитость, честность в ведении промысла и торговли. Показательно, что многие купеческие и предпринимательские династии центрального региона были старообрядцами, например, знаменитые благотворители и меценаты Морозовы. Б период реформ Мельников выступил с заявлениями о том, что не считает более раскол опасным для государства, и потому преследование староверов становится излишним и даже вредным. Позже он пришел к мысли, что старообрядцы являются хранителями национального духа, и даже видел в «образованных старообрядцах», вышедших из «раскола», «оплот будущего России». Для самого писателя работа в комиссиях по делам раскола стала уникальной школой знакомства с народной жизнью, самобытной психологией и философией исконно русского человека, сокровищами живого языка.
В 50-е гг. Мельников-Печерский возвращается к литературному творчеству. С одной стороны, он поднимается по ступеням служебной лестницы: в 1855 г. получает чин статского советника, по поручению министра внутренних дел С.С. Ланского участвует в составлении отчета о состоянии страны за 1855 г., содержавшего объективный анализ общественных «язв» и получившего высокую оценку у Александра II при подготовке будущих реформ. С другой стороны, Мельников признавался, что государственная служба становится для него «противнее рвотного».
В 1852 г. по совету Даля в славянофильском журнале «Москвитянин» Печерский публикует рассказ «Красильниковы». Произведение написано в этнографической манере, которая приобретала обличительную направленность. Умный и хозяйственный купец Красильников убивает жену своего «учёного» сына за то, что она немка и «еретица». Сын Красильникова, не пережив потрясения, сходит с ума. Частный случай раскрывал обобщённую черту национального характера – неуважение к личности, темный фанатизм простого русского человека. Кроме обличительного фактографизма, критика отметила у писателя мастерское владение «чистым русским языком».
Следующие произведения Печерского появились в печати через пять лет. В 1857 г. в «Русском вестнике» Каткова он публикует рассказы «Дедушка Поликарп», «Поярков», «Медвежий угол», «Непременный». В рассказах обнаруживались традиции натуральной школы, влияние творчества Гоголя и Даля. Поэтика произведений строилась на подробном изображении быта провинции, очерковой точности, документальности. Материалом послужили нижегородские впечатления, связанные с негативными сторонами современной русской действительности.
Среди ценителей произведений оказались, с одной стороны, Александр II, который сказал главе путейного ведомства, подавшего на писателя жалобу, что Мельников лучше знает, что у него там творится. А с другой стороны – публицисты «Современника», которые стремились привлечь Печерского в свой журнал, видя в нем единомышленника. Высокую оценку произведение получило у Чернышевского, Писемского, Панаева и Некрасова. В литературном процессе Мельников-Печерский стал восприниматься как писатель обличительного направления, близкий Салтыкову-Щедрину.
В 1857 г. Печерский публикует в «Русском вестнике» историческую повесть «Старые годы», которую долгое время считал своим лучшим произведением. В ней в восторженном рассказе старого слуги он описывает буйную порочную жизнь помещика. Самодурство, деспотизм и такое же страстное, стихийное покаяние крепостника XVIII в. раскрываются как черты национального характера вообще.
Несмотря на отсутствие оппозиционных идей, в 1858 г. цензура запретила издавать «Рассказы А. Печерского» отдельной книгой. Сборник был опубликован лишь в 1876 г.
В конце 50 – начале 60-х гг. Печерский публикует свои произведения в «Современнике». Это «Бабушкины россказни» (1858), где также возникают стилизованные воспоминания о нравах XVIII в., и повесть «Гриша» (1861) о драматичной судьбе юноши-старообрядца. Стремясь к святости и религиозным подвигам, он становится соучастником преступления. Мотив «ослепления» народной души придавал этнографическому произведению нравственно-психологический и философский характер. Произведение знаменательно тем, что в нем формируются и другие типичные для Печерского мотивы и стилевые особенности: религиозные искания народа, духовные и культурные противоречия русского характера, разрывающегося между христианским аскетизмом и магической обрядовостью, богатый фольклорный материал, колорит живой речи. Писателю удавались яркие национальные характеры. Таким, например, был старообрядец Варлаам, который, несмотря на аскетические традиции раскольников и почтенный возраст, изображается как человек, любящий выпить и погулять.
В 1859 г. Мельников участвовал в издании ежедневной газеты «Русский дневник», где публикует рассказ «На станции» и отрывок незавершённой повести «Заузольцы», предваряющую роман «В лесах». Затем сотрудничает в газете П.С. Усова «Северная пчела», где в 1860 г. помещает любопытную рецензию на пьесу «Гроза» Островского. Как уникальный специалист по старообрядчеству, Мельников называет семью Кабановых с ее формалистическим подходом к духовности раскольничьей.
В эти годы Мельников продолжает изучение старообрядчества, публикуя в различных журналах статьи и исторические материалы. Интересуют его и другие оппозиционные религиозные движения. В статьях «Тайные секты» (1868) и «Белые голуби» (1869), напечатанных в «Русском вестнике», писатель исследует хлыстовство. Печатал Мельников и историко-публицистические работы, в частности, в 1863 г. опубликовал брошюру для народного чтения «О Русской Правде и польской кривде», направленную против польского восстания. Позже в историческом очерке «Княжна Тараканова и принцесса Владимирская» (1868) доказывал, что самозванство – «бесспорно польское дело». Патриотизм по эмоциональной инерции иногда приобретал у писателя националистический оттенок.
В 1866 г. Мельников-Печерский вышел в отставку, поселился в Москве, в доме Даля, и целиком ушел в литературную работу. С 1868 г. он стал постоянным сотрудником «Русского вестника», хотя к Каткову особой симпатии не испытывал. Привлекали выгодные материальные условия. Среди близких по духу литераторов, кроме Даля, были А.Ф. Писемский и А.Н. Майков. Мельников-Печерский был знаком и с Н.А. Некрасовым, но не любил его, считая двойственным и неискренним.
В 1871–1874 it. Мельников-Печерский создает первую часть своего главного произведения, романной дилогии – «В лесах». В 1875–1881 гг. пишет второй роман дилогии – «На горах». Последние главы книги он диктовал жене уже будучи тяжело больным.
В композиции романов сохранялась привычная для писателя очерково-этнографическая структура. Дилогию объединяли сюжеты, связанные не только общими героями, но и образом рассказчика. Сказовая манера в романах перекликалась с традициями Лескова. Повествование ведётся от лица Андрея Печерского, простодушного сказителя. Авторское присутствие выражается и напрямую – в постраничных комментариях и поправках.
Объектом художественного повествования в дилогии являлся семейно-бытовой уклад разных сословий и социальных групп. Сквозным мотивом становится нетронутая старина раскольничьих скитов и соседство буржуазного предпринимательства с его разлагающей властью денег. Автор изображает быт патриархального купца, промышленника западной ориентации, священнослужителя, крестьянина, артели рабочих, секты хлыстов, женского скита, мужского монастыря и других формаций российского общества. Энциклопедичность и пестрота изображения действительности придают дилогии черты этнографической эпопеи.
В центре романов история нескольких купеческих семей в переходный исторический момент, когда формируется новое финансово-буржуазное сознание. Так, Алексей Лохматый, увлечённый страстью наживы, теряет все нравственные ценности, а Гаврила Залетов ради денег уступает свою единственную дочь сладострастному старику. Такой же беспощадной силой становится в романах и религиозный фанатизм, ломающий судьбы Манефы и ее дочери Флёнушки, которая вынуждена уйти в монастырь.
С другой стороны, главные герои романов – Потал Максимыч Чапурин, его дочь Настя, Флёнушка, Петр Самоквасов и Дуня Смолокурова – сохраняют здоровые нравственные устои, верность семье, чувство долга. Несмотря на разрушительное влияние денег и другие тёмные стороны жизни, автор верит в народную душу, в русский характер, любуясь силой, озорством, предприимчивостью своих героев. Сказовая манера позволяла сохранить «объективность» – взгляд со стороны – и в то же время выразить отношение к содержанию произведения.
Печерский плодотворно использует различные фольклорные источники и жанры. В текст дилогии органично вплетены сказки, легенды, песни, плачи, пословицы, поговорки, поверья, обряды и праздничные ритуалы. Важную композиционную и стилевую роль играет народный календарь, воспринимала. как органичный синтез православных церковных и природно-языческих циклов жизни русского человека
Изображая различные культурные и религиозные пласты, противоречия личного сознания и общинного мировоззрения, Печерский сохраняет этнографическую, почти научную объективность, не углубляясь в анализ причин и последствий этих противоречий, не выстраивая специальных философских концепций. В его богатом художественном мире находится место для всего: самобытных характеров, бытовых форм, строгих ритуалов и правил поведения, ярких костюмов, интерьеров, особенностей речи. Это и определяет гармоничный универсализм образного пространства, что, в свою очередь, может восприниматься как своего рода стихийная философия, близкая к «роевой» философии Толстого и к «всемирной отзывчивости» Достоевского. В этом смысле сама цельность мира Печерского также является выражением философии самобытно русской.
Цельность мира Печерского достигается и за счет языка. Это своеобразная языковая модель русского мира и души. После публикации романа «В лесах» министр народного просвещения в целях предотвратить упадок русского языка предложил учить языку по тексту этого произведения. Мельников писал жене о своем успехе следующее: «Меня честят, как лучшего современного писателя, и, что всего удивительнее, разные фрейлины восхищаются моими сиволапыми мужиками и раскольничьими монахинями… Даже в нигилистических лагерях про меня толкуют», признавая за «неблагонадёжного в политическом отношении, даже нечестного (это высокая похвала из их уст), но в отношении искусства первостепенным талантом».
Роман «В лесах» был посвящён царю. Вероятно, для писателя это не являлось монархическим реверансом, просто он видел в царе символ народного единства. Таким же символом народного единства, многообразной в своем единстве русской души были и его романы.
Как выразитель многоликой русской души Печерский был высоко оценен современниками. П.М. Третьяков заказал P.H. Крамскому портрет писателя для своей знаменитой галереи. Впечатления от романа «В лесах» отразились в опере Н.А. Римского-Корсакова «Сказание о граде Китеже и деве Февронии». Образы дилогии повлияли на картины М.В. Нестерова «В лесах», «На горах», «Великий постриг», «За Волгой» и др. Этнографическая дилогия о старообрядцах превратилась в своеобразный литературный эпос общенационального масштаба. Возможно поэтому, современная и последующая критика ограничилась лишь общими похвалами. Это была сама жизнь, воплощенная в слове. Что же здесь можно было интеллектуально анализировать? Только созерцать.
Однако это была та Россия, которая исчезла с наступлением XX в. Как в древних эпических текстах, в художественном слове Мельникова-Печерского она осталась запечатленной навсегда.
Литература
Невзоров Н. Павел Иванович Мельников (Андрей Печерский), его жизнь и литературное значение. Казань, 1883.
Соколова В.Ф. П.И. Мельников (Андрей Печерский). Очерк жизни и творчества. Горький, 1981.
П.Д. Боборыкин (1836–1921)
Пётр Дмитриевич Боборыкин родился в состоятельной помещичьей семье. Получил разностороннее образование. Сначала учился на юридическом факультете Казанского университета, затем на химическом отделении Дерптского университета, потом на медицинском факультете того же университета. В 1860 г. он переехал в Петербург, где через год сдал экзамен на кандидата права. Не стеснённый в средствах, он подолгу жил в Европе, становясь проводником новых философских и эстетических течений.
Литературным творчеством Боборыкин занялся еще в студенческие годы. В 1860 г. он опубликовал комедию «Однодворец», в 1862–1864 гг. выходит его роман о жизни студенчества «В путь-дорогу!». С 1861 г. он сотрудничает в «Библиотеке для чтения», публикуя фельетоны под псевдонимом Пётр Нескажусь.
В 1863 г. Боборыкин становится редактором-издателем этого журнала. Одним из важных событий этого периода стала публикация романа Н.С. Лескова «Некуда» (1864). Однако в целом издательский проект оказался неудачным, и в 1865 г. журнал был закрыт. На волне демократической активности «антинигилистическое» произведение и его издатель подверглись резкой критике со стороны Д.И. Писарева, В.А. Зайцева, М.Е. Салтыкова-Щедрина.
В 1865–1867 гг. Боборыкин путешествует по Европе, соединяя частную поездку с работой корреспондента. Очень общительный, он знакомится с лидерами русской эмиграции – Герценом, Огаревым, Лавровым, Бакуниным; присутствует на Брюссельском конгрессе I Интернационала и публикует о нём сочувственные материалы в газете «Голос». В 1871 г. на страницах «Отечественных записок» Боборыкин помещает очерки «На развалинах Парижа», осуждая кровавый разгром Парижской Коммуны. Он утверждал, что поражение Парижской Коммуны свидетельствует о кризисе буржуазной демократической идеи. Заинтересовавшись идеями марксизма, в 1895 г. он знакомится с Ф. Энгельсом. Вообще же писатель придерживался умеренных либеральных взглядов и не разделял модного в 60-е гг. революционного радикализма.
Большое влияние на мировоззрение и эстетические взгляды Боборыкина оказало знакомство с идеями позитивизма. В Европе писатель углублённо изучает концепции О. Конта, И. Тэна, Г. Спенсера, исследует эстетику и художественную практику Э. Золя и братьев Гонкур. В 1876 г. через Тургенева Боборыкин начинает переписываться с Золя, а в 1878 г., во время поездки на Всемирную парижскую выставку и Международный литературный конгресс, лично знакомится с некоторыми французскими писателями. Кроме Золя, это были Э. Гонкур и А. Доде.
В России Боборыкин активно пропагандирует позитивизм и натурализм. В 1876 г. он выступает с циклом лекций «Реальный роман во Франции» (опубликованы в том же году), в 70—80-е гг. печатает свои статьи с Новые приемы французской беллетристики» (1872), «Писатель и творчество» (1882). Он становится не только теоретиком «золаизма», но и создает собственную художественную концепцию, доказывая при этом, что практика натуралистов не была открытием французской литературы, а определилась уже в рамках русской «натуральной школы».
Эстетическая концепция Боборыкина раскрывается в его статьях «Мысли о критике и литературном творчестве» (1878), «Мотивы и приёмы русской беллетристики» (1878), «Наша литературная критика» (1883), «Европейский роман в XIX столетии» (1900), «Русский роман до эпохи 60-х гг.» (1912). Суть творческой установки писателя состояла в максимально полном, предельно объективном и оперативном изображении современной действительности. На это эстетическое представление определенным образом повлияло сотрудничество в газетах. Его привлекала «злоба дня», которую уже ставили в центр внимания публицисты «Современника», но без выраженной социальной идеологии и острой авторской тенденции.
В жанровом отношении писатель был многообразен. Он создавал романы и повести, рассказы и очерки, писал пьесы. При этом романы появлялись с уникальной для русской эпической традиции быстротой, что вызывало у «классиков» раздражённую иронию. Так, И.С. Тургенев, например, писал: «Такой торопливой плодовитости нет другого примера в истории всех литератур! Посмотрите, он кончит тем, что будет воссоздавать жизненные факты за пять минут до их нарождения».
Действительно, Боборыкин в своих произведениях откликается на самые злободневные вопросы. Исканиям героев в послереформенные годы посвящен роман «Солидные добродетели» (1870), становлению буржуазии – роман «Дельцы» (1872–1873), «славянскому вопросу» – роман «Доктор Цыбулька» (1874); неудачному хождению русской интеллигенции в народ – «Лихие болести» (1876); проблемам «свободной любви» и женской эмансипации посвящен рассказ «Посестрие» (1871); повесть «Однокурсники» (1901) выражала непосредственные впечатления от постановок пьес Чехова в Художественном театре и т. д.
В духе французского натурализма Боборыкин не боялся вводить в литературный процесс неосвоенные темы. Ранний роман «Жертва вечерняя» (1868) затрагивал интимные переживания светской женщины. Смелость писателя была неоднозначно встречена читательской аудиторией. Публикация произведения закрепила за ним славу «скандального», безнравственного писателя. На эту «натуралистическую» откровенность Салтыков-Щедрин откликнулся фельетоном «Новаторы особого рода» (1868).
Позже ироническое отношение к Боборыкину сменилось внимательным уважением. Л.Н. Толстой отмечал художественную чуткость писателя; Чехов называл Боборыкина «добросовестным тружеником» и подчеркивал, что его романы «дают большой материал для изучения эпохи». В связи с юбилеями его литературной деятельности в 1900 и 1910 гг. представители нового поколения писателей и критиков, в том числе Чехов, Горький, Л. Андреев, отмечали, что Боборыкин обладает высокой культурой и наблюдательностью и потому его заслугой является то, что он осгетил немало явлений, которые ранее не попадали в поле зрения современной литературы.
Наиболее характерным явлением прозы Боборыкина 70– 90-х гг. были его «социальные» романы, закрепившие за ним славу «певца русского капитализма». В них писатель отходит от натуралистической бесстрастности. Как русский гуманно он сочувственно относится к жертвам буржуазной наживы, однако при этом по-европейски верит в социальную эволюцию, в продуктивность экономических реформ, в практику «малых дел». Будущее Боборыкин связывал с синтезом традиций гуманистической дворянской культуры и людей настоящего; просвященных предпринимателей, чиновников, интеллигенции. Считается, что именно Боборыкин ввёл в литературный язык слово «интеллигенция» в его интеллектуально-этическом русском понимании.
Социально-эстетическая концепция писателя, несколько отдающая интеллигентским, книжным идеализмом, выражается в романах «Солидные добродетели» (1870), «Дельцы» (1872–1873), «Китай-город» (1882), «Василий Тёркин» (1892).
Роман «Китай-город» воспринимается как своеобразная «энциклопедия» становления московского капитализма. Писатель противопоставляет героев-дворян – Палтусова, Пирожкова – купцам-предпринимателям – Осетровым, Нетовым, Калакуцким, Лещевым, Краснолёровым и др. Они не только владеют огромными состояниями, но и активно входят в политическую и культурную жизнь: становятся «коммерции советниками», «мануфактур советниками», открывают учебные заведения, финансируют образование. Характерно, что в финале романа обручившиеся купец Рубцов и дворянка Долгушина идут в знаменитую картинную галерею, основанную купцом Третьяковым.
С другой стороны, Боборыкин показывает, как главный герой романа Андрей Дмитриевич Палтусов, дворянин и бывший офицер, незаметно для себя усваивает принципы новой купеческой морали, основанной на деловом азарте и расчёте, свободном от этических «предрассудков» своего сословия. В итоге он и сам оказывается покорён «привлекательной» фабрикантшей Станицыной.
Поэтика «натуралистического» романа была богата бытовой экзотикой, картинами старой Москвы с её знаменитыми ресторанами «Яром», «Эрмитажем», «Славянским базаром»; биржей и банками, купеческими рядами и амбарами, составляющими «Китай-город»; кремлёвскими соборами и университетом – центром научной и студенческой жизни Москвы. То, что современникам казалось второстепенным, случайным и идейно ненужным, сегодня воспринимается как живописное полотно, как художественный документ эпохи.
В романе «Василий Тёркин» возникает тип просвещённого, политически мыслящего купца, вышедшего из народа. Он стремится не столько к личному обогащению, сколько думает о процветании страны, о благе для трудового народа, труженика. Он думает о сохранении природных богатств, скупая приволжские леса и выступая за очищение реки. Образцами таких характеров могли быть русские просвещённые промышленники, например, С.Т. Морозов, друживший со многими деятелями искусства и просвещёнными людьми своего времени и даже с революционером Н.Э. Бауманом. По мысли М. Горького, сравнивавшего Тёркина с героем романа «Фома Гордеев» (1899) Яковом Маякиным, в персонаже Боборыкина слишком много от мировоззрения интеллигенции конца 80-х гг., чем и определилась положительная оценка критики, мечтавшей о перерождении русского купца-самодура в цивилизованного европейского буржуа.
Однако у Боборыкина главный герой романа изображается отнюдь не в идиллических тонах. Он практик и, так же как другие купцы, наживал капитал сомнительными способами: присвоил чужое наследство, следовал расчёту в отношениях с женщинами.
Духовные искания и судьба интеллигенции раскрываются в повестях «Изменник» (1889), «Поумнел» (1890), романах «Перевал» (1894), «Ходок» (1895), «Княгиня» (1896). Название романа «Перевал» получает символическое содержание. Писатель говорит об «идейном перевале» в жизни русского общества, выступая за последовательное сближение буржуазии и интеллигенции. При этом Боборыкин осуждает такое распространённое социально-психологическое явление того времени, как «ренегатство» – измену былым прогрессивным убеждениям и приспособление к новым условиям (эту проблему по-своему последовательно разрабатывает Потапенко в романе «Не герой»). Роман «Поумнел» ввел в лексикон того времени многозначное, ироническое понятие. Слово «поумнел» стало крылатым в публицистике конца 90-х гг., перекликаясь с эпитетом «премудрый» в сказке Салтыкова-Щедрина «Премудрый пискарь» (1883).
В романе «По-другому» (1897) писатель стремится разобраться в существе идейных споров революционеров разных поколений – народников и марксистов. Произведение вызвало резкую критику в среде марксистов, что выразилось в статье В.И. Засулич «Плохая выдумка» (1897). Стоит заметить, что Боборыкин по самому типу своего творчества ничего не «выдумывал».
Писатель противопоставляет «легального марксистам Шемадурова и вернувшегося из ссылки интеллигента-народника Рассудина. Для марксиста характерно теоретическое доктринерство. Он фанатично верит в «идею», равнодушно воспринимая реальные страдания народа, относясь к рабочим с научным презрением, как к историческому материалу. Рассудин изображается как истинный страдалец за народ. В его концепции преобладает уже не отвлечённая народническая идеология, а живое чувство и знание истинного положения дел.
Интересный характер раскрывается в образе Студенцовой. С одной стороны, она напоминает о важности вечных онтологических идеалов, далеких от политики, а с другой, в её мировоззрении угадывается болезненное декадентское самолюбование. Показателен и финал её судьбы: разорившись, она пытается «красиво» умереть. Однако этот не состоявшийся демонстративный акт личного «освобождения» вызывает у писателя иронию.
Идейные споры составляют специфику романа «Тяга» (1898), где воспроизводится тяжелая жизнь и бесправие рабочих-текстильщиков. Изменения писатель связывает не с революционной борьбой, а с распространением просвещения как в среде рабочих, так и в среде капиталистов.
В «Тяге» появляются оригинальные характеры рабочей элиты, не соответствующие марксистским представлениям о пролетариате. Ткач Иван Спиридонов, прошедший 20-летний путь от рабочего до мастера и смотрителя, по-прежнему мечтает вернуться к крестьянскому труду, чувствует особую притягательную силу земли. Рисовальщик Антон Меньшов изображается как рабочий-интеллигент, однако его идеология не связана с борьбой за права своего класса. Он питается европейской культурой, свободно читает по-французски. Призывая к неповиновению, он остается индивидуалистом. Меньшов презирает рабочих, воспринимая их как стадо баранов. Разделяя теорию Раскольникова у Достоевского, он считает его покаянную концепцию личности постыдной слабостью. Вероятно, кроме Достоевского здесь обнаруживается влияние Ницше.
Изображая фабричный быт, писатель наряду с трудностями показывает и здоровые формы жизни: существование различных культурных объединений (хор, общество трезвости), прочные религиозно-патриархальные традиции. Отмечается продуманная благотворительная деятельность со стороны владельцев фабрики.
Неприятие революции раскрывается и в произведениях, связанных с событиями 1905 г. Это рассказ «Грозные дни (Из записной книжки матери)» (1906) и роман «Великая разруха. Семейная хроника» (1908). Боборыкин показывает искания и растерянность либеральной интеллигенции перед революционной действительностью. Герой «Великой разрухи» старый народник Иван Павлович Чернов видит в революционном насилии возрождение пугачёвщины, с её слепой кровавой ненавистью и бессмысленной жестокостью. События 1917 г. показали, что эти тревожные ожидания и предчувствия были не напрасными. С 1914 г. Боборыкин живёт за границей. Революция 1917 г. не нашла отражения в его творчестве.
Боборыкин внес важный вклад в развитие русского театра Он выступал и как успешный драматург (пьесы «Доктор Мотков» (1884), «Клеймо» (1884), «Сбою» (1891), «Накипь» (1899)), и как театральный деятель. В 1877 г. он руководит частной театральной школой в Москве, читает лекции о новом русском театре в Драматическом обществе (1885–1886), в 1889 г. становится почетным членом конференции Московского театрального училища, в 1891 г. работает заведующим репертуарной и художественной частью театра Е. Горевой в Москве, в 1897 г. избирается председателем Всероссийского съезда сценических деятелей В 1900 г. Боборыкин избран почетным академиком.
Литература
Иезуитова Л.А. О натуралистическом романе в русской литературе конца XIX – начала XX в. // Проблемы поэтики русского реализма XIX б. Л., 1984.
Красовский В. Проблемы натурализма в русской литературе и творчество П.Д. Боборыкина // Из истории русского реализма конца XIX – начала XX в. М., 1986.
Муратов А.Б. Проза 1880-х гг. // История русской литературы. Т. 4 Л., 1983.
А.К. Шеллер-Михайлов (1838–1900)
Александр Константинович Шеллер (псевдоним А. Михайлов) родился в Петербурге. Отец писателя происходил из семьи эстонских крестьян, был театральным оркестрантом, затем придворным служителем. Мать происходила из обедневшего аристократического рода. Первоначально Александр Константинович получил домашнее образование. Овладев немецким языком, Шеллер окончил немецкую школу в Петербурге. С 1857 по 1861 г. был вольнослушателем историко-филологического факультета Петербургского университета. Участвовал в студенческих волнениях. В период временного закрытия университета Шеллер оставил учебу и, поступив на службу домашним секретарем к графу Апраксину, уехал с его семьёй за границу. Там он, наряду со своей основной службой, занимался самообразованием, увлёкся педагогикой.
Вернувшись в Россию, Шеллер занялся просветительской деятельностью. Он основал школу для бедных, по субботам читал лекции для взрослых. Школа просуществовала до 1863 г. и была закрыта из-за финансовых трудностей.
Мировоззрение писателя имело умеренно-демократическую направленность. Он вёл преимущественно кабинетный образ жизни и в общественных баталиях 60-х гг. практически не участвовал. В памяти современников писатель остался как человек тихий, добрый и отзывчивый. Идейных переворотов Шеллер не испытывал и отличался постоянством нравственно-философских и эстетических взглядов.
Литературная деятельность Шеллера началась в 1859 г. В журнале «Весельчак» он публикует свои сатирические фельетоны под псевдонимом А. Релеш. В них высмеивалась бульварная псевдодемократическая пресса, возникали образы недалеких обличителей, поверхностных газетчиков, увлекающихся сплетнями и скандалами. В 1863 г. Шеллер дебютирует как поэт. В «Современнике» появляются его стихи в духе некрасовской традиции. В гражданско-патетическом стиле звучали мотивы общественного долга, гордого терпения, значимости труда, веры в светлое будущее. В отличие от Некрасова, в них по преимуществу преобладала оптимистическая интонация. Это стихотворения «Пролог» (1864), «Школа» (1873), «Самоучка» (1873), «Моя судьба» (1875), «Пророк» (1875) и др. Занимался он и художественным переводом. Он переводит стихи Ш. Петёфи, Ф. Фрейлиграта, А. Шамиссо, Б. Корнуэдя, Э. По.
Однако в большей степени Шеллер тяготел к прозе, да и сами «гражданские» стихи разрабатывали прежде всего «прозаические» общественные темы. С другой стороны, «общественный» лиризм становится составляющей его прозаического стиля.
В 1864 г. в «Современнике» выходит в свет первый роман Шеллера «Гнилые болота». В следующем году там же он публикует роман «Жизнь Щупова, его родных и знакомых».
Эти произведения имели автобиографическую природу. Писатель сознательно уходит от сложной сюжетной интриги, предлагая простое неторопливое повествование о том, как формируются характеры молодых, честных тружеников, «чернорабочих жизни». Их противостояние тлетворному влиянию жизненных обстоятельств рождало лирически взволнованный стиль авторского рассказа.
В духе демократических настроений и идей писатель стремится внушить симпатию и уважение к обыкновенным, скромным, самоотверженным представителям современного общества, по-своему преломляя классическую тему «маленького человека». Поиск нравственного идеала в окружающем мире перекликается с пониманием «праведности» у Лескова, который, работая над циклом о праведниках, пояснял, что настоящих праведников (т. е. святых подвижников) встретить трудно но просто хороших людей очень много. Шеллер также пояснял свое внимание к скромным хорошим людям тем, что они «сами о себе не кричат: это тихие, но гордые люди. Дурные делают больше шуму…» Концепция «безгеройности», выдвинувшаяся в 80—90-е гг., решалась писателем не в обличительном или депрессивно-рефлексирующем смысле, а получала жизнеутверждающее решение.
Кроме «Современникам, Шеллер сотрудничает и в других изданиях. В 1863–1866 гг. – в «Русском слове», в 1866–1867 гг. – в «Женском вестнике», с конца 1877 г. – в журнале «Дело». С 1877 г. он редактировал еженедельник «Живописное обозрение», стоявший «вне направлений», а с 1893 г. – газету «Сын отечества», название которой ассоциировалось с просветительским патриотизмом в духе ранней идеологии А.Н. Радищева.
В 60—70-е гг. Шеллер пользовался большой популярностью у массового демократического читателя, в особенности у молодежи. Он публикует романы и повести «Засорённые дороги» (1866–1867), «Господа Обнос ковы» (1868), «В разброд» (1869), «Лес рубят – щепки летят» (1871), «Старые гнёзда» (1875), «Хлеба и зрелищ» (1875), «Беспечальное житьё» (1877). Так же продуктивно он работает и в 80—90-е гг. Выходят его прозаические произведения в тех же жанрах: «Голь» (1882), «Непрошеный гость» (1883), «И молотом и золотом» (1884), «Победители» (1889), «Ртищев» (1890), «Загубленная жизнь» (1891) и др.
Кроме художественной прозы, писатель пользовался популярностью как автор социологических исследований. Большинство из них было посвящено положению европейского пролетариата. Это «Очерки из истории рабочего сословия во Франции» (1868), «Жилища рабочих» (1870), «Производительные ассоциации» (1871) и др. В очерках утверждались общедемократические идеалы. Анализируя экономику Франции, он видел торжество «нового духа» в развитии рабочих союзов, которые должны сближаться с прогрессивной интеллигенцией.
Популярность прозы Шеллера была связана с тем, что он активно разрабатывал идеи и характеры «новых людей» 60-х гг. Произведения имели своего читателя, на которого автор сознательно ориентировался. Его привлекали характеры простых и честных людей, стремящихся принести пользу ближним, верящих в эволюционное совершенствование жизни на началах добра и справедливости.
Сюжетно-композиционное построение произведений и типология героев обычно оказывались устойчивыми. В этом смысле Щеллер был не столько «художником», сколько «просветителем». Средствами художественного слова решались общественно-педагогические задачи, в чем виделась традиция дидактики классицизма. Обычно изображался молодой человек, вступающий на самостоятельное жизненное поприще и ради служения обществу борющийся с косной средой. Таков, например, Носович из романа «Жизнь Щупова», воплощающий тип «учителя-развивателя».
В романе «Гнилые болота» положительные герои противостоят казенному благочестию; название становится символическим. В «Господах Обносковых» молодые просветители вступают в борьбу с представителями прошлого, защитниками отживших традиций и привычек. Фамилия Обносковы, как в романе Гончарова «Обломов», становится говорящей. Автор называет героев «старыми обносками человечества».
В произведениях Шеллера возникает и образ молодого «нигилиста». Но, в отличие от тургеневского Базарова, герой Шеллера стремится наладить ровные и спокойные отношения с «отцами». Вместо непримиримого радикализма в отношениях между поколениями и идейными лагерями писатель выдвигает умеренные либеральные принципы.
Вообще, типология героев в произведениях писателя имела во многом схематический характер. Противопоставлялись не столько люди, сколько типы отрицательных и положительных персонажей. Устойчивыми отрицательными героями были деспот-крепостник, разлучающий влюблённых крепостных; злодейка бабушка или тетушка, петербургская «кумушка» сводня, чиновник-взяточник и т. п. На страницах произведений они не «жили», а «играли роль», выполняли иллюстративную функцию. Им противостояли «идеальные» герои – молодые сторонники «скромного», но важного дела, придерживающиеся эволюционных либеральных взглядов на общественный процесс. Эта условность также была проявлением традиций классицизма, которые обновились в посленекрасовской литературе «гражданского» долга. Особую роль в обновлении общества Шеллер отводил интеллигенции, которая должна выдвигаться на ведущие позиции в историческом процессе.
Художественная условность и многолетняя неизменность идеологии Шеллера-Михайлова вызывала критические оценки в радикальных демократических кругах. В частности, Салтыков-Щедрин в 1868 г. отмечал, что «г. Михайлов написал довольно много, но всё вновь написанное оказывается повторением “Гнилых болот”»… Критик упрекал Шеллера даже за то, что его лиризм «…утратил первоначальную свежесть и приобрёл фальшивые тоны». Анализируя в 1878 г. роман «Беспечальное житье», Щедрин язвительно указывает на «либеральное резонёрство» и «безукоризненную ровность автора», которые противоречили подлинному реализму. «Избыток наивности» придавал стилю писателя идиллические черты, характерные для развития «социальных» тем в сентиментализме. В этом смысле Шеллер при всем своем демократизме тяготел к архаическому наследию, своеобразному «примитивизму». Такой «социальный примитивизм» возродится позже в концепции социалистического реализма.
В литературном процессе 80—90-х гг. Шеллер-Михайлов был выразителем «массового» демократического сознания с его достоинствами и недостатками, которые могут оцениваться лишь исторически. Популярность его произведений свидетельствовала о том, что он смог выразить дух этого противоречивого времени в системе собственного умеренно-либерального мировоззрения и самобытной эстетики и узнаваемого стиля.
Литература
Бялый ГА.. Проза шестидесятых годов // История русской литературы. М.; Л., 1956. Т. 8. Ч. 1.
Коковина Н.З. А.К. Шеллер-Михайлов в читательской ситуации 1860-х гт. // Литературное произведение и читательское восприятие. Калинин, 1982.
Г.И. Успенский (1843–1902)
Глеб Иванович Успенский – самый яркий талант среди писателей-народников, поднявший жанр очерка до уровня высокого искусства. Он родился в семье тульского чиновника. В 1861 г., окончив гимназию, поступил на юридический факультет Петербургского университета, закрытого зимой этого же года из-за студенческих беспорядков. Попытка продолжить обучение в Московском университете оказалась безуспешной – не хватало средств для платы за обучение. После смерти отца в 1864 г. Успенскому пришлось взять на себя содержание многочисленной семьи. Он поступил на должность корректора в газету «Московские ведомости», вскоре сам начал писать. Один из первых очерков («Михалыч», 1862) был опубликован в журнале JI.H. Толстого «Ясная Поляна». В 1860-е гг. Успенский активно сотрудничал с журналами «Современник», где в 1866 г. начали печатать его «Нравы Растеряевой улицы», и «Отечественные записки», сотрудником которых был с 1868 г., когда журнал возглавил Н.А. Некрасов, до его закрытия.
Свой незаурядный писательский талант Успенский добровольно, подчиняясь духу времени, ограничил жанровыми рамками очерка и цикла очерков, желая показать жизнь настоящую, а не «литературную». В его стиле одинаково сильны художественная, образная – и научная, аналитическая и статистическая, составляющие. Он тяготеет к преувеличенно-заострённому изображению нелепостей жизни, часто использует в своих произведениях парадокс, иронию, гиперболу, гротеск.
Первый крупный цикл очерков – «Нравы Растеряевой улицы» – посвящён описанию характеров и бытовым зарисовкам русской провинциальной городской жизни. Успенский выводит социальные типы ремесленников, мелких чиновников, лавочников, мещан. Характеры и бытовые зарисовки не связаны общим сюжетом, что обусловлено жанровой природой цикла очерков. Художественный образ в нравоописательном очерке становится иллюстрацией авторского размышления. Такими яркими иллюстрациями авторской мысли об уродливой среде, в которой у гнетённые легко становятся угнетателями, являются истории Прохора Порфирыча, Семёна Ивановича Толоконникова, Балканихи, наслаждающихся мелким тиранством над своими ближними. Успенский подчеркивает беспомощность обитателей Растеряевой улицы перед своей бессмысленной уродливой жизнью, их неспособность ни объяснить, ни изменить её.
Очерк «Будка» («Отечественные записки», 1868) пронизан горькой авторской иронией. Успенский показывает, что в роли исполнителя законов выступает духовно и физически искалеченное военной муштрой и водкой, умственно неразвитое существо. Будочник Мымрецов успешно справляется со своими обязанностями, которые «…состояли в том, чтобы, во-первых, “тащить”, а во-вторых, “не пущать”». Поглощённый заботами о «шиворотах», Мымрецов не может разобрать, где правый, где виноватый, тупо и механически делает свое дело: тащит в полицейскую будку несчастную прачку вместо мужа, который её избивает, является к пьянствующему Данилке, когда он уже утихомирился и намерен жениться, готов схватить голодного оборванного старика-нищего, и только отсутствие «шиворота», за который нужно «тащить», останавливает блюстителя порядка. Каждая история, рассказанная в связи со служебной деятельностью героя «Будки», представляет собой настоящую трагедию.
В трилогии «Разорение» (1869–1871) появляются новые типы героев: рабочий-оружейник Михаил Иванович, бунтарь и проповедник открывшейся ему правды жизни, выгнанный с завода и произносивший обвинительные речи в адрес «грабителей», живших чужим трудом; интеллигент-разночинец из провинциальной глуши, наблюдавший за крестьянской жизнью, – Василий Черемухин.
В 1870-е гг. творчество писателя связано с идейными исканиями народничества. Он сблизился с Н. Михайловским, П. Лавровым, С. Степняком-Кравчинским, В. Фигнер, совершил собственное «хождение в народ»: в 1880–1881 гг. жил на мызе Лядно в Новгородской губернии, пристально изучал «хитроумную механику народной жизни».
В 1872 и 1875—76 гг. Успенский побывал за границей. В очерке «Больная совесть» (1873), размышляя о заграничной жизни, он писал: «Нет, у нас лучше!». Русской человечности писатель противопоставляет западный эгоизм, почти звериный, русской неопределенности во всем («ни да, ни нет») – чётко определённый принцип личной выгоды (здесь нет вопросов, «посторонних копейке»).
Однако и в России победно шествует «господин Купон». В очерке «Книжка чеков» (1876) этот процесс становится главным объектом изображения и исследования. Автор показывает зависимость крестьян от власти капитала, параллельно рассказывая историю их разорения и описывая деятельность фабриканта Мясникова. В центре этого произведения – яркий художественный образ превращения живого в мёртвое. «Книжка чеков» «вбирает» в себя леса, стада, превращая их в деньги, в капитал: «… глядишь, в две-три недели после появления в этом лесу Ивана Кузьмича – лес исчез <…> Стадо превращается в мясо, в солонину, в шкуры, в пуды, в фунты – и всё это скоро исчезает…». Самая трагическая среди этих метафор – превращение крестьянина в «чело века-полти ну». Разрыв связи с землёй ведёт русского крестьянина к духовной деградации, а то и к физической гибели.
Новый период в творчестве Успенского связан с созданием «крестьянских» циклов «Крестьянин и крестьянский труд» (1880), «Власть земли» (1882). Б них отразился кризис народничества как системы идей.
С любовью создавая в первом из этих циклов образ крестьянина Ивана Ермолаевича, Успенский раскрывает особую поэзию земледельческого труда. В этом цикле писатель использует фигуру «объективного» повествователя, не знакомого с крестьянским хозяйством: с этой «посторонней» точки зрения труд крестьянина лишён смысла, логики, поскольку может только прокормить крестьянскую семью. Смысл земледельческого труда оказывается доступным повествователю лишь с проникновением внутрь миросозерцания крестьянина. Он изучает жизнь Ивана Ермолаевича как тайну, вникает во все мелочи его повседневного быта и отношения с людьми, пытается разгадать мотивы его поступков. Образно-метафорическая разгадка этой тайны дана в заглавии второго из двух названных циклов.
«Власть земли» – заглавная метафора цикла, его ключевое понятие. Земля – главное в жизни крестьянина, она «забрала его в руки без остатка». Пытаясь осмыслить природу этого явления, Успенский пересказывает содержание былины о Святогоре-богатыре: «И вот в этой-то ежеминутной зависимости, в этой-то массе тяготы, под которой человек сам по себе не может и пошевелиться, тут-то и лежит та необыкновенная лёгкость существования, благодаря которой мужик Селянинович мог сказать: “Меня любит мать сыра земля”». Крестьянин неразрывно связан с природными ритмами, с органическим живым миром, разрыв с которым ведёт к тяжелым духовным последствиям. В земледельческом труде фундаментальное значение приобретает опыт поколений, а «…от нравственного падения человека удерживает почва под ногами».
Реальная картина деревенской жизни в изображении Успенского оказалась гораздо сложнее народнических иллюзий, построенных на идее общинного социализма Успенский показывает неистребимую тягу к собственности и индивидуализм русского крестьянина, его сосредоточенность на жизни своей семьи, своего двора, своего хозяйства. Автор анализирует и процессы разрушения крестьянской общины изнутри, превращение разоряющихся бедняков в деревенских пролетариев, а также оборотные стороны общинных отношений, мешающие полноценному и плодотворному труду человека на земле.
Один из самых ярких очерков Глеба Успенского – «Выпрямила» – написан в 1885 г. Герой-повествователь, сельский учитель Тяпушкин, «смятый» жизнью, пришедший в отчаяние от поразительного несоответствия идеала действительности, вспоминает событие, которое когда-то перевернуло всё его существо. Статуя Венеры Милосской, которую видит герой в Лувре, «выпрямляет» его душу, похожую на смятую в руке перчатку: «Что-то, чего я понять не мог, дунуло в глубину моего скомканного, искалеченного, измученного существа и выпрямило меня». Успенский спорит с Фетом, описавшим эту знаменитую статую как воплощение женской прелести. Для Тяпушкина Венера Милосская символизирует «красоту человеческого существа», «ощущение счастья быть человеком», возможность «для всех нас… быть прекрасными?».
Последние десять лет жизни Успенский провел в психиатрической лечебнице. В.Г. Короленко связывал обострение его душевной болезни со страшным голодом 1891 г.
Литература
Г.И. Успенский в русской критике. М.; Л., 1961.
Соколов Н.И. Г.И. Успенский. Жизнь и творчество. Л., 1968.
Пруцков Н.И. Глеб Успенский. Л., 1971.
Барабохин Д.А. Г. Успенский и русская журналистика (1862–1892 гг.). Л., 1983.
Н.Н. Златовратский (1845–1911)
Николай Николаевич Златовратский родился в семье мелкого чиновника, первоначально закончившего духовную семинарию. Писатель был разночинцем во втором поколении. Их фамилия происходила от деда, который служил дьяконом Николо-Златовратской церкви во Владимире.
Будущий писатель закончил гимназию во Владимире, затем получил профессию землемера-таксатора и принимал участие в обмере земель перед крестьянской реформой 1861 г.
Важное влияние на формирование мировоззрения писателя оказала семья, в традициях которой соединялась церковно-религиозная культура и демократические общественные убеждения. В воспоминаниях Златовратский называет эту атмосферу «религиозно-семинарским романтизмом». Но это был не только «романтизм». Отец активно участвовал в подготовке и проведении крестьянской реформы, в 1859 г. организовал общедоступную библиотеку для народа. Сам Николай Николаевич с детства помогал отцу. Работая в библиотеке, он приобщился к чтению и книжной культуре. Понятно, что это была по преимуществу демократическая литература. Глубокое впечатление произвело на него знакомство в 1861 г. с Н.А. Добролюбовым, который был однокурсником дяди – Александра Петровича Златовратского по педагогическому институту Добролюбов приезжал во Владимир для обсуждения своей работы в планировавшейся для издания демократической газете «Владимирский вестник» (разрешение на издание не было получено).
На мировоззрение Н.Н. Златовратского решающее влияние оказали общие революционно-демократические настроения 60-х гг. и творчество писателей оппозиционного направления: Белинского, Добролюбова, Некрасова, Салтыкова– Щедрина. Был он знаком и с запрещённой газетой Герцена «Колокол».
Литературные наклонности Златовратского определились ещё в гимназии. Он выпускал рукописный журнал «Наши думы и стремления», создавал собственные произведения, подражая Кольцову, Некрасову, Тургеневу, Помяловскому. Вдохновлённый «Грозой» Островского создал драму из народной жизни.
В 1864–1866 гг. Златовратский пытался получить высшее образование. Сначала он учился на историко-филологическом факультете Московского университета, затем на механическом отделении петербургского Технологического института. Однако из-за крайней бедности был вынужден оставить учебу. Жизнь в столицах предстала ему в своих жёстких социальных формах. В рассказе 1876 г. «В артели (Из записок петербургского пролетария)» Златовратский вспоминает о времени скитания по ночлежкам и «углам», о голоде и нужде.
В 1866 г. Златовратский устраивается корректором в газету «Сын отечества». В том же году писатель под псевдонимом Н. Череванин дебютировал в журнале «Отечественные записки» с рассказом «Чуиринский мир». В произведении изображались тёмные и забитые мужики, которым предстояло подписать уставную грамоту. Творчество Златовратского принимает демократический, обличительный характер в духе времени. Стилистически он тяготел к очерковой манере.
В основе его произведений 1868–1871 гг. в основном были наблюдения за народной жизнью, почерпнутые в процессе работы землемером. Они публиковались в демократических журналах «Искра», «Будильник» и в газете «Неделя». В «Воспоминаниях» Златовратский отмечал, что «все эти очерки носили резко обличительный характер», подражая тону тогдашней популярной беллетристики и не отличались ещё яркой индивидуальностью. Позже эти произведения вошли в сборник Златовратского «Сатирические рассказы золотого человека. Кн. 1. Наши Палестины» (1876). Решающее значение для первых литературных опытов имело творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина. Книга рассказов вышла под псевдонимом «Маленький Щедрин». Салтыкову-Щедрину Златовратский посылал и рукописные главы первого крупного произведения – повести «Крестьяне-присяжные», над которой он работал с 1872 г., переехав в родной Владимир после тяжёлой болезни.
В повести поэтизируется крестьянский «мир», сельская община, народная душа и в то же время сохраняется трезвый, реалистический взгляд на мир, критическое изображение пореформенной деревни. Златовратский уходит от щедринской сатирической стилистики в сторону народнической литературы. Ближе ему становится творчество писателей-демократов Ф.Д. Нефёдова и А.И. Левитова. В то же время отношение к Щедрину не менялось на протяжении всей жизни. Испытывая глубокую благодарность к великому сатирику, Златовратский признавался ему: «Вы сами знаете, что даже то немногое, что я успел ещё сделать лично, было испытано только при неослабном участии ко мне редакции “Отечественных записок”. Без этого стороннего участия моя деятельность была бы немыслима».
Конец 70-х – начало 80-х гг. было временем наибольшей творческой активности Златовратского. Он публикует повесть «Золотые сердца» (1877–1878), рассказы «Авраам» (1879), «Деревенский король Лир» (1879), «Горе старого Кабана» (1880). Писатель романтизирует и идеализирует народный мир с его патриархальными традициями. В образе доктора Башкирова, героя повести «Золотые сердца», раскрывается история разночинцев, решивших посвятить свою жизнь служению народу. В то же время писатель противопоставляет идиллические крестьянские традиции нарождающейся власти сельских накопителей и стяжателей – кулаков. Демократический пафос писателя во многом питался религиозным идеализмом.
На 80-е гг. приходится и общественно-литературная деятельность Златовратского. В 1880–1881 гг. он редактировал артельный народнический журнал «Русское богатство», где под псевдонимом Н. Оранский опубликовал программную статью «Народный вопрос в нашем обществе и литературе» (1880). В 1881–1882 гг. писатель был членом литературной артели, издававшей журнал «Устои». Идеология журналов была направлена на укрепление крестьянской общины, обличение деревенских «мироедов», кулаков. С горечью Златовратский отмечал разрушительную власть новых экономических отношений, построенных не на общинной совести, а на корысти и власти денег. Название «Устои» получало символический характер, близкий к идеологии «почвенничества». Так назывался и его программный роман, над которым писатель работал с 1878 по 1883 г.
Работа над романом шла параллельно с появлением публицистических и художественных произведений. Наиболее заметными из них были «Деревенские будни» (1879), «Очерки деревенского настроения» (1881), «Красный куст. Страница деревенских будней» (1881). По поводу последнего произведения Салтыков-Щедрин замечал, что это «отличная вещь».
Роман «Устои» создавался на материале личных наблюдений за жизнью крестьян Владимирской губернии, где в сёлах Добрынское и Устье писатель жил летом в конце 70-х – начале 80-х гг.
Изображая жизнь пореформенной деревни, Златовратский стремится доказать незыблемость общинных «устоев», нравственную чистоту патриархального крестьянства. «Дедовские заветы», высокие идеалы сельского мира выражаются в образах Мосея Волка, его дочери Ульяны Мосевны, крестьянина Мина Афанасьевича. Им противопоставлены носители новой «правды» – Петр Мосей, Пимен Савельич и др. Этот контраст подчеркивался и стилистически. Салтыков-Щедрин писал Златовратскому о том, что он использует язык «вполне неудобный, а в отношении к крестьянскому быту даже немыслимый». Критик В.В. Чуйко утверждал, что писатель не «изучает» народную жизнь, а «фантазирует» по поводу её и приписывает народу чувства и мысли, которые «составляют внутренний мир самого писателя». Положительные образы романа «Устои» типологически были близки с героями русских народных сказок.
Однако со временем концепция произведения меняется. Если в начале работы писатель твердо верил в прочность нравственных устоев народного мира, то затем появляется осознание невозможности противостоять власти кулаческой идеологии. Златовратский сожалеет об уходящей сельской идиллии, но всё же связывает свои надежды с такими правдоискателями-романтиками, как Мин Афанасьевич и его сын Ян. Они убеждены в том, что «правда» в этой жизни должна быть и её нужно лишь отыскать.
Идеологический пафос романа заметно влиял на образную природу произведения. Н.К. Михайловский отмечал, что Златовратский показал в «Устоях» не столько «живых лиц» и «подлинные положения», сколько схематические фигуры, «долженствующие воплотить» оттенки «двух борющихся духов – общинного и индивидуалистического». Подобная художественная иллюстративность восходила к «социально-философскому» роману Н.Г. Чернышевского «Что делать?» и предваряла черты будущего «социалистического» реализма. Писатель придает произведению публицистическую направленность введением в текст книжной народнической фразеологии.
С 1883 г. Златовратский живет в Москве. Разгром революционного народничества он пережил как нравственный и идейный кризис. На это время приходится его увлечение религиозно-философскими и общественными идеями Л.Н. Толстого, также по-своему разрабатывавшего «народную» тему.
Толстой предложил Златовратскому редактировать задуманный им журнал «Сотрудник». Хотя кандидатуру не поддержал издатель журнала И.Д. Сытин, знакомство и переписка с Л.Н. Толстым повлияли на ряд произведений Златовратского 80—90-х гг. Это рассказы «Искра Божия» (1892), «Мои видения. Рассказ одного маленького человека» (1885), «Как это было. Мой маленький дедушка и Фимушка» (1890), «Белый старичок» (1892). В них действуют правдоискатели из народа, проповедующие «любовь да совет» в духе, народных рассказов самого Толстого.
В то же время Златовратский, изучивший жизнь низов изнутри, не разделял социально-этической утопии Толстого, связанной с усовершенствованием общества за счет нравственного совершенствования отдельных личностей. Герои-разночинцы повестей «Барская дочь» (1883), «Скиталец» (1883), «Израильская жизнь» (1883), «Безумец» (1887) безуспешно стремятся сблизиться с народным миром, тоскуют по положительным верованиям, но одновременно осознают иллюзорность социальной программы Толстого. Вообще Златовратский постепенно отходит от изображения крестьянской жизни, сосредотачиваясь на характерах интеллигентов.
Тогда же появляются и произведения, посвященные городским низам, жизни мастеровых. Это очерк «Город рабочих» (1885), где изображаются судьбы недавних крестьян, ставших работниками фабрик и кустарных мастерских, гибнущих от нового рабства – рабства «заколдованного города». В повести «Мечтатели» (1893) возникает образ рабочего-бунтаря, противостоящего социальной несправедливости.
Как художник Златовратский тяготел к соединению романтизма и трезвого реализма, факта и вымысла, живописности и публицистики. Элементы фольклора, лиро-эпическая ритмизация повествования часто сочетались с идеологическим пафосом и образной иллюстративностью отвлеченных социальных схем. В этом смысле его поэтика была выражением тех явлений, которые господствовали в сознании и эстетике пореформенной России.
В поздней статье «Три легенды» (опубликована посмертно в 1913 п) возникают идеи, близкие «религиозному марксизму», «христианскому социализму». Рабочие названы здесь «новыми крестоносцами», способными воплотить «Царство Божие на земле» во имя идеалов «братства, свободы и справедливости», напоминающих лозунги французской революции (Свобода, Равенство и Братство). В дни декабрьского вооружённого восстания 1905 г. в квартире Златовратского находился штаб одной из боевых дружин, но в революционную борьбу шестидесятилетний писатель не ушёл. В 1909 г. он был избран почетным академиком по разряду изящной словесности, в 1910–1911 гг. готовил к изданию своё собрание сочинений в восьми томах.
Со второй половины 1880-х гг. Златовратский увлечённо работал над автобиографическими рассказами и воспоминаниями. Это «Очерки народной жизни. I. Лес» (1886), «Так это было» (1890), «Детские и юношеские годы» (1908) и др. В 1911 г. воспоминания писателя вышли отдельной книгой. Златовратский создал также яркие мемуары о писателях-современниках. Это воспоминания «А.И. Левитов» (1895), «Тургенев, Салтыков и Гаршин» (1897), «Из воспоминаний о Н.А. Некрасове как поэте 60-х гг.» (1903), «Воспоминания о Ф.Д. Нефёдове» (1903), «Из воспоминаний об А.И. Эртеле» (опубликованы в сб. «Воспоминания», 1956), «Из воспоминаний о Н.А. Добролюбове» (1910).
Златовратский не был «кабинетным» писателем. Кроме издательской деятельности, он организовал товарищеское объединение демократически настроенных литераторов. В московской квартире на Малой Бронной по субботам устраивались «шекспировские вечера». Литературные собрания проходили и в его имении Апрелевке под Москвой. Среди гостей были как известные, так и начинающие писатели: Д.Н. Мамин-Сибиряк, К.М. Станюкович, AM. Скабичевский, К.Д. Бальмонт, Аполлон Коринфский, писатели-самоучки Н.А. Лазарев-Тёмный, С.Д. Дрожжин, И.А. Белоусов и др. В начале 1900-х гг. Златовратский принимал активное участие в кружке «Московские литературные среды», организованном Н.Д. Телешовым.
В истории литературы творчество Н.Н. Златовратского является одним из типичных и в то же время художественно неповторимых проявлений так называемого литературного народничества как самобытного явления русского духа и культуры второй половины 80—90-х гг. XIX в.
Литература
Семёнкин К.Г. Н.Н. Златовратский. Очерк жизни и творчества.
Ярославль, 1976.
Соколов Н.И. Литература 70-х гг. Проза писателей-народников // История русской литературы. Т. 3. Л., 1982.
С.М. Степняк-Кравчинский (1851–1895)
Литературная и человеческая судьба Сергея Михайловича Кравчинского (псевдоним Степняк; в историю литературы, публицистики и освободительной борьбы вошел как Степняк-Кравчинский) теснейшим образом связана с русским революционным и террористическим движением. Собственно, художником его можно назвать с большим трудом. Его литературные опыты имели характер прокламаций или политических статей. И тем не менее он был яркой фигурой общественно-литературного движения, определённым образом повлиявшей на идеологию и эстетику литературы 80—90-х гт.
Сергей Михайлович родился в семье главного лекаря военного госпиталя и по настоянию отца получил военное образование. Он закончил Орловскую военную гимназию, а затем поступил в Московское военное Александровское училище. Более всего интересовался историей и военными дисциплинами, в совершенстве овладел тремя иностранными языками. Вскоре Кравчинский был переведен в Михайловское артиллерийское училище в Петербурге, которое окончил в 1870 г., получив чин поручика. Некоторое время служил учителем в военно-технической школе Харьковского военного округа. Однако военная карьера его не привлекала, и вскоре он вышел в отставку.
Революционными идеями Кравчинский увлёкся ещё в артиллерийском училище, где вместе с группой товарищей создал тайный кружок. Вероятно, молодые люди вдохновлялись героическими образами декабристов – заговорщиков-военных. Будущие офицеры увлечённо изучали и обсуждали произведения Н.Г. Чернышевского, Д.И. Писарева, «Исторические письма» П.Л. Лаврова, «Историю цивилизации» Г. Бокля, «Положение рабочего класса в России» В.В. Берви.
В это время Кравчинский был еще далёк от радикальных взглядов. В 1871 г. он поступил в Петербургский Лесной институт, надеясь, что знакомство с теорией и практикой сельского хозяйства поможет реально влиять на улучшение жизни народа.
В 1872 г. Кравчинский был принят в петербургский революционный кружок «чайковцев», названный так по имени одного из его самых активных членов – Н.В. Чайковского. В него входили такие известные деятели русского революционного движения, как П.А. Кропоткин, С.Л. Перовская, Д.А. Клеменц, Н.А. Морозов. «Чайковцы» придерживались народнических концепций, главной из которых был общинный крестьянский социализм. Участники кружка видели в крестьянах главную движущую силу будущей революции и считали главной задачей пропаганду своих идей среди трудового народа. В первых рабочих кружках, созданных «чайковцами», Кравчинский рассказывал о русской социальной истории и знакомил с новыми экономическими идеями по «Капиталу» К. Маркса.
Однако Кравчинскому было мало просветительской работы. Когда «чайковцы» приняли решение о том, что нужно немедленно нести социалистические идеи крестьянам, Сергей Михайлович бросил институт и, переодевшись рабочим-пильщиком, осенью 1873 г. пошёл «в народ». Он проповедовал идеи революции как религиозный миссионер. Хорошо знавший текст Евангелия пропагандист призывал к бунту, ссылаясь на Священное Писание. Возможно поэтому, когда революционеров арестовали, крестьяне помогли им бежать, сочувствуя той правде, которую слышали в словах народников. В большинстве же случаев мужики сами выдавали пропагандистов властям. В Кравчинском они, наверное, чувствовали большую духовную силу, пророческую, апокалиптическую страсть.
Необходимость скрываться от властей повлияла на первые литературные опыты Кравчинского. Революционеры решили, что нужно создавать и распространять пропагандистские брошюры, написанные простым и образным языком, в духе фольклорных традиций.
В конце 1874 г. в Женеве была напечатана «Сказка о копейке», автором которой был Кравчинский. В произведении возникала утопическая картина жизни русской деревни, ведущей хозяйство на социалистических общинных основаниях. Стилистика сказки опиралась на лубочные формы. Воспроизводя устойчивые обороты народной речи, писатель в популярном виде излагал важную для него общественно-политическую информацию. Можно допустить, что он использовал и опыт Салтыкова-Щедрина, ведь первые публицистические «Сказки для детей изрядного возраста» «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Пропала совесть» и «Дикий помещик» были налисаны еще в 1869 г.
В середине 70-х гг. в Лондоне и в Женеве были изданы и другие сказки Кравчинского: «Мудрица Наумовна», «О Правде и Кривде», «Из огня да в полымя». В конспиративных целях произведения выходили под разными названиями, формируя, в свою очередь, новый смысловой и стилевой иносказательный пласт. Так «Мудрица Наумовна» в других транскрипциях именовалась «Похождения пошехонцев», «Сказка Говоруха». В тех же конспиративных целях указывалось, будто брошюра со сказками Кравчинского издана в типографии Духовной академии и якобы разрешена цензурой. При всей очевидной пропагандистской природе этого жанра литературной сказки он имел и познавательное значение. Несколько позже и Л.Н. Толстой начал создавать и распространять в литературе «народные» рассказы, обращённые непосредственно к народу, написанные в традициях народной стилистики.
Разгром революционного кружка вынудил Кравчинского в 1874 г. бежать за границу. Однако там он не прятался от полицейских агентов. Он знакомится с социалистическим рабочим движением в Европе, а затем принимает непосредственное участие в вооружённом восстании небольшого славянского государства Герцеговина против турок, командуя расчетом артиллеристов возле единственной пушки повстанцев.
В 1875 г. Кравчинский нелегально вернулся в Россию. Это было время переосмысления прежней тактики, которая из просветительской и пропагандистской превращалась в радикальную. Кровавая революционная романтика во многом формировалась под влиянием западноевропейского освободительного движения.
В 1877 г., сопровождая больного товарища на лечение в Италию, Кравчинский принял непосредственное участие в вооружённом восстании в провинции Беневенто и был арестован при его подавлении. В тюрьме, где он провел девять месяцев, революционер написал на итальянском языке несколько инструкций по ведению восстания.
По амнистии после вступления на трон нового короля в 1878 г. Кравчинский пешком отправился в Швейцарию. Здесь вместе с группой русских политических эмигрантов он организует выпуск журнала «Община», где публикует статьи о русском и итальянском освободительном движении. С первыми его номерами в мае 1878 г. он нелегально вернулся в Петербург.
В России он активно включился в деятельность подпольной организации «Земля и воля», созданной в 1876 г. Кравчинский не только вербовал новых членов, но и занимался литературной и издательской работой: редактировал одноимённую газету, впервые в истории русского подполья наладил регулярную деятельность нелегальной типографии на родине. Товарищей по борьбе он удивлял своей дерзостью и бесстрашием. Именно ему организация поручила первый террористический акт.
Шефу жандармов генералу Н.В. Мезенцеву было послано требование отставки с должности, в противном случае ему выносился смертный приговор. Его исполнил Кравчинский, убив Мезенцева ударом кинжала в сердце на людной площади, а затем скрылся на ожидавшей его пролётке. Эта вызывающая кровавая акция дала мощный толчок русскому политическому терроризму, волна которого в итоге привела к гибели императора Александра II.
Убийство Мезенцева Кравчинский обосновал в теоретической статье «Смерть за смерть». По настояниям друзей его удалось отправить за границу. Официальным поводом стало изучение способа приготовления динамита. Хотя на родину он больше не вернулся, русские «бомбисты» с успехом воспользовались результатами этой командировки.
После гибели Александра II русское правительство начало переговоры о выдаче Кравчинского швейцарскими властями. Тогда он переехал в Италию, где писал публицистические статьи, работая под псевдонимами С. Михайлов, Абрам Рублёв, Владимир Джанжиеров, Шарль Обер, С. Горский и др.
В 1881 г. по заказу миланской газеты «Пунголо» («Жало») Кравчинский написал на итальянском языке цикл очерков под общим названием «Подпольная Россия». Пропагандист и террорист, Кравчинский поставил себе задачу опровергнуть представление о революционерах как о злодеях и разбойниках. Он хотел «выставить самих террористов такими, каковы они в действительности, т. е. не каннибалами, а людьми гуманными, высоконравственными, питающими глубокое отвращение ко всякому насилию, на которое только правительственные меры их вынуждают».
Очерки, подписанные псевдонимом Степняк, раскрывали историю, психологию и философию русской революции. В разделе «Революционные профили» возникали яркие литературные портреты деятелей подполья – Веры Засулич, Софьи Перовской, Петра Кропоткина, Дмитрия Лизогуба и др. Жанр мемуаров, эссе, литературного портрета позволял в живой форме раскрыть романтический пафос революционной квазирелигии, основанной на искажённой вере в «светлое будущее», в «святость» кровавого возмездия беззаконной власти. Этот пласт квазирелигиозных идей развернулся особенно ярко в катастрофическом XX веке. А.А. Блок гениально воссоздал такую псевдоапокалиптическую одержимость в поэме «Двенадцать»: «Мы на горе всем буржуям // Мировой пожар раздуем, // Мировой пожар в крови – // Господи., благослови!»(курсив мой. – М.Я.).
Очерки Степняка-Кравчинского пользовались огромной популярностью. В 1882 г. они вышли отдельной книгой и были переведены на многие европейские языки. В 1893 г. в Лондоне книга была издана на русском языке. Многие «русские мальчики» (выражение Достоевского) пришли в революцию под влиянием этой талантливой роковой книги Кравчинского.
Переехав в Лондон, писатель создал вторую публицистическую книгу «Россия под властью царей», опубликованную в 1885 г. по-английски. Фрагменты произведения были переведены на русский язык (полный перевод опубликован лишь в 1964 г.). В яркой, образной форме Кравчинский рассказывал об истории и современности России, заостряя социальные и нравственные противоречия, говорил о бесчинствах жандармов, плачевном состоянии правосудия, образования, печати и т. д. Концентрация негативных фактов действительности этически и эмоционально оправдывала революционный максимализм.
В Лондоне Кравчинский активно занимается переводами на английский язык повести ВХ Короленко «Слепой музыкант», пьесы А.Н. Островского «Гроза» и А.В. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского». Пишет предисловия к произведениям И.С. Тургенева, В.М. Гаршина и других русских писателей.
В Англии и Америке писатель выступает с публичными лекциями о революционном движении и литературе в России. В 1886 и 1888 гг. выходят третья и четвертая публицистические книги «Русская грозовая туча», посвященная национальному вопросу и царской армии, и «Русское крестьянство», в которой, по его признанию, попытался «заставить англичан узнать и полюбить наших мужиков», как «заставил их узнать и полюбить нигилистов» своими прежними книгами.
Вынужденный жить за границей. Степняк-Кравчинский по существу стал первым русским англоязычным писателем (парадоксальным образом предваряя в этом отношении В.В. Набокова). В 1875 г. у него возник замысел написать роман о русских революционерах. Работа над произведением продолжалась с 1886 по 1889 г. Элеонора Маркс и её муж Эдуард Эвелит сделали окончательную стилевую правку английского текста Кравчинского, и в 1889 г. роман был опубликован. Показательно, что рабочее название произведения «Андрей Кожухов» было заменено на понятное для англичан «Карьера нигилиста».
Образы главных героев книги Андрея и Жоржа имели автобиографический характер. Однако Кравчинский стремится к ёмким художественным обобщениям, к социально-психологической типизации. Так, Андрей ведёт пропаганду в революционных кружках, нелегально переходит границу с контрабандистами, организует побеги товарищей, устраивает покушение. Несмотря на обилие программных революционных положений, это не руководство к действию (не «Что делать?» H.F. Чернышевского). В произведении Степняка-Кравчинского изображаются яркие человеческие характеры и судьбы народников. Этически и эстетически писатель стремится показать глубину и значимость жизни людей, посвятивших себя борьбе за справедливость и переустройство мира. В этом смысле это очень русский роман, хотя и обращённый преимущественно к англоязычному читателю. Отдельные главы на русский язык перевела единомышленница и соратник Степняка-Кравчинского по революции В. И. Засулич.
В последних его прозаических произведениях – повести «Домик на Волге» (1896) и незавершённом романе «Штундист Павел Руденко» (1894), написанных по-русски и изданных в Женеве, писатель тяготеет к социально-психологическому исследованию личности. Он стремится изобразить процесс формирования характера и убеждений революционера, исследовать пути, которые ми человек приходит к политической борьбе.
Однако главные усилия Степняка-Кравчинского в 90-е гг. были направлены на организационную работу. В конце 1889 г. в Англии он создает «Общество друзей русской свободы», объединившее людей разных политических убеждений, партий и национальностей. Общество занималось пропагандой освободительных идей и сбором средств для помощи политзаключенным в России. С 1890 г. на английском языке стал выходить ежемесячный журнал «Свободная Россия». Кравчинский был в нём редактором и автором статей. Активное участие в работе журнала и общества принимала англичанка Лили Буль. В доме Кравчинского она познакомилась с польским революционером и писателем, бежавшим из сибирской ссылки, – Михаилом Войничем. Они помогали в организации «Фонда вольной русской прессы» (1891), занимавшегося изданием и доставкой революционной литературы в Россию. По замыслу создателей, работа фонда должна была продолжить дело АИ. Герцена.
Колоритная личность Кравчинского повлияла на создание многих литературных произведений. Наиболее показательными из них являются «Овод» Войнич и «Жерминаль» Золя. Кравчинский поддерживал широкий круг знакомств, среди его собеседников были Ф. Энгельс, Б. Шоу, О. Уайльд. Лондонский дом революционера стал местом сбора оппозиционных художников и писателей разного толка, и гостеприимный хозяин умел находить общий язык со всеми, улаживая споры и разногласия, находя точки сближения в общей и личной судьбе и в мыслях о России.
Участвовавший в вооружённых столкновениях, сидевший в тюрьмах и устраивавший дерзкие побеги и покушения, избежавший стольких опасностей, Степняк-Кравчинский погиб нелепо и случайно. Он был сбит паровозом, когда переходил линию пригородной железной дороги. Эта неожиданная смерть 44-летнего лидера русской революционной эмиграции 80—90-х гг. воспринимается почти как знак судьбы – как предупреждение или возмездие, как сигнал о катастрофичности революционного пути.
Литература
Маевская Т. Слово и подвиг. Жизнь и творчество С. М. Степняка-Кравчинского. Киев, 1968.
Таратута Е.А. С.М. Степняк-Кравчинский – революционер и писатель. М., 1973.
Д.Н. Мамин-Сибиряк (1852–1912)
Дмитрий Наркисович Мамин (псевдоним Мамин-Сибиряк) – уроженец Пермской губернии. Жизнь и творчество писателя во многом связаны с Уралом. Родился он в семье заводского священника. Первоначальное образование было духовным. С 1866 по 1868 г. учился в Екатеринбургском духовном училище, а затем в Пермской духовной семинарии. Учеба в семинарии не увлекала его, и идти по стопам отца он не хотел. К этому добавлялся разночинский «разумный эгоизм». Семинария, с его точки зрения, будущего благосостояния не гарантировала, и в 1872 г., окончив четыре класса, он решил поступить в Петербургскую Медико-хирургическую академию на медицинское отделение. Однако будущий писатель не выдержал экзаменов и был зачислен лишь на ветеринарное отделение. Чтобы подработать, он становится репортером, поставляя в разные газеты отчеты о заседаниях научных обществ. В 1876 г., не закончив академии, поступает на юридический факультет Петербургского университета. Через год из-за обострения туберкулёза он был вынужден уехать из Петербурга обратно на Урал, где прожил до 1891 г., зарабатывая частными уроками и литературным трудом. В 1891 г., будучи уже широко известным писателем, Мамин-Сибиряк вместе со второй женой, актрисой М.М. Абрамовой, переезжает в Петербург. Через год горячо любимая жена скончалась, оставив дочь Елену, которой посвящены знаменитые «Алёнушкины сказки» (1894–1897).
На рубеже веков Мамин-Сибиряк подолгу жил-в Царском Селе и Павловске, в Крыму встречался с Чеховым, Куприным, М. Горьким, Буниным, Станиславским. Незадолго до его смерти литературная общественность отметила 40-летие его литературной деятельности и 60-летний юбилей, который он встретил уже тяжело больным. Для писателя, при жизни не избалованного вниманием критики, это было заслуженным признанием.
Свой литературный путь Мамин-Сибиряк начинает еще в студенческие годы. В газетах и журналах он печатает развлекательную беллетристику, рассчитанную на массового читателя. Это были рассказы «Старцы» (1875), «Старик» (1876), «В горах» (1876), «Красная шапка» (1876), «Русалки» (1876) и др. В «Журнале русских и переводных романов и путешествий» он публикует роман «В водовороте страстей» (1876). Объединяла все эти произведения уральская тема. Это были экзотические остросюжетные произведения о разбойниках, старцах и старицах раскольничьих скитов. В произведениях использовался этнографический материал и уральский фольклор, однако всё это часто носило характер стилизации. Успеха произведения не имели, но в целом определили специфику творчества писателя. В 1872 г. он задумал написать цикл «о преемственном развитии типов уральских заводчиков» по аналогии с «Ругон-Маккарами» Э. Золя, о чём вспоминает в автобиографическом романе «Черты из жизни Пепко» (1894).
Как знаток уральской жизни в 1881 г. Мамин-Сибиряк был приглашён в Москву редакцией газеты «Русские ведомости». В начале 80-х он создаёт очерки «От Урала до Москвы» (1881–1882), отразившие его дорожные впечатления; рассказы «В камнях» (впервые подписан псевдонимом Д. Сибиряк), «На рубеже Азии», «В худых душах…» (все 1882 г.). Рассказ «Золотуха» (1883) вызвал одобрительный отклик Салтыкова-Щедрина. За Маминым-Сибиряком закрепляется репутация писателя со специфической «областной» темой, что подчёркивалось и его псевдонимом. Наряду с востребованными временем и издателями очерками и рассказами писатель обращается и к крупным жанровым формам. В 1883 г. в журнале «Дело» был напечатан роман «Приваловские миллионы», первый из задуманной серии романов. Далее в других журналах публикуются романы «Горное гнездо» (1884), «Жилка» («Дикое счастье») (1884), «Три конца» (1890), «Золото» (1892), «Хлеб» (1895).
Мамин-Сибиряк выступил в печати с романами в тот период, когда в литературном процессе стали преобладать малые жанры. Возможно, этим определилась их трудная критическая судьба. Однако, наряду с Эртелем, его считают создателем нового социологического романа, в котором рассматриваются общие законы социума, действующие помимо воли отдельного человека. Этим законам писатель придавал «роковые» черты, что отчасти сближало его мышление с историософией Л.Н. Толстого, но усиливало негативное понимание общественного движения. Решающее влияние на жанровую природу романов оказала теория биологической наследственности, представленная у французских писателей-натуралистов и в особенности у Золя.
Мамин-Сибиряк показывает признаки «вырождения», генетического детерминизма в социальных явлениях. Появляется у него и своеобразный коллективный герой, представляющий целый пласт бытия. Восходя к «Войне и миру» Толстого, этот тип героя активно разрабатывается в романе «Мать» Горького и, соединяясь с революционной идеологией, становится определяющим в литературе социалистического реализма. Мамин-Сибиряк же остаётся в границах своего времени, пересекаясь с традицией, идущей от романов А-Ф. Писемского («Тысяча душ», 1858), Ф.М. Решетникова («Горнорабочие», 1866), П.И. Мельникова-Печерского («В лесах», 1874; «На горах», 1881).
Прежде всего романы Мамина-Сибиряка объединяются тематически. Писатель изображает разрушительную власть капитала над душами и судьбами отдельных героев и целых социальных групп. Деньги становятся почти магической, роковой силой, а в сюжетообразующем плане являются основной динамической идеей. Жажда наживы определяет поведение героев вне зависимости от их социального положения.
Это касается и крупных заводчиков, и нищих старателей, которые мечтают о внезапном обогащении. Когда же им удаётся найти золотоносную жилу (в прямом и переносном смысле слова), они либо проматывают деньги в безудержном загуле, как это происходит с отцом Окси, героем романа «Золото», либо под властью богатства разрушают моральные устои семьи, как это происходит в романе «Дикое счастье». Золото, как дьявольская сила, деформирует душу и сознание героев Мамина-Сибиряка.
Особенно ярко это раскрывается в романе «Горное гнездо», где основные события разворачиваются в связи с конкуренцией за лучшее место у заводской «кормушки». Единственным бескорыстным человеком в системе героев оказывается инспектор заводских школ Прозоров. Однако к началу основного действия ОН уже спился и утратил физическую и нравственную способность бороться за лучшее. Основные же герои произведения тратят свои душевные силы и ум на то, чтобы расположить к себе хозяина, ничтожного фабриканта Лаптева, который живёт в свое удовольствие, расточая капитал, доставшийся от основателей династии (прототипами является семья заводчиков Демидовых).
Богатство нравственно уродует Лаптеза. Он полностью оторван от кормящего его производства. До судеб и проблем конкретных работников ему просто нет дела. Их не только жестоко эксплуатируют, но и отбирают наделы земли, положенные посессионным рабочим по закону. Поэтика произведения строилась на соединении социальной сатиры, которую высоко оценивал Салтыков-Щедрин, опубликовавший роман в «Отечественных записках», и своеобразной, мрачной апокалиптической патетики при изображении промышленного производства как «царства огня и железа», некоего адского видения (предваряя инфернальную промышленную символику Куприна – «Молох». Блока – «Фабрика», Горького – «Мать»). Патриархальные надежды рабочих на то, что хозяин защитит их, оказываются иллюзией. Подобную ситуацию Некрасов изображает в стихотворении «Забытая деревня». Эпиграф из него Мамин-Сибиряк берет для романа в целом.
Другая ситуация изображается в «Приваловских миллионах». В романе также изображается социальная среда, связанная с промышленным производством. В центре её Шатровские заводы. Писатель рисует сильные стихийные характеры, эстетически привлекательные самой своей страстностью, «дикостью». Таков Александр Привалов, который сразу после пьяной оргии отправляется каяться в грехах в старообрядческие молельни, отбивая земные поклоны «до синяков на лбу». Таким же необузданным показан и его «приятель» Сашка Холостое, который, по словам автора, был «настоящий зверь, родившийся по ошибке человеком». Типологически близким характером из другой социальной среды является старик Бахарев. Он приходит в бешенство от неудачи на приисках и готов проклясть свою дочь Надежду за «грех», но в конце романа в таком же порыве чувств является к ней, чтобы устроить её личную судьбу. Эти «широкие^ натуры становятся в романе выражениям стихийности русского человека вообще и в частности сибиряка, не знавшего крепостного рабства
Та же по сути, но иная по форме и содержанию широта души раскрывается в образе Сергея Привалова, наследника «приваловских миллионов». Он осознает историческую вину своих предков, которые отняли земли у коренного населения и разбогатели, беспощадно эксплуатируя рабочих. Сергей борется с опекунами, стремясь отвоевать принадлежащие ему заводы, чтобы вернуть башкирам и заводским рабочим семейный «долг». Однако вскоре он понимает, что его наивные попытки изменить логику истории оказываются бесперспективными. Одинокому намерению противостоит вся система. Её представляют мошенник Половодов, наживающийся на приваловском наследстве, адвокат Верёвкин, удачливый делец Ляховский, хищная Хиония, эгоистичная Зося и другие герои. В лагере Сергея Привалова оказываются лишь Лоскутов, столь же утопично стремящийся переместить «центр тяжести» с экономических интересов на нравственность, и Надя Бахарева, душу которой не затронуло общее стяжательство. В образе Бахаревой продолжена литературная галерея передовых русских женщин 60—70-х гг. Дочь богатого золотопромышленника порывает с семейным укладом, чтобы следовать своим убеждениям.
Через Сергея Привалова Мамин дает ёмкую характеристику мира уральских (и не только уральских) дельцов, где всё погрязло в «стройном и могучем хоре себялюбивых интересов, безжалостной эксплуатации, организованного обмана и какой-то органической подлости». Однако сам герой далеко не борец. По теории наследственности, он, как последний отпрыск горнозаводской династии, лишен воли и жизненной силы. Понимая свою беспомощность, он оказывается на пороге самоубийства.
Журнальная публикация романа не вызвала никакой реакции критики, что задело литературное самолюбие Мамина-Сибиряка. На этом фоне особенно дорогим для него был положительный отзыв Г.И. Успенского.
По замыслу писателя, роман «Приваловские миллионы» должен был стать заключительной частью трилогии. Мамин-Сибиряк хотел показать три поколения уральских заводчиков на фоне разных исторических эпох: XVIII в., включая Пугачёвское восстание; первой половины XIX в. с его расцветом крепостничества и послереформенного времени. Замысел частично осуществлялся через рассказ об отце Привалова и его деда по материнской линии. Герои «Горного гнезда» должны были далее действовать в романе, события которого переносились в Петербург. Этот сюжет по-своему реализован в романе «На улице» (1886).
Другая социальная среда изображается в романах «Три конца. Уральская летопись» и «Золото». Там показаны бедные приисковые и заводские рабочие, жизнь которых после отмены крепостного права практически не изменилась. На смену юридической зависимости, «военно-горной крепи», приходит финансово-экономическая. Промысловое население оказывается «опутано» ею ещё крепче. С другой стороны, Мамин-Сибиряк рисует движение разных слоев приискового сообщества, пришедшего в оживление в связи с выделением участка для свободной добычи золота В отличие от романтически-экзотического решения сходной темы у Джека Лондона, изображавшего «золотую лихорадку» на Аляске, Мамин доказывает, как страсть к золоту разрушает семьи, развязывает тёмные инстинкты, толкает людей к преступлениям, чем продолжает социально-критическую линию, восходящую к демократической, обличительной литературе.
Пробуждение народного самосознания раскрывается в романе «Три конца». Мамин ярко изображает специфические черты пореформенного русского капитализма, ловко использующего наследие крепостничества. Однако теперь рабочие смогли организованно выступить против администрации и даже одержать победу в забастовке.
Последним в цикле уральских романов был «Хлеб» (1895). В романе рассказывается история купца Галактиона Колобова, приезжающего за Урал, чтобы организовать хлебную торговлю. Судьба предпринимателя передает противоречия капитализма. В начале романа герой раскрывается как умный и энергичный человек, искренне желающий процветания краю. Он успешно ведёт дела, завоёвывая хлебный рынок, приобретая богатство и влияние, но деньги и власть не приносят ему удовлетворения. Душа Галактиона опустошается, и он кончает жизнь самоубийством. Роман завершается картиной голода, вырастающей почти до апокалиптического символа.
Кроме уральской темы, Мамин-Сибиряк описывал в романах и другие социальные и культурные явления. В романе «На улице» (1886) рассказывается о крахе одного газетного предприятия. Изображается среда столичных газетчиков, дельцов, прожигателей жизни, «бывших» людей, в которой гибнут лучшие, потому что не могут приспособиться к принципам купли-продажи. Роман «Именинник» (1887) изображал судьбу «лишнего человека» 80—90-х гг. Главный герой романа Сажин, разочаровавшись в общественной деятельности в рамках земства, отходит от борьбы за улучшение общества. Потеряв цель и смысл жизни, он кончает жизнь самоубийством. Сюжет казался бы надуманным, если бы герой не имел прототипа. Им был пермский земский деятель Д.Д. Смышляев.
Автобиографический роман «Черты из жизни Пенков» (1894) также был посвящён городской интеллигенции. Мамин рисует мир петербургских репортеров, который хорошо знал. Воспоминания юности раскрывают среду литературной богемы. Многие герои имели реальных прототипов. Композиционно роман строился как система очерков, объединённых героем-повествователем. Писатель развивает мотив двойничества. Пепко становится своеобразным alter ego начинающего литератора Василия Попова. Пепко символизирует журналистскую динамику и предприимчивость, но при этом снижает высокие творческие устремления Попова, работающего над серьёзным романом. Творчеству мешает необходимость сотрудничать с мелкими развлекательными журналами ради заработка.
Кроме крупных произведений Мамин-Сибиряк создаёт большое количество очерков. Это путевые заметки «От Зауралья до Волги», «По Зауралью» (1885), исторический очерк «Город Екатеринбург», цикл очерковых писем «С Урала» (1884). Традиции очерка стали особенностью его поэтики. В творческом освоении темы или сюжета обычно появлялся очерк, затем художественный рассказ, а потом роман. В 1888–1889 гг вышли два тома «Уральских рассказов», объединивших произведения, ранее выходившие в периодике. По существу, именно после этого сборника о Сибиряке заговорили как о самобытном художнике. Отмечалось, что автор не «кабинетный писатель», а «человек жизни».
В литературе 80—90-х гг. творчество Мамина противостояло народническим представлениям об особом некапиталистическом пути развития России. Обращение к изображению жизни рабочих, так же как и у Ф.М. Решетникова, показывало, что промышленный капитализм становится реальной исторической силой, да и в пореформенной деревне утверждаются буржуазные отношения. Понятие собственности деформировало общинное сознание крестьян. Так, в рассказе «Летные» показан случай, когда крестьянин убивает голодного беглого из-за репы.
В то же время, писатель поэтизирует труд. В рассказе «Бойцы» изображается быт и работа сплавщиков леса. Герой рассказа работы превращается в своеобразного «героя» реки. Он буквально преображается, заражая своей энергией и азартом остальных сплавщиков, становится победителем, покорителем стихии. Мамин-Сибиряк любуется простыми людьми, их трудной, но прекрасной жизнью. В рассказе «Лес» воссоздаётся гармония между человеком и природой. Тонкие, но осязаемо насыщенные картины природы в цикле рассказов позволили говорить об авторе как талантливом пейзажисте.
Мир уральских золотоискателей, старателей, раскрывающийся в рассказах «Золотуха» и «Отрава», показан и в пьесе «Золотопромышленники» (1897), поставленной на сцене театра Ф.А. Корша.
Мотивы революционной борьбы, пробуждения народного самосознания и бунта изображаются в рассказе «В худых душах» из двухтомного цикла «Уральские рассказы» и в поздних повестях «Братья Гордеевы» (1891) и «Охонины брови» (1892). Вообще Мамин-Сибиряк скептически относился к революционному движению, что проявилось и в период 1905 г. Герои рассказа «В худых душах» – дети священника, увлечённые освободительными идеями 60-х гт., становятся участниками революционной борьбы, попадают в ссылку и возвращаются домой безнадёжно больными. В «Братьях Гордеевых» рассказывается о крепостных Демидова, обучавшихся за границей и увидевших мир по-новому. Повесть «Охонины брови» передает историю Пугачёвского движения. Любопытно при этом, что сам Пугачёв на страницах произведения не появляется и внимание сосредоточено на рядовых участниках бунта. Показан и другой «коллективный герой» – лагерь притеснителей народа. Это дворяне и чиновники, администрация и владельцы заводов, верхушка местного духовенства. Поэтика рассказов и повестей строилась в той же образной и языковой системе, что и в романах.
Увлечение этнографическими изысканиями, уральским фольклором выразилось в обращении к жанру легенд. Предания казахов и киргизов приобретали условное нравственно-философское, аллегорическое содержание. Сборник «Легенды» (1898) перекликался с фольклорной тенденцией в «Сказках» М.Е. Салтыкова-Шедрина, в «народных» рассказах Л Н. Толстого, в стилизациях Н.С. Лескова. Так, обработанная Маминым-Сибиряком легенда «Баймаган» (1886) раскрывала превосходство честности над неправедно нажитым богатством и возвышенной, искренней любви бедняков над «любовью» дочери богача, купленной за дорогой калым.
Особый пласт художественного наследия Мамина-Сибиряка составляют произведения для детей. Это сборники «Детские тени» (1894), «Сказки и рассказы для детей младшего возраста» (1895), «Алёнушкины сказки» (1896), «Зарницы» (1897), «Рассказы и сказки» (1897, 1898), «По Уралу» (1899). Если основные произведения писателя имели трудную критическую судьбу, то детская проза его имела прочный и заслуженный успех.
Из рассказов для детей классическими стали «Емеля-охотник» (1884), отмеченный премией Фребелевского педагогического общества, «Зимовье на Студёной» (1892) – за него писатель получил золотую Медаль Санкт-Петербургского комитета грамотности. Уроки мудрости и доброты преподносят простые люди. Старик Емеля пожалел оленёнка, которого долго выслеживал, чтобы добыть мяса для своего больного внука. Любопытно, что художник не скрывает от ребёнка правды жизни. Вопреки народной традиции финалы многих произведений трагичны. Гибелью героев, собаки Музгарки и её хозяина Елески, заканчивается рассказ «Зимовье на Студёной».
Признанным шедевром детской литературы считаются «Алёнушкины сказки». Созданные после смерти жены и обращённые к любимой дочери (в начале работы над циклом, в 1894 г., ей было два года) произведения отличаются живой трогательной интонацией и новаторской простотой в изображении особенного в окружающем мире домашних животных, птиц, цветов, насекомых.
В 90-е гг. Мамин-Сибиряк создаёт романы для юношества «Весенние грозы» (1893), «Ранние всходы» (1896), публикует роман-притчу «Без названия» (1894), роман «Падающие звёзды» (1899) о любви русского скульптора к немой англичанке В произведениях звучали отголоски народнических догм, и успеха они не имели. Поздние сборники рассказов «Ноктюрны»(1899) и «Золотая муха» (1903), посвящённые по преимуществу судьбам интеллигенции, также резонанса не вызвали. Обычно это объясняется нечеткостью социальных взглядов писателя и, как результат, отсутствием идейной цельности и эмоциональной увлечённости в разработке темы. Интересный своей уральской экзотикой этнографизм терял привлекательность в обращении к слишком хорошо известному общественному городскому материалу. Исчезал эффект новизны и оригинальности. После Достоевского, Лескова, Чехова, Толстого в критике его упрекали за «отсутствие мысли о человеке».
В целом творчество Мамина-Сибиряка является неотъемлемой и заметной частью русской литературы конца XIX в. В его произведениях запечатлелся дух эпохи в колоритных этнографических образах, изображении быта и культуры разных сословий, в изменении психологии людей периода становления русского капитализма. Перекличка стиля писателя с чертами французского натурализма делала творчество Мамина-Сибиряка общеевропейским явлением.
Литература
Дергачев И.А. Д.Н. Мамин-Сибиряк. Личность. Творчество. Свердловск, 1981.
Дергачев И.А. Д.Н. Мамин-Сибиряк в литературном контексте 2-й половины XIX в. Екатеринбург, 1992.
А.И. Эртель (1855–1908)
Александр Иванович Эртель был потомком берлинского бюргера. В автобиографии писатель рассказывает, что его дед Людвиг Эртель шестнадцатилетним юношей оказался в армии Наполеона и в сражении под Смоленском попал в плен. Некий русский офицер привёз его в свою усадьбу под Воронежом и хотел записать в крепостные. Родственники отговорили офицера от этого намерения, и Людвиг остался свободным человеком. Вноследствии он занял пост управляющего сначала на водяных мельницах, а затем был управляющим в помещичьих усадьбах в Воронежской и Тамбовской губерниях.
Позднее Людвиг принял православие. Отец писателя Иван Александрович служил приказчиком у московского купца, а затем занял место управляющего в том же имении, где раньше служил сам Людвиг-Иван Эртель. Мать писателя была незаконнорожденной дочерью помещика и крепостной нянюшки.
Более 20 лет отец писателя служил управляющим у помещика Савельева в деревне Ксизове Задонского уезда Воронежской губернии. Савельев и его жена актриса-француженка «Сильвия Ивановна», почти не говорившая по-русски, оказывали мальчику покровительство. Отец Эртеля надеялся, что общение с господами научит сына чему-нибудь полезному. Учение, с иронией вспоминает писатель, состояло в том, что Савельев иногда говорил, что значит такое-то французское слово. Все остальное время «ученик» играл с дворовыми мальчишками, гулял в саду и в огромном цветнике или сидел возле Сильвии Ивановны, которая привязалась к ребенку.
По настоянию матери Сашу начали готовить к поступлению в гимназию. Его «учил» то «пьяный конторщик», то «гувернантка, девица из крепостных, но почему-то с институтским образованием», то «барчуки-правоведы», когда он гостил у бабушки по материнской линии. В итоге в гимназию мальчик так и не попал, потому что в Воронеже, куда он поехал экзаменоваться, отцу, «закутившему» с товарищем, «отовсюду» не советовали отдавать ею в гимназию: «Будет образованный – родителей не станет кормить».
С 13 лет Александр Эртель начал проходить школу жизни. Отец получил новое место в имении Филипповых, и Саша стал его помощником, чем-то вроде приказчика. При этом должность помощника управляющего не мешала ему дружить с простыми людьми. Он вспоминает, что был «своим человеком» и в застольной, и в конюшнях, и на деревенской улице, и на посиделках, и на свадьбах – везде, где «собирался молодой деревенский народ». Этот богатый жизненный опыт впоследствии отразится в его творчестве.
Чтобы прекратить эти недостойные «фамильярные» отношения, отец согласился отпустить его на новое место службы, в имение, в котором требовался конторщик. Усадьба находилась в 20 верстах от города Усмани, где была приличная библиотека. С посещения этой библиотеки и началась его по-настоящему новая жизнь.
Управляла библиотекой дочь богатого купца М.И. Федотова. В её лице Эртель впервые встретился с женщиной «образованного круга» и вскоре женился на ней. Супругов сопровождали финансовые трудности. Потеряв место конторщика, Эртель попытался заняться предпринимательством, стать арендатором земли, но и здесь потерпел неудачу.
Отец жены, М. И. Федотов, был человеком высокообразованным для своего крута, страстным любителем чтения. В его доме собиралась городская элита. Из разговоров гостей Эртель, по воспоминаниям, почерпнул очень много, «в первый раз услыхал о земстве, о мировом судье, о полиции, об арестах, о политических процессах, о жизни в полку, на Кавказе, в Варшаве, в столице, за границей…» В доме тестя в 1876 г. Александр Иванович впервые познакомился и с «настоящим» литератором. Это был известный писатель-народник П. В. Засодимский, приезжавший в Усмань по семейным делам.
Общение с Засодимским побудило Эртеля испытать себя в литературном творчестве. Он написал свои первые произведения – рассказ «Переселенцы» и очерк «Письмо из Усманского уезда», которые столичный литератор помог опубликовать. Первый успех окрылил молодого «писателя», и с 1879 г. он начинает работать над книгой «Записки Степняка». Составляющие её произведения выходили в периодических изданиях – журналах «Вестник Европы», «Дело», «Русское богатство».
В 1879 г. Эртель переезжает в Петербург и, по предложению Засодимского, становится заведующим библиотекой, служившей местом встреч писателей и общественных деятелей народнического толка. Служа в библиотеке, Эртель знакомится с Г.И. Успенским, В.М. Гаршиным, Н.Н. Златовратским, С.Н. Кривенко, Н.Ф. Бажиным, Н.И. Наумовым, И.С. Тургеневым и другими известными писателями.
В 1880 г. из-за тяжелой болезни (туберкулёза) Эртель был вынужден вернуться в родные места – сначала в Усмань, а затем на хутор к матери. Здесь он продолжает работать над своей книгой. В 1883 г. «Записки Степняка» вышли в двух томах и сделали писателя известным.
«Записки Степняка» развивали жанровые, композиционные и стилевые традиции «Записок охотника» Тургенева. Однако изменилась сама реальность, изображаемая в произведении. Эртель художественно воплотил мир пореформенной деревни с её проблемами и противоречиями. Писатель запечатлел яркие жизненные типы новых «хозяев» деревни: купцов, кулаков, кабатчиков; показал разрушительную силу наживы. Остро показана в цикле и главная народническая проблема взаимоотношений дворянской и разночинской интеллигенции и крестьянства.
Литературный дебют Эртеля получил высокую оценку. Среди ценителей книги были Г.И. Успенский и В.Г. Короленко. Последний отмечал живость, колорит, юмор рассказов. Выразительными получились пейзажи.
Весной 1884 г. А.И.Эртель был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. Его обвиняли в связях с революционными организациями. Однако из-за ухудшения здоровья через четыре месяца его освободили из тюрьмы и выслали под административный надзор в Тверь. Ссылка продолжалась до 1888 г. В это время писатель пережил увлечение идеями Л.Н. Толстого, с которым вступил в переписку. Влияние Толстого выразилось в создании «народной» повести «Жадный мужик» (1884), опубликованной издательством «Посредник». Герой повести крестьянин Ермила, прошедший школу жизни у купца, а затем убивший и ограбивший хозяина, оказывается наказан жизнью и в итоге раскаивается в своих грехах и совершённом убийстве. Решающее значение имела доброта старшего брата Ивана, приютившего разорившегося и обворованного сыном Ермилу. Бывший мироед Ермила теперь решил послужить «миру» и уговорил барина сдать мужикам землю «дешевле против купца». Он умирает примирённый с народом и совестью.
На просьбу Толстого написать произведение, обращаясь «исключительно к народу», откликнулись также А.Н. Островский, М.Е. Салтыков-Щедрин, Г.И. Успенский, Н.С. Лесков и В.М. Гаршин. Эртель на равных оказался в этом ряду замечательных художников слова.
После окончания ссылки он снова поселился на родине, сначала в хуторе, доставшемся по наследству от матери, а затем в арендованном имении Емпелево в Воронежской губернии, где прожил шесть лет. Жизнь в деревне, вероятно, была связана не только с медицинской необходимостью, но и становилась отражением мировоззренческой позиции. В 1891 г. вслед за Толстым, Чеховым и Короленко Эртель принял активное участие в сборе средств для помощи голодающим. На свои средства выстроил в селе Макарьеве школу, в которой обучалось 120 детей.
Самым значительным произведением Эртеля стал роман «Гарденины, их дворня, приверженцы и враги». Он печатался в журнале «Русская мысль», а в 1890 г. вышел отдельной книгой.
По замыслу писателя, роман «непременно должен быть политический», произведением общественной значимости. И для этого в нём следует изображать «судьбы нашей интеллигенции». Писатель создает широкую панораму жизни, тот период общественного сознания, когда «…перерождаются понятия, видоизменяются верования, когда новые формы общественности могущественно двигают рост критического отношения к жизни, когда пускает ростки новое мировоззрение, почти противоположное первоначальному»-, – писал он В.А. Гольцеву в 1889 г.
Знаковой в романе становится фигура Николая Рахманного. Это своеобразный «герой времени» или, как поясняет писатель, «герой безгеройного времени». Сын управляющего имением, он не смог по-настоящему противостоять отцу, властному крепостнику. Однако занялся работой в земстве, проводя её на «законных основаниях». В этом он был близок популярной теории «малых дел».
Смело противостоит старым порядкам революционер-разночинец Ефрем Капитоныч. Сын конюшего, он становится студентом Петербургской медико-хирургической академии и готов отстаивать свои взгляды до конца. Разночинец с увлечением поддерживает замысел Рахманного найти средства на строительство школы для крестьянских детей. Ефрем завидует близости Николая к народному миру, но упрекает его за компромиссы и эволюционные формы борьбы с прошлым.
Однако и сам Эртель не был сторонником революционного преобразования общества. Видимо, в этом сказывалось глубинное знание писателем народной жизни и психологии. Не случайно произведение так понравилось Толстому. У этого строгого критика роман получил высокую оценку. В предисловии к изданию книги Л.Н. Толстой подчеркивал, что автор прекрасно знает народную жизнь и мастерски владеет народным языком. По словам Толстого, тем, кто любит народ, чтение Эртеля доставит «большое удовольствие». Толстой интересовался жизнью и творчеством писателя и в 1908 г., когда Эртель уже завершил свой литературный путь.
К роману «Гарденины» примыкает и роман «Смена» (1891), напечатанный в журнале «Русская мысль». Название произведения обозначает движение культурных и общественных сил. С исторической сцены сходят интеллигенты «барских привычек, барского воспитания, с их нравами, традициями, чувствами и отчасти идеями». На смену им приходят люди менее «утончённые», но «гораздо более приспособленные» к борьбе за будущее. Это явление для Эртеля было отчасти связано и с фигурой Толстого. В 1891 г. он писал о нём следующее: «По странной иронии судьбы именно этот последний барин приуготовил огромный арсенал для мужицкой интеллигенции <…>. У Толстого до чрезвычайности много того, что очень нужно народу и что с каждым годом будет всё нужнее и нужнее».
В главном герое романа «Смена» Андрее Мансурове писатель изображает «жалкую апофеозу вымирающего культурного слоя». Последних идеалистов теснят «новые люди» – предприниматели Прытковы и Колодкины, финансист Лейзенсон, сын купца Алферова. Они озабочены лишь выгодой и не испытывают жалости к разоряемым ими людям, чувствуя свою «историческую» силу. Ярким образом становится в романе неунывающий бунтарь Листарка. Его не сломили ни аресты, ни ссылка. При очередном «изъятии» его из деревни он с вызовом заявляет: «Наша возьмёт».
Кроме больших романов в 80—90-е гг. Эртель создаёт повести «Волхонская барышня» (1883), «Две пары» (1887), «Карьера Струкова» (1895–1896).
В повести «Волхонская барышня» рассказывается история Варвары Алексеевны Волхонской. Она ищет себя, осознавая, что гимназия не дала ей никаких знаний о жизни. Девушка понимает, что идеалы и убеждения её отца Алексея Борисовича Волхонского давно устарели. Мировоззрение героини меняется под влиянием публициста-почвенника Ильи Петровича Тутолмина. Тутолмин одерживает верх в спорах и с Волхонским, и со своим другом – «чистокровным агрономом» Захаром Ивановичем.
Варя увлекается Тутолминым, который сравнивает народ с Прометеем, прикованным к скале. Вместе с новым другом девушка посещает деревню, где началась эпидемия, и поражается, что отпущенные на волю крестьяне могут жить такой ужасной нищенской жизнью.
Варя оказывается перед выбором одного из трёх путей: жизнь со стареющим капризным отцом, поездка в Петербург на учёбу с Тутолминым или брак с молодым преуспевающим купцом Лукавиным. Какое-то время он представлялся девушке народным «богатырём», но в действительности оказывается лишь одним из «хищников» новой формации.
После случившегося в деревне пожара Варя заболела горячкой, и никто не мог её спасти. Драматическая судьба девушки и пожар символизировали неопределённый путь молодой России в современности.
История «двух пар» в одноимённой повести – Марьи Павловны, сумевшей порвать с мужем-чиновником, и степного помещика Сергея Петровича, с одной стороны, и плотника Фёдора и сельской девушки Лизутки, с другой, подчеркивает пропасть между либерально настроенными господами и простым народом.
Поэтика этих повестей Эртеля имела тенденцию к символике и импрессионизму. Неопределённость желаний Марьи Павловны, неуловимые предчувствия и настроения передаются художником через своеобразие пейзажных картин.
Повесть «Карьера Струкова» изображает постепенное прозрение героя в отношении к правде и в то же время деградацию личности, чья жизнь построена на лжи и компромиссах с совестью. История Алексея Струкова приобретала обличительный характер, раскрывая «постыдную игру» словами и понятиями, в которой погрязло современное общество. В характере героя появляются черты, напоминающие чеховских «рефлектирующих» интеллигентов. Это было последнее художественное произведение Эртеля.
По воспоминаниям дочери, с 1896 г. отец из – за безденежья, «по необходимости», занялся управлением имениями Хлудовых, Е.И. Чертковой, Пашковых и совместить эту работу с литературным творчеством так и не смог. Литература, как он её понимая, требовала полной самоотдачи, а ему приходилось всё больше сил тратить на занятия сельским хозяйством. По словам Натальи Александровны, «внутренняя неизбежность отказаться от художественного творчества была глубокой трагедией последних лет его жизни». Об этом искренне сожалели Толстой, Чехов, Горький, Бунин и другие современники.
Драматическая судьба талантливого писателя-разночинца симптоматична и сама могла бы стать предметом: художественного обобщения. Есть в ней что-то от чеховских героев, раздавленных повседневностью. С большой любовью и уважением вспоминает об Эртеле Бунин: «Какая умница, какой талант, в каждом слове, в каждой усмешке! Какая смесь мужественности и мягкости, твердости и деликатности, породистого англичанина и воронежского прасола!»
В этой беглой характеристике внешнего облика, «стиля» человека видны лучшие черты русской классической культуры, которые так ценил и сам автор этих воспоминаний, осознавая себя последним классическим писателем России, исчезнувшей за революционным рубежом. Неотъемлемой частью этой классической культуры был и А.И. Эртель.
Литература
Костин Г.А. А.И. Эртель. Жизнь и творчество. Воронеж, 1955.
Спасибенко А.П. Эртель – писатель-восьмидесятник. Алма-Ата, 1966.
В.М. Гаршин (1855–1888)
В литературном процессе 70—80-х гг. XIX в. творчество Всеволода Михайловича Гаршина занимает особое место. По словам его современника поэта Н. Минского, он «сделался центральною, героическою личностью своего поколения».
Все, знавшие Гаршина, вспоминали о необыкновенном обаянии его личности, о его мягкости, доброте, честности, ясном уме. «Я часто думал, что если можно представить себе такое состояние мира, когда в человечестве наступила бы полная гармония, то это было бы тогда, если бы у всех людей был такой характер, как у Всеволода Михайловича», – признавался его близкий друг зоолог В.А. Фаусек. «Его окружало всеобщее уважение, он возбуждал единодушную любовь у всех, кто видел его хоть однажды», – писал В.И. Бибиков. В.М. Гаршин обладал исключительной впечатлительностью и «чутьем к боли вообще» (А.П. Чехов).
В детстве он был невольно вовлечён в семейную драму: его мать оставила семью вместе с воспитателем старших детей П.В. Завадским, участником народнического движения. Всеволод Гаршин стал предметом ожесточённой распри родителей. В 1863 г. мать забрала его у отца.
Испытав влияние народнических и толстовских идей, Гаршин не стал ни народником, ни толстовцем. Ключевая идея писателя, определявшая его жизнь и творчество, заключалась в стремлении разделить с народом ношу его страданий, принять на себя большую её часть.
Сюжеты и конфликты его первых произведений преломлены через болезненно напряжённое сознание героя-повествователя. Он сразу заявляет о себе и повествует преимущественно о себе: «Война решительно не даёт мне покоя…» («Трус»); «Как случилось, что я, почти два года ни о чём не думавшая, начала думать, – не могу понять» (Происшествие»). Не случайно на первых порах в творчестве писателя преобладают субъективные формы повествования: монолог-исповедь («Четыре дня» и др.) или два монолога («Художники»), Герой Гаршина – человек страдающий. В основе гаршинских сюжетов часто лежат неразрешимые нравственные коллизии, в его творчестве ощутимо преобладание трагического пафоса.
В 1877 г. Гаршин добровольцем участвовал в русско-турецкой войне, поступив рядовым в пехотный полк. С этим жизненным опытом связан его литературный дебют. Первый рассказ – «Четыре дня» (1877) – написан в госпитале, где Гаршин находился после ранения.
Рассказ сразу принес Гаршину известность. В нем повествуется о физических и нравственных мучениях тяжело раненного солдата, который четыре дня лежит на поле боя рядом с разлагающимся телом убитого им турка. Обострённый субъективизм (повествование ведётся от первого лица), жёсткий натурализм описаний, придание символического смысла описываемым событиям и явлениям обнаружили в этом рассказе яркие индивидуальные черты стилистической манеры Гаршина.
Герой другого рассказа «Трус» (1879) потрясён тем, какой трагедией становится смерть одного человека и как равнодушны люди к сухой статистике военных потерь. И умирающий студент-медик Кузьма, и молодой доктор, не вынесший зрелища чужих мук и покончивший с собой, и погибающий в финале рассказа повествователь представляют собой разные воплощения гаршинского страдающего героя. Бессмысленность уничтожения людьми друг друга на войне мучительна, выход из этого духовного тупика, по Гаршину, один – разделить со всеми общее страдание: «…война есть общее горе, общее страдание, и уклоняться от псе, может быть, и позволительно, но мне это не нравится».
В творчестве Гаршина заметна своеобразная циклизация. Его произведения легко группируются по теме, общим героям или по жанру. Так своеобразным циклом можно считать «военные», «армейские рассказы» писателя «Четыре дня», «Трус», «Денщик и офицер», «Из воспоминаний рядового Иванова»; подчеркнуто связаны между собой рассказ «Происшествие» и повесть «Надежда Николаевна», посвящённые судьбе падшей женщины; Гаршин мечтал издать свои сказки отдельной книжкой с посвящением: «Великому учителю моему Гансу Христиану Андерсену».
О сущности и предназначении искусства Гаршин размышлял в рассказах о художниках. Ещё в годы обучения в Горном институте (1874–1877) будущий писатель пережил страстное увлечение живописью, сблизился с кружком художников-передвижников, выступал со статьями о художественных выставках. Позднее он близко познакомился с Репиным, Ярошенко, Поленовым, Суриковым.
Два разных типа художественного творчества представлены в рассказе «Художники» (1879) в образах Дедова и Рябинина. Первый очарован красотой мира, второй потрясён страданиями людей. Прекрасные пейзажи Дедова противопоставлены картине Рябинина «Глухарь», изображающей рабочего, сидящего внутри котла и принимающего на себя удары молота. Пережив душевное потрясение, Рябинин отрекается от искусства и уходит в сельские учителя.
Антитеза часто положена в основу системы образов в рассказах Гаршина («Художники», «Сигнал», «Attalea prmceps»). Значительную роль в его поэтике играют также символ и аллегория. Сюжеты гаршинских рассказов исполнены философского смысла, тяготеют к универсальным обобщениям. Очевидно пристрастие писателя к символико-аллегорическим жанрам: притча («Attalea prinseps»), легенда («Сказание о гордом Аггее»), сказка («Сказка о жабе и розе», «То, чего не было», «Лягушка-путешественница»).
Рассказ «Attalea princeps» (1880) не был принят М.Е. Салтыковым-Щедриным в «Отечественные записки»: он воспринял это произведение как политическую аллегорию, исполненную пессимизма.
Система образов рассказа-притчи вполне укладывается в традиционный романтический конфликт высокой души и равнодушной сытой толпы. Гаршин показывает высокий подвиг, достигаемый огромным напряжением сил, но остающийся совершенно бесплодным. Высокая цель оказывается иллюзией. Пальма видит вместо вожделенной свободы холодный серый скучный мир: «“Только-то? – думала она. – И это всё, из-за чего я томилась и страдала так долго? И этого-то достигнуть было для меня высочайшей целью?”<…> Моросил мелкий дождик пополам со снегом; ветер низко гнал серые клочковатые тучи». При этом смириться с теплой сырой «тюрьмой» она тоже не может и, значит, обречена на гибель.
Д. Святополк-Мирский писал, что рассказ «Attalea princeps» «пропитан духом трагической иронии». Ирония в том смысле, в каком её понимали немецкие романтики, оказывается одной из значимых составляющих поэтики Гаршина. Именно сквозь призму высокой трагической иронии может быть рассмотрен самый знаменитый рассказ Гаршина «Красный цветок» (1883).
Поэтика рассказа основана на парадоксальном сочетании двух повествовательных планов, «скрещении» двух жанров гаршинской прозы – психологического рассказа и аллегорической сказки-притчи. Главный персонаж наделён всеми чертами романтического героя: его история – это история мученика, ценой своей жизни спасающего мир от зла. В реалистическом, объективном повествовательном плане он оказывается душевнобольным, умирающим от истощения и мешающим врачам исцелить его. Всё мировое зло представляется его больному сознанию воплощённым в цветах мака, растущих в больничном саду. Срывая цветы мака и вбирая их яд в свою грудь, герой изнемогает «в призрачной несуществующей борьбе». Сюжет рассказа представляет собой историю его болезни и историю его подвига, высокого, но столь же бессмысленного и бесплодного, как в предыдущем рассказе, хотя бедный безумец умирает счастливым, уверенным, что избавил мир от зла.
Рассказ «Красный цветок» уникален: писатель на собственном опыте знал, что такое психическая болезнь и, описывая её «изнутри», не скрывал, что писал отчасти и о себе. По словам К.С. Баранцевича, хорошо знавшего Гаршина, идея героя «Красного цветка» была и его, Гаршина, «задушевная, втайне лелеемая идея». В основу сюжета легли воспоминания Гаршина о приступе душевной болезни, пережитом им в 1880—81 гг. Потрясённый смертным приговором революционеру И.О. Млодецкому, стрелявшему в министра внутренних дел М.Т. Лорис-Меликова, Гаршин обратился к последнему со страстной просьбой помиловать государственного преступника, но безрезультатно. По мысли Гаршина, этот акт мог бы разорвать замкнутый круг террора, правительственного и революционного. Казнь Млодецкого усугубила самый тяжёлый и затяжной приступ его душевной болезни. Своим заступничеством Гаршин отчасти предвосхитил публичные обращения Л.Н. Толстого и B.C. Соловьёва к императору Александру III после гибели его отца от рук народовольцев.
Л.Н. Толстой был «настоящим властителем дум» Гаршина. Переложение старинной легенды о царе Аггее, наказанном за свою гордость, осталось одним из неосуществлённых замыслов Толстого. Написав «Сказание о гордом Аггее» (1886), Гаршин решил эту задачу вполне в толстовском духе, избрав жанр «народного» рассказа. Царь Аггей, разгневанный услышанными в церкви словами Священного Писания «богатые обнищают, а нищие обогатеют», наказан буквальным воплощением этих слов. Из всесильного владыки он становится последним нищим, а его место на престоле занимает Ангел Господень. Гаршин несколько видоизменил развязку сюжета старинной легенды: его Аггей, смирившийся в результате ниспосланных Богом испытаний, предпочитает возвращению на престол служение нищей братии. «Просто мне кажется, что это выше», – такие слова Гаршина об этом финале приводит в воспоминаниях Ф.Д. Батюшков.
Тем не менее многое в толстовских философско-религиозных трактатах вызывало возмущение Гаршина. «Теория непротивления злу… казалась ему особенно несимпатичною своею холодною рассудочностью», – вспоминал В.А. Фаусек.
В основе сюжета рассказа «Сигнал» (1887) лежит идея жертвенного подвига, крови, пролитой ради спасения людей. Система образов этого рассказа предельно проста и основана на антитезе. Оба героя, путевые обходчики, поставлены жизнью в одно и то же положение. Огромная разница в том, как они принимают его.
Семён Иванов, человек смиренный и тихий, совершает жертвенный подвиг, а гордый Василий, протестующий против социальной несправедливости, – преступление. Одержимый завистью и ненавистью, он разбирает рельс перед подходящим поездом, возможно, представляя себе ненавистного директора в отдельном вагоне, о котором рассказывал Семёну: «Вышел на платформу, стоит, цепь золотую распустил по животу, щеки красные, будто налитые… Напился нашей крови».
Семён же, мечущийся в поисках выхода, видит иное: «Так и видит перед собою Семён: хватит паровоз левым колесом об рельсовый обруб, дрогнет, накренится, пойдёт шпалы рвать и вдребезги бить, а тут кривая, закругление, да насыпь, да валиться-то вниз одиннадцать сажен, а там, в третьем классе, народу битком набито, дети малые…».
Герой жертвует собой ради спасения множества людей. Красный флаг, окрашенный собственной кровью, – яркий и выразительный символ высокого жертвенного подвига. Этот воистину христианский поступок влечёт за собой ещё одну победу добра над злом: Василий не просто завершает спасение пассажиров, но и кается в своём преступлении.
Думается, что сюжет рассказа Гаршина весьма далёк от толстовской идеи «непротивления злу», для него торжество над злом нравственным, овладевшим душой человека, гораздо важнее победы над социальным злом. Оценивая рассказы Гаршина сегодня, нельзя не удивиться точности его оценок и нравственной чуткости.
Рассказ «Сигнал» – своеобразный итог идейных исканий Гаршина. В нём можно заметить отголоски его «военных» рассказов («Денщик и офицер» и др.), увидеть разрешение противоречий, заключённых в сюжетах «Красного цветка» и «Attalea princeps».
В. Фаусек вспоминал о своем друге Всеволоде Гаршине: «Несмотря на свою затаённую грусть, он был человек в высшей степени жизнерадостный…» Веселая сказка «Лягушка-путешественница» (1887) – последнее написанное им произведение – обращена к детям. Её сюжет восходит к сказке из древнего индийского сборника «Панчатантра», в России известен с XV в. по сборнику «Стефанит и Ихнилат», а также по одной из басен Лафонтена. Тонкая ирония, добрый юмор и прозрачная аллегория, как в басне, становятся в сказке Гаршина основой стиля.
В образе лягушки-путешественницы выведен легко узнаваемый психологический тип и весьма распространённый порок.
Она тщеславна, хвастлива, но вежлива и «хорошо воспитана». Ей, изо всех сил стискивающей челюстями прутик и болтающейся в воздухе, «как бумажный паяц», очень хочется «показать себя и послушать, что об ней говорят» люди, удивлённые необычным зрелищем. Однако она просит уток лететь пониже совсем под другим предлогом: «У меня от высоты кружится голова, и я боюсь свалиться, если мне вдруг сделается дурно». Наконец, бултыхнувшись в грязный пруд на краю деревни всё из-за того же тщеславного желания заявить о своей сообразительности, она рассказывает местным лягушкам совсем не ту «сказку», которую мы прочитали: «И она рассказала им чудную историю о том, как она думала всю жизнь и наконец изобрела новый, необыкновенный способ путешествия на утках; как у неё были свои собственные утки, которые носили её, куда ей было угодно; как она побывала на прекрасном юге, где так хорошо, где такие прекрасные теплые болота и так много мошек и всяких других съедобных насекомых».
Гаршинская ирония, построенная на несовпадении реальности и представления персонажа о ней, направлена в его последнем произведении на трудноискоренимое желание человека казаться лучше, чем он есть, порождающее все формы притворной вежливости и изысканной лжи.
Гаршин умер в 33-летнем возрасте. Тяжёлые ежегодные приступы депрессии неизменно приходили на смену периодам здоровья и полноты жизненных сил. Во время одного из таких припадков он бросился в лестничный пролёт: «Он не убился до смерти, его подняли разбитого, с переломленной ногой и перенесли в квартиру. Те несколько часов, которые он ещё пробыл в сознании, он глубоко страдал нравственно, он не переставал упрекать себя за своей поступок», – вспоминал В.А. Фаусек.
На смерть Гаршина русская интеллигенция откликнулась сборником, посвящённым его памяти. А.П. Чехов написал для этого сборника рассказ «Припадок». А.Н. Плещееву 24 марта 1888 г. Чехов писал: «…таких людей, как покойный Гаршин, я люблю всей душой и считаю своим долгом публично расписываться в симпатии к ним».
Литература
Бялый Г.А. «Талант человеческий»: Реализм В.М. Гаршина // Вялый Г.А. Чехов и русский реализм. Л., 1§ 81. С. 302–358.
Латынина А.Н. В. Гаршин: Творчество и судьба. М., 1986.
Памяти В.М. Гаршина: Художественно-литературный сборник. СПб., 1889.
Порудоминский В. Грустный солдат, или Жизнь В. Гаршина. М., 1987 (Писатели о писателях).
Современники о В.М. Гаршине. Саратов, 1977.
И.Н. Потапенко (1856–1929)
Игнатий Николаевич Потапенко родился в семье священника и крестьянки. До принятия сана отец будущего писателя был уланским офицером. Детство Игнатий провёл в деревне на Украине. Учился в Херсонском духовном училище и в Одесской семинарии, затем в Новороссийском и Петербургском университетах и в Петербургской консерватории по классу во кала.
Путь профессионального литератора он выбрал осознанно. С детства Потапенко писал стихи, а много позже, в 1881 г., выпустил сборник «Думы и песни Игнатия Бездольного». Произведения были написаны в подражание Некрасову и Шевченко. К поэзии он больше не обращался.
Как прозаик Потапенко дебютировал в 1873 г. с рассказом «Два дня». Рассказ был посвящён жизни студентов и позже вошёл в книгу «Записки старого студента» (1899). В 80-е гг. он публикует бытописательские очерки и рассказы об Украине. Его героями становятся жители хуторов, сельские священники. Материалом для произведений послужили собственные наблюдения писателя над нравами украинского села. Произведения Потапенко публикуют журналы «Дело», «Вестник Европы», «Новь». В 1886–1890 г. Потапенко живёт в Одессе, где (часто совместно с П.А.Сергеенко, под общим псевдонимом Аркадий Фиалкин) публикует в местных изданиях очерки, фельетоны, критические статьи.
В 1887 г. в Одессе выходит первый сборник писателя «В деревне. Очерки и рассказы». В редакционной рецензии «Северного вестника» отмечалось, что произведения Потапенко являются «милыми, фельетонными вещицами», которые «стоило напечатать, но едва ли стоит перепечатывать». С другой стороны, в критике отмечалась их бытописательская ценность.
Привлекательность произведений писателя во многом определялась найденной им повествовательной манерой, близкой к сказу. Автор предстает добродушным наблюдателем, чуждым и пафосу городской культуры, и преклонению перед трудной крестьянской судьбой. Юмор и саркастическая усмешка определяют стилевую специфику и других произведений, например, повести «Святое семейство» (1885), где разрабатывается городская тематика. Фельетонная острота направлена против нравов разнообразных «служителей» литературы, многочисленных псевдолитераторов.
Известность Потапенко принесли его произведения начала 90-х гг., раскрывающие различные формы приспособления «среднего» интеллигента к современной российской действительности. Здесь встречались и отрицательные, и положительные примеры. Так, герой романа «Здравые понятия» (1890) юрист Андрей Николаевич уговаривает любимую девушку выйти замуж за богатого старика, а после его смерти женится на «богатой вдове». В повести «На действительной службе» (1890), напротив, возникал благородный образ священника Кирилла Обновленского. Герой отказывается от выгодной карьеры и становится настоятелем бедного церковного прихода.
Появлялись и другие выразительные типажи и проблемы. В повести «Секретарь его превосходительства» (1890) возникал образ честного, но безликого и бесплодного чиновника. Проблемы женской эмансипации раскрывались в повести «Генеральская дочь» (1891), получившей высокую оценку Н.С. Лескова.
Программным произведением Потапенко считается роман «Не герой» (1891). Писатель создал характер необычного для русской литературы «положительного» обывателя. Разночинец Рачеев живёт в деревне и занят мелкой филантропией. Как «здравомыслящий» человек, он развивает целую философию, в которой слышатся отголоски «разумного эгоизма» героев Чернышевского. «Я люблю свою жену и ребёнка, – заявляет Рачеев, – люблю себя, люблю жизнь и комфорт и ничего себя не лишаю». «Но у меня, – подчеркивает он, – здоровая натура, которая требует во всём гармонии. Этой гармонии не было бы, если бы я жил только для своего удовольствия». «Отсюда, – поясняет «разумный эгоист» нового времени, – и вытекает вся моя деятельность».
Почти одновременная публикация крупных произведений Потапенко 1890–1891 гг. вызвала предположение Н.К. Михайловского о том, что создавались они раньше. Однако писатель сумел уловить запросы времени, культ «среднего человека». Оптимизм, добродушие, следование «теории малых дел» определили читательское признание Потапенко. В 1891 г. ему была присуждена «поощрительная» Пушкинская премия за вклад в литературу.
Успех произведений Потапенко у читателей сделал писателя популярным. Он активно публикуется в большинстве крупных литературных журналов. Творчество Потапенко отличает жанровое многообразие. Он выступает с романами, повестями, рассказами, очерками. По мнению А.М. Скабичевского, ему особенно удавались небольшие произведения, «маленькие вещицы», потому что преобладающим качеством таланта Потапенко критик считает юмор, комизм. Характерно, что его часто сравнивали с Чеховым. Однако в отличие от Чехова Потапенко тяготел к жанру романа. Как считал Ф.Д. Батюшков, он хотел «писать роман, иначе и писателем нельзя называться», и «экплуатировал» созданный им художественный тип «героя на час».
Многочисленные произведения Потапенко о «среднем» человеке с «разумными» взглядами и оптимистическим отношением к жизни формировали особое, по существу обывательское, мировоззрение, с которым сражался в своем творчестве Чехов. Потапенко последовательно утверждал буржуазные ценности, доказывая достижимость гармонии между комфортом и совестью. Традиционные, «проклятые» вопросы русской литературы решались им в примирительном смысле. Безвыходных положений в произведениях писателя практически не существовало. Разрешались конфликты «интеллигенции и народа», «отцов и детей» почти всегда счастливо. По замечанию Н.К. Михайловского, его героям «бабушка ворожила».
В конце 90-х этот прекраснодушный оптимизм перестал привлекать читателей, и Потапенко усложнил свои произведения необычными сюжетными или психологическими ходами. Его романы выстраивались как «математические задачи» с ходами, искусственно поддерживающими интерес. Так, в романе «Светлый луч» (1898) героиня – врач Надежда Мальвинская – создаёт артель сельскохозяйственных рабочих из обитателей трущоб и ночлежных домов. Но идейным вождём общины становится параноик Барвинский, который провозглашает высоьсие идеи в состоянии приступа безумия.
Во второй половине 90-х гг. Потапенко активно сотрудничает в «Новом времени» как публицист. Выступая под псевдонимом Фингал, он печатает публицистические и литературно-критические статьи, в том числе посвящённые творчеству Чехова и Бунина.
В 1900-е гг. Потапенко продолжает разрабатывать сложившиеся темы и по-прежнему пользуется популярностью. Он изображает сельских священников («Примирение», 1900) и учителей («На покой», 1903; «Муж чести», 1905), раскрывает проблему конфликта поколений («Мать и дочь», «Два поколения», 1903). В романах «Обойдённые типы» (1904), «Ужас счастья» (1908), в повести «Оправдание жизни» (1908) показывает честное существование «средних людей». Эта стабильность, «ровность» мира писателя начинает вызывать иронию и скуку. Так, в одной из статей «Журнала журналов» Потапенко назван «спокойным талантом». В критике всё чаще отмечалась банальность его произведений.
Кроме прозы писатель создавал драматургические произведения, развивавшие близкие ему мотивы. Это драмы «Жизнь» (1893), «Чужие» (1895), «Лишённый прав» (1901), «Искупление» (1903); комедии «Выдержанный стиль» (1895), «Волшебная сказка» (1897), «Жить можно…» (1898) и др.
После 1917 г. Потапенко изредка переиздавал свои прежние произведения, в частности «Рассказы для детей» (1923), «Чело век из проруби» (1924), «Честная компания» (1926). Интерес вызвали его мемуары о студенчестве 70-х гг. («История одной «коммуны»», 1928) и попытки организовать просвещение народа в провинции («Сурчанский “университет"», 1927).
В истории литературы XIX в. Потапенко остался как талантливый беллетрист, ориентированный на массового читателя, «среднего человека», о котором он по преимуществу и писал. Его программный оптимизм был привлекателен и востребован в эпоху социальной депрессии и утраты идеалов. Как художник он привлекателен своим живым языком, острой наблюдательностью, юмором. Идейные и стилевые черты прозы Потапенко делали его типичным представителем и выразителем массового сознания 80—90-х гг. XIX в.
Литература
Поддубная Е.Я. Эстетические взгляды И.Н. Потапенко // Проблемы художественного метода и жанра. Л., 1978.
Литературный процесс и русская журналистика конца XIX – начала XX в. 1890–1904. М., 1981.
Ф.М. Достоевский (1821–1881)
Творчество Фёдора Михайловича Достоевского занимает особое место в русской й мировой литературе. В его произведениях читающий мир ищет ключ к величайшей тайне мироздания – загадке человеческой души. Возможно, поэтому по количеству изданий и переводов в России и за рубежом он значительно превосходит многих других писателей. И вероятно, по этой же причине Достоевский принадлежит к числу тех немногих авторов, творения которых с течением времени не устаревают. Напротив, лишь по прошествии лет и даже веков они перестают восприниматься упрощённо-поверхностно и открываются во всей своей бездонной глубине.
Однако редкому читателю таинство художественного мира Достоевского становится доступным сразу. Чаще всего путь к его познанию бывает долгим и требует усилий для проникновения в художественный мир писателя. Порой для этого необходимо внимание к самым разным аспектам биографического и творческого характера.
Д.С. Мережковскому принадлежит такое высказывание: «…прежде чем изучать Достоевского и Л. Толстого как художников, мыслителей, проповедников, надо знать, что это за люди». Действительно, человеческое измерение писателя неотделимо от его творческого дара. Поэтому необходимо вначале поразмышлять о нём.
Множество условий и факторов способно оказать влияние на становление личности писателя. Среди них традиционно отмечают воздействие эпохи, семейной обстановки, воспитания, образования, круга чтения, общения и множество других. Все они в той или иной мере повлияли и на Достоевского.
Безусловно, значимым был несколько двойственный характер его происхождения. С одной стороны, элитная принадлежность к старинному дворянскому роду, представители которого упоминались в документах юго-западной Руси еще в XVI в., а с другой – скромное состояние и трудовая жизнь отца писателя, Михаила Андреевича Достоевского (1789–1839), судьба которого сложилась уже не как у дворянина, а как у типичного разночинца: он получил образование в Медико-хирургической академии, был участником войны 1812 г., а после её окончания служил врачом.
Важно было и то, что мать Достоевского, Мария Фёдоровнг (1800–1837), происходила из старомосковской купеческой семьи Нечаевых, где поощрялась любовь к поэзии, музыке, чтению что свои увлечения она передала детям, которых воспитывала е любви и заботливой ласке.
Конечно же, велико было влияние места, где родился и про вел детские годы будущий писатель. К моменту рождения Фёдора, который был вторым ребёнком, семья штаб-лекаря московской Мариинской больницы для бедных Михаила Андреевича Достоевского жила в скромной квартире в одном из больничных флигелей. Символичным представляется и название улицы, где располагалась больница, – Божедомка (ныне ул. Достоевского). «Божьими домами» называли в дореволюционной России строения, возведённые на пожертвования для бедных; к их числу относилась и Мариинская больница.
Обстановку семьи, в которой Достоевский провёл свои первые шестнадцать лет, он вспоминал так: «Я происходил из семейства русского и благочестивого. С тех пор, как я себя помню, я помню любовь ко мне родителей. Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть не с первого детства. Мне было всего лишь десять лет, когда я уже знал почти все главные эпизоды русской истории Карамзина, которого вслух по вечерам читал нам отец».
Действительно, две важнейшие книги – Евангелие и «История государства Российского» Н.М. Карамзина – во многом предопределили направление духовного развития и личностного устремления будущего писателя. Два основных вектора всечеловеческого тяготения к бессмертию отразили эти столь внешне непохожие книги: направление жизненного движения по горизонтали, то есть стремление к признанию и бессмертию в исторической памяти потомков, и направление вертикального восхождения к бессмертию в духовном измерении. Оба эти устремления, при пересечении невольно вызывающие в воображении образ христианского распятия, проявились и в жизненных влечениях, и в судьбе писателя.
Неизгладимый след, повлиявший на судьбу Фёдора Михайловича, оставил также православный уклад жизни, в духе которого воспитывались дети в большой семье Достоевских. «Каждый раз посещение Кремля и соборов московских было для меня чем-то торжественными, – вспоминал впоследствии писатель. Навсегда запомнились ему и ежегодные поездки с матерью в Троице-Сергиеву лавру на Пасху.
Здесь можно отметить также влияния, которые не связаны с внешними условиями жизни будущего писателя, однако ярко проявились в его жизненном и творческом пути. Я имею в виду влияния космологические. Дата рождения Фёдора Михайловича – 30 октября 1821 г. – указывает на то, что он рождён по восточному гороскопу в год Змеи, а по западному – под знаком Скорпиона. Для тех, кто рождён в год Змеи, характерна особого рода мудрость, которая дается изначально, без потребности в логических доказательствах. К такого рода мудрости можно отнести неистребимую потребность в вере, необъяснимую убеждённость в совершенстве «сияющей личности Христа», которую Достоевский пронёс через всю жизнь и которая многих усомнившихся его современников привела к духовному краху.
Принадлежность к знаку Скорпиона наделяет людей, отмеченных им, особым притяжением к таинствам любви и смерти, а также внутренней противоречивостью и двойственностью. С античных времён знак Скорпиона символически изображается как двойственное соединение змеи, ползающей по земле, и орла, устремлённого в небо.
В натальном гороскопе Достоевского, составленном уже много лет спустя после его смерти, видны ключевые линии, предопределившие в его жизни переплетение мрака и света, любви и смерти, которые теперь очевидны для его биографов и исследователей творческого наследия.
Образование также сыграло свою роль в формировании мировосприятия Достоевского.
Обучение его началось очень рано, и первыми учителями стали мать и дьякон. Затем; круг наставников расширился: в 1833 г вместе с братом Михаилом он посещает полупансион Н.И. Драшусова, а в следующем году – частный пансион Л.И. Чермака известный в Москве «литературным уклоном».
Скромность материального положения и ограниченность в средствах не заставили отца экономить на образовании старший детей, литературные увлечения которых были не только известны в семье, но и всячески поощрялись. Любовь Достоевского к произведениям русских и зарубежных писателей (Г.Р. Державина, В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Ф. Шиллера, В. Скотта) разделяли родители и его самый близкий друг и старший брат Михаил (1820–1864). В семье мечтали о том, что Михаил и Фёдор будут учиться в Московском университете: пансион Л. И. Чермака был первой подготовитель ной ступенью на этом пути. Однако этим планам не суждено было сбыться.
Жизнь Достоевского складывалась таким образом, что любовь и смерть словно схлестнулись в равновеликом поединке и фатально предопределили его судьбу. Понятно, что детские годы: были освещены любовью матери, близких. Но и столкновение со смертью начались для него очень рано. Первое такое событие произошло в 1837 г. в пятнадцать лет ему пришлось пере жить смерть матери, которая трагически соединилась в его под ростковом восприятии с гибелью А. С. Пушкина и переживалась как невосполнимая личная потеря. Мария Фёдоровна умерла всего лишь в тридцать шесть лет, оставив сиротами семерых детей. Кроме Фёдора и старшего Михаила в семье росли еще три сестры и два брата: Варвара (1822–1893), Андрее (1825–1897), Вера (1828–1896), Николай (1831–1883), Александра (1835–1889).
В мае 1837 г. отец отвозит Фёдора и Михаила в Петербург для поступления в Главное инженерное училище – военное заведение, которое находилось под управлением великого князя Михаила Павловича и куда принимали «по штату», то есть на полное содержание от казны. Но в январе 1838 г. (после подготовки в пансионе К.Ф. Костомарова) в училище был принят только Фёдор. Михаилу было отказано по состоянию здоровья, и он был отправлен на службу в Ревельскую инженерную команду.
Впервые братья расстались, но дружеская связь между ними продолжалась с помощью оживлённой переписки. Именно в письмах к брату Достоевский впервые сформулировал ключевые мысли, определившие сферу его духовного поиска: «Человек есть тайна. Её надо разгадать, и ежели будешь разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком»; «Природа, душа, Бог, любовь… познаются сердцем, а не умом»; «Мысль зарождается в душе. Ум орудие, машина, движимая огнём душевным…». Эти мысли впоследствии не только наметили траекторию духовного движения будущего писателя, они нашли яркое воплощение в его художественных произведениях.
Достоевский поселяется в училище, которое располагалось в Михайловском замке. Это место постоянно и властно напоминало о смерти – об убийстве императора Павла I, произошедшем в этих стенах в самом начале XIX в. Возможно, поэтому, а также из-за военной муштры и довольно жёсткого распорядка Достоевский назвал годы учения в Инженерном училище (1838–1843 гг.) «каторжными».
Гнетущее впечатление этих лет усилилось еще одним страшным событием – внезапной смертью отца в 1839 г., всего через два года после смерти матери. Загадка его гибели осталась неразрешённой, причины до конца не ясными: по документам он умер от апоплексического удара, а по воспоминаниям родных и устным преданиям – был убит в поле крепостными крестьянами. Достоевский пережил это событие очень тяжело, поскольку первый нервный припадок – предвестник будущей эпилепсии, к которой у него была наследственная предрасположенность, – случился с ним именно тогда.
В 1841 г., получив после смерти отца небольшое наследство и нижний офицерский чин полевого инженера-прапорщика, Достоевский стал уже не воспитанником («кондуктором», как их тогда называли), а экстерном Главного инженерного училища и получил право жить на частной квартире «вольным, одиноким и независимым» до окончания своего обучения в 1843 г. Вопреки инженерному образованию, которое он получал в училище, ею литературные пристрастия в этот период (Шекспир, Шиллер, Гете, Корнель, Гюго, Гофман, Бальзак, Жорж Санд, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Грибоедов), а также собственные, не сохранившиеся, к сожалению, для потомков творческие опыты (драмы «Мария Стюарт» и «Борис Годунов»), о которых он повествует в письмах к брату, свидетельствуют о самых серьёзных размышлениях над вопросами бытийного, личностного и исторического уровней.
Возможно, поэтому, не прослужив и года по полученной им специальности, Достоевский в августе 1844 г. выходит в отставку в чине поручика и посвящает себя главному делу своей жизни литературе. Правда, след инженерного образования сохранился пожизненно: поля его рукописей содержат рисунки готических храмов, а архитектоника романов поражает соразмерностью и гармонией.
Тогда же, в середине 1844 г., в журнале «Пантеон» появляется его первая печатная публикация – перевод романа Бальзака «Евгения Гранде». А в течение 1844–1845 гг. идет непрерывная, вдохновенная, с множеством редакций и переделок работа над его первым романом «Бедные люди».
Литературный дебют молодого Достоевского нужно признать одним из самых блистательных в русской словесности. Рукопись романа «Бедные люди» через посредничество Д.В. Григоровича была прочитана Н.А. Некрасовым, а затем и В.Г. Белинским, которые с восторгом возвестили о появлении в его лице великою писателя. Потрясенный высочайшей оценкой критика, восторженными отзывами известных литераторов, Достоевский впоследствии писал, что это была «самая восхитительная минута» во всей его жизни. Роман был опубликован во втором альманахе «натуральной школы» – «Петербургском сборнике» за 1846 год.
Первое произведение Достоевского действительно было близким по духу к «натуральной школе». История трогательной несчастливой любви Макара Алексеевича Девушкина к Вареньке, описанная в письмах на фоне подробностей жизни бедного чиновника, вызывала сострадание и сочувствие читателей.
Главный герой напоминал некоторыми своими чертами и Самсона Вырина из пушкинского «Станционного смотрителя», и Акакия Акакиевича из гоголевской «Шинели». Кстати, об этих героях Пушкина и Гоголя Девушкин не только читал, он даже высказывал о них собственное суждение. Но у Достоевского было свое видение традиционной темы «бедных людей» в литературе: его интересует не столько бедность сама по себе и её достоверное описание, сколько сознание, особое душевное состояние человека, обречённого быть бедным. Вероятно, по этой причине Достоевским и был выбран жанр первого произведения – роман в письмах. Исповедальный характер писем давал возможность читателям проникнуть во внутренний мир героя, как бы рассказывающего о себе, позволял исследовать его характер изнутри. Момент пробуждения самосознания героя под храмов, а архитектоника романов поражает соразмерностью и гармонией.
Тогда же, в середине 1844 г., в журнале «Пантеон» появляется его первая печатная публикация – перевод романа Бальзака «Евгения Гранде». А в течение 1844–1845 гг. идет непрерывная, вдохновенная, с множеством редакций и переделок работа над его первым романом «Бедные люди».
Литературный дебют молодого Достоевского нужно признать одним из самых блистательных в русской словесности. Рукопись романа «Бедные люди» через посредничество Д.В. Григоровича была прочитана НА Некрасовым, а затем и В.Г. Белинским, которые с восторгом возвестили о появлении в его лице великого писателя. Потрясённый высочайшей оценкой критика, восторженными отзывами известных литераторов, Достоевский впоследствии писал, что это была «самая восхитительная минута» во всей его жизни. Роман был опубликован во втором альманахе «натуральной школы» – «Петербургском сборнике» за 1846 год.
Первое произведение Достоевского действительно было близким по духу к «натуральной школе». История трогательной несчастливой любви Макара Алексеевича Девушкина к Вареньке, описанная в письмах на фоне подробностей жизни бедного чиновника, вызывала сострадание и сочувствие читателей. Главный герой напоминал некоторыми своими чертами и Самсона Вырина из пушкинского «Станционного смотрителя», и Акакия Акакиевича из гоголевской «Шинели». Кстати, об этих героях Пушкина и Гоголя Девушкин не только читал, он даже высказывал о них собственное суждение. Но у Достоевского было свое видение традиционной темы «бедных людей» в литературе: его интересует не столько бедность сама по себе и её достоверное описание, сколько сознание, особое душевное состояние человека, обречённого быть бедным. Вероятно, по этой причине Достоевским и был выбран жанр первого произведения – роман в письмах. Исповедальный характер писем давал возможность читателям проникнуть во внутренний мир героя, как бы рассказывающего о себе, позволял исследовать его характер изнутри. Момент пробуждения самосознания героя под влиянием любви – вот то, что было интереснее всего для автора произведения.
Однако Белинский высоко оценил «Бедных людей» вовсе не за это: Достоевский обрадовал его как продолжатель «гоголевского направления» в литературе, призывающий к состраданию и гуманизму. «Честь и слава молодому поэту, муза которого любит людей на чердаках и в подвалах и говорит о них обитателям раззолоченных палат: "Ведь это тоже люди, ваши братья!”» – писал он. Критика прежде всего привлёк социальный пафос первого романа Достоевского, и он всячески содействовал его шумному успеху.
Знакомство Достоевского с Белинским и Некрасовым открыло для начинающего литератора двери петербургских салонов (в частности, салона И.И. Панаева), сблизило с известными писателями – И.С. Тургеневым, В.Ф. Одоевским, обрушило на его опьянённую внезапным успехам голову известность среди писателей-современников и их почитателей. Тем более драматичным для Достоевского было последующее расхождение и разрыв со сторонниками «натуральной школы», конфликт с редакцией журнала «Современник» в конце 1846 г.
Взаимоотношения Достоевского с Белинским, спровоцировавшие мировоззренческий переворот писателя, проделали головокружительный виток – от восторга первого знакомства до полного разочарования и разрыва. Поверивший в гениальность начинающего таланта Белинский вызвал ответное чувство доверия и восхищения у Достоевского. По его собственному признанию, он тогда «страстно принял всё учение» Белинского, основанное на атеизме. Единственное, что для Достоевского не опровергалось никакими социальными идеями, – это «сияющая личность Христа», идеальный образ, оставшийся незамутненным и навсегда сохранённым в душе с воспоминаний детских лег.
Едва обозначившееся непонимание между Белинским и Достоевским усилилось после второго произведения – повести «Двойник». То, что было лишь намечено в «Бедных людях», – психологизм, интерес к внутреннему миру героев, нашло яркое, развернутое воплощение в «Двойнике». Выстраданная Достоевским идея двойничества, картина расколотого сознания развернуты в этой повести мощно и убедительно. Но именно эти новые особенности произведения оставляют равнодушными читателей-современников.
Двойственность была характерна и для самого Достоевского, а не только для героев его произведений. Действительно, вспомним, что две важнейшие книги – «История государства Российского» Н.М. Карамзина и Евангелие, – почитаемые и семье Достоевских, предопределили его судьбу.
В 1847–1848 гг., после разрыва с литературным кругом Белинского, у Достоевского преобладает, скорее всего, интерес исторический. Возросший на почве детского увлечения русской историей, думается, он и подтолкнул молодого двадцатипятилетнего Достоевского в кружок М.В. Буташевича-Петрашевского, где спорили об утопическом социализме Фурье, о свободе книгопечатания, об освобождении крестьян, о других государственных реформах. Страстное желание ускорить в России благотворные перемены сблизило Достоевского с одним из самых радикально настроенных петрашевцев – Н.А Спешневым, который организовал свой революционный кружок, где целью провозглашалось совершение «переворота в России», где допускалась даже возможность террора. Впоследствии исследователи отмечали – «демонические черты»– облика Н.А. Спешнева в образе Ставрогииа из романа «Бесы».
Столь явное стремление молодого Достоевского двигаться по исторической горизонтали не могло не привести сначала к модной в то время одержимости идеей спасения России насильственным путем, а затем на эшафот и каторгу. Арест Достоевского и его друзей-петрашевцев произошел в ночь на 23 апреля 849 г., а затем последовали восемь месяцев заключения в одиночной камере Алексеевского равелина Петропавловской крепости.
Церемония казни, которую по приговору военного трибунала совершили над ним и его товарищами 22 декабря 1849 г. на Семёновском плацу, минуты, прожитые у последней черты на грани смерти, резко переломили его жизненное продвижение по горизонтали и заставили одновременно духовно устремляться вертикально вверх. Непоправимый ужас смерти и безмерная любовь к жизни, прочувствованные им в эта минуты, стали главным содержанием опыта духовного преображения в дальнейшем, а мучительное существование как бы распятого на кресле собственного предназначения стало сущностью судьбы Достоевского. Вероятно, для совершения внутренней метаморфозы после каторги ему необходимо было сначала пройти через собственную смерть, принять и пережить её разрушающее, но одновременно и преобразующее воздействие. Этот эффект слитых воедино смерти, любви к жизни и воскресения переживут и герои романов Достоевского.
Возможно, что именно внутренняя раздвоенность привела к тому, что судьба вновь и вновь сталкивала Достоевского лицом к лицу со смертью, подтолкнула его жизнь к разлому, к расколу на две половины, измеряемые страшной мерой: до эшафота и после него.
Достоевский «до» эшафота – это ярко дебютировавшии в литературе молодой писатель, автор многих известных произведений: трёх романов (первого – «Бедные люди» (1845), сентиментального – «Белые ночи» (1848), незаконченного – «Неточка Незванова» (1849); повестей «Хозяйка», «Двойник» (1846); фельетонов «Петербургская летопись» (1847). И одновременно посетитель «пятниц» Буташевича-Петрашевского.
Достоевский «после» – умудрённый опытом каторги философ, пророк, публицист и романист, давший миру великие произведения, навсегда обогатившие русскую и мировую литературу.
Пережив церемонию казни, Ф.М. Достоевскии позже писал: «Приговор смертной казни расстрелянием… прочтен был вовсе не в шутку; почти все приговорённые были уверены, что он будет исполнен и вынесли… десять ужасных, безмерно страшных минут ожидания смерти… но то дело, за которое нас осудили, те мысли, те понятия, которые владели нашим духом, представлялись нам не только не требующими раскаяния, но даже чем-то нас очищающим, мученичеством, за которое многое нам простится». Эта уверенная убежденность в истинности собственных ошибочных взглядов позже воплотится во внутренних монологах Раскольникова после преступления.
Ярким воплощением мировоззрения и творческого стиля молодого писателя стал его рассказ «Маленький герой», написанный во время заключения в Петропавловской крепости между окончанием следствия и объявлением приговора по делу петрашевцев.
Удивительно, а может, и закономерно, что в ожидании смертного приговора Достоевский пишет очень светлое произведение, в центре которого – любовь. Рассказ освещён изнутри романтическим восхищением женщиной, самоотверженной готовностью совершить подвиг во имя прекрасной дамы, стремлением маленького героя спасти её честь. Поразительно, как в небольшом по объему произведении Достоевскому удалось достоверно передать множество оттенков и разновидностей любовных взаимоотношении между мужчинами и женщинами, увиденных одиннадцатилетним подростком, глубокий психологизм в описании переживаний маленького героя. В рассказе уже видны будущие характерные стилевые особенности позднего Достоевского романиста и одновременно еще присутствует манера изложения раннего Достоевского-романтика.
Многими своими мотивами рассказ перекликается с предшествующими произведениями. Еще в «Бедных людях» и «Хозяйке» присутствовал мотив неосознанного ощущения ребенком чего-то неладного, тревожного среди беззаботных радостей и красоты детства; в «Маленьком герое» он становится одним из главных. Варьируются в нем некоторые темы «Неточки Незвановой»: прослеживается зарождение в душе подростка чувства любви-преданности, любви-самоотвержения. Может быть, именно творческое обращение к любви, освещающей любую, даже самую тяжелую жизнь, спасло душу писателя в мрачном каземате. А главное, в небольшом рассказе ярко выражен apxeтип Героя-Спасителя, который, вероятно, владел душой Достоевского на протяжении всего жизненного и творческого пути и впоследствии нашел воплощение в образах многих его героев.
Отмена смертной казни по резолюции Николая I («На 4 года и потом рядовым») дала Достоевскому не только возможность жить дальше, хотя и самым мучительным образом, но и шанс для пересмотра собственных убеждений. Этот процесс шел медленно и трудно. В его основе лежали переживаемые в Омской крепости страдания каторжанина. Своё состояние на каторге Достоевский ощущает как положение, напоминающее смерть: «…те 4 года считаю я за время, в которое я был похоронен живой и зарыт в гробу… Это было страдание невыразимое, бесконечное, потому что всякий час, всякая минута тяготела как камень у меня на душе».
Однако внезапно, неожиданно, как спасение, появилась в его жизни книга из детства, осветила этот каторжный путь и заставила переосмыслить прожитое и проживаемое с иной точки зрения – с точки зрения Вечности. Это было Евангелие – единственная книга, которую разрешалось иметь заключённым, подаренная ему в Тобольском остроге при встрече с жёнами декабристов Натальей Фонвизиной, Александрой Муравьевой и Прасковьей Анненковой.
О том, насколько значимым был этот подарок для писателя и сколь важной оказалась для него заветная книга, свидетельствует тот факт, что Достоевский не расставался с ней до конца жизни и с ней в руках встретил свой смертный час. Ныне сохраняемая в петербургском музее-квартире писателя, она содержит знаки его неустанной мыслительной работы над каждым словом Евангелия.
Поразительно, что в тяжелейших условиях каторги Достоевскому удалось не только сохранить любовь к жизни, но вопреки окружающей действительности не утратить интереса к литературе. Всё увиденное и пережитое в эти годы стало творческим арсеналом писателя. «Сколько я вынес из каторги народных типов, характеров!…На целые томы достанете, – писал он в письме брату Андрею.
Важным событием этих лет стала и женитьба Достоевского в 1857 г. на вдове Марии Дмитриевне Исаевой, брасс с которой просуществовал более семи лет, но не принёс счастья обоим супругам.
Мучительные десять лет (1849 1859 гг.) заключения, каторги и последующего поселения в Семипалатинске привели к полной переоценке мировоззрения писателя.
Боль за Россию не покинула Достоевского. После каторги она нашла свое воплощение в новых убеждениях, которые сам писатель сформулировал как «возврат к народному корню, к узнанию русской души, к признанию духа народного». «Почвенничество», задуманное Достоевским как промежуточное между славянофильством и западничеством направление общественного движения, стало продолжением политических исканий писателя, но уже на новом этапе. Понятие «почвы» – важнейшее в мировоззрении Достоевского – подразумевало национальные основания для исторической и политической жизни государства.
Достоевский отныне оценивал политику партий и правительств как органичную или неорганичную в зависимости от того, насколько она соответствовала вековечным национальным устремлениям народа, насколько близка была «почве». Изменилось после каторги его отношение к монархии, к религии. Резко поменялись и читательские пристрастия: теперь его интересуют книги по истории, философии, труды отцов церкви.
Вернувшись в ноябре 1859 г. в столицу, уставший от социальной изоляции, Достоевский увлечённо включается в общественную и литературную жизнь Петербурга. Он посещает кружок бывшего петрашевца Л.П. Милюкова, вместе с братом М.М. Достоевским участвует в. издательской работе и выпуске журналов «Время» (1861–1863 гг.) и «Эпоха» (1864–1865 гг) выступает со своими публицистическими статьями, продолжает писательскую деятельность. Друг за другом выходят в печати его произведения: «Записки из Мертвого дома» (1860), роман «Униженные и оскорблённые» (1861), «Зимние заметки о летних впечатлениях» (1863) и, наконец, «Записки из подполья» (1864).
Журнал братьев Достоевских «Время» привлёк многих читателей прежде всего благодаря таланту Фёдора Михайловича. Уже первые номера за 1861 год открылись его новым романом «Униженные и оскорблённые». Название оживляло в памяти современников первое произведение Достоевского – «Бедные люди». Да и, кроме того, в нём содержались отголоски былых романтических взглядов автора: в частности, они нашли отражение в образах Ивана Петровича, Наташи и Алексея, в традиционно для молодого автора «Белых ночей» и «Бедных людей» выстроенной любовной сюжетной линии и «любовном треугольнике», во многих автобиографических чертах.
Однако пережитый опыт каторги проявился уже и в этом произведении. Неизгладимое впечатление производил образ князя Банковского, злая вол я которого повлияла на судьбы героев. Он может быть воспринят как своеобразный прообраз, предтеча героев поздних романов Достоевского – Раскольникова и Свидригайлова в «Преступлении и наказании», Кириллова и Ставрогина в «Бесах», Фёдора Павловича и Ивана Карамазовых в «Братьях Карамазовых». Изменение представлении Достоевского о греховной природе человека, вопреки ранней убежденности в его естественной безгрешности, нашло отражение именно в этом герое, по-своему «сильной личности», явно сделавшей сознательный внутренний выбор в пользу зла.
Шумным успехом были встречены и полностью опубликованные во «Времени» (1861–1862 гг.) «Записки из Мёртвого дома». В этой книге впервые в русской литературе Достоевским открыл неизвестный читателям мир каторги, из которого он сам недавно возвратился. Именно поэтому повествование рассказчика Александра Петровича Горянчикова о буднях каторжного быта выглядело потрясающе достоверным. Но главное идейное содержание книги было связано не с желанием автора описать детали незнакомого для большинства быта, а с его потребностью исследовать природу человека, характер сто поступков в любых, даже самых жестоких условиям, открыть главные, тайные мотивы и причины человеческих поступков. Для Достоевского на каторге открылось понимание всечеловеческой неистребимой жажды воли, даже порой своеволия, которая обостряется для арестантов в условиях «лишения свободы», а ужас принудительного коллективизма навсегда «излечил» его от романтических иллюзий социалистического утопизма, владевших им в молодости.
В «Зимних заметках о летних впечатлениях» воплотились мысли Достоевского, возникшие у него во время поездки за границу с июня по сентябрь 1862 г. Посещение Англии, Германии, Франции, Швейцарии, Италии разочаровало писателя прагматичностью и приземлёмностью устремлений большинства населения в странах Западной Европы. Главным мерилом для Достоевского стали теперь его «почвеннические» взгляды, сквозь призму которых он давал политические и публицистические оценки увиденной жизни. Поклонение деньгам и расчету не нашло в его душе сочувствия, напротив, вызвало довольно резкую, критическую тональность «заметок».
Последнее из перечисленных произведений, философскую повесть «Записки из подполья», можно назвать рубежным, так как оно предшествовало созданию пяти лучших романов Достоевского и поразило современников своей необычностью. Странным показался избранный автором жанр «записок», удивляла сама форма исповеди персонажа, принцип построения, основанный на контрастах, а главное – предельно потрясал герой, который сам называет себя «антигероем». Неожиданным для читателей было даже начало исповеди: «Я человек больной… Я злой человек. Непривлекательный я человек».
Его исповедь в первой части обладает огромной силой убедительности. Вероятно из-за того, что герой не стыдится выглядеть некрасиво, напротив, всячески подчёркивает собственные несовершенства, его монолог превращается в яркое саморазоблачение. Достоевский придал его рассуждениям такую доказательность, какой впоследствии отличались монологи героев его главных романов – Раскольникова, Ипполита Терентьева, Кириллова, Шатова, Ставрогина, Дмитрия и Ивана Карамазовых. Аргументы и «фантазии» Парадоксалиста как бы отражали взгляды, почерпнутые из разных европейских и русских источников и объединённые в некое единое и цельное мировоззрение. Они представляли собой своеобразный «коктейль» из теоретических положений философии Гегеля, О. Конта, Г. Бокля, социал-утопических взглядов и «теории разумного эгоизма» героев Н.Г. Чернышевского, литературных «указов» Н.А. Добролюбова и М.Е. Салтыкова-Щедрина, мыслей и идей из статей Д. И. Писарева. Монолог антигероя пробуждал в памяти читателей и образы «лишних людей», в особенности из произведений И.С. Тургенева «Гамлет Щигровского уезда» и «Дневник лишнего человека».
И в полном соответствии с традициями произведений русской литературы нравственная несостоятельность Парадоксалиста на фоне многословной исповеди первой части обнажается в отношениях с женщиной во второй части «Записок».. Образ Лизы, живой, чувствующей, страдающей, ярко высвечивает безответственность и внутреннюю пустоту «антигероя», который сам загнал себя своими убеждениями в подполье.
«Подполье» у Достоевского – это уродливое, трагическое состояние цинизма и безверия. «Причина подполья – уничтожение веры в общие правила», когда «нет ничего святого», по утверждению автора. Следствием подобного мировоззрения для героя является его внутреннее отрицание роли Спасителя, неготовность к самопожертвованию, которой Достоевский проверяет героев своих произведений. Недаром антигерой восклицает: «Меня унизили, так и я захотел унизить; меня в тряпку растерли, так и я власть захотел показать… Вот что было, а ты уж думала, что я тебя спасать нарочно тогда приезжал, да? Ты это думала?» Сознательное несоответствие архетипу Спасителя, отречение от него как от идеала – это и есть худшая авторская оценка героя, разоблачение его духовной несостоятельности.
«Записки из подполья» своим идейным и художественным своеобразием во многом подготовили появление в последующие годы поздних произведений Достоевского.
С духовным опытом каторги тесно связан роман «Преступление и наказание» – первый из великого «пятикнижия» Достоевского, созданный в 1865–1866 гг. Произведение это во всех отношениях выстрадано автором, начиная от замысла и заканчивая обстоятельствами его создания.
Столкновение лицом к лицу со смертью вновь предшествовало его написанию. Б страшном 1864 г. Достоевский похоронил сначала жену Марию Дмитриевну, умершую от чахотки, затем любимого старшего брата Михаила Михайловича, а вслед за ними друга и единомышленника Аполлона Григорьева. Свое душевное состояние после смерти близких людей Фёдор Михайлович определил так: «И вот я остался вдруг один, и стало мне просто страшно. Вся жизнь переломилась разом надвое. Огромный долг в 15 ООО рублей, доставшийся ему после смерти брата, вынудил писателя заключить кабальный договор с Ф.Т. Стелловским на издание собрания сочинений и написание нового романа к жёстко обозначенному сроку – 1 ноября 1866 г. Новый роман был обещан и М.Н. Каткову для журнала «Русский вестник».
И в то же время напряжённейший труд одновременно над двумя романами («Преступление и наказание» и «Игрок») в 1866 г. ознаменовался началом любви к поверившей в его талант стенографистке Анне Григорьевне Сниткиной. Снова в жизни Фёдора Михайловича пересеклись смерть и любовь и вывели его на новый творческий рубеж.
Роман «Преступление и наказание» – сложный, многоуровневый текст. Внешний уровень сюжета построен таким образом, что всё его действие концентрируется вокруг убийства и расследования. Вновь подчеркнём, что в центре внимания автора – смерть. В данном случае смерть насильственная, кровавая, смерть как результат присвоения «сильной личностью» нечеловеческого права решать «кому жить, а кому умирать».
На первый взгляд, фабула, связанная с убийством и расследованием, напоминает детектив. Однако подобная аналогия при первой попытке осмысления отметается как абсолютно несостоятельная. Вместо традиционной детективной схемы сюжета (труп – расследование – убийца) в этом романе представлена совсем другая (убийца – труп – расследование).
Уже на первых страницах романа происходит знакомство с главным героем, который сначала мучительно принимает решение, а затем становится убийцей старухи-процентщицы и ее сестры Лизаветы. Таким образом, сама суть истории расследования, в ходе которого обычно выясняется имя убийцы, как бы теряет смысл для читателей, точно знающих, кто совершил преступление.
Но внимание к судьбе героя отнюдь не ослабевает – и это один из интереснейших эффектов сюжета романа Достоевского. Читательским сочувствием к герою и последующим событиям, происходящим с ним, движут отнюдь не любопытство к приёмам «заметания следов» преступления и не жажда торжества справедливости, которой томятся обычно любители детективного жанра. В данном случае пробуждается интерес другого рода: на убийство решился нормальный человек, который в авторском описании «был замечательно хорош собою, с прекрасными тёмными глазами», который до этого со слезами на глазах читал письмо от матери, сочувственно слушал исповедь пьяного чиновника, а потом отвёл его домой, отдав жене и детям последние деньги, позаботился о пьяной девочке на бульваре, видел сон об избиваемой лошади, за которую не мог не вступиться…
Как и почему это могло произойти? Стечение каких обстоятельств способно толкнуть на убийство себе подобного? Каким образом умный, добрый, чуткий к чужому горю человек может решиться преступить заповедь «не убий»? И что в этом случае с ним будет дальше? Сможет ли он вернуться к людям, способна ли воскреснуть его душа? Вот круг вопросов, которые косвенно ставит автор и которые волнуют читателя.
В зависимости от глубины погружения в текст можно получить разные ответы на все эти вопросы, и в соответствии с найденными для себя ответами по-разному определяли жанр романа литературоведы-исследователи. Так, Б. Энгельгард называет «Преступление и наказание» «идеологическим» романом, А.А. Белкин – «интеллектуальным», М.М. Бахтин применяет к пяти последним романам Достоевского определение «полифонический». Полифония, или многоголосие, произведений писателя – это равноценное с автором участие героев в общем хоре голосов романа. По утверждению М.М. Бахтина, «все элементы романной структуры у Достоевского глубоко своеобразны; все они определяются… заданием построить полифонический мир и разрушить сложившиеся формы европейского, в основном монологического романа».
Вершинная система образов «Преступления и наказания», сфокусированная вокруг одного главного героя, на первое место выдвигает образ Раскольникова, в котором более всего воплотились авторские идеи. В нём, как и во многих произведениях Ф.М. Достоевского, вновь проявился архетип Героя-Спасителя. Жажда восстановить нарушенный несправедливостью миропорядок, спасти человечество от зла, вероятно, в молодости определяла собственные поступки Фёдора Михайловича и стала двигателем многих поступков героев его произведений, в том числе «Преступления и наказания».
Действительно, как и положено герою, Родион Раскольников обладает целым рядом несомненных достоинств: он хорош собой, умён, имеет литературные способности, неизменно притягивает к себе внимание окружающих. Незаурядность Раскольникова очевидна для всех, с кем его сталкивает судьба. Его обожают сестра и мать, всем сердцем полюбила Соня, ему доверился с первого взгляда Мармеладов, с восхищением и готовностью всем поделиться относится к нему Разумихин, в процессе расследования проникается уважением даже следователь Порфирита Петрович.
Но состояние самого героя можно определить одним словом, подчёркнутым его говорящей фамилией, – «расколотость». Раскол в его уме, в его чувствах, в его представлениях о человеке и о границах допустимого для него. Именно внутреннее сомнение в устоях мироздания и пределах дозволенного для человека становится фундаментом для создания теории, толкнувшей Раскольникова на преступление. За полгода непрерывных размышлений и месяц полного уединения в комнате, которая похожа на гроб, в сознании героя происходит полная подмена прежних мировоззренческих установок. Былая вера в Бога сменяется верой в идею «разрешения крови по совести»; то, что представлялось нормальному рассудку убийством, теперь называется «делом», на которое нужно решиться, потому что задуманное им – «не преступление». «Да, может, и Бога-то совсем нет», – откровенно высказывает свое сомнение Раскольников в разговоре с Соней. Он убеждённо доказывает следователю: «Я только в главную мысль мою верю. Она именно состоит в том, что люди, по закону природы, разделяются вообще на два разряда, на низший (обыкновенных)… и собственно на людей, то есть имеющих дар или талант сказать в среде своей новое слово». Вера в человеческую мысль, порождённую рассудком идею, теорию, по мнению автора, не просто абсурдна, она гибельна для души.
Абсолютно точно этот болевой центр нащупывает в своем письме Пульхерия Александровна, мать Раскольникова: «Молишься ли ты Богу, Родя, по-прежнему и веришь ли в благость Творца и искупителя нашего? Боюсь я, в сердце своём, не посетило ли тебя новейшее модное безверие? Если так, то я за тебя молюсь».
Для Достоевского после каторги было очевидно, что именно вопрос веры определяет состояние души человека: её гармоничности и спокойствия в любых внешних обстоятельствах, как у Сони, или сомнения и раздвоенности, как у Раскольникова («Полтора года я Родиона знаю, – говорит о нём Разумихин, – угрюм, мрачен, надменен и горд… точно в нём два противоположных характера поочерёдно сменяются»).
Вовсе не условия существования, не социальный статус человека дают ему внутреннюю гармонию и равновесие, а вера в существование Божие. «Я скажу вам про себя, – писал Ф. М. Достоевский в письме в 1854 г., – что я – дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор, и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных». Утрата веры, сомнение в справедливости миропорядка, следствием которых является внутренняя расколотость, и одновременно страстное желание изменить, улучшить окружающую жизнь по собственному представлению – вот исходные, внутренние, причины преступления Раскольникова-
Автор в романе как бы намечает единственно возможный вариант поведения для неверующих (на примере Раскольникова и его идейного двойника Свидригайлова) – готовность к убийству и самоубийству, т. е. неизбежное попадание в орбиту смерти.
Тяготение к «логике», «арифметике», «упрощению», стремление свести все многообразие и сложность жизни к математическому расчету были характерны для общественного сознания 2-й половины XIX столетия в России, можно сказать, были веянием века. В этом смысле Раскольников, конечно, Герой своего Времени. Мысль автора, выраженная устами Разумихина, что «с одной логикой нельзя через натуру перескочить! Логика предугадает три случая, а их миллион!», для него не сразу становится истинной, а лишь в результате пережитой собственной духовной смерти и воскресения после совершённого убийства.
Тяжкий путь главного героя к осознанию этой истины составляет внутренний сюжет романа. По сути дела, его главное содержание – это медленное продвижение Раскольникова от внутреннего раскола, посеянного сомнением в существовании Божием, к обретению веры и внутренней гармонии. Для образованного, рассудочного человека, каким предстает перед нами Раскольников, путь этот крайне мучителен, но, по убеждению Достоевского, возможен, подобно тому, как возможен он был для него самого. Неспособность верить без логических доказательств, отрицание возможности чуда, скепсис по отношению к окружающему – вот главные внутренние препятствия героя (от них, как мы помним, очень близко до того, чтобы стать антигероем). Именно их пришлось ему преодолеть. От раскалённого, узкого, смрадного, призрачного Петербурга, где торжествуют зло и несправедливость, которые Раскольников видит сквозь призму своей идеи, начинается движение героя к постепенному расширению взгляда, отражающего не только несовершенство собственного видения.
Многие свои внешние поступки главный герой как бы вычисляет рассудком (таков первый визит к Порфирию Петровичу). Но одновременно постоянно, прислушивается к себе, к своим внутренним необъяснимым порывам, неясным безотчётным влечениям. Подчиняясь одному из них, он идёт к Соне накануне второй встречи со следователем. Его поражает, что Соне, положение которой, как понимает Раскольников, еще страшнее, чем его собственное, удаётся сохранять состояние внутреннего равновесия, «переступая через себя», не утрачивать детской чистоты и душевной невинности. «Что же поддерживало её?.. Что она, уж не чуда ли ждёт?» – спрашивает он себя.
Достоевский тщательно исследовал во многих своих произведениях причины, факторы, которые могут привести человека к изменению убеждений. В «Преступлении и наказании» для Раскольникова значительную роль играет именно столкновение с чудом.
Чудо – заметный элемент в поэтике Достоевского, который проявляется, во-первых, в изображении внутреннего мира человека. «Человек есть тайна», значит, непредсказуем. Его поступки, мысли не поддаются мотивировке от начала и до конца, он способен к своеволию. Во-вторых, чудо как элемент поэтики проявляется в развитии сюжета, где повышенную роль играет встреча героев, в евангельском стиле – Сретение. В Евангелии почти каждый рассказ – встреча: встреча Христа с апостолами, апостолов с людьми, людей с Христом и апостолами.
В романе «Преступление и наказание» именно встречи предопределяют поведение Раскольникова и его последующий мировоззренческий переворот. Важно отметить, что все наиболее значимые для Раскольникова встречи и разговоры происходят трижды: три «поединка» с Порфирием Петровичем, три разговора с Соней, со Свидригайловым, три значимые встречи с матерью и сестрой. Символика спасительного для героя числа «три» ставит его в один ряд с героями народных сказок, которые осознают, понимают самые важные вещи, лишь пройдя через испытания трижды. Герой, который утрачивает, а потом вновь, пройдя через страдания, обретает веру, – это, по Достоевскому, и есть истинный герой его романа.
Своеобразно преломляются в этом романе неизменно главные для Достоевского события человеческой жизни – любовь и смерть. Оба даны как бы в зеркальном отражении. В этом романе оказались в одном пространственном измерении Петербурга, а потом и сошлись в трёх важнейших для обоих встречах Герой и Антигерой – Раскольников и Свидригайлов. Для обоих главным средством для достижения поставленной перед собой дели стало убийство. Предположение о том, что убийство Марфы Петровны совершил Свидригайлов, производит потрясающий эффект: сюжетные события преступлений оказываются абсолютно параллельными, они совершены фактически одновременно. Наверное, это было важно для Достоевского, чтобы ярче обозначить разницу между состоянием обоих героев после этого деяния, чтобы показать основное различие между Героем и Антигероем. Способность души верить и любить, да еще и пробуждать любовь в сердцах других людей является этим различием. И как неизбежное следствие этой способности – духовное воскрешение Раскольникова в эпилоге романа и неизбежное самоубийство Свидригайлова после тщетной для него самого череды добрых дел. Таков, по Достоевскому, итог метаний и поисков героев.
Авторский акцент на образах Раскольникова и Свидригайлова художественно выражен Достоевским при помощи ещё одного важного приёма. Лишь у этих двух героев во всей полноте характеры раскрываются через сны, отражающие состояние их внутреннего мира и подсознания.
Так, у Раскольникова можно явственно обнаружить разницу между первым сном, в который он погрузился до преступления, и снами, которые привиделись после преступления, а также накануне выздоровления от власти теории. Поразительно, что в каждом из его снов центральное место занимает либо сцена насилия, либо убийства. Отличаются, главным образом, отношение к происходящему и поведение самого героя.
Первый сон, где семилетний Родя не может видеть избиение лошади, не вступившись за нее, открывает Раскольникову его бессознательную взаимосвязь с нравственным законом, попрание которого невозможно уже хотя бы потому, что вызывает неприятие до физического отвращения. Второй и третий сны привиделись герою уже после убийства старухи-процентщицы и её сестры Лизаветы. Реакция Раскольникова на избиение хозяйки во втором сне уже иная: «Страх, как лёд обложил его душу, замучил его, окоченил его…». В своём третьем сне Раскольников вновь отправляется на преступление, бьёт топором старушонку по темени, однако в ужасе видит, что «она даже и не шевельнулась от ударов, точно деревянная», а всмотревшись внимательнее, замечает, что она «сидела и смеялась». Бесплодность, бессмысленность, невозможность поразить зло при помощи топора открываются Раскольникову через этот сон со всей очевидностью.
Особую роль в этом сне играет символический образ топора. Впервые он появляется в романе ещё в первом сне Раскольникова, когда из толпы наблюдающих за избиваемой лошадью раздаётся крик: «Топором её, чего! Покончить с ней разом!» Призывы «покончить разом» с мировым злом и несправедливостью, «призвать Русь к топору» были в числе главных лозунгов революционных демократов во главе Н.Г. Чернышевским. В романе «Преступление и наказание» на разных уровнях (сюжетном, образном, символическом) отразилась полемика с его романом «Что делать?».
Четырём снам Веры Павловны, в которых выражены революционно-демократические взгляды Чернышевского, Достоевский противопоставляет четыре сна Раскольникова, после которых происходит его духовное воскресение, и четыре «кошмара» Свидригайлова, после которых тот застрелился. При этом четвёртый сон оказался решающим в обоих случаях. Последний сон Раскольникова в бреду на койке острожной больницы – сон о трихинах и их ужасающем влиянии на эпидемию убийств – произвёл решающий перелом в его душе, открыл ему ужас идейного безумия, которое может охватить человечество в случае распространения его теории. Последний кошмар Свидригайлова, увидевшего в пятилетней девочке черты развратной камелии, втягивает его в бездну ада. Ибо тот, кто не способен увидеть в ребёнке «образ Христов», по Достоевскому, не имеет шансов на духовное преображение на земле.
Кроме того, с первых страниц романа Достоевский выделяет курсивом и наполняет своими смыслами слово «проба». Первоначально оно возникло в романе Чернышевского в связи с образом Рахметова, который «пробовал» спать на гвоздях, проверяя свою силу воли. У Раскольникова «проба» – это посещение старухи-процентщицы перед убийством. Б романе «Бесы» Николай Ставрогин в предсмертном письме напишет: «Я пробовал большой разврат и истощил в нём силы…».
Важно отметить, что для «Преступления и наказания», как и для многих произведений Достоевского, характерной особенностью является сочетание злободневности, публицистичности с ярко выраженной художественностью, устремлённой к всеобщим, вневременным ориентирам.
С «Преступления и наказания» исследователи ведут отсчёт лучших романов Достоевского. Два следующих романа – «Идиот» и «Бесы» – создавались в 1867–1871 гг. за границей, куда уезжает, спасаясь от кредиторов, супружеская чета Достоевских – Фёдор Михайлович с молодой женой Анной Григорьевной. Их венчание состоялось 15 февраля 1867 г. в Троице-Измайловском соборе. Эта дата имела для Достоевского символическое значение – 15 февраля 1854 г. для него закончились годы каторги и он навсегда покинул Омский острог. В определённом смысле с момента встречи, а в последующем и венчания, в лице Анны Григорьевны он обрёл Ангела-хранителя: она смогла изменить его жизнь к лучшему, сохранить для человечества как автора гениальных произведений (в письмах Достоевский часто так и называет Анну Григорьевну – «Ангел мой»). Благодаря этой женщине он узнает семейное счастье.
Однако столкновения со смертью близких людей не прекращаются. В семье Достоевского было рождено четверо детей. Двое из них – первая дочь Соня (1868 г.) и самый младший сын Алексей (1875–1878 гг.) – умерли в детстве, вновь повергнув писателя в переживание боли и горечи утраты. Но дочь Любовь и сын Фёдор подарили ему счастье отцовства.
Возможно, именно кардинальное изменение личной жизни Достоевского, его семейного статуса, превращение в человека, который любим молодой женщиной, посвятившей ему себя, внутренне преобразили состояние писателя и помогли созданию художественных шедевров 60—70-х гг.: романов «Преступление и наказание» (1865–1866), «Идиот» (1868), «Бесы» (1870–1871), «Подросток» (1874–1875), «Братья Карамазовы» (1878–1880).
В центре сюжетной организации этих произведений вновь оказывается проблематика, связанная с любовью и смертью, их неотразимой и магически притягивающей силой для любого человека. Что есть любовь? Что такое смерть? В чём их притяжение и угроза? В «Преступлении и наказании» показано, что спасает в этом мире не сила, не власть, как считал Раскольников, а жертвенная, безусловная любовь матери, сестры, Сони. Любовь, понимаемая как христианская на грани жизни и смерти, если не физической, так духовной.
«…Любите человека и во грехе его, ибо сие уж подобие божеской любви и есть верх любви на земле», – это уже слова из поучений старца Зосимы в романе «Братья Карамазовы». Для Достоевского смысл человеческой жизни заключается в постижении христианских идеалов любви к ближнему.
Как же постигает человек ошибочность собственных убеждений? Так же, как сам Достоевский: через страдания и веру. Эта мысль утверждается даже в самом мрачном и пессимистическом, по мнению многих исследователей, романе Достоевского «Бесы». Действительно, невероятное количество трупов, смерть почти всех главных героев, образ самоубийцы-удавленника Николая Ставрогиня в здравом уме и твёрдой памяти лишающего себя жизни буквально на последней странице – всё это предстаёт в романе как неизбежное следствие «бесовства», которым одержимы его герои.
Как и «Преступление и наказание», «Бесы» тоже были подсказаны злобой дня, задуманы под впечатлением от террористической деятельности С.Г. Нечаева и организованного им тайного общества «Народная расправа», но в процессе работы идеологическое пространство созданного романа оказалось много шире. Достоевский осмыслил в нём и опыт декабристов, и судьбу П.Я. Чаадаева, и либеральное движение 1840-х гг., и деятельность «шестидесятников», интерпретируя революционное «бесовство» в философско-психологическом ключе и вступая с ним в спор художественным пространством романа, развитием сюжета как череды катастроф, трагическим движением судеб героев, апокалипсическим отсветом событий. Хотя Достоевский вместо первоначально задуманного политического памфлета написал роман-трагедию, роман-пророчество, для первых читателей «Бесова действие книги о политическом убийстве, имевшем всем известный недавний прототип, естественно связывалось с событиями 1869 г. Современники прочитали «Бесов» как рядовой антинигилистический роман, не ощутив его пророческой глубины и трагедийного смысла, не поняв страшных предсказаний писателя, к сожалению, почти буквально сбывшихся в двадцатом столетии. Тем не менее и этот роман повествует прежде всего о мучительных исканиях Бога, об испытаниях веры и любви, о мытарствах мятежного духа.
Самый яркий образ «Бесов» Достоевского – Николай Ставрогин, антигерой, сознательно загнавший себя в интеллектуальное подполье, цинично бросивший вызов Богу, а значит, лицом к лицу столкнувшийся с собственными «бесами». Внешне привлекательный, гибельно манящий к себе окружающих, Ставрогин вызывает в памяти «неописанной красоты юношу на чёрном коне», который «изображает собою смерть», из поэмы своего наставника Степана Трофимовича. Однако, по утверждению Г. Померанца, «герой Достоевского, выбравший тьму, непременно окунается в пошлость, в безобразие, и невыразимое страдание толкает его либо к преображению, либо к верёвке». В случае со Ставрогиным неизбежной была «верёвка», его некому было спасти. Несмотря на то что он окружён «ореолом влюблённых женщин», он не способен не только любить, а даже ответить на любовь.
«Бесы» – пожалуй, единственный роман Достоевского, в котором великая сила любви выражена не столь явно, как в других произведениях. Однако её преобразующее воздействие всё же проявляется в судьбе Степана Трофимовича Верховенского.
Поразительно, что в начале описанных в «Бесах» событий именно вокруг его образа возникает обезбоженное пространство. Оно создаётся в романе его личностью, его деятельностью (так или иначе все представители младшего поколения являются его воспитанниками), его творчеством (в самом начале «Бесов» в написанной и опубликованной им поэме изгоняется Бог) и даёт возможность «закружиться бесам разным». Но через образ Степана Трофимовича происходит и возвращение Бога в пространство романа. По мнению исследователя Т. Касаткиной, «унижение любви ставит Степана Трофимовича на грань отчаяния и заставляет его, во имя вечной любви, выйти на большую дорогу», «предстать перед Богом во всей своей наготе». Как и в «Преступлении и наказании» сопровождать его на пути в город Спасов посылается Софья Матвеевна [София – премудрость (греч.), Матфей – богодарованный (евр.)].
Необходимо подчеркнуть, что главной, ключевой особенностью всех пяти последних романов Достоевского является их явная соотнесённость с Евангелием и образом Иисуса Христа. Если говорить точнее, то Христос – сквозной образ великого «пятикнижия» Достоевского. Он присутствует и в подготовительных материалах ко всем пяти романам. В четвёртой главе четвёртой части «Преступления и наказания», по авторскому замыслу, должен был состояться разговор Раскольникова с Соней о Христе, который Достоевский значительно сократил по требованию издателя М.Н. Каткова.
Князь Мышкин в черновиках к роману «Идиот» назван «князем Христом». Автор наделяет главного героя чертами, которые национальное самосознание закрепило за образом Христа: смирение, всепрощение, любовь и жалость к человеку. Кроме того, Мышкин олицетворяет собой одновременно идеал детской невинности и идеал европейски просвещённой личности.
Помимо наиболее полного воплощения в образе Мышкина, некоторые христоподобные черты, по наблюдениям исследователей, проступают и в других героях – например, в Кириллове из «Бесов». Вообще, подготовительные материалы к «Бесам» насыщены размышлениями героев о Христе. В романе «Подросток» Христос присутствует в сне Версилова.
В конце 1877 г. Достоевский составил для себя творческую программу «на 10 лет деятельности», куда включил одним из пунктов замысел: «Написать книгу о Иисусе Христе». Полностью этот замысел остался нереализованным, но образ Христа все-таки нашёл своё прямое воплощение в последнем романе «Братья Карамазовы»: незримо он присутствует во всём тексте этого произведения, явно он выведен в поэме о Великом инквизиторе и в грёзах Алёши Карамазова о Кане Галилейской.
Связи с Евангелием наблюдаются у писателя на разных уровнях проблематики и поэтики его произведений. Во-первых, Достоевский достаточно широко использует прямое цитирование. В отдельных случаях обращения к тексту «Вечной Книги» оказываются настолько важными, что, по наблюдениям исследователей, перерастают статус художественного приема. Так, в «Преступлении и наказании», например, Достоевский включил все сорок пять стихов Евангелия «О воскрешении Лазаря», подчёркивающих бессознательное тяготение Раскольникова к вере и духовному возрождению, а также его внутреннюю взаимосвязь с героем евангельской притчи.
Другой уровень связей прослеживается по соотнесённости судеб героев Достоевского с различными идеями и символикой Евангелия. Свои романы автор пронизывает подобными связями широко и последовательно, так что это выливается в своеобразный приём сюжетной организации повествования.
В особых случаях (в романах «Бесы», «Братья Карамазовы») ключевая роль отводится эпиграфам, взятым из Библии. Эти цитаты, венчая произведение, как будто заряжают евангельским смыслом их сложное идейно-образное содержание и художественную структуру. Роман «Бесы», например, начат и закончен, в сущности, чтением Евангелия: словно пророческий голос, прочтя из вечной книги, вдруг начинает, оторвавшись от неё, говорить о будущем и, изобразив страшную картину бед, заканчивает чтением того же места. Столь же художественно конструктивен и евангельский эпиграф в «Братьях Карамазовых».
В романе «Братья Карамазовы», последнем произведении Достоевского, отразился духовный итог всей его жизни, его идейный и жизненный путь – от атеизма в кружке петрашевцев, идейно близкого к мировоззрению Ивана Карамазова, до верующего человека, взгляды которого соотносимы с убеждениями Алёши Карамазова.
Сюжет романа, сфокусированный вокруг отцеубийства (заметим, что снова в центре романа – смерть!), даёт возможность Достоевскому создать уникальный по жанровой структуре текст. В него включены множественные относительно самостоятельные элементы: биографические сведения о Карамазовых, трактат о старцах, каламбурные и философские «анекдоты» Миусова и Ивана Фёдоровича, житейские истории «верующих баб» и философский диспут о статье Ивана, «альбом воспоминаний» в исповеди Мити и «коллекция фактов» в исповеди Ивана, бесчисленные споры о вере и безверии, о Боге и Христе, о преступлении и наказании, о церкви и государстве, о «мировой гармонии» и социализме, многоязычные стихи великих и бездарных поэтов, народная басня о луковке и легенды об аде и рае, «чужие рукописи» – поэмы Ивана «Великий инквизитор» и «Геологический переворот», извлечения из составленных Алёшей «Жития» и «Бесед и поучений старца Зосимы» и многое другое. Синтетическая жанровая форма последнего романа Достоевского позволила ему высказаться наиболее полно по всем мучившим его вопросам вселенского бытия.
Художественное творчество Достоевского в 60—70-е гг., как и всегда в его жизни, сочетается с деятельностью политической и публицистической. После возвращения из-за границы более чем на год он становится ответственным редактором журнала «Гражданин» (с января 1873 г. по апрель 1874 гг.) и в этом же журнале начинает печатать «Дневник писателя» – своеобразный «моножурнал», в котором Достоевский делится с читателями размышлениями по поводу взволновавших его политических событий современности. Тематика статей «Дневника» чрезвычайно разнообразна: здесь и рассуждения о значении иностранного и родного языка, и злободневные отклики на политические газетные сообщения, на заметки о судебных разбирательствах, мысли писателя о положении детей и молодёжи, о фактах самоубийства, о пьянстве, сопоставление особенностей европейской и российской жизни и многое другое.
Поскольку работа над «Дневником писателя» продолжалась вплоть до смерти Достоевского (с небольшими перерывами на создание романов «Подросток» и «Братья Карамазовы»), в нём нашли отражение литературные портреты современников (Белинского, Некрасова, Ж. Санд), дана оценка значения для русской культуры творчества Пушкина, Гоголя, представлен интереснейший анализ романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина». Непреходящее значение имеют и художественные произведения Достоевского, опубликованные в рамках «Дневника писателя»: «Бобок», «Мальчик у Христа на ёлке», «Сон смешного человека», «Кроткая».
Достоевскому удалось с помощью уникальной формы писательского монолога оказывать непосредственное влияние на сердца и умы многих своих современников. В своём «Дневнике…» он предстаёт как гениальный истолкователь современности с точки зрения вечности.
В «Дневнике писателя» была опубликована и последняя речь Достоевского в честь открытия памятника А.С. Пушкину в Москве 8 июня 1880 г. Произнесённая перед восторженно воспринявшей её публикой, «Пушкинская речь» содержала самые заветные мысли писателя, выстраданные и выверенные всей его жизнью, именно поэтому её основные положения были восприняты современниками как пророческое завещание. Призывы к смирению, к согласию и объединению всех партий и группировок во имя интересов России и её народа прозвучали особенно актуально в историческую эпоху противостояния правительства и общества, в преддверии будущих катастрофических событий.
Состояние здоровья Достоевского в начале 1881 г. значительно ухудшилось. По воспоминаниям А.Г. Достоевской, в ночь с 25 на 26 января у него пошла горлом кровь, а вечером 28 января он скончался. Похороны писателя состоялись 31 января в Петербурге на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры в присутствии многотысячной толпы народа.
Достоевский стал признанным писателем ещё при жизни, к его слову прислушивались современники, с ним считались правители, хотя, возможно, и не всегда до конца понимали его пророческие мысли. Однако после смерти его творчество ожидал ещё больший триумф. Многим поколениям потомков произведения Достоевского были неизменно интересны на протяжении всех ушедших десятилетий двадцатого века, а теперь уже можно констатировать, что продолжают привлекать читателей и в начале нового двадцать первого столетия.
Поражает, что произведения Достоевского, написанные в прозе, не сходят со сцен театров, по их мотивам создано множество экранизаций, они пробуждают профессиональный творческий интерес театральных и кинорежиссеров, актёров, художников, музыкантов.
Но если вдуматься, то причина этого явления вполне понятна как результат кропотливого изучения его наследия. Во-первых, глубина творений Достоевского открывает безграничные возможности для множества трактовок и интерпретаций. Во-вторых, синтетическая и полифоническая природа его текстов, подтекст, использование символов, аллюзий, реминисценций вызывают к жизни бесчисленное множество литературоведческих концепций. А главное, взаимосвязь его произведений с «Вечной книгой» и вневременными истинами помогает каждому человеку, пребывающему в духовном поиске, обрести собственное представление о мире и тайнах человеческой души.
Литература
Достоевский Ф.М- Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972–1990.
Достоевская А.Г. Воспоминания. 2-е изд., СПб., 1992.
Достоевская Л.Ф. Достоевский в изображении своей дочери. 2-е изд. СПб., 1992.
Волоцкой М.В. Хроника рода Достоевского. 1506–1933. М., 1933.
Соловьев ВЛ. Три речи в память Достоевского. М., 1884.
Волынский АЛ. Достоевский. СПб., 1906.
Шестов Л. Достоевский и Ницше (Философия трагедии). СПб., 1909.
Белкин А. Читая Достоевского и Чехова (Статьи и разборы). М., 1973.
Карякин Ю.Ф. Самообман Раскольникова М., 1976.
Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979.
Белов С.В. Фёдор Михайлович Достоевский: Кн. для учителя. М., 1990.
Белов C.B. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Комментарий. М., 1985.
Кирпотин В.Я. Разочарование и крушение Родиона Раскольникова. М, 1986.
Сараскипа Л.И. «Бесы»: роман-предупреждение. М., 1990.
Розанов В.В. «Легенда о Великом инквизиторе» Ф.М. Достоевского. М., 1990.
Селезнев Ю.И. Достоевский. 3-е изд. М., 1990.
Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1974–1992. Вып. 1—10. Новые аспекты в изучении Достоевского: Сб. науч. трудов. Петрозаводск, 1994.
Цвейг С. Достоевский // Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. Тула, 1994.
Мережковский Д. Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. М., 1995.
Достоевский в конце XX в: Сб. статей/ Сост. К.А. Степанян. М., 1996.
Достоевский: Эстетика и поэтика: Словарь-справочник / Сост. Г.К. Щенников, А.А. Алексеев; науч. ред. Г.К. Щенников. ЧелГУ. Челябинск, 1997.
Волгин И.Л. Колеблясь над бездной. Достоевский и русский императорский дом. М., 1998.
Померанц Г.С. Открытость бездне: Встречи с Достоевским. М., 2003.
М.Е. СалтыкоВ-Щедрин (1826–1889)
Михаил Евграфович Салтыков (псевдоним Н. Щедрин) родился в селе Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии в старинной и богатой дворянской семье. Первоначальное образование получил дома, а в 1836 г. был отдан в пансион Московского Дворянского института, где проучился полтора года. В 1838 г. Салтыков как один из лучших учеников был переведён в Царскосельский (с 1844 г. – Александровский) лицей, который закончил в 1844 г.
«На Вас, вероятно, находили минуты бездействия, когда никакой вопрос не проходит на ум, кроме; куда бы пойти или куда бы деваться? Нечто подобное делается ныне в нашей общественной жизни, в нашей публицистике и литературе. Вкус к жизни исчез; смотришь на себя как на постояльца, и не вследствие какой-нибудь борьбы или тревог, а вследствие всеобщей безалаберщины и неустойчивости. В поэтическом образе подобное положение всё же могло бы дать материал для картины, не лишённой интереса», – писал Салтыков спустя четверть века после окончания лицея поэту А.М. Жемчужникову, указывая на главное направление своего творчества: сатирой придать гармоническую «устойчивость» человеческой жизни. Эта идея стала пробуждаться в художественном сознании Салтыкова ещё в лицейский период.
Лицейский период стал важным этапом творческого развития Салтыкова. Именно в это время у него пробуждается литературный энтузиазм. Он с упоением погружается в мир стихотворства, создавая лирические произведения с чётко выраженным ритмическим рисунком. Лирическая мелодия определяет начальный период литературного творчества Салтыкова (1840–1845).
Стихотворные опыты Салтыкова не отличаются тематическим разнообразием. В основном он воспроизводил темы, которые были открыты западноевропейским и русским романтизмом. В юношеских стихах Салтыков передаёт ещё и то состояние души, которое он в скором будущем воспроизведёт в повести «Противоречия»: «Оно напоминало мне лучшие годы моей молодости, те годы, когда сердце человека, полное трепетных предчувствий, полное неясного и неосознанного ещё будущего, ко всему стремится, всё приемлет и жадно ищет предмета, к которому могло бы оно привязаться, с которым могло бы составить нераздельное и слитное целое (в юности бессмыслица позволительна и даже в некоторой степени нужна)».
Ранний романтизм Салтыкова (в последующем творчестве писатель будет опираться только на поэтику романтической иронии) всё же не литературного происхождения. Он выражает идеальный настрой молодой души. Этот настрой привел к тематическому совпадению с романтизмом (двоемирие, образ «неба», мотив отчуждения от земной жизни, трагическая любовь).
В поэзии Салтыкова лицейского периода успела определиться художественная доминанта. Она выразилась в мотиве отчуждения от земного мира, который уже тогда воспринимался Салтыковым как стихия, враждебная человеку. «Всё, что чисто, что прекрасно – / Всё минутно на земле», – напишет он в стихотворении «Два ангела», а в «Лире» добавит: «И мира безжизненный холод». Но ещё с большей отчётливостью этот мотив проступает в стихотворении «Наш век», где весь лирический сюжет соткан из гротескно-мучительных признаний. Отсюда и его трагическая развязка:
И лира наша вслед за жизнью веет Ужасной пустотою: тяжело! Усталый ум безвременно коснеет И чувство в нас молчит, усыплено. Что ж в жизни есть весёлого? Невольно Немая скорбь на душу набежит И тень сомненья сердце омрачит… Нет, право, жить и грустно, да и больно!Это стихотворение вместе с «Зимней элегией», где не меньше подобных признаний («Как скучно мне!»; «Мне тяжело»; «Мне грустно»; «тяжёлое томленье»), уже предвещает сатирический мотив отчуждения от «неустойчивого» мира, который станет одним из главных во всем последующем творчестве Салтыкова. Лирический психологизм – производное от этого мотива, так глубоко укоренившегося в лирике Салтыкова еще и под влиянием поэзии Дж. Байрона («Из Байрона») и М.Ю. Лермонтова.
Уже в начале литературного пути художественный мир Салтыкова был широко распахнут для самых различных традиций. Такой художественный «диалогизм» будет характерен для всех периодов его творчества. В определённые периоды творческого развития Салтыкова возникла связь с античной сатирой и художественными системами Рабле, Свифта, Золя и Диккенса. Поэтика Салтыкова окажется тесно связанной с русской народной сатирой и русской сатирой XVIII в., а также творчеством И.А. Крылова, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя.
В не меньшей степени на художественное сознание Салтыкова повлияло творчество Гёте, которого он относил к числу «великих и общепризнанных художников». От Гёте пришла к Салтыкову страсть к художественному анализу и неудержимая устремлённость творческого духа к пересозданию бытия, что станет особенно важным для щедринской поэтики преображения.
Но в самой большей степени литературная судьба Салтыкова оказалась под влиянием А. С. Пушкина. «В это время лицей был ещё полон славой знаменитого воспитанника его, Пушкина, и потому в каждом почти курсе находился воспитанник, который мечтал сделаться наследником великого поэта», – писал Салтыков в одной из автобиографий. Но он не только мечтал, а даже с фанатическим упорством стремился «завладеть хоть одним клочком» пушкинского «наследства».
Именно это и станет главным «творческим стимулом» Салтыкова в пору первых поэтических опытов. Он не только равняется на Пушкина, но упорно вынашивает тайную мысль о возможности выиграть соперничество с пушкинским поэтическим гением. И пока эта тайная мысль будоражила воображение Салтыкова, он «писал стихи, так сказать, запоем». Это признание Салтыкова, осуществлённое в продолжении «Дневника провинциала в Петербурге», есть прямое свидетельство того, что в стихотворном «запое» Салтыкова во многом повинен Пушкин.
Такое тайное соперничество наполнило пролог художественного мира Салтыкова музыкой пушкинского стиха. Этой музыкой Салтыков был очарован и заколдован. Он оказался во власти пушкинского поэтического гения. Но Салтыков жаждал творческой свободы, ему грезилось и торжество победителя. Быть / только последователем Пушкина он не хотел. v Однако совсем скоро Салтыков убедился, что как стихотворец выше Пушкина он никогда не будет, а значит, он никогда не достигнет литературного величия. В этом главная причина бегства Салтыкова от стихотворства. Стихотворческий «запой» закончился полнейшим охлаждением к этому литературному занятию.
Именно эта творческая драма в известной мере предопределила литературный путь Салтыкова. Бегство от стихотворства обернулось жгучим интересом к прозе, Салтыков делает всё для того, чтобы освободиться от магического воздействия пушкинского стиха. Его творческий взор упорно ищет ту сферу, где он сможет обрести себя как художник. И такой сферой для него станет именно обличительная проза. Этот творческий автобиографизм выразился в риторическом жесте Салтыкова: «Неужели всю жизнь сочинять стихотворения, и не пора ли заговорить простою, здоровою прозою?». Написав первые обличительные повести («Противоречия», «Запутанное дело»), Салтыков окончательно избавился от страсти к стихотворству, а поэтические ритмы, вспыхнувшие в его ранней лирике, ушли в глубины его поэтики, чтобы возродиться в ритмической прозе (особенно сильно это проявится в цикле «Сказки»).
Решение стать писателем-сатириком, возникшее под влиянием Пушкина, появилось не тогда, когда он по выходе из Лицея писал рецензии. Это решение возникло вместе с замыслом (защита «маленького человека») «Запутанного дела» (1848). Повесть, отрицающая право на избранность великих мира сего, вызвала гнев этих «великих», а литературные охранители позаботились, чтобы молодой писатель был поскорее отправлен в Вятку отбывать там ссылку. Уже тогда Салтыков не без трагического чувства пережил мучительную раздвоенность, которая будет тяготеть над ним в течение всей его творческой жизни. Он испытывал полную творческую свободу, создавая в повести символический образ Мичулина. И он же, осознавший свою способность к могучим творческим порывам, был унижен и наказан несвободой.
И в дальнейшем мира и спокойствия в жизни сатирика никогда не было. Гонения, притеснения, запреты стали его уделом. Особенно старалась цензура. Многие сатиры Салтыкова безжалостно сокращались, а иногда и вовсе запрещались. В 1862 г. бьи; наложен запрет на сатиры «Глуповское распутство» и «Каплуны», а впоследствии особенно часто запрещались сказки. С неменьшими цензурными притеснениями Салтыков столкнулся в пору активного сотрудничества в «Современнике» (1863–1864), когда он, создавая публицистическую хронику «Наша общественная жизнь», резко полемизировал с представителями «Русского слова» (Д.И. Писарев) и «Времени» (Ф.М. Достоевский). И затем, когда Салтыков станет соредактором и редактором «Отечественных записок» (1868–1884), его жизнь превратится в бесконечную и изнуряющую битву с цензурой, он отчаянно боролся не только за спасение своих сатир, но и за сохранение обличительной направленности журнала. Конец этой борьбы печальный: в 1884 г. согласно правительственному постановлению «Отечественные записки» были закрыты.
Всё это в неменьшей степени проявилось и в щедринском жизнетворчестве. Салтыков почти в течение двадцати лет боролся с пороками не только словом, но и делом. Занимая значительные государственные посты, он всеми силами стремился добиться социальной гармонии. Сатирическая одарённость и в этом помогала Салтыкову. Благодаря своему сатирическому таланту он с мгновенно обнаруживал «носителей» пороков – людей, которые мешали осуществлению «справедливости». Самое глубокое убеждение Салтыкова заключалось в том, что только справедливость может спасти человеческий мир. Ради справедливости Салтыков-чиновник мог вступить в любой конфликт. Охваченный сатирическим вдохновением (а в служебной деятельности Салтыкова это часто бывало) он не прекращал борьбы за «справедливость» даже тогда, когда ему противостояли великие мира сего.
В своих намерениях изменить мир Салтыков был твёрд. Но такую же твёрдость проявляли в борьбе с ним его враги, даже вице-губернаторство не спасало Салтыкова от преследователей. Чиновник-сатирик нередко становился жертвой могущественных врагов, что и заставляло его часто менять место службы. За время службы он объездил чуть ли не всю Россию. С 1848 по 1855 г. Салтыков служит в Вятке, а в 1858–1862 гг. он успел послужить на посту вице-губернатора в Рязани и Твери. После двухлетнего перерыва Салтыков возвращается на государственную службу, став в 1864 г. председателем Пензенской казённой палаты. Но уже в ноябре 1866 г. он оказывается в Туле, приступив к исполнению обязанностей управляющего казённой палатой.
Почти сразу же возник очередной конфликт, и Салтыков ровно через год вынужден отбыть в Рязань (теперь он не вице-губернатор, а управляющий казённой палатой). Не прослужив и года, 14 июня 1868 г. в чине действительного статского советника Салтыков выходит в отставку. Он вновь оказался жертвой тех, кто не принимал его «либеральной» государственной деятельности. Таким образом, конфликт с миром у Салтыкова как художника-сатирика определил всю конфликтность его жизнетворчества. Жизнь и искусство на этом этапе – единое целое, которое становится определяющим началом его художественного мира. «Писание»– и «служение» осуществляются в одном творческом порыве. По признанию Салтыкова: «Затем служил и писал, писал и служил вплоть до 1848 г., когда был сослан на службу в Вятку за повесть “Запутанное дело”. Прожил там почти 8 лет и служил, но не писал. В 1856 г. возобновил литературную деятельность “Губернскими очерками" и вплоть до 1868 писал и служил, служил и писал».
Как только Салтыков окончательно убедился, что на государственном поприще его обрекли на роль жертвы, он уже не делает попытки вернуться на службу. Всё то, что Салтыкову не удалось воплотить в жизнетворчестве (сотворение «справедливого» мира), он стремится осуществить в своей сатирической прозе.
Созидание художественного мира осуществляется в полном соответствии с главной целью сатирического творчества Салтыкова – вернуть человечество в то гармонически устойчивое состояние, в котором оно пребывало до первого «грехопадения». Эта цель в форме философско-литературной декларации определилась в сатире «В деревне»: «Как-то переносишься мыслию в те приятные и злачные места, в которых гуляли наши прародители, пока не вкусили от древа познания добра и зла». Это породнение с библейской историей мира придает поистине вселенский размах художественному миру Салтыкова.
Всё в этом огромном мире существенно и важно: и юношеские стихи, и публицистика, и литературная критика, и драматургия, и сатирические циклы, и мемуарная проза, и письма. Но всё же в его творчестве есть произведения, которые находятся в самом центре художественного мира. Это относится прежде всего к «Губернским очеркам» (1856–1857), «Истории одного города» (1869–1870) и к роману «Господа Головлёвы» (1875–1880).
После смерти Гоголя читающей России был нужен писатель-обличитель такой же всепобеждающей силы смеха, какой обладал Гоголь. В конце 1840-х гг. никто не мог даже предположить, что автор обличительной повести «Запутанное дело», созданной в прямой зависимости от гоголевской «Шинели» (Мичулин Салтыкова – это почти зеркальное отражение образа Башмачкина), станет продолжателем дела великого Гоголя. Но с появлением цикла «Губернские очерки» (первое произведение Салтыкова, опубликованное под псевдонимом Н. Щедрин) всем стало ясно: Россия обрела сатирика, по своему таланту способного стать преемником Гоголя.
Появление этого псевдонима – символический эпизод в творческой биографии Салтыкова. В скором времени произойдёт родственное объединение Салтыкова и Щедрина. Псевдоним-маска станет второй фамилией. В этом псевдониме создан образ (герой-протестант), который станет определяющей субстанцией не только в «Губернских очерках», но и во всей художественной системе Салтыкова.
Стремление к глобальному преображению жизни приводит к циклизации. «Губернские очерки» – это авторский цикл (после «Губернских очерков» циклизация станет самой устойчивой закономерностью в поэтике Салтыкова). В цикле девять разделов, включающих тридцать одно произведение разных жанров (очерк, воспоминание, рассказ, новелла, драматические сцены). Финальная часть «Дорога» (тридцать второе произведение) – путевой очерк. И всё это множество разноликих в жанровом отношении произведений образует единое художественное целое. Основное связующее звено – Н. Щедрин, без участия которого нигде дело не обходится: он и повествователь, он и рассказчик, он и действующее лицо, он и «проводник» авторских идей.
Образ Н. Щедрина, являясь «сквозным» образом, обеспечивает повествовательную дельность цикла. Но самое важное всё же в той художественной логике, которая придаёт циклу столь необходимое структурное единство. Логика эта такова: Салтыков создает обобщённо-символический образ «крутогорского» мира (действие происходит в вымышленном губернском городе Крутогорске), а затем раздел за разделом («Прошлые времена», «Мои знакомцы», «Богомольцы, странники и проезжие», «Драматические сцены и монологи», «Праздники», «Юродивые», «Талантливые натуры», «В остроге», «Казусные обстоятельства») раскрывает тайны этого мира. Вначале даётся собирательный образ, а потом он как бы распадается на множество художественных компонентов, подчиняясь законам художественной локализации.
Но начиная с исповедального рассказа «Скука», где с декларативным нажимом воплощается тема враждебности «крутогорского» мира природе человека («ты растлеваешь людей, ты истребляешь всякую самодеятельность ума, охлаждаешь порывы сердца, уничтожаешь всё, даже самую способность желать!»), возникает обратный процесс – процесс обобщения. Поначалу это происходит в подтексте, а ближе к финалу цикла вырывается в текст.
В результате процесса обобщения, подчинённого законам циклообразования, формируется символический финал «Губернских очерков», в котором показано, как «примадонны и солисты крутогорские», скорбя и стеная, хоронят «прошлые времена». Так реализовалась художественная логика цикла: в начале и конце даются не просто обобщения, а сверхобобщения, которые предопределили процесс локализации. Структура цикла полностью подчинена сатирической логике Салтыкова если «крутогорский» мир враждебен человеку, значит его надо преобразовать по законам идеального мироустройства.
Цикл «Губернские очерки» – этапное произведение в творческом развитии Салтыкова, как и сатирический эпос «История одного города». Если очерковый цикл стал итогом художественных исканий сатирика 1840–1850 гг., то «История одного города» – это вершинное достижение 1860-х гг. Конечно, все произведения Салтыкова теснейшим образом связаны друг с другом, образуя единую систему. Но наиболее прочная и глубинная связь устанавливается между произведениями, которые являются обобщающе-этапными, ибо они становятся опорными для этой системы. Поэтому в поэтике Салтыкова «Губернские очерки» и «История одного города» находятся в сфере наиболее сильного художественного притяжения (такому притяжению способствовали еще и «Сатиры в прозе», в которых зарождался образ города Глупова).
Это притяжение настолько сильное, что приводит даже к повторению в «Истории одного города» главного организующего принципа построения цикла «Губернские очерки». В этой щедринской сатире, как и в цикле, постепенно создаётся образ «глупо вс кого» мира, а в финале даётся трагическая картина его гибели.
Самое страшное для Салтыкова то, что мир, где человек обречён на смерть, создаётся по воле самого человека. Ведь атмосферу страха и ужаса в городе Глупове создают градоправители (Брудастый, Двоекуров, Бородавкин, Негодяев, Прыщ, Грустилов, Угрюм-Бурчеев), полностью парализовав волю народа. Политика страха и притеснения, помноженная на смиренное послушание глуповцев, породила этот страшный мир.
Не жизнь, а смерть властвует в «глуповском» мире. Жизнь в плену у смерти – такой гротеск образует повествовательную доминанту «Истории одного города». Именно поэтому гротеск, способный соединять несоединимое, почти полностью определяет поэтику «Истории одного городам.
В гротескном изображении Салтыкова Глупов – город мёртвых. «Глуповский» мир превращает человека в живого мертвеца. С позиции щедринского антропологизма это означает: отчуждение человека от своей собственной первозданно-совершенной природы достигло абсолюта, что воплощается в бесконечных, гротескных превращениях (Брудастый – «органчик», Прыщ – «фаршированная голова», Угрюм-Бурчеев – «сатанам).
Гротескная образность позволила Салтыкову выразить направляющую идею «Истории одного города»: главная причина губительного отчуждения людей и самоотчуждения – это государственная власть, которая основывается на культе насилия. Насилие над природой человека уничтожает его сущность. Результат этого уничтожения – тотальное отчуждение и самоотчуждение. Всеобщее отчуждение становится источником ненависти – силы губительной и страшной.
В городе Глупове все ненавидят друг друга. Глуповцы в любой момент готовы растерзать ближнего. Так они поступили, например, с несчастной Алёнкой (она якобы навела на город «сухость»): «Тогда совершилось неслыханное дело. Алёнку разом, словно пух, взнесли на верхний ярус колокольни и бросили оттуда на раскат с вышины более пятнадцати саженей…». Страшен глуповец в своей готовности в любой момент уничтожить ближнего своего.
Салтыков создаёт сатиру-предостережение. По его мысли, если человечество будет развиваться по пути усиления власти, то оно будет обречено на трагедию самоуничтожения, власть, доведённая до абсурда, превращает человека в полную его противоположность. И тогда человек вопреки инстинкту самосохранения уничтожает сам себя, что Салтыков показал как возможную историческую перспективу в эсхатологическом финале «Истории одного города» («История прекратила течение своё»).
В процессе работы над «Историей одного города» в творчестве Салтыкова стала формироваться идея сатирического цикла «Сказки». Пролог этого обширного цикла составили сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Пропала совесть», «Дикий помещик», опубликованные в «Отечественных записках» в 1869 г. Весь же цикл создавался значительно позднее, когда Салтыков с 1883 по 1886 г. написал еще двадцать девять сказок.
Сказки 60-х гг. – самостоятельные художественные произведения. Но тематически они ещё крепко связаны и с романом «Господа Головлёвы», работу нал которыми Салтыков завершил в 1880 г. В основе романа – тематическая «триада»: нравственная деградация Головлёвых, проблема отчуждения и трагедия проснувшейся совести. Эта триада первоначально сложилась в трёх сказках, которые надо читать вместе с «Господами Головлёвыми».
В наибольшей мере это относится к сказке «Пропала совесть», ибо её содержание почти без всяких изменений перешло в роман. Сказка растворена в подтексте всего романа, а в финальной главе «Расчёт» становится достоянием текста. В этой главе показано, как у главного героя Порфирия Головлёва (он имеет ещё второе имя – Иудушка) наконец-то проснулась совесть. Он мучается, страдает, и то же самое происходит с героями сказки «Пропала совесть», выполненной Салтыковым с опорой на жанровые традиции притчи. Как и всякую притчу, сказку сатирика нельзя объяснить однозначно, подвести её «многомысл» к одному знаменателю. Однако основные идейно-тематические линии щедринского сказания о совести с целью назидания и морализаторства выделены резко и легко определимы. Философский смысл сказки заключён в утверждении мысли об общественной значимости совести как регулятора социального поведения людей и их, так сказать, нравственного воспитателя.
Совесть – непреодолимая преграда на пути зла в самых различных его проявлениях. Салтыков не без трагического смятения повествует о мытарствах пропавшей совести. Когда у человека пропадает совесть, он становится коварным, злым и вероломным. Но ещё мрачнее и безысходнее становится жизнь, когда целые массы людей, «столпы» общества и их деспотические союзники освобождаются от совести. Перестаёт играть в жизненном оркестре «дудка» совесть, метафорично ведёт повествование сатирик, значит, нарушается нравственная гармония в обществе и ловчее становится «подставлять ближнему ногу удобнее льстить, пресмыкаться, обманывать, наушничать и клеветать».
Салтыков настойчив в утверждении, что только «совесть-обличительница» может свершить великое дело: обуздать охваченные порочными страстями толпы людей, открыть им глаза на «общечеловеческую» совесть и правду, в одно мгновение высветить в человеке преступно-эгоистические начала, всё мелкое и пошлое. Совесть очищает человека ценой длительных мучений и «лютейшей горести». Из коловорота страданий, нравственно обострённых раздумий он выходит просветлённый, в раскаянии и смирении. В щедринской притче такое происходит с «жалким пропойцей», владельцем «питейного дома» и квартальным надзирателем «бесстыжим» Ловцом. Со всеми произошла мгновенно-яркая, как вспышка молнии, нравственная метаморфоза, в которой и отразился мучительный процесс пробуждения совести. Героями, обличаемыми совестью, начинает овладевать стыд. Они казнят своё прошлое, в котором теперь им видятся только «насилие, измены, сердечная вялость и неправда». Спала совесть – они ненавидели весь мир, а проснулась совесть – стали ненавидеть самих себя. Этот «притчеподобный» сюжет полностью войдёт в роман «Господа Головлёвы». Вот почему «Господа Головлёвы» по своей жанровой природе – роман-парабола, который создавался Салтыковым в противоборстве с романами, сюжетно основанными на любовной интриге.
Избавление романа от любовной интриги далось Салтыкову не без труда. Законы романного сюжетосложения требовали введения этой интриги, а Салтыков поступает всё же вопреки законам. Но зато всё остальное выполнено в традициях семейного романа. Действие сосредоточено вокруг событий, происходящих в семье Головлёвых, что отражается в названии глав: «Семейный суд», «По-родственному», «Семейные итоги», «Недозволенные семейные радости».
Но при всём том «Господа Головлёвы» – это не семейный роман, а роман-парабола с усиленной психологической мотивировкой. Здесь столкнулись противоположности: сюжетное развитие пошло по пути семейного романа, но тут же возникла противоборствующая сюжетная стихия, предопределённая природою психологического романа. Отсюда и своеобразие его сюжета который даёт прежде всего художественные возможности для детализированного психологического анализа. Произошла очевидная психологизация сюжета, что дало все возможности и для осуществления романной параболы.
В соответствии с этим складывается и композиция романа. В ней преобладают формы, отвечающие потребностям психологического анализа: сквозная символическая параллель Порфирий-Иуда, авторские психологические комментарии, психологически заостренные портретные характеристики, монологи, внутренние монологи, психологически насыщенные диалоги и пейзажные зарисовки. Такая сюжетно-композиционная структура сформировалась потому, что Салтыкову необходимо было показать, как все сильнее и сильнее Головлёвы начинают ненавидеть друг друга. Писатель обнажает и исток этой всеобщей ненависти – он в отчуждении. В жизни семьи Головлёвых взаимное отчуждение доведено до такой степени, что разрушаются даже веками сложившиеся кровно-родственные связи, постепенно исчезает и то, что человеку даровано изначально: любовь матери к детям, а детей – к матери.
Усиление отчуждения в обществе воспринимается Салтыковым как трагедия. Для него ничего нет страшнее того, что происходит в семье Головлёвых; родные люди, самой природой призванные любить друг друга, находятся в озлобленном отчуждении. Более того: они всеми силами стремятся к взаимному уничтожению. Они ведут бесконечные словесные поединки, разражаются уничтожающими Филиппинами. Салтыков доверяет своим героям создание чуть ли не сатирических образов. Арина Петровна, головлёвская владычица, обличает своих детей, а они отвечают ей тем же самым. Апогей всех этих обличений наступает, когда Арина Петровна, изгнанная из собственного дома, стремится уничтожить своего сына Порфирия Владимировича материнским проклятием.
В мире Головлёвых нег любви и согласия, в нем горит неугасимое пламя вражды. Первой жертвой этой вражды стал Стёпка-балбес, обречённый «семейным судом» на роль приживальщика. Эта роль становится для него тяжким бременем, и он, истерзанный обидой, в скором времени умирает. Доведённый до отчаяния меркантильными притязаниями Иудушки, со словами ненависти на устах, умирает Павел Владимирович. С камнем на сердце умирает и Арина Петровна, так и не сумевшая пережить предательства Иудушки. Когда возмездие приходит через детей, то это, но мысли Салтыкова, самое ужасное наказание, уготованное человеку в жизни. Арина Петровна, по воле Салтыкова, песет такое наказание.
Конечно, больше всех из Головлёвых грешна Арина Петровна. Она была чрезмерно жестока к своим близким. Но дальше матери, крепко усвоив её уроки, пошёл Иудушка. Оп создан для того, чтобы предавать всех и вся; отсюда и его второе имя – Иудушка.
Но и в нём проснулась и во весь голос заговорила совесть. С этого момента Иудушка враждебно относится уже не к окружающим людям, а к самому себе. Возникшее отчуждение переходит в беспощадное самоотрицание. Вот теперь к Иудушке возвращается потерянная когда-то память. В его воспалённом сознании теснятся тени умерших, от них нет спасения «везде шевелятся сирые призраки». Призраки неумолимо преследуют героя, цепко держат его в своей власти. Так Иудушка оказался в плену смерти. Муки, отчаяние, душевная боль, жажда смерти избавительницы – всё это сполна отразилось в портрете Иудушки: «И кот… в дверях комнаты вдруг показалась изнурённая, мертвенно-бледная фигура Иудушки. Губы его дрожали, глаза ввалились, и, при тусклом мерцании пальмовой свечи, казались как бы незрящими впадинами; руки были сложены ладонями внутрь».
Иудушке страшно жить. И смерть становится единственным выходом из трагического тупика. Его смерть символизирует гибель всего головлёвского мира, в котором человек изначально обречён. Эта символизация, возникшая с опорой на поэтику символа «огня», стала важнейшей частью параболической структуры романа, которая вобрала в себя и гротескную сочетаемость, приближение смерти нравственно оживляет Иудушку. Смерть хотя бы на мгновение вернула его к подлинной жизни; через смерть произошло возвращение к жизни. Таким всеобъемлющим гротеском завершается роман Салтыкова «Господа Головлёвы».
Развитие гротескной образности продолжилось в сатирическом цикле «Сказки», где преобладает сказочный мотив перевоплощения. Если в других сатирах он появляется эпизодически и чаще всего там, где через гротеск раскрывалась «звериная» сущность героя, то в сказках ему принадлежат первые позиции. Художественное единство цикла образовано благодаря жанровой памяти фольклорной сказки. Но Салтыков не копирует фольклорные жанровые образцы, он существенно видоизменяет их, в зависимости от направляющих идей сказок-притч.
Вместе с тем жанровое ядро сказки полностью не разрушается, что и позволило Салтыкову следовать правилам сказочного повествования. Согласно этим правилам, в повествовании должна преобладать фантастика. Творческое воображение Салтыкова ощутило в сказочной фантастике родственную стихию. Сатирик наслаждается творческой свободой, подаренной ему сказочными фантасмагориями. Условия сказочной игры им приняты с удовольствием, что и вызвало постоянные повторения: «Жили да были два генерала», «Жил-был пискарь», «Жил-был газетчик и жил-был читатель», «В старые годы, при царе Горохе это было», «В некотором царстве богатырь родился», «Жил во времена оно старый конь и было у него два сына». Таковы прологи почти каждой сказки. Они выполняют разнообразные функции – сюжетные, композиционные, стилистические, да и в немалой доле помогают щедринскому иносказанию. Но самое главное, что формулы зачина – это входная дверь в мир сказочной условности, где возможны самые небывалые случаи и самые невероятные события.
Сатирик не скупится на фантастические эпизоды, поступая в этом отношении как самый настоящий сказочник. У него рыбы, птицы, звери говорят человеческим языком, размышляют, философствуют, проводят идеологические диспуты. Таинственно исчезают герои, генералы улетают на необитаемый остров, медведи на самом деле оказываются людьми.
В цикле даётся полный простор для развития сказочного мотива перевоплощения, без которого не обходится почти ни один гротеск Салтыкова. Явное его присутствие легко угадывается во многих гротесках, а особенно в «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» и «Диком помещике». Как раз гротеск помог Салтыкову сатирически продемонстрировать, как алчные представители «дирижирующего сословия» могут превратиться в самых настоящих диких животных. Но если в народных сказках само превращение не изображается, то Салтыков воспроизводит его во всех деталях и подробностях. В этом – художественные истоки уникального изобретения сатирика, которое можно назвать гротескным портретом:
Вдруг оба генерала взглянули друг на друга: в глазах их светился зловещий огонь, зубы стучали, из груди вылетало глухое рычание. Они начади медленно подползать друг к другу и в одно мгновение остервенились. Полетели клочья, раздался визг и оханье: генерал, который был учителем каллиграфии, откусил у своего товарища орден и немедленно проглотил.
Ничуть не лучше выглядит и помещик, полностью одичавший после фантастического исчезновения его крестьян:
И вот он одичал… Весь он, с головы до ног, оброс волосами, словно древний Исав… а ногти у него сделались, как железные… Сморкаться он уже давно перестал, ходил всё больше на четвереньках и даже удивлялся, как он прежде не замечал, что такой способ прогулки есть самый приличный и самый удобный. Утратил даже способность произносить членораздельные звуки и усвоил какой-то особенный победный клич, среднее между свистом, шипеньем и рявканьем.
Подобным же образом создаётся гротеск в сказке «Гиена». Только здесь больше притчевой назидательности. Поэтому «Гиена» по повествовательному рисунку больше похожа на притчу. Не случайно Салтыков пометил в подзаголовке – «поучение».
Притча некоторыми своими художественными чертами напоминает басню. Следуя традиции этого жанра, Салтыков вначале даёт подробное описание гнусных повадок гиены. Резкий упор сделан на то, что «гиена нападает только на слабых, спящих и беззащитных». Вся эта история рассказана для того, «чтобы наглядным образом показать, что «человеческое» всегда и неизбежно должно восторжествовать над «гиенским». Эта мораль даётся на фоне сказочного гротеска, в котором показано, как человеческий мир оказался подавленным «ненавистническим, клеветническим, гиенским». Человек-гиена восторжествовал.
Но и здесь Салтыков остался верен себе. Мгновенно развеяв мрачную фантасмагорию, он тем самым как бы поддерживал в читателе надежду на то, что «гиенское» страшным смерчем пронесётся над человеческим миром и исчезнет навсегда. Поистине огненный пафос ощущается в словах этого выстраданного щедринского поучения: «Человеческое никогда окончательно не погибало, но и под пеплом, которым временно засыпало его “гиенское”, продолжало гореть».
Салтыков в сказках, как и во всех своих сатирах, при всей их трагической мрачности и обличительной суровости оставался моралистом и просветителем. Показав весь ужас человеческого падения и самые зловещие пороки (все это осуществлялось по законам катарсиса), сатирик наперекор всему этому верил, что наступят времена социально-духовной гармонии. Всеобъемлющий катарсис, проявляющийся в каждой сатире Салтыкова, давал дополнительные эстетические возможности для художественного осуществления этой «веры».
Однако не это становится главным циклообразующим началом. Единство циклу в большей степени придаёт то, что в «Сказках» отразился весь художественный мир Салтыкова, обладающий эстетической цельностью и завершённостью. Символическая «Рождественская сказка» становится последним этапом в «сказочном» воплощении щедринского художественного мира, с его поистине космической беспредельностью. Художественное единство мира определяет и художественное единство цикла. А потому образ творца, возникший в сказке-элегии «Приключение с Крамольниковым», возвышается над всем пшеном, занимая тем самым центральное положение. На такой же высоте образ творца находится и во всем художественном мире Салтыкова.
Такая закономерность в циклообразовании возникла только в последний период творчества Салтыкова. В её власти поэтому оказался цикл «Мелочи жизни» (1886–1887), где публицистическая проза («На лоне природы и сельскохозяйственных ухищрений», «Читатель», «В сфере сеяния») и беллетристика («Молодые люди», «Девушки», «Портной Гришка», «Счастлива», «Имярек») обретают единство потому, что Салтыков воплощает в нём весь свой художественный мир. И здесь образ творца, созданный в «авторской исповеди» «Имярек», окажется в центре цикла, отразившего онтологическую сущность щедринского мира (стыдом и совестью преображённый мир).
До начала 1880-х гг. творец в художественной системе Салтыкова – высший судия, огненным сатирическим словом побеждающий порок. Таким он был в «Губернских очерках», «Истории одного города» и таким останется в циклах «Помпадуры и помпадурши» (1863–1874), «Господах ташкентцах» (1869–1872), «В среде умеренности и аккуратности» (1874–1877), «Круглом годе» (1879), «За рубежом» (1881) и «Письмах к тётеньке» (1881–1882). Образ творца во всех этих циклах был определяющей, организующей субстанцией. Всё же остальное (тематические «скрепы», развитие «сквозных» мотивов, циклообразующая функция символов и композиционное единство) – лишь сопутствующие атрибуты в поэтике циклов.
Однако уже к середине 1880-х гг. образ творца действительно становится иным. Теперь он появляется в художественном мире Салтыкова как мученик и страдалец («Приключение с Крамольниковым», «Имярек»). Он уходит в человеческий мир, чтобы стать рядом со всеми мучениками и страдальцами. «Крамольников горячо и страстно был предан своей стране и отлично знал как прошедшее, так и настоящее её, – писал Салтыков в “Приключении с Крамольниковым”. – Но это знание повлияло на него совершенно особенным образом: оно было живым источником болей, которые, непрерывно возобновляясь, сделались наконец главным содержанием его жизни, дали направление и окраску всей его деятельности». Творец уже не столько грозный обличитель, сколько сострадающий всему роду человеческому. Сам творец теперь неотделим от всех героев и персонажей.
Замысел «Пошехонской старины» (1887–1889) принадлежит уже новому Салтыкову. Отсюда столь отчётливо выраженный автобиографизм в поэтике романа-хроники. Указание Салтыкова на то, что «автобиографического элемента в моем настоящем труде-очень мало», – всего лишь мистификация. Этого «элемента» как раз много, так как на его основе создаётся образ творца, сроднившегося со своим художественным миром. Он с невыносимой болью в сердце переживает «крепостные мистерии». Творец всегда находится рядом со своими героями, преодолевая свой земной путь вместе с ними. Правда, этот путь стал для него очень коротким. Салтыков создал «Первую часть записок Никанора Затрапезного, обнимающую его детство». Но если бы «записки» были продолжены, то по своей поэтике они были точно такими же, как и «первая часть».
Новому Салтыкову было отпущено слишком мало времени – ровно столько, чтобы написать первую страницу «Забытых слов», которая станет последним произведением Салтыкова. А.М. Скабичевский вспоминал: «Тем не менее он работал, можно поистине сказать, до последнего вздоха, и было нечто в высшей степени трогательное и величественное в образе измождённого, окружённого лекарствами старца, который не выпускал пера из дрожащих и костенеющих рук и, продолжая выпускать произведение за произведением, умирал, в полном смысле этого слова, воином на поле битвы. Так, за несколько дней до смерти он показывал посетителям полуисписанный лист, с отчаянием заявляя, что рука его отказывается писать и не в силах продол-жать начатой работы. Это были те самые “Забытые слова”, о которых он собирался напомнить своим соотечественникам».
Великий замысел мечтал осуществить Салтыков – воскресить умертвлённые слова (особенно такие, как «стыд», «совесть», «честь»), а ожившими словами, как живой водой, пробудить общество и вдохновить его на праведную жизнь. Это должно было стать вершиной преображения щедринской поэтики. Поэтому Салтыков начал свое повествование с создания мифологизированного образа умирающей Вселенной.
Символы умирания образуют поэтику «Забытых слов». Концентрация символов привела к предельной ритмизации повествования. В результате возникла стихопроза, вызвавшая из далекого прошлого ту трагическую музыку стиха, которая создавалась Салтыковым в пору лицейского стихотворства. Салтыков пришёл в литературный мир поэтом и поэтом его покинул.
Прощальные слова Салтыкова потрясли современников. Журнал «Вестник Европы» печатает эту страницу, обрамив её траурной рамкой. М. Жемчужников публикует стихотворение «Забытые слова», в котором выразил дух не только символических «Забытых слов» Салтыкова, но и всего его творчества:
Слова священные, слова времен былых, Когда они ещё знакомо нам звучали… Увы! Зачем же, полн гражданственной печали, Пред смертью не успел ты нам напомнить их! Те лучшие слова, так людям дорогие, В ком сердце чувствует, чья мыслит голова: Отчизна, совесть, честь и многие другие – забытые слова… Земля ж мотальная – костям твоим легка! Ты, правдой прослужив весь век своей отчизне, Уж смерти обречён, дыша уже едва, Нам вспомнить завещал – средь пошлой нашей жизни Забытые слова.«Забытые слова» стали предвестием русской символистской прозы. Поэтому творчество Салтыкова так сильно волновало воображение русских писателей-символистов, как в недавнем прошлом оно волновало И.А. Гончарова, А.В. Сухова-Кобылина, И.С. Тургенева, А.Н. Островского, Ф.М. Достоевского, А.К. Толстого, Л.Н. Толстого, существенно влияя на их художественные поиски. И в дальнейшем смех и мощные гротески Салтыкова на десятилетия предопределили развитие не только мировой сатиры, но и романной прозы.
Литература
Бушмин А.С. Сатира Салтыкова-Щедрина. М.; Л., 1959.
Покусаев Е.И. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина. М., 1963.
Макашин С.А. Салтыков-Щедрин на рубеже 1850—1860-х гг.: Биография. М., 1972.
Николаев Д.П. Сатира Щедрина и реалистический гротеск. М., 1977.
Турков A.M. Салтыков-Щедрин. 3-е изд. М., 1981.
Макашин С.А. Салтыков-Щедрин. Середина пути: Биография. М., 1984.
Николаев Д. П. Смех Щедрина. М., 1988.
Прозоров В.В. Салтыков-Щедрин. М., 1988.
Макашин С.А. Салтыков – Щедрин. Последние годы. М., 1989.
Тюнькин К.И. Салтыков-Щедрин. М., 1989.
Ауэр А.П. Салтыков-Щедрин и поэтика русской литературы второй половины 19 века. Коломна, 1993.
Дмитренко С.Ф. Щедрин: незнакомый мир знакомых книг. Изд-во Московского университета, 1998.
Павлова И.Б. Тема семьи и рода у Салтыкова-Щедрина в литературном контексте эпохи. М., 1999.
Строганова Е.Н. «Современная идиллия» М.Е. Салтыкова-Щедрина в литературном пространстве. Тверь, 2001.
Л.Н. Толстой (1828–1910)
Для человека XIX, XX, XXI столетий Лев Николаевич Толстой относится к величайшим писателям мира. Род Толстых – одна из мощнейших генетических линий России. Это писатели, художники, композиторы, учёные, дипломаты, общественные и государственные деятели. Л.Н. Толстой состоял в родстве с писателем А. К. Толстым (троюродные братья, они были даже внешне похожи), скульптором Ф.П. Толстым (их общий предок – П. А. Толстой, знаменитый сподвижник Петра I, за особые заслуги получивший по его указу титул графа). Из рода Толстых (но не графской линии) происходила и мать Ф.И. Тютчева, урождённая Е.Л. Толстая. И по отцовской, и по материнской линии Толстой – родственник поэта-декабриста А.И. Одоевского, писателя В.Ф. Одоевского, философа П.Я. Чаадаева.
Род матери Толстого, княжны М.Н. Волконской, ещё древнее и ведет свое происхождение от потомка легендарного Рюрика – князя Михаила Черниговского, одного из самых почитаемых на Руси святых князей. Многие Волконские вошли в историю России не только как доблестные защитники отечества, но и как герои самопожертвования, таков, например, троюродный брат матери Толстого декабрист С.Г. Волконский. Писатель не просто гордился семейными и родовыми преданиями: они были и одним из мощных стимулов творчества.
Если верна гипотеза, что художественная одарённость наследуется от матери, то Толстой – блестящее тому подтверждение. По материнской линии он четвероюродный племянник А.С. Пушкина. Мать Толстого писала прозу и стихи, переводила, была талантливой рассказчицей и вообще человеком совершенно незаурядных по тем временам кругозора, образования и духовной силы. Достаточно привести свидетельства крепостных о том, что она с ними обращалась «не как барыня, а как равный тебе по существу человек» (Н.Н. Гусев).
Один из самых оригинальных людей России XVIII в., дед Толстого по материнской линии – Н.С. Волконский был в молодости доверенным лицом и советником Екатерины II, послом в Берлине. Александра I, обещавшего заехать к Волконскому, но проспавшего нужный поворот, гордый хозяин Ясной Поляны догнал почти в Туле и вернул к себе в гости. В Ясной Поляне и впрямь было чему подивиться: для дворовых был выстроен прекрасный белокаменный дом, который все принимали за помещичий; церкви не было, зато были два оркестра – для крепостных и для помещика; были качели и карусели для гуляний и развлечений крепостных, а въезд в имение украшали две белые башни, похожие на столбы масонской ложи.
Толстой унаследовал от своего деда необыкновенно развитое чувство личности и огромную душевную силу, любил рассказывать о нём, бережно хранил всё, связанное с памятью о нём и о матери. Мать Толстого, умершая, когда ему не было и двух лет, осталась для него «святым идеалом». В «Воспоминаниях» писателя говорится: «Я молился её душе, прося её помочь мне, и эта молитва всегда помогала мне». Некоторые черты деда и матери
Толстой придал героям «Войны и мира» – старому князю Болконскому и княжне Марье. Ясная Поляна с ее «прешпектом», портретом основателя рода и родословным древом в гостиной описана в «Войне и мире» как усадьба Болконских Лысые Горы, детали пейзажа и интерьера дома (например, обстановка кабинета Левина) отражены также в романе «Анна Каренина», а в «Воскресении» неожиданно узнаём среди вещей Нехлюдова любимый талисман Толстого – пресс-папье с бронзовой собачкой, которое писатель всю жизнь держал на своём столе. Полулегендарная история Ясной Поляны и семейные предания (например, о чудесном спасении на войне прадеда, С.Ф. Волконского, когда пуля ударила в образок на его груди, о противостоянии деда, Н.С. Волконского, всесильному Потёмкину, о пребывании отца, Н.И. Толстого, во французском плену и т. д.) так же важны для изучения творчества Толстого, как и факты его личной биографии.
Один из исследователей творчества Л.Н. Толстого – Б.М. Эйхенбаум метко назвал Ясную Поляну «идеологической крепостью» Толстого, начиная с 60-х гг. противостоящей в его сознании «вопросам» современности, пафосу политической борьбы, даже литературным модам и вкусам. Sub specie aetemitatis (лат. «С точки зрения вечности») Толстой навсегда останется абсолютно самобытным яснополянским мудрецом, как бы ни называли его в ту или иную эпоху – «обличителем», «представителем» или «зеркалом». Толстой стоит вне партий, вне конфессий, вне литературных школ, он «работал над собой исключительно своими руками», как говорила ещё одна сыгравшая важную роль в жизни Толстого родственница, его двоюродная тётка А. А. Толстая.
С Ясной Поляной связан и личный миф Толстого о «зелёной палочке, на которой написано то, что должно уничтожить всё зло в людях и дать им великое благо…чтобы все люди не знали никаких несчастий, никогда не ссорились и не сердились, а были бы постоянно счастливы». Эта зелёная палочка с таинственной надписью была зарыта в Ясной Поляне на краю оврага. В детстве поиски «зелёной палочки» были его любимой игрой, а в старости он завещал похоронить себя рядом с этим местом, что и было исполнено. По мнению С.Л. Толстого, старшего сына писателя, легенда о зелёной палочке сочинена матерью Толстого: «У Марии Николаевны эти рассказы могли быть навеяны мистикой александровской эпохи» или её родственниками Трубецкими, многие из которых были известными масонами и розенкрейцерами.
Другая версия происхождения легенды принадлежит Б.М. Эйхенбауму и основывается на том, что среди гостей и корреспондентов Ясной Поляны были не только императоры, но и революционеры. Так, случайно услышав беседу своего отца с декабристом П.И. Колошиным, часто бывавшим в Ясной, маленький Толстой и его братья могли узнать о «Зелёной книге» (уставе Союза Благоденствия), о зарытой «Русской правде» П.И. Пестеля, о поисках этого документа следствием, о декабристах братьях Муравьёвых. Маленькие Толстые, на которых рассказ этот мог произвести не меньшее впечатление, чем слова Пьера на Николеньку Болконского, поняли это так, что «есть люди, которые знают тайну, как избавить людей от зла… они написали правду об этом и зарыли её в землю. Всё было готово для создания легенды, оставалось дать ход воображению. Из запаса детских игр и сказок явилась палочка-выручалочка; она оказалась зарытой в землю, но с ясным следом рассказа о рукописи: на палочке написана тайна, как сделать людей счастливыми. Братья Муравьёвы превратились в “муравейных братьев" – прообраз будущего человечества, таких отношений между людьми, когда все будут друг друга любить, не будет ни войн, ни ссор. Игра в “муравейных братьев” состояла в том, что нужно было выполнять разные условия, необходимые для открытия “зелёной палочки”».
В «Воспоминаниях» (1906), давая несколько иное объяснение «муравейным братьям», Толстой писал о своем старшем брате: «…Николенька, вероятно, прочёл или наслушался о масонах, об их стремлении к осчастливлению человечества, о таинственных обрядах приёма в их орден, вероятно, слышал о Моравских братьях (религиозная секта в Чехии, основанная в XV в. и проповедовавшая ненасилие. – Е.П.) и соединил всё это в одно в своем живом воображении и любви к людям, к доброте, придумал все эти истории и сам радовался им и морочил ими нас…» Идеалы «муравейных братьев» и «зелёной палочки» Толстой пронёс через всю жизнь.
В девять лет Толстой потерял и отца. Опекунство над сиротами перешло к тёткам, и в 1841 г. дети переезжают в Казань, где жила одна из них. В 1844 г. Толстой по примеру старших братьев поступает в Казанский университет, учится сначала на восточном отделении философского факультета (Казанский университет в то время славился развитием ориенталистики), потом на юридическом факультете. Первое время учёба мало увлекала его, несмотря на поистине феноменальные способности к изучению языков, а затем, во многой благодаря профессору права Д.И. Мейеру, который наряду с Н.И. Лобачевским был тогда «лучом света» в Казанском университете, Толстой принимает решение покинуть университет, чтобы целиком отдаться самостоятельным научным занятиям: «Впервые пробудившаяся в молодом Толстом страсть к наукам и повлекла за собой выход его из университета» (Н.Н. Гусев). Восемнадцатилетний Толстой явился к ректору университета Н.И. Лобачевскому (по другим сведениям, Лобачевский тогда был уже управляющим Казанским учебным округом) с прошением «о исключении», и эту встречу, пожалуй, можно назвать редким в истории примером встречи двух гениев, старший из которых сразу оценил младшего. Лобачевский долго говорил с нерадивым второкурсником, нашел в нём выдающиеся способности и предрёк ему большое будущее.
Казанский период (1841–1847) в жизни Толстого сыграл огромную роль. В эти годы он начал вести дневник, который вёл до конца жизни и которому доверял поразительные самонаблюдения и самопризнания, во многом послужившие материалом для создания художественных образов. С юношескими впечатлениями от прочитанных книг Ж.Ж. Руссо, Ф. Шиллера, Ч. Диккенса, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Д.В. Григоровича, возможно, и Л. Стерна в толстоведении связывается становление особой творческой манеры Толстого и особого видения человека – «диалектики души» (Н.Г. Чернышевский). Тогда же у Толстого начинаются серьёзные религиозные поиски. Наряду с чтением Евангелия Толстой знакомится с буддизмом (в Казани он сблизился с бурятским ламой).
Получив после раздела наследства Ясную Поляну, Толстой намеревается заняться хозяйством и улучшением жизни своих крестьян, а также реализацией плана самообразования. В 1850 г. Толстой начинает свои первые литературные опыты, а весной 1851 г., продолжая «испытывать себя», отправляется со старшим братом офицером Н.Н. Толстым на Кавказ и в следующем году поступает на военную службу артиллеристом.
Это было время знакомства с образом жизни казаков и горцев, участия в военных действиях и работы над повестью «Детство». 28 августа (9 сент.) 1852 г., в день своего рождения (число 28 Толстой вообще считал знаменательным для себя: в «Детстве», например, 28 глав) он записывает в дневнике: «…Вот уже восемь лет, что я борюсь с сомнением и страстями. Но на что я назначен? Это откроет будущность». Будущность открылась на следующий же день, когда Толстой, как будто в ответ на свои сомнения, получил письмо редактора журнала «Современник» Н.А. Некрасова о том, что «Детство» принято редакцией, а в «авторе… есть талант». 6 сентября вышел № 9 «Современника» за 1852 г. с толстовской повестью под названием «История моего детства».
Толстой задумывал роман под названием «Четыре эпохи развития», который должен был состоять из следующих частей: «Детство», «Отрочество», «Юность» и «Молодость». Работа над этим произведением продолжалась до опубликования «Юности» в журнале «Современник» в 1857 г. («Отрочество» было опубликовано в 1854), а последняя часть не была написана. Цензурные искажения и особенно перемена заглавия повести «Детство» очень огорчили молодого автора, так как заглавие, данное редакцией, вводило повесть «в цикл произведений автобиографического жанра», распространённого тогда в литературе. Первое же произведение Толстого явилось образцом психологической прозы, сопоставимой с «Героем нашего времени» Лермонтова. Традиционно включаемые в детские хрестоматии и школьные программы, повести эти, однако, никогда не предназначались автором для детского чтения.
Автобиографические, а в еще большей степени автопсихологические черты в образе главного героя Николеньки Иртеньева – это и общие черты толстовских героев-правдоискателей, как правило, любящих свою семью, дорожащих поэзией семейной жизни, но зачастую не понимаемых своими близкими. Они занимают определённое положение в глазах общества, но не удовлетворены открывающимися им в этом обществе возможностями, потому что эти герои хотят единства не с обществом, а с «целым». В первой же в своей жизни дневниковой записи восемнадцатилетний Толстой предначертал программу, которой он и его герои будут следовать всю жизнь: «Отделись человек от общества, взойди он сам в себя… образуй твой разум так, чтобы он был сообразен с целым, с источником всего, а не с частью, с обществом людей; тогда твой разум сольётся в одно с этим целым, и тогда общество, как часть, не будет иметь влияния на тебя». Толстой не исключает социальной и исторической обусловленности своего героя, но отнюдь не останавливается на этом, он мыслит человека как существо космическое, ибо «целое», «источник всего» – это, по Толстому, и Бог, и Вселенная, а точнее, вселенский центр любви, существование которого так же несомненно для Толстого, как существование вселенского центра тяготения.
Любимые герои писателя (Николенька, князь Андрей, Пьер, княжна Марья, Константин Левин, Нехлюдов из «Воскресения») почти не показаны в общении со своей матерью, которая рано умерла и любовь которой к ребенку осталась только святым воспоминанием. Они мечтают о любви и семейном счастье, но не находят их, а если и находят, то не удовлетворены его замкнутостью (Пьер, княжна Марья, Константин Левин) и, главное, стремятся быть «вполне хорошими» (слова Пьера об Андрее Болконском), т. е. не только предаются нравственному самосовершенствованию, как нередко читатели понимают эти слова, но и ощущают себя лично ответственными за всё, происходящее в мире. Герои Толстого могли бы подписаться под словами А.А. Фета в его письме к Толстому: «Любить – значит расширять своё существо на внешний объект».
В трилогии большое место занимает тема смерти. Николенька проходит испытание смертью и наблюдает отношение к ней окружающих. Умирают его мать, бабушка, няня Наталья Савишна, которая «совершила лучшее и величайшее дело в этой жизни – умерла без сожаления и страха». Танатосные мотивы в творчестве Толстого занимают огромное место и часто связаны с мотивом ухода: герои порывают со своей средой, резко изменяют свою жизнь, приводя её в соответствие со свершившимся моральным переворотом.
В конце трилогии есть намёк на изменение сознания и образа жизни Николеньки Иртеньева (глава «Я проваливаюсь»). Описание «минуты раскаяния и морального порыва» сопровождается красноречивой деталью: «Я… вдруг вскочил, взбежал на верх». «Провалу» на экзамене и «окончательной погибели» (с точки зрения «комильфотности» и обыденного сознания) противостоят подъём и возрождение (с точки зрения «чистоты нравственного чувства» и «диалектики души»). Конечно, духовное возрождение Николеньки не занимает такого места в финале трилогии, как просветление Нехлюдова в романе «Воскресением, но интересно, что первое и последнее из больших эпических произведений Толстого завершаются почти одинаково – «Правилами жизни» (Иртеньев сочиняет их сам, для Нехлюдова же это заповеди евангельской Нагорной проповеди) и надеждой на счастливое будущее обновлённого героя.
В трилогии молодой князь Дмитрий Нехлюдов – лучший друг студенческих лет Николеньки, а в «Воскресении» это главный герой, вспоминающий свою дружбу с Николенькой Иртеньевым, которого уже нет в живых. Д. Нехлюдовым зовут также героя рассказа «Утро помещика» и повествователя в рассказе «Из записок князя Д. Нехлюдова. Люцерн» (1857).
В годы создания трилогии наиболее близким себе автором Толстой считал Стерна, которого во время работы над «Детством» даже переводил для упражнения в английском. В стиле романа Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» и трилогии Толстого, действительно, есть много общего. То и другое произведения – рассказ взрослого о ребёнке, но не в форме воспоминаний, а в форме чуть ли не протокольной фиксации (причем для Стерна это ещё более характерно, чем для Толстого) чувств и событий, даже мельчайших. Это как бы воскрешение и передача взрослым человеком своего детского и отроческого впечатления и сознания. Впрочем, у Толстого этот феномен может быть объяснён и его сверхпамятью; так, в воспоминаниях «Моя жизнь» (1878) он повествует о своих младенческих ощущениях! В «Детстве», к примеру, подробно зафиксированы два дня из жизни Николеньки – день в деревне и день в Москве – с подробной, почти поминутной детализацией чувств и мыслей персонажа.
Чернышевский считал, что из русских писателей ближе всего Толстому М.Ю. Лермонтов. Однако Толстой в гораздо большей степени, чем Лермонтов, даёт подробные картины того, «как одни мысли и чувства развиваются из других… как чувство, непосредственно возникающее из данного положения или впечатления, подчиняясь влиянию воспоминаний и силе сочетаний, представляемых воображением, переходит в другие чувства…».
По мнению Чернышевского, Толстого более всего интересует «сам психический процесс, его формы, его законы, диалектика души». Эти проницательные выводы критик сделал уже на основании трилогии и ранних рассказов, когда было ещё далеко до основных произведений, в которых эта особенность творчества Толстого, названная позже «текучестью» характера, сказалась в полной мере. Ф. М. Достоевский отметил в «Дневнике писателя» главу «Мечты» из «Отрочества»: «Помните ли вы “Детство и отрочество” графа Толстого? Там есть один мальчик, герой всей поэмы. Но это не простой мальчик, не как другие дети, не как брат его Володя. Ему всего каких-нибудь лет двенадцать, а в голову и в сердце его уже заходят мысли и чувства не такие, как у его сверстников… Чрезвычайно серьёзный психологический этюд над детской душой, удивительно написанный…»
Толстой не пишет историю своего детства; поразительная психологическая правда характеров есть результат не столько «воскрешения» воспоминаний, сколько художественного синтеза. Реальные люди – мать и отец Толстого – станут прототипами не столько матери и отца в трилогии, сколько княжны Марьи и Николая Ростова в «Войне и мире». «С натуры» написаны Наталья Савишна (Прасковья Исаевна, экономка Толстых во времена детства писателя), Карл Иванович (домашний учитель Фёдор Иванович Рёссель), Сонечка Валахина (С.П. Колошина, дочь члена Союза Благоденствия П.И. Колошина), во многом Любочка (сестра Толстого М.Н. Толстая). Менее прямолинейны сопоставления Володи с братом Толстого С.Н. Толстым, Дубкова – с мужем сестры В. П. Толстым, Нехлюдова – с другом писателя Д.А. Дьяковым и братом Д.Н. Толстым. Имя того и другого прототипа – Дмитрий – оставлено персонажу.
Кроме «Детства» и «Отрочества» Толстой работает над рассказами «Набег» (1852, напечатан в 1853), «Рубка леса» (закончен в Севастополе и напечатан в 1855), отражающими кавказские впечатления, рассказом «Записки маркёра» (1853, напечатан в 1855). Героя записок, самоубийцу, писатель наделяет фамилией Нехлюдов, а также искренностью и совестливостью, которые делают его похожим на Николеньку Иртеньева.
Герой рассказа «Набег» скромный капитан Хлопов является как бы предшественником Тушина и Тимохина из «Войны и мира», а прототипом его во многом послужил брат Толстого Н.Н. Толстой, служивший вместе с ним на Кавказе. С симпатией обрисован молодой прапорщик Аланин, предшественник Володи Козельцова из третьего севастопольского рассказа и Пети Ростова. В рассказе «Набег» впервые в творчестве Толстого изображены военные действия, это дебют Толстого-баталиста. И в первом же рассказе на эту тему война осуждается, особенно сильно в знаменитых словах: «Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым звёздным небом? Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных?» В дневнике молодой Толстой записывает: «Был дурацкий парад… Бойна такое несправедливое и дурное дело, что те, которые воюют, стараются заглушить в себе голос совести. Хорошо ли я делаю? Боже, настави меня и прости, ежели я делаю дурно».
В ноябре 1854 г. писатель прибывает в осаждённый Севастополь. Желание участвовать в обороне Севастополя он объяснял в письме к брату патриотизмом, «который в то время… сильно нашёл» на него. И конечно, Толстой уже в те годы хочет быть там, где можно участвовать в «настоящей жизни» (один из основных концептов «Войны и мира») и ощутить чувство единения с людьми. События Крымской войны дали ему материал для знаменитых севастопольских рассказов. Первый из них под названием «Севастополь в декабре месяце» (1855) представляет собой очерк-панораму осаждённого Севастополя, в том числе и самого опасного четвёртого бастиона, на котором служил автор рассказа.
Девизом батальных сцен в творчестве Толстого можно назвать слова: «Увидите войну не в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знамёнами и гарцующими генералами, а увидите войну в настоящем её выражении – в крови, в страданиях, в смерти…» И всё же основным пафосом рассказа стало прославление героизма защитников Севастополя. Рассказ с восторгом читали и в демократических кругах, и в императорской семье, а императрица Александра Фёдоровна даже плакала от умиления.
Следующий рассказ – «Севастополь в мае» (1855) – постигла совсем другая судьба. Дело в том, что ни общественное мнение, ни государственные интересы, не говоря уж о собственной выгоде и даже безопасности, никогда не могли заставить Толстого покривить душой. Не оставшееся незамеченным при дворе прославление героизма и патриотизма могло бы в дальнейшем способствовать военной и литературной карьере, но героем Толстого всегда была правда, о чём он и заявил в новом рассказе. Когда работа над рассказом была близка к завершению, он записывает в дневнике: «Теперь только настало для меня время истинных искушений тщеславия. Я много бы мог выиграть в жизни, ежели бы захотел писать не по убеждению». Присланный в «Современник» рассказ был прочитан в кружке литераторов, которые отозвались о нём как о «безжалостно-честном», а Некрасов нашёл в рассказе «такую трезвую и глубокую правду, что нечего и думать её печатать». Как и ожидала редакция «Современника», цензура сочла рассказ «насмешкой над… храбрыми офицерами», и рассказ был напечатан в чудовищно искажённом виде. Но и в таком виде он производил сильное впечатление. По словам П.Я. Чаадаева, «вот это добротный патриотизм, из тех, что действительно делают честь стране, а не загоняют её ещё дальше в тупик, в котором она оказалась».
Высокую оценку психологизму рассказа (особенно описанию смерти Праскухина) дал Н.Г. Чернышевский. Возмущение бездарным командованием отразилось и в сочинённой Толстым сатирической песне <«Как четвёртого числа…»> (редкий в его творчестве случай стихотворных опытов), быстро распространившейся среди солдат и вызвавшей неудовольствие при дворе (впервые напечатана в 1857 г. в «Полярной звезде» А.И. Герцена).
«Я, кажется, сильно на примете у синих», – замечает Толстой в дневнике («синими» он называет царских жандармов). 28 августа 1855 г., в день оставления Севастополя русскими войсками, Толстому пошел 28-й год. Третий севастопольский рассказ «Севастополь в августе 1855 года» (напечатан в 1856 г.), в котором отразились впечатления последних боёв за Севастополь, был завершён уже в Петербурге, куда писатель прибыл с донесением из армии в ноябре 1855 г. Это «самый сюжетный» рассказ севастопольской трилогии, повествующий о братьях Козельцовых – старшем, опытном офицере Михаиле, и младшем, Володе, – в которых многие исследователи склонны видеть предшественников Николая и Пети Ростовых из «Войны и мира». Эти симпатичные автору персонажи без громких фраз исполняют свой долг и погибают с мыслью о Севастополе. Толстого и в дальнейшем будет интересовать не яркий подвиг, а скромное подвижничество, в том числе и человека на войне. «Война совсем не так делается, как ты думаешь, Володя!» – говорит старший Козельцов младшему, мечтающему о подвиге. Это рассказ не только о жертвенности русских воинов, но и о бессмысленности войны, о «стыде» и «раскаянии», которые не могут не подниматься именно в душе тех её участников, кто сполна наделён «чистотой нравственного чувства».
Таков, конечно, и сам автор рассказов. Недаром именно под Севастополем детская мечта Толстого о всеобщем мире стала приобретать черты нового религиозного учения. «Вчера разговор о божественном и вере навёл меня на великую громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь, – записывает Толстой 4 марта 1855 г. – Мысль эта – основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле». Этому служению он посвятил всю свою дальнейшую жизнь и всё творчество.
В Петербурге Толстой знакомится с Ф.И. Тютчевым, специально посетившим его, чтобы выразить восхищение севастопольскими рассказами, А.А. Фетом, Н.А. Некрасовым, И.С. Тургеневым, И.А. Гончаровым, А.Ф. Писемским, Я.П. Полонским, А.В. Дружининым, П.В. Анненковым, В.Л. Боткиным и другими писателями и критиками. К этому периоду относится работа над рассказом «Метель» (1856), представляющим собой реплику пушкинской «Капитанской дочки», и повестью «Два гусара» (1856), полемически направленной против «вопросов» современности и демонстративно разрешавшей одну из немаловажных альтернатив русской литературы («отцы и дети») в пользу «отцов». Полемика с «шестидесятниками» продолжится и в незаконченном романе «Декабристы», и в уже открыто пародирующей идеи Чернышевского пьесе «Заражённое семейство», при жизни Толстого не публиковавшейся. Рассказ «Утро помещика» (1856, «Отечественные записки») также связан с современностью, но не только проблематикой взаимоотношений помещика и крестьян, а и поисками героя, способного осуществить идеал Толстого – объединение людей на основе «настоящей жизни».
В 1857 г. Толстой совершает поездку в Западную Европу (посещает Францию, Германию, Италию, Швейцарию). В Париже осматривает гробницу Наполеона, после чего записывает в дневнике; «Обоготворение злодея, ужасно». Противовес этому «обоготворению» злодеев он будет искать в «Войне и мире». Став свидетелем смертной казни, Толстой ещё больше укрепляется во мнении, что «государство есть заговор не только для эксплуатации, но главное для развращения граждан», и даёт себе обещание: «Я… никогда не буду служить нигде никакому правительству». Тяжёлые заграничные впечатления отразились в рассказе «Из записок князя Д. Нехлюдова. Люцерн» (1857, «Современник»),
В рассказе «Три смерти» (1858), во многом этапном для молодого Толстого, показана смерть барыни, которая «гадка и жалка», умирая в «разладе» с миром, смерть старого ямщика («его религия – природа», по словам Толстого) и смерть дерева, «ясенки», из которого молодой ямщик собирается изготовить крест на могиле умершего товарища и которое умирает «спокойно, честно и красиво». Рассказ, а скорее философская притча о превосходстве в смертный час дерева над человеком, содержит главные концепты дальнейшего творчества Толстого: «Смерть», «Истина», «Гармония со всем миром». Но как соединить рефлектирующее сознание с бессознательной природной гармонией? В рассказе «Альберт» (1858) Толстой отдаёт предпочтение первому, в повести «Казаки» (1863) – второму.
Замысел повести «Казаки» восходит к намерению 1852 г. писать очерки о Кавказе. У Толстого были также планы соединить повесть, герою которой приданы некоторые автобиографические черты, с «Четырьмя эпохами развития». Казалось бы, сюжет «Казаков» построен на обычном романтическом мотиве бегства героя из цивилизованного мира и столкновения с миром первобытно-природным. В критике не раз указывалось даже на сходство названий «Казаки» и «Цыганы», на созвучие «Оленина» и «Алеко». Не случайно и упоминание в тексте повести о «Куперовом Патфайндере» (романе американского писателя Ф. Купера «Следопыт»). Однако кавказская и военная тема в творчестве Толстого с самого начала была связана с развенчанием романтического комплекса. Герой Толстого продолжает испытывать чувство горькой отделённости от окружающих (Николенька в трилогии – от родных и товарищей по университету, Оленин – от казаков, Нехлюдов в «Утре помещика» – от крестьян), но в то же время приобретает некое весьма важное знание об общих закономерностях жизни и её сложности, недоступное более цельным и непосредственным натурам.
Оленин и дядя Ерошка – это не просто человек «цивилизованный» и человек «естественный», а посвящаемый и посвящающий. Необходимое для создания непривычной обстановки уединение (пустыня) заменено в «Казаках» перемещением героя из центра на периферию. Сохраняет своё значение инициационный мотив испытания смертью и усиливается звучание мотива охоты (охотятся не только Оленин с Ерошкой, но и на них; не только Лукашка на горцев, но и горцы на Лукашку).
Новизна толстовского героя в том, что мотив охоты трансформируется в сознании Оленина в мотив любви, объединения со всем миром. Он хочет «раскидывать на все стороны паутину любви: кто попадётся, того и брать». «Паутина любви» – образ, навеянный чтением Стерна («web of kindness» – англ.), имеющий большое значение в дневниках Толстого и в «Войне и мире». Так что Оленина можно уже назвать адептом той новой «практической религии», которой Толстой собирался посвятить своё творчество.
Эта сторона «Казаков» не была понята современниками, рассматривавшими повесть в руссоистском или романтическом ключе. Несмотря на отдельные восторженные отзывы, общее отношение критики к повести можно выразить словами рецензента «Современника» А.Ф. Головачёва «Умысел автора, по-видимому, именно был – изобразить, что вот как хороши отношения людей между собою и к окружающему их миру в их первобытном, так сказать, диком виде, но что люди, испорченные нашей цивилизацией, хотя и могут понять и оценить всё это, но уже не могут наслаждаться тем счастьем, которое даёт эта первобытность, между тем как тут только и есть истинное счастье».
В 1863 г. работа Толстого над повестью «оказалась скорее прекращена, чем завершена», как считают исследователи. В жизни Толстого бывали периоды увлечения Гомером и вообще Древней Грецией, один из них совпал с работой над «Казаками» и даже в какой-то степени стимулировал её. Толстой сравнивал замысел повести и с «библейским преданием». Однако рамки оленинской одиссеи оказались узкими для воплощения в художественной форме грандиозной религиозно-национальной идеи. Эта задача была выполнена в «Войне и мире», произведении, сопоставимом с древним эпосом.
Роман «Семейное счастье» (1859) и повесть «Поликушка» (1863) сыграли, наряду с «Казаками» и севастопольскими рассказами, подготовительную роль для «Войны и мира»: Толстой изобразил по отдельности семейный мир, крестьянский мир, мир природы и войну. В «Войне и мире» он соединит эти миры в противостоянии войне.
ЗАМЫСЕЛ «Войны и мира» историки литературы возводят к намерению написать роман о декабристах, возникшему у писателя в 1856 г., скорее всего, под впечатлением от встреч со своим родственником декабристом С. Г. Волконским, вернувшимся из Сибири после амнистии. Он поразил Толстого тем, что из революционера сделался «мистиком, христианином» и приблизился на каторге и поселении к толстовскому идеалу высокодуховного сельского труженика, ощущающего единство с миром природы и простых людей. Толстой сравнивал Волконского с ветхозаветным пророком и видел в нём пример почти житийного «просветления» и «ухода» (которому в конце жизни последовал сам). Приступив к работе над романом о вернувшемся из Сибири декабристе (неоконченный роман «Декабристы» начат во время второй поездки Толстого за границу, писался в 1860–1863 гг., опубликован в 1884) и почувствовав необходимость описать молодость своего героя, его борьбу и заблуждения, Толстой приходит к осмыслению эпохи наполеоновских войн. Но социальный или исторический интерес не может быть назван главным истоком «Войны и мира». В декабристе, вернувшемся с каторги, Толстой видит идеал подвижника-страстотерпца своей «практической религии», а в войне 1812 г. – яркий пример кризисной ситуации, открывшей назначение России в мире.
Замысел о декабристе так и не вылился в законченное произведение, хотя Толстой ещё не раз в течение жизни возвращался к намерению писать роман о декабристах. А вот задуманный герой, чья молодость пришлась на эпоху наполеоновских войн, расщепился на двух главных персонажей – Пьера Безухова и Андрея Болконского, наделённых именами апостолов-братьев Петра и Андрея и различными функциями.
В ПЬЕРЕ показан человек действия: в начале романа это нарушитель общественного спокойствия, спорщик и дуэлянт, в мечтах своих даже международный террорист. В 1812 г., будучи человеком сугубо штатским, он отправляется на поле Бородина и, не задумываясь, бросается в гущу Бородинского сражения. Он готов собственноручно убить Наполеона, но попадает в плен к французам, чудом избегает расстрела и впоследствии становится убеждённым сторонником общественного противодействия социальному злу, организатором и реформатором тайных обществ (сначала масонских лож, а потом будущих декабристских организаций). Пьер отнюдь не герой смирения; даже в евангельских сюжетах именно апостол Пётр связан с символикой оружия, заточения, борьбы и покаяния.
С МИФОЛОГЕМОЙ АНДРЕЯ Толстой связывает не тему социальной активности, а тему нравственного совершенствования, смирения и ненасилия: это самый гордый герой Толстого, но он прощает своего врага Анатоля; кажущееся бездействие князя Андрея и его полка на поле Бородина есть истинный подвиг христиански-буддийского непротивления, стоящий даже выше героической атаки при Аустерлице. Стойкость русских поразила и подавила Наполеона, наблюдавшего в подзорную трубу русские резервы, среди которых был и князь Андрей со своим полком. Так решился исход войны, свершилась «победа нравственная». На наполеоновское нашествие «была наложена рука сильнейшего духом противника». Именно с полководцем-непротивленцем Кутузовым (ассоциирующимся с архангелом Михаилом), Платоном Каратаевым (новым философом Платоном) и князем Андреем, апостолом толстовской религии любви и непротивления, связана главная мысль «Войны и мира»: войну нельзя победить войной, НЕПРОТИВЛЕНИЕ выше насилия, и это та благодать, пример которой суждено было России явить другим народам. Военная, физическая сила Европы не могла одолеть Наполеона, в России он побеждён духовным, нравственным противостоянием.
Толстой показал войну 1812 г. как такую ситуацию, когда, может быть, впервые в мировой истории войне и насилию были противопоставлены мир и ненасилие, причем не отдельным святым человеком, а всем народом. Кутузов не задумывает планов сражений, а если уж сражения случаются, то не изображает, что руководит ими; князь Андрей и его полк не сделали ни единого выстрела в Бородинском сражении, но и не уступили врагу ни шага. Князь Андрей сознательно не отступает ни на шаг пере; упавшей гранатой, ценою жизни утверждая идеал стойкости и ненасилия и своеобразно выражая идею – подъявший меч от меча и погибнет (от собственного меча, т. е. собственной духовной несостоятельности). Платон Каратаев думает: «Червь капусту гложе, а сам прежде того пропадаем. Наполеон для Каратаева – «червь», а для князя Андрея (на поле Аустерлица и потом в Мытищах) – «муха».
ИЗОБРАЖЕНИЕ НАПОЛЕОНА в «Войне и мире» вызвало, наверное, ещё больше споров в критике и у читателей, чем «войнамирическое» учение о не насилии. «Как Наполеон, так сейчас и натяжка, и всякие фокусы, чтобы доказать, что он глупее, чем был на самом деле», – считал А.П. Чехов. Д.С. Мережковский назвал Толстого «победителем Наполеона». Однако суть вовсе не в том, чтобы установить, каким был Наполеон «на самом деле». Толстой рисует Наполеона сообразно с целями своей книги, которые не сводились к опровержению наполеоновских или александровских историков (Александр I и Сперанский тоже показаны как самонадеянные актеры, воображающие, что именно они и управляют событиями), обличению агрессора или воспеванию патриотизма. Ведь Толстой осуждает военные действия вообще, а не только завоевательные, и убийство французов русскими ничуть не лучше убийства русских французами.
В книге Толстого, вовсе не историческом романе и не хронике, Наполеон мифологизирован наподобие библейского Валтасара, который тоже является историческим лицом (однако никто не ставит вопрос о том, насколько соответствует библейский Валтасар своему историческому прототипу). Миф – это цикл повторений, а не цепь событий. Библейский Валтасар – архетип возгордившегося и наказанного за это нечестивца, которым владели силы зла. Зло в Библии многообразно. Таков у Толстого и Наполеон, повторяющий змия-искусителя, выродившегося до червя (соблазн наполеонизма герои Толстого преодолевают), или Вельзевула, представляющегося обыкновенной мухой. А вот имена автора «Войны и мира» и Наполеона по иронии истории почти совпадают: по некоторым толкованиям Наполеон значит «Лев пустыни».
Разветвлённая СИМВОЛИКА книги вбирает в себя как библейские, так и славянские мифопоэтические мотивы, буддийско-даосские, вишнуитские и даже митраические концепты. Самое русское слово «мир» в многочисленных его значениях восходит к имени индо-иранского бога Митры: «Митра, согласно древнеиндийской мифологии, следит за исполнением договоров между людьми и, если договоры соблюдаются, охраняет границы земли, где живут такие люди, – это и есть ядро концепта “мир" в его древнейшем виде» (Ю.С. Степанов).
Э.Е. Зайденшнур считала, что название книги было написано рукой Толстого только однажды: со словом «мiръ» через так называемое «i десятеричное» в проекте договора с издателем (М.Н. Катковым). В этом написании слово «мфъ» означало не «отсутствие войны», а «мироздание» или общность людей, например «крестьянский мир». Когда в печати название появилось со словом «миръ», а не «Мiръ», Толстой не настаивал на исправлении. Ему, по-видимому, была дорога именно уникальная многозначность этого русского слова, совместившего в древнеиндийском и древнегреческом (платоновском) духе представления о мире – космической целостности (В.Н. Топоров) и мире – любви, сМИРении и понимании как условии этой космической целостности. Современные текстологи (Н.П. Великанова), основываясь на предположении, что в наборной рукописи слово «миръ» в заглавии также написано рукой Толстого, причем через «и восьмеричное», рассматривают смысл слова «миръ» в названии как антонимичный «войне», связанный с понятиями «согласие», «примирение».
Древнейшие мифопоэтические концепты в «Войне и мире» связаны с образами Андрея Болконского, отчасти Платона Каратаева и Кутузова. В книге Толстого это и образы, и образа. Поэтому знаменитый дуб князя Андрея получает значение и мирового древа, и древа познания, и евангельской смоковницы; засохшее или зазеленевшее дерево – лейтмотив образа Болконского (резкую антипатию вызывает у князя Андрея лишь неестественное, перевернутое вверх корнями древо – родословное). На поле Бородина князь Андрей, держа в руке «цветки полыни», старается успеть дойти «до межи» («хождение по меже» жреца или вождя племени с пучком травы в руках – древний обряд волхвов с целью прекратить войну и распрю племен); перед своим уходом из этого мира в бреду он пытается закрыть двери (двери античных храмов были открыты, пока страна вела войну, и закрывались только при окончании войны). Мотив открытой / закрытой двери во всём тексте имеет также евангельский смысл в контексте предсмертных размышлений Болконского о «птицах небесных» как символе связи души с Богом.
Прощение Болконским грешника Анатоля в госпитальной палатке, где были три стола, соотносится с прощением Христом разбойника на Голгофе, да и само название имения Лысые Горы – русский перифраз «Голгофы», в свою очередь восходящей к мифологеме мировой горы как сакрального центра мира. Мифологема Андрея связана с мотивом горы (например, в летописном сюжете о горе, «где после возник Киев»). Андреевский косой крест символизирует единство мира, связь между мирами, осуществляемую в точке пересечения косых линий, являющейся вершиной мировой горы (символика, восходящая к платоновскому диалогу «Тимей», хотя косой крест, разумеется, еще не называется там андреевским). Символика горы в «Войне и мире» (Праценская гора, Поклонная гора, Лысые Горы, где происходит примечательная дискуссия князя Андрея и Пьера со странниками и княжной Марьей) связана, во-первых, с идеей мира, означающего «космос, пространство», и, во-вторых, с платоновским же пониманием мира как филии, любви, без которой невозможно существование космоса.
С мифологемой Андрея связана и символика воды (св. Андрей – покровитель волшебных источников и мореплавателей). Вода – христианский символ «жизни вечной» в даосизме символизирует непротивление. «Всачивание» французов в Москву, по Толстому, было для них началом конца. Толстой здесь использует образ Москвы-губки, поглощающей нашествие (исторические слова Кутузова). Мотив воды – важная составляющая образов воинов «непротивленцев»: князь Андрей воспринимает как живые существа облака и волны, его переправа с Пьером через реку символизирует для него «новую жизнь». Кутузов «слаб на слёзы», Петя Ростов, слышавший во сне волшебную музыку капель, приблизил победу не тем, что храбро помчался в атаку, а тем, что накануне по-братски заботился о маленьком французском барабанщике. Платон Каратаев предстаёт одной из капель волшебного водяного шара, символизирующего человечество во сне Пьера Безухова.
В «Войне и мире» Толстой сформулировал прошедшее затем через всё его творчество ПОНЯТИЕ «НАСТОЯЩЕЙ ЖИЗНИ»: «Настоящая жизнь людей с своими существенными интересами мысли, науки, поэзии, музыки, любви, дружбы, ненависти, страстей шла, как и всегда, независимо и вне политической близости или вражды с Наполеоном Бонапарте, и вне всех возможных преобразований». Пространства настоящей жизни (деревня, лес, сад, батарея Тушина, полк князя Андрея) резко отграничены от «ненастоящих» топосов: московского и петербургского света, театра (в том числе и «театра войны»), военных советов и штабов. Самые важные события совершаются в сакральном пространстве – «тёмной избе», освещённой свечой перед образами: принятие Кутузовым решения об оставлении Москвы, видение князя Андрея в Мытищах, получение Кутузовым известия об уходе французов из Москвы. В «Эпилоге» описанию вещего сна Николеньки сопутствуют те же детали – «лампадка» (J) и портреты отца (образа).
Уникальность этой пространственной концепции состоит в том, что она связана с психологической, так как, по Толстому, пространство Mipa, настоящей жизни формируется самим человеком, т. е. исходящим от него миром (любовью и согласием). Так, говоря о взаимной симпатии людей, Н.О. Лосский ссылается не только на «пронизывающие» человека электромагнитные и тепловые излучения окружающих, но и на «расширение сферы любви» и приводит примеры из «Войны и мира».
Тема взаимоотношений личности и общества, мира и человека, проблема целесообразности общественной деятельности во всех её видах является главной в ЭПИЛОГЕ. Государственная деятельность, как и антигосударственная, не может сделать человека «счастливее и лучше», как говорил князь Андрей; она втягивает человека в ненастоящие пространства и ненастоящую жизнь (вот почему Толстой не на стороне Пьера в споре о тайном обществе). Зачем бороться с правительством, если от него не зависят ни счастье, ни несчастье? Пьер, участвуя в оппозиции и борьбе, утрачивает гармонию с миром (лысогорский семейный и крестьянский мир, этот идеальный образ будущего человечества, является миром Николая Ростова и княжны Марьи, а не Пьера). Пьер хочет противодействовать правительству, чтобы оно не привело страну к новой пугачёвщине, но Николаю эта опасность представляется надуманной, а деятельность Пьера бесполезной: какая может быть пугачёвщина, если крестьяне во всей округе только и мечтают о том, чтобы жить в имении Ростова! Каратаев тоже не одобрил бы Пьера. В этом часто видят «смысловую парадоксальность» (В.Е. Хализев) финала «Войны и мира». Однако для Толстого здесь нет никакого парадокса, вернее, финал совершенно не противоречит общей глубоко религиозной основе книги: тот, кто хочет улучшить окружающую жизнь, а не свою душу, начинает борьбу, губящую душу, ибо «Царство Божие внутрь вас есть» (Лк. 17: 21).
С разговоров о «вечном мире» между государствами (сцена в салоне Шерер с аббатом Морио, прототипом которого был аббат Пьяттоли, автор одного из получивших распространение в те годы проектов «вечного мира») книга начинается, спором о вечном гражданском мире первая часть «Эпилога» заканчивается. Ответ дан во сне Николеньки о том, что все распри в мире будут побеждены любовью, недаром противостояние Пьера «в каске» и Николая «в грозной позе» снимается явлением олицетворяющего любовь Отца.
Знаменательно, что Бог-Отец, не имеющий «образа и формы», и отец – князь Андрей сливаются в восприятии Николеньки. Местоимение «ом», относящееся к князю Андрею, дано в последней фразе этого эпизода курсивом – прием, в русской литературе использующийся для обозначения героя, соотносимого с Богом (ср. «он» и даже «Он» в первых стихах «Медного Всадника» у Пушкина). Сон и пробуждение Николеньки написаны в стиле Гефсиманского моления, обещания выполнить завет отца (и Отца) о внесении в мир любви, а битва во сне – своеобразный Армагеддон, последняя битва добра и зла, где война-вражда будет побеждена миром-любовью. Пророческий характер эпизода подчёркивается мотивом пера (перья на столе Ростова, «каски» в издании Плутарха – шлемы римлян украшались перьями), так как перо – древний символ пророчества, божьего знамения.
В ЖАНРОВОМ ОТНОШЕНИИ «Война и мир» представляет собой новый проект вечного мира, написанный Толстым в противовес всем уже существовавшим политическим проектам. Наполеон в нападении на Россию пытался реализовать свой проект «мира», основанный на военной доктрине, о нём и упоминает в «Войне и мире» Толстой как об одном из примеров наполеоновского «кесарева безумия». По Толстому, война может быть побеждена только миром (ненасилием) и «всем миром» (народом), а вовсе не договорами правительств, идеями «политического равновесия» и т. п.
Жанр «Войны и мира» может быть определён и как гигантская апория (парадокс) о войне и мире. Недаром Толстой помещает в книгу известную апорию античного философа Зенона Элейского об Ахиллесе и черепахе. Парадоксальны поступки Каратаева, изготавливающего рубаху своему конвоиру, и притча Каратаева о купце, простившем разбойника, парадоксально поведение Кутузова и Андрея Болконского в 1812 г. Книга насыщена и более частными парадоксами: о Пьере говорится, что он выздоровел, несмотря на то что доктора лечили его; книгопечатание названо «орудием невежества» и т. д. Парадоксальны даже заявления Толстого во время писания «Войны и мира»: «Я напишу такое бородинское сражение, которого ещё не было», или – «Я боялся, что необходимость описывать значительных лиц 12-го года заставит меня руководиться историческими документами, а не истиной». «Мой взгляд на историю не случайный парадокс, который на минуту занял меня, – пишет Толстой о работе над “Войной и миром” историку М.П. Погодину. – Мысли эти – плод всей умственной работы моей жизни и составляют нераздельную часть того миросозерцания, которое Бог один знает, какими трудами и страданиями выработалось во мне и дало мне совершенное спокойствие и счастье. А вместе с тем я знаю и знал, что в моей книге будут хвалить чувствительную сцену барышни, насмешку над Сперанским и т. п. дребедень, которая им по силам, а главное-то никто не заметит».
«Главным» было для Толстого его учение о ненасилии как той благодати, которую, по предсказанию апостола Андрея, должна возвестить миру Россия. Только распространение «религии практической», «практика» которой есть любовь, сможет объединить людей и избавить человечество от войн. И конечно, для Толстого это учение – не парадокс, а единственное средство спасения человечества. Философские же и исторические парадоксы должны подготовить читателя к восприятию парадоксов нравственных. Совершенно не случайна отсылка в «Эпилоге» к плутарховским жизнеописаниям, в частности, к истории Муция Сцеволы, который достиг цели – освобождения родного города, – когда перестал действовать как убийца, а принёс себя в жертву. Ведь и учение Христа о непротивлении представлялось Его современникам неисполнимым.
Может показаться, что Толстой, уделяя место описанию «дубины народной войны», видит идеал именно в ожесточённой борьбе. Но в том-то и дело, что он показывает «дубину» как явление вполне бессознательное, в масштабах всей нации инстинктивное, такое же, как оставление жителями Москвы при подходе французов. Ведь никакой непротивленец не будет удерживаться, чтоб не моргнуть глазом, в который попала соринка. По Толстому, «только одна бессознательная деятельность приносит плоды».
Но чувство оскорбления так же естественно сменяется чувством жалости, и потому символом единения людей выглядит тот костёр, около которого русские солдаты накормили обессилевших Рамбаля и Мореля и радостно слушали песню о Генрихе IV. То, что этому королю приписывают один из проектов вечного мира, не могло быть известно ни русским солдатам, ни, наверное, французскому денщику, ни звёздам, которые тоже радостно перемигивались, одобряя человеческое примирение. Но Толстой и серьёзно, и чуть иронически («Виварика!» – восторженно вопит русский солдат, пытаясь спеть о Генрихе) намекает таким образом на эту главную мечту человечества.
В «Войне и мире» можно выделить и такую жанровую структуру, как философский диалог, особенно диалоги о войне и мире. Это диалоги Пьера и князя Андрея, сестры и брата Болконских.
Слова княжны Марьи «Прощай, Андрей!» при расставании с братом, уезжающим на войну, звучат как императив глагола «прощать». Но сначала для Болконского не может быть мира с Анатолем, прежде всего потому, что Анатоль сеет зло и не одна Наташа стала его жертвой. Французы тоже должны быть наказаны. «Я не брал бы пленных», – рассуждает князь Андрей. И в то же время эти слова есть не что иное, как бесстрашное доведение до логического конца проклятия войне, которая представляет собой нарушение всех христианских заповедей, о чём и говорит Болконский с Пьером накануне Бородинского сражения. «Война… самое гадкое дело в жизни», поэтому справедливой войны для Толстого не существует. Только Наполеон может думать, что есть какие-то «правила» для того, чтоб убивать людей.
Верный своей религии ненасилия, Толстой и в 1909 г. в докладе, приготовленном для Конгресса мира в Стокгольме, провозгласит: «Истина в том, что человек не может и не должен ни при каких условиях, ни под какими предлогами убивать другого». Если же люди признают такие условия (например, на «справедливой» войне), то почему запрещается убивать безоружного пленного, который из своих укреплений секунду (час, сутки, месяц) назад целился в тебя? Итак, заповедь «не убий» абсолютна. «Добро может быть абсолютным, или оно не есть добро… – таков итог исканий Толстого, таково его завещание русскому сознанию» (В. В. Зеньковский).
Если допустить, что разум человеческий может обусловить божественные заповеди какой-то выдуманной самим человеком справедливостью (политикой, патриотизмом, общественной целесообразностью), то мир превратится в сплошную войну, процесс пожирания слабых сильными. Эта идея как христианская выражена в образе княжны Марьи: «Княжна никогда не думала об этом гордом слове: справедливость. Все сложные законы человечества сосредоточивались для неё в одном простом и ясном законе – в законе любви и самоотвержения, преподанном нам тем, который с любовью страдал за человечество, когда сам он – Бог. Что ей было за дело до справедливости или несправедливости других людей? Ей надо было самой страдать и любить, и это она делала». «Понятие справедливости искусственно и не нужно христианину», – запишет Толстой через много лет б дневнике.
У княжны Марьи есть вера. Другую дорогу избирает в «Эпилоге» Пьер, вознамерившийся установить на земле справедливость общественными усилиями. Особый, третий путь автор поручает Андрею Болконскому, через которого дерзает проверить и синтезировать и христианскую идею прощения, и буддистское непротивление, и митраическое согласие, и даосский путь смирения, и языческое волхвование, к тому же применив их не в межличностных или гражданских отношениях, а во время иностранной агрессии. Разумеется, Толстой не называет в «Войне и мире» эти религии и философские системы, потому что их мистическая, обрядовая сторона разделяет людей, а прибегает к глубокой и разветвлённой символике, создавая свое новое экуменическое учение о том, как жить без вражды и без войн. Эти мотивы скрыты не потому, что писатель хотел утаить свое учение от непосвященных (он, напротив, неустанно его пропагандировал), а потому, что жанр любой священной книги предполагает несколько уровней понимания в зависимости от читательской компетентности и глубины веры.
Толстой не называл своё произведение ни историческим романом, ни эпопеей, и даже соединение этих жанров современными литературоведами в некий гибрид «роман-эпопея» не решает проблемы. Прежде всего потому, что это жанры художественной литературы, «книга» же Толстого, как он сам определил «Войну и мир» (иногда он называл ее ещё и «писанием»), ближе всего к такому «жанру», как Библия. (Слово «Библия» и означает по-гречески «книги».) Священное Писание – не роман и не эпопея, оно содержит и полемику, и проповедь, и притчу, и апорию, и историю, и миф, и легенду, и житие, и пророчество, и молитву, и откровение. Эти жанровые модели, переплетаясь в «писании» Толстого, создают его жанровую уникальность. В «Войне и мире» нашлось место и полемике, и историографии, и философскому трактату, и плану сражения, нарисованному рукой автора. Каждая часть, как в Библии, имеет, по словам автора, «независимый интерес». Создававшаяся как откровение и художественная проповедь его «практической религии», «Война и мир» наряду с «Капитанской дочкой» Пушкина остается уникальным примером русской художественной историософии даже для тех, кто не согласен с нравственной системой автора. «Толстой, который написал “Войну и мир”, несомненно, хотел написать не историю наполеоновских походов, а выразить собственные (вполне современные) идеи о войне и мире», – писал Л. Фейхтвангер.
Толстой работал над «Войной и миром» с 1863 по 1869 г. В журнале «Русский вестник» в 1865–1866 гг. публиковалось начало романа под названием «Тысяча восемьсот пятый год», впоследствии значительно переработанное. Печатание отдельного издания «Войны и мира» было завершено в 1869 г. Это были годы внешне очень благополучной яснополянской жизни: Толстой приобрел прочную писательскую славу. В 1862 г. он женился на горячо любимой С.А. Берс (1844–1919), радовался подраставшим детям. Но Толстой всегда ставил перед собой героическую задачу исполнить то, к чему стремился князь Андрей: «Мало того, что я знаю всё то, что есть во мне, надо, чтоб и все знали это… Надо, чтобы все знали меня, чтобы не для одного меня шла моя жизнь, чтобы не жили они так… независимо от моей жизни, чтобы на всех она отражалась и чтобы все они жили со мною вместе!»
Сверхчеловеческое напряжение этих лет сказалось в ситуации знаменитого «арзамасского ужаса» (1869), отражённого позже в незаконченной повести «Записки сумасшедшего»– (начата в 1884 г.), и в ясно осознанной ответственности за человечество перед высшими силами: «Весь мир погибнет, если я остановлюсь».
Необычность книги Толстого была осознана, хотя и не в полной мере, в некоторых критических отзывах современников. Так, Н.С. Лесков назвал автора «Войны и мира» «спиритуалистом», имея в виду прежде всего сцены смерти князя Андрея, а закончил свой разбор многозначительными словами о том, что эта книга «даёт весьма много для того, чтобы… по бывшему разумевать бываемое и даже видеть в зерцале гадания грядущее», хотя и не проводил прямых сопоставлений с сакральными текстами.
П.В. Анненков напомнил в связи с «Войной и миром» о многочисленных воплощениях индуистского Вишну, что само по себе весьма симптоматично, но попенял (как и многие другие критики впоследствии) на недопустимую в историческом произведении модернизацию образа Андрея Болконского, который у автора наделён «сверхъестественной проницательностью», «даром предвидения». Однако никакой модернизации в «Войне и мире» нет, потому-то князь Андрей и наделён «даром предвидения» как герой не исторического романа, а уникальной книги, в которой есть свои апостолы и свои пророчества.
Ф.М. Достоевский отметил особое значение «Войны и мира» как национальной идеи не в печатном отзыве, а в письме к Н.Н. Страхову, сочувственно откликаясь на его статью о произведении Толстого и порицая тех, кто увидел в концепции ненасилия одну лишь покорность и апатию: «Национальная, русская мысль заявлена почти обнажённо. И вот этого-то и не поняли и перетолковали в фатализм!»
Позже К.Н. Леонтьев в эмоциональном критическом этюде найдёт изумительный образ для характеристики жанра «Войны и мира», и опять-таки в восточном ключе: «Именно – слон! Или, если хотите, еще чудовищнее: это ископаемый сиватериум во плоти, – сиватериум, которого огромные черепа хранятся в Индии, в храмах бога Сивы. И хобот, и громадность, и клыки, и сверх клыков ещё рога, словом, вопреки всем зоологическим приличиям… Или ещё можно уподобить “Войну и мир” индийскому же идолу: три головы или четыре лица и шесть рук! И размеры огромные, и драгоценный материал, и глаза из рубинов и бриллиантов, не только подо лбом, но и на лбу!!»
В современной Толстому критике «Война и мир», впрочем, не нашла адекватного прочтения. Появлялись и крайне резкие отзывы. С. Навалихин (псевдоним В.В. Берви) умудрился назвать князя Андрея «цивилизованным бушменом», «полудиким человеком», а всю книгу «рядом возмутительно грязных сцен» (журнал «Дело», 1868, № 6). Правда, герою Толстого досталось тут не за «дикарские» разговоры с дубом, волнами и облаками, а за недостаточную, как показалось представителям народнической критики, активность в борьбе с крепостным правом, но выбор эпитетов очень показателен. А демократический журнал «Искра» даже напечатал серию карикатур на автора и героев «Войны и мира», где высмеивались разговоры с дубом и вообще непонятая современниками толстовская концепция взаимосвязей психологических и природных явлений, казавшаяся им дикарством и юродством.
Зато уже в XX в. Д.Л. Андреев назвал в своей «Розе Мира» Андрея Болконского «даймоном» и «метапрообразом», встреча с которым «так же достижима и абсолютно реальна, как и встреча с великим человеческим духом, которым был Лев Толстой». Уж не потому ли Толстой всегда с некоторым беспокойством и раздражением реагировал на попытки установить прототип Болконского, отвечая на подобные вопросы: «Он ни с кого не списан».
Историософская (а не историческая) основа произведений Толстого вообще была осознана только в XX в., и то немногими мыслителями и художниками. Один из самых проницательных отзывов находим в статье О.Э. Мандельштама «Чаадаев»: «Есть давнишняя традиционно-русская мечта о прекращении истории в западном значении слова, как её понимал Чаадаев. Это – мечта о всеобщем духовном разоружении, после которого наступит некоторое состояние, именуемое “миром”. Мечта о духовном разоружении так завладела нашим домашним кругозором, что рядовой русский интеллигент иначе не представляет себе конечной цели прогресса, как в виде этого неисторического “мира”. Ещё недавно сам Толстой обращался к человечеству с призывом прекратить лживую и ненужную комедию истории и начать “просто” жить».
После «Войны и мира» Толстой связывает эти искания с замыслом романа об эпохе Петра I, но вскоре работа была оставлена из-за невозможности для писателя, как считают исследователи, оправдать деяния Петра. Зато Толстой продолжает стремиться к синтезу религиозно-нравственных достижений человечества, причем уже не в форме огромного художественно-философского сочинения, которым является «Война и мир», а в форме собранных и/или сочинённых небольших рассказов, притч, сказок, былин, нравоучительных историй, доступных народу и, главное, ребёнку из народа.
Это была работа над знаменитой «Азбукой», предназначавшейся для обучения письму, чтению на русском и церковнославянском языках, счёту и даже начаткам природоведения. Толстой, например, довольно серьёзно занимался физикой, знал об учении Фарадея о силовых линиях магнитного поля, о явлении давления света. Но главное учительное значение «Азбуки», конечно, нравственное, представляющее, так сказать, «экуменическую» мудрость. Здесь переработанная Толстым персидская, индийская или арабская сказка соседствует с басней, взятой у Эзопа, античной легендой, ветхо– и новозаветным сюжетом, а то и внешне непритязательной бытовой историей, напоминающей, однако, буддийский коан. Рассказ «Кавказский пленник» и переработка притчи Каратаева из «Войны и мира» под названием «Бог правду видит, да не скоро скажет» тоже вошли в «Азбуку». Оба рассказа основаны на мотиве плена и заточения, распространённом в литературе, наверное, ещё со времен Гомера, В творчестве Толстого этот мотив встречается в огромном количестве произведений, вплоть до сказки «Три медведя». Может быть, именно такое превращение вчерашних врагов в друзей или, по крайней мере, тесное общение врагов в небоевой, необычной обстановке интересовало Толстого с психологической точки зрения.
Мотив плена связан у Толстого с идеей «просветления» и победой ненасилия. Толстой даже в маленьком «Кавказском пленнике» указывает нам достойное двух мировых религий разрешение мусульманско-христианской коллизии террористов и заложников. Интересно, что имя девочки, спасшей Жилина, – Дина – по-арабски значит «вера, религия».
Своеобразным полигоном для выработки педагогической концепции Толстого была организованная им в Ясной Поляне школа для крестьянских детей, опыт которой отражён в его педагогических статьях. Толстой много сил отдавал народному образованию. В конце 50-х – начале 60-х гг. он не только сам учительствовал в яснополянской школе, но и издавал (в течение 1862 г.) педагогический журнал «Ясная Поляна». Толстовская педагогика ненасилия стала важным шагом в развитии мировой педагогической мысли.
Возможно, что педагогическая мысль шла рядом с «мыслью семейной», которая, как известно, была у Толстого любимой в романе «Анна Каренина». Первые упоминания об этом замысле относятся к 1870 г., интенсивная работа началась в 1873, закончен роман в 1877 г. и напечатан в «Русском вестнике», исключая последнюю часть. Тема семьи в романах Толстого порой имеет некоторую дидактичную и даже автодидактичную сторону в хорошем смысле слова. Иногда это образ должных семейных отношений, которые могли бы установиться с В.В. Арсеньевой («Семейное счастье»); иногда поиск семейной гармонии в первые годы после женитьбы на С.А. Берс (Лиза и Андрей Болконские, Наташа и Пьер Безуховы), иногда наставительные интонации (для себя и жены) в описании выработки взаимопонимания между Левиным и Кити. Проза 70-х гг. вообще отмечена большой долей автобиографизма («Анна Каренина», некоторые рассказы из «Азбуки», незаконченная автобиография «Моя жизнь»).
В «Анне Карениной» – «именно романе», как определил автор новое произведение, – для него важна была традиция Пушкина: чтение Пушкина дало непосредственный импульс к развитию замысла, а также множества мотивов, например, «запретного плода», дома, бунта, метели как метафоры страсти. Но главное – «мысли и раздумья Пушкина и Толстого поразительно близки: идеал Семьи и Дома мыслится ими не как “светский” и “петербургский”, а национальный и даже простонародный» (Лотман Ю.М.). С другой стороны, возможно, что усиленное изучение быта и нравов петровской эпохи спровоцировало интерес к этому аспекту, но уже в современности.
«Анна Каренина», отразившая эпоху во многом переломную, в чём-то напоминает «Домострой», идеалы которого были подорваны петровским переустройством и реформаторством, в том числе и в сфере семейно-бытовых отношений. Конечно, Толстой не пропагандирует «домостроевские» порядки, но в «Анне Карениной», как и в «Домострое», центральное место занимает устроение дома в особом, широком смысле – семьи, даже цепи поколений. Взаимоотношения супругов, воспитание детей, противопоставление «правильных» семей «неправильным», даже скотный двор и хозяйственные заботы (Левин), выплата долгов (Вронский), заботы о свадьбе и приданом (Щербацкие), заготовка продуктов (Кити с ее ледником и вареньем), образ ключника (Агафья Михайловна), «скомрахи» и «ловы» (театр и охота) – всему есть место на страницах и «Домостроя» как древнерусского практического руководства по этике семьи, и «Анны Карениной». (Чтением «Домостроя» Толстой был увлечён в период работы над своим романом.)
Мотив строительства и обустройства дома в буквальном смысле так часто выходит на первый план (городской дом, имение в деревне, хозяйственные или благотворительные постройки, комнаты в гостинице, вагон поезда, сарай как пристанище для ночлега на охоте), что становится символическим. Постройки, убранство комнат и проблемы ремонта отражают и взаимоотношения в семье. Анна, например, живёт в имении Вронского, как гостья, не вмешиваясь в хлопоты по налаживанию уюта, управлению хозяйством. Если она и участвует в разговоре о сельскохозяйственных машинах, то только для того, чтобы пококетничать. Строительство благотворительной больницы – тоже кокетство Вронского. В конце романа – многозначительная метафора: Вронский называет себя «развалиной». Развал загородного дома Стивы, как и развал его семьи, не задрапируют никакие гардины и обивка мебели новой материей. Лучше обстоят дела в смысле домашнего уюта у Левина, но эта гармония не распространяется на имение, хозяйственные постройки и отношения с мужиками. Недаром размышления Левина о народе и разговоры о патриотизме даны на фоне несколько тревожной (как бы пчелы не ужалили!) трапезы на пчельнике. Пчёлы (любимая толстовская метафора народа, встречающаяся и в «Войне и мире») заставляли Левина «сжиматься».
Хозяйственный мужик, у которого по дороге к Свияжскому останавливается Левин, казалось бы, преуспел более всех. Он два раза «построился» после пожаров и «горд своим благосостоянием, горд своими сыновьями, племянником, невестками, лошадьми, коровами». Однако гармония людей, лошадей и коров устроилась всё же больше по-лошадиному, чем по-человечески. Восторг Левина всё-таки не. восторг автора, и недаром Долли замечает то, что ускользнуло от Левина: понравившаяся Левину «баба в калошках» не хочет иметь детей, как и Анна.
Иногда в романе находят иерархию: на «низшей» ступени неправильная семья Вронского и Анны, затем семья хозяйственного мужика, чей дом символично находится «на половине дороги», на «высшей» же ступени – семья Левина и Кити. Порой в противопоставлении Долли и Анны видят альтернативу «долг или страсть» и намерение Толстого уравновесить долг и страсть в «правильной» Кити. Однако Толстой, скорее всего намеренно, не показывает, как зародилась любовь Левина и Кити, хотя весьма подробно описывает новое объяснение Кити с отвергнутым прежде Левиным, хлопоты о приданом и свадьбе. Хозяйственно-заготовительный мотив сопровождает даже сцену объяснения: обсуждается охота на медведя, Кити делает намёки Левину, «стараясь поймать вилкой непокорный, отскальзывающий гриб» (курсив наш. – Е.П). Позже несостоявшаяся пара (Варенька и Кознышев) тоже пытается объясниться в любви, охотясь на грибы; Кити самодовольно резюмирует: «Не берет». «Берут», как известно, не только грибы, «берут» в мужья, в жены; в мифопоэтической традиции известна эротическая символика грибов.
По одним только произведениям Толстого можно построить целую типологию объяснений в любви. Однако поэзии любви, как это ни парадоксально, в «Анне Карениной» нет, в отличие от «Войны и мира», где преобладает, по словам автора, мысль не семейная, а народная, может быть, автоматически возвышающая и любовную коллизию. Что делают герои «Войны и мира» в момент, от которого зависит счастье всей жизни? Князь Андрей распахивает окно, чтобы слиться с небом. Пьер чувствует, что его душат слезы. Наташа Ростова рыдает от счастья. Николай Ростов и княжна Марья возносят молитву. А Кити… закусывает соленым грибком. Правда, другая героиня, сама Анна, осознаёт начало особых отношений с Вронским под зловещее и по-своему торжественное завывание метели. Но альтернатива получается пугающая: либо гибельная вьюга, либо заготовка грибов и женихов впрок. Уже после свадьбы и рождения ребенка Кити несколько экзальтированно заклинает своего новорожденного быть таким, как его отец, но, в сущности, и в этом проявляется какая-то рассудочность. Брак с Левиным для Кити скорее брак по рассудку, и получается, что и Кити с её «правдивыми глазами», и Варенька с её «большой головой» представляют собой иллюстрацию мысли, высказанной в гостиной лживой Бетси: нужно сначала «ошибиться», а потом «поправиться». Не случайно в финале Левин, философствующий на фоне грозы (ключевого концепта в адюльтерной теме и теме Божьего гнева), уже не может поделиться своей тоской с домовитой Кити. Она в ироническом соответствии с семантикой своего имени («чистая» – греч.) озабочена лишь новым умывальником. Эту Катерину гроза, разумеется, не пугает.
Романы Анны и Левина лишены романтики, но исполнены первый – бесовства, а второй – скуки. И Толстой заранее эту скуку и однообразие планирует в знаменитом зачине, заявляя, что все счастливые семьи похожи друг на друга. Хрестоматийно известное описание кабинета Левина потому так и подробно, что это уютный, обжитой, важный для Левина домашний мирок. Неслучайно и скотный двор находится в имении Левина совсем рядом с домом. Толстой даже как бы одобряет хозяйственность своего героя, его упоённое созерцание породистой Павы, но этим подчеркивается и масштаб персонажа. В «Войне и мире» ничего подобного не сообщалось ни о Пьере, ни о князе Андрее; подробно описана таинственная для Пьера и читателя масонская ложа или обед у Сперанского, но не интерьер кабинета, меню Безухова или режим дня Болконского. Толстой сообщает о Левине, что «темнота покрывала для него всё», что «единственною руководительною нитью в этой темноте было его дело, и он из последних сил ухватился и держался за него». Способ спасения от «темноты» для Левина – устройство дома для себя, для Кити, для Павы и быка Беркута, налаживание хозяйства с мужиками. Мы бы всему этому сочувствовали, если бы не знали, что у Толстого есть и другие герои, для которых такой способ спасения был именно «темнотой», – князь Андрей и Пьер.
Современная Толстому и более поздняя критика романа часто исходила из того, что Левин, фамилия которого образована от имени автора, – автобиографический и автопсихологический герой, чья семья назидательно противопоставлена несчастной Анне. Раздосадованный переслащённым, как ему казалось, благополучием четы Левиных, Достоевский продолжает мысли Левина таким образом: «Кити весела и с аппетитом сегодня кушала… Какое мне дело, что там в другом полушарии происходит…»
М.Е. Салтыков-Щедрин собирался писать пародию на роман Толстого под названием «Благонамеренная повесть» (первоначальное название «Влюбленный бык»). В народнической критике (П.Н. Ткачёв) иронически предполагалось, что роман закончится «изображением сельскохозяйственных вожделений Левина к Паве, борющихся в его душе с супружеской любовью» или «погибелью Анны Карениной от ревности к лошади Вронского» («Дело», 1875, № 5). Известна эпиграмма Н.А. Некрасова: «Толстой, ты доказал с терпеньем и талантом, / Что женщине не следует “гулять” / Ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом, / Когда она жена и мать».
Критика эта имела бы смысл, если бы Толстой назидательно противопоставил чету Левиных всем остальным семьям и любовникам в романе. Однако он не сделал этого. Левин в полном соответствии со своим именем (Константин – «постоянный») в конце романа чувствует, что он «так же» будет сердиться, «так же» спорить, «так же» не понимать других, «так же» «не понимать разумом», зачем он молится… Тоска Левина сродни тоске Ольги в романе И.А. Гончарова «Обломов», казалось бы, такой счастливой в браке со Штольцем, но начинающей с ужасом чувствовать какое-то прекращение духовного движения.
«Анна Каренина», как и романы Тургенева, написана о «трагическом значении любви». Поэтому знаменитый эпиграф «Мне отмщение, и Аз воздам», имеющий два источника (слова апостола Павла в Евангелии: Рим.; 12: 19 – и слова Моисея в главе 32 Второзакония о том, что Иегова скажет людям: «У Меня отмщение и воздаяние»), не может быть отнесён только к Анне, слишком поздно осознавшей, что страсть нельзя ставить превыше всего. Близок к самоубийству и Левин, тоже чуть было не погубивший свою жизнь, хотя не разрушал, а создавал семью и надеялся быть счастливым среди своих сушилок, косилок и умывальников. В ветхозаветном контексте отмщение настигнет тех, кто «приносили жертвы бесам, а не Богу», т. е. служили своим страстям (Анна) или суете (Левин). В Новом Завете Павел учит: «Никому не воздавайте злом за зло… но дайте место гневу Божию».
Однако Толстой показывает, что гнев Божий, наказав Анну, не настигает полурастительные существа вроде Стивы, Бетси, Тушкевича, Кити – с их любовниками и любовницами, балами, театрами или соленьями и вареньями. «Лживые» или «правдивые», эти существа не могут понять, что великая любовь может быть лишь трагической. В тургеневском романе «Отцы и дети» Базаров и Павел Петрович трагически одиноки рядом со старичками Базаровыми, Николаем Петровичем, Аркадием и Фенечкой с её «кружовником»… «Страдание и боль всегда обязательны для широкого сознания и глубокого сердца», – говорит и Раскольников у Достоевского. Даже в «Мастере и Маргарите» М.А. Булгакова наказан Пилат, но не Кайфа.
Создается впечатление, что эпиграф «Анны Карениной», смысловой акцент в котором падает на слова «Мне» и «Аз», указывает ещё и на то, что не имелось в виду ни Иеговой, ни Павлом, а именно: великая душа и глубокое сердце – дар Божий, но этот-то дар и заставляет страдать. Это тем более вероятно, что, по мнению многих толстоведов, библейские слова, послужившие эпиграфом, рассматривались Толстым через призму увлекшей его в то время философии А. Шопенгауэра.
Тема строительства дома, тема хозяина и работника превращается в тему Хозяина, Его Дома и человека как Работника в этом Доме, о чем сразу предупреждает и эпиграф. В романе Толстого, подтрунивавшего когда-то в редакции «Современника» над тургеневской склонностью к трагическому мироощущению, теперь особо, по-толстовски, преломляется та же невеселая антитеза тургеневских повестей и романов, которую столь проницательно определила М.И. Цветаева: «Полнота страдания и пустота счастья».
Повторяющиеся ситуации (две смерти Анны, совпадение имен Каренина и Вронского, игра Сережи в железную дорогу, погубленная Вронским Фру-Фру, метафора скачек как любовного преследования, триады персонажей, в том числе три сестры Щербацкие и три брата – Левины и Кознышев и т. д.) – тоже архетипическая основа романа. Последняя, восьмая часть, в которой высказано отрицательное отношение Толстого к шумихе вокруг славянского вопроса и добровольцев, отправляющихся в Сербию, наполнена самой животрепещущей современностью и не печаталась в «Русском вестнике» вследствие расхождения автора во взглядах с редактором М.Н. Катковым. Верный своей религии ненасилия, Толстой показывает, что политический ажиотаж выгоден только правительству, общественным деятелям, газетам и т. д. Недаром проповедующий военную помощь Сербии Кознышев, говоря о спасении православных братьев, спасает утонувшую в чашке и «беспомощно двигавшую ножками» пчелу, продолжая, однако, с аппетитом поедать отнятый у пчёл мёд.
С Пушкина «Анна Каренина» началась, его же мыслью и закончилась. «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений», как сказано в «Капитанской дочке». И Достоевский, не приняв восьмой части, в своем отзыве подчеркнул пушкинскую традицию в «Анне Карениной», отозвавшись в целом о романе очень высоко и пояснив знаменитый эпиграф в том смысле, что «зло таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты… Человек же пока не может браться решать ничего с гордостью своей непогрешности, не пришли ещё времена и сроки».
«Он создал себе философскую систему, – мистическую, детскую и дерзкую в одно и то же время, и она чёрт знает как испортила его второй роман, написанный после «Войны и мира», в котором тоже есть вещи, совершенно из ряда вон выходящие», – писал И.С.Тургенев Флоберу Недовольство Тургенева «философской системой» говорит о том, что «истинно роман» в глазах Толстого отличался от европейского романа тургеневско-флоберовского типа. «Мы, русские, вообще не умеем писать романов в том смысле, в котором понимают этот род сочинений в Европе», – считал Толстой. Поиски «зелёной палочки», которая должна открыть путь к человеческому миру, объединению, продолжались и в «Анне Карениной», перейдя после нее в новую фазу: выработка путей к единению. То, что Тургенев называл «мистической» и «детской» философской системой, впервые предстаёт не в художественной, а в религиозно-философской форме.
Достигнув славы, богатства, расцвета творческих сил, став счастливым семьянином, т. е. находясь в апогее «английского счастья», как называет Толстой благополучие, о котором Анна Каренина читает в английском романе, писатель начинает работу над «Исповедью» (1879–1882). «Проходя через адские муки сомнения и сеть мирских соблазнов и искушений» (Т.П. Григорьева), он ищет выход «из нравственного тупика современности». Предшественниками Толстого в этом жанре называют блаженного Августина и Ж.-Ж.Руссо, однако пафос Толстого здесь ближе, пожалуй, Екклезиасту. Начинается крестный путь Толстого, выступившего в тоталитарной стране против господствующей идеологии, господствующей церкви, против всех форм насилия (включая и революционеров), против официального фарисейства и против безбожия любых «бесов» и «буревестников».
Почти одновременно с «Исповедью» Толстой начинает огромную работу над «Исследованием догматического богословия» (1879), а затем «Соединением и переводом четырех Евангелий» (1880–1881). В 1884 г. закончена статья «В чём моя вера?», в 1888-м – философский трактат «О жизни», в 1893-м – «Религия и нравственность», в 1894-м – «Царство Божие внутри вас», в 1897-м – «Христианское учение», в 1902-м – «Что такое религия и в чем сущность её?», в 1907-м – «Не убий никого», в 1908-м – «Закон насилия и закон любви». И это далеко не полный перечень религиозно-философских и экзегетических трудов Толстого.
Несмотря на то, что высшее филологическое образование Толстого было незаконченным, он не был дилетантом в переводах и толковании древних текстов. Он опирался на свой огромный опыт изучения языков, особенно древних, знал древнегреческий и древнееврейский, привлёк к работе знакомого раввина и филологов-классиков. А главное – у Толстого был не только филологически ориентированный, как принято говорить, но и религиозно ориентированный взгляд. Отвергая не только церковную обрядность и догматику, но и сакральность «известного числа стихов и букв» Нового Завета, Толстой считал учение Христа «учением, дающим смысл жизни», а вопрос о том, «Бог или не Бог Иисус Христос, и то, от кого исшёл Святой Дух», совершенно не важным. Именно это, а не только толстовская резкая и справедливая критика церкви, служит сейчас оправданию знаменитого отлучения Толстого от церкви (1901) и даже приводит к мысли, что «религия Толстого не может быть отождествлена с религией Евангелия» (протоиерей А. Мень). Однако ещё менее может быть отождествлена с идеалами Христа практика тех, кто вместо объявления Толстого величайшим учителем человечества взял на себя грех его осуждения и преследования.
Отвергая божественность и воскресение Христа, Толстой, однако, занимает совершенно исключительное место в мире как проповедник христианских идей, в том числе и в художественной форме. Понимая истинного Бога как единый источник любви, соединив христианскую любовь к врагам с индуистской ахимсой (ненасилием), буддийским смирением, даосским «недеянием», он дал ещё в «Войне и мире» пример того, что «претерпевший до конца спасётся» (Мтф. 24: 13) – эти евангельские слова Толстой повторял особенно часто. Он оказал огромное влияние на мир. Известно, какое значение имело учение Толстого, его «практическая религия» для Индии (освобождение от колониальной зависимости), Дании (противостояние нацизму), США (движение М.Л. Кинга).
Говоря о значении идей Толстого, нельзя не сказать о его подвижнической жизни. Это не только гигантский труд создания художественных произведений, но и огромная помощь всем, кому требовалась его духовная и материальная поддержка. Работа в беднейших районах Москвы во время переписи населения даёт ему материалы для статьи «Так что же нам делать?» (1886). В разные годы писатель участвует в организации помощи голодающим, выступает в защиту духоборов, обличает царя и правительство.
В 1887 г. закончен гневный памфлет «Николай Палкин» о Николае I, в 1900-м – трактат «Рабство нашего времени». В 1908 г. Толстой выступает против смертной казни в статье «Не могу молчать!». В 1909 г. готовит доклад для Конгресса мира в Стокгольме. Последняя статья Толстого (октябрь, 1910) называется «О социализме» и содержит предупреждение, не услышанное Россией. Многие статьи вырастали из ответов на письма обращавшихся к нему за духовной поддержкой и советом из России и других стран. Более чем на полвека пережил Толстого старый вяз, протягивавший свои ветви к крыльцу дома. Это дерево, на котором Висел колокол, называли «деревом бедных», потому что каждый посетитель Ясной Поляны мог поговорить под этим деревом с хозяином Ясной Поляны и получить помощь. Может быть, это самое знаменитое дерево после дуба Авраама или евангельской смоковницы.
В 80-е гг. Толстой создаёт серию так называемых народных рассказов, а скорее притч, служащих как бы художественными иллюстрациями к его религиозно праоствегшой концепции. Пророки, учителя человечества (Будда, Христос, даосские мудрецы) часто прибегали к этому жанру. Наибольшую популярность получил рассказ «Чем люди живы» (1881), восходящий к народной легенде. Квинтэссенцией «Войны и мира» можно считать «Сказку об Иване-дураке…» (1886), рассказывающую о том, как враги напали на «дурацкое» царство, в котором не было ни армии, ни правительства, ни суда, ни денег, зато все трудились и все были счастливы. Завоевать дураков не удалось, потому что дураки не сражались, а просто предложили врагам поселиться в дурацком царстве и перенять образ жизни дураков.
Забавно, что некоторые современные Толстому критики, как, впрочем, и многие литературоведы сегодня, всерьёз пытались указывать на утопичность «дурацкой» идеи, забывая о том, что писатель сказку и назвал сказкой. Подходить с такой точки зрения к «народным рассказам» Толстого – всё равно что упрекать Христа за нелепость притчи о хозяине, заплатившем по динарию и работникам, проработавшим целый день, и работникам, проработавшим один час. Притчеобразная и даже параболическая форма, связанная не только с христианскими, но и с буддистскими, индуистскими религиозными мотивами, широко использовалась Толстым и в дальнейшем для его художественной проповеди («Карма», «Три притчи», «Две различные версии истории улья с лубочной крышкой» – остроумная пародия на историков, «Разрушение ада и восстановление его», «Ассирийский царь Асархадон»).
Эстетику Толстого, как и его этику, часто находят противоречивой. Эстетические принципы Толстого выражены во многих статьях об искусстве, наиболее значительное место среди которых занимает трактат «Что такое искусство?» (1897). Парадоксам художественного творчества посвящены также статья «О Шекспире и о драме» и знаменитое послесловие к рассказу А.П. Чехова «Душечка». Достаточно вспомнить, например, образ театра в «Войне и мире», чтобы понять, что высказанные Толстым парадоксальные идеи, во-первых, вынашивались им ещё в молодости (так, одна из ранних педагогических статей утверждает, что не крестьянским ребятам надо учиться у писателей, а писателям – у крестьянских ребят), а во-вторых, что «народные рассказы» – не прихоть пресыщенного утончённостью литературного аристократа, а глубоко продуманная система, ведь и зарождавшийся русский символизм при всей своей элитарности заявляет в эти годы о своем отрицании рассудочности, рационализма и установке на «соборное искусство», слияние с народом в коллективном переживании творимого мифа.
При всем своём сложном отношении к театру Толстой выступил и как драматург, ещё в 1864 г. написав «Заражённое семейство» – пьесу-пародию на роман «Что делать?» Чернышевского как создателя логического этико-эстетического учения, не принятого Толстым, как и большинством русских писателей и философов. Две из трёх считающихся лучшими пьес Толстого – названная библейским словосочетанием и запрещенная цензурой по настоянию обер-прокурора синода «Власть тьмы» (1887) и «Плоды просвещения» (закончена в 1890) – написаны в 80-е гг., параллельно с работой (незавершённой) над народными пьесами. В 1900 г. написана пьеса «Живой труп», опубликованная согласно воле Толстого только после его смерти, в 1911 г. Остросюжетная драматургия Толстого во многом противостояла новаторским принципам чеховского театра.
Сюжеты пьесы «Живой труп» и задуманного еще в 1888 г. романа «Воскресение» (1889–1899, опубликован впервые в журнале «Нива») основаны на жизненных трагедиях, ставших известными писателю из судебной практики знакомых юристов – Н.В. Давыдова и А.Ф. Кони. Есть также точки соприкосновения между необыкновенной судьбой рано умершего брата Толстого Дмитрия и историей героя романа Дмитрия Нехлюдова. Вместе с тем нельзя, конечно, не видеть в этих сюжетах и агиографических мотивов мировой литературы и вообще реализации метасюжета об искушении и спасении.
«Воскресение» можно по аналогии с пасхальным рассказом назвать «пасхальным романом». Падение, «моральное умирание» Нехлюдова и Катюши, их отречение от самих себя, начавшееся в пасхальный праздник, продолжается до момента узнавания Нехлюдовым Катюши в суде. Мотив отречения и узнавания – важная смысловая составляющая мифологемы Петра, а также пасхального жанра: сравните с рассказами Чехова «Студент», Бунина «Чистый понедельник», классическими образцами зарубежного пасхального рассказа.
Покаяние, обращение и воскресение, а также мотив темницы, «узилища» связаны с мифологемой Петра и пасхальной тематикой. Пройдя не только свою Голгофу, но и преисподнюю (тюрьму, каторгу), т. е. пройдя «по мукам», не после своего воскресения, как Христос, а в процессе воскресения, герои обретают наконец любовь земную (Катюша) и христианскую (Нехлюдов). Упоминание об апостоле Петре (самом строптивом и трудновоспитуемом из всех апостолов) – важная черта пасхального жанра: Нехлюдов читает в Евангелии именно о поучении, «которое дал Христос Петру… чтобы прощать всегда, всех, бесконечное число раз прощать». Толстой, по-видимому, сознательно допускает инверсию евангельского сюжета, показывая, что в официально отмечаемый праздник Пасхи свершается грех, а самостоятельное чтение Нехлюдовым Евангелия без всяких обрядов способствует его очищению. Примечательно, что пасхальные весенние дни, голуби над Катюшей (символ Святого Духа) создают контрастный фон суда человеческого, неправедного, совершающегося 28 апреля (сакральное для Толстого число). Заповедь «Не судите», понимаемая в «Анне Карениной» как запрет злословия, в новом романе расширяется и на юридическую практику. Евангельские зачины и евангельские финалы толстовских романов как бы аккумулированы в «Воскресении», эпиграф которого имеет чисто новозаветный смысл (слова Христа о безусловном прощении, переданные всеми четырьмя евангелистами) в отличие от «Анны Карениной», где слова апостола Павла подсвечены суровостью Ветхого Завета.
Огромное место в романе занимает символика воды – реки, дождя, слёз. Знаменитое сравнение («люди как реки») следует понимать не только как «диалектику души» и психологическую концепцию Толстого, но и в сакральном смысле: в Евангелии «вода, текущая в жизнь вечную» – вера, в даосской философии вода – символ прощения и смирения. «Вода во всех одинакая», – утверждает автор «Воскресения», как бы наломиная о христианском братстве или о буддийском принципе «Это ты» (в другом человеке надо видеть себя). История Катюши и Нехлюдова начинается с символических сирени, лунного света и ледохода на реке, а заканчивается переправой через реку – в новую жизнь – мотив, встречающийся и в «Войне и мире» (князь Андрей уходит в иную жизнь на берегу Волги).
В 80-е и 90-е гг. Толстой создаёт такие шедевры, как «Холстомер» (1885), «Смерть Ивана Ильича» (1886), где причиной гибели героя послужило символическое падение с лестницы, «Крейцерова соната» (1889), «Дьявол» (1890, опубликован после смерти Толстого), «Отец Сергий» (1889–1898, повесть опубликована после смерти писателя, считавшего её незаконченной), «Хозяин и работник» (1895).
В «Смерти Ивана Ильича» решается самый важный не для «хороших», а обычных людей вопрос: есть ли надежда для блудного сына, забывшего про Отца и Его заповеди? Страх смерти преследует героя, пока он считает «хорошей» свою жизнь. Вот, по Толстому, источник смертного ужаса таких людей, как Иван Ильич. Именно осознание того, что жизнь его была «ужасная», потому что бессмысленная, является причиной того, что для Ивана Ильича становится не страшна смерть. Есть, значит, спасение не только для святого, а и для заблудшего, если он покается, хотя бы за час до смерти.
«Смерть Ивана Ильича» приобрела особую популярность в мире в связи с развитием философии экзистенциализма. Особенно много параллелей проводят между «Смертью Ивана Ильича» и философией М. Хайдеггера. Рассказы А.Н. Апухтина «Между жизнью и смертью», Т. Манна «Смерть в Венеции», И. Бунина «Господин из Сан-Франциско» тоже восходят к произведению Толстого.
Повести «Крейцерова соната», «Дьявол», «Отец Сергий» объединяются темой любви, ревности и борьбы со страстями. Толстой предостерегает человечество от абсолютизации и идеализации того, что полной гармонией не является, а является тем большим уродством, чем больше люди отводят этому места в жизни. Современность показала, как он был прав: в восприятии читателей Позднышев (герой «Крейцеровой сонаты») занял место между Отелло и Гумбертом из набоковской «Лолиты».
Рассказ «Хозяин и работник» – трагический итог толстовской художественной экзегезы, наполненной эсхатологическим смыслом. Его метафорический смысл, истолкованный и автором и многочисленными исследователями, казалось бы, ясен: Хозяин – Бог, все люди – его работники, однако нельзя недооценивать и пророческий оттенок рассказа. Особенно его апокалиптическую деталь – чернобыльник (полынь).
Созданные в XX в. произведения Толстого можно объединить мифологемой ухода, хотя она, пусть менее явно, присутствует и в его раннем творчестве. Мотив инициации как перифраз волшебной сказки о поиске невесты и испытаниях героя на этом пути, усиленный особым пасхальным звучанием рассказа «После бала» (1903, напечатан после смерти автора), роднит это произведение с трилогией и «Казаками». Название, соотносимое с временной границей, чертой, может быть истолковано и в сакральном смысле, как покаяние после соблазна и греха. Толстой «символически разыгрывает свой вариант перехода от язычества к христианству» (А.К. Жолковский.), от масленицы к посту и покаянию.
Рассказ построен на контрасте эпизодов бала и «после бала», что подчёркивается антитезой света и тьмы, чёрного и белого, даже Востока и Запада. Особая роль принадлежит музыкальному контрасту, а также излюбленному толстовскому мотиву птицы (пера) как откровения свыше (Варенька даёт герою перо от веера), мотиву волшебного теллурического помощника (кузнец), чуть ли не перекликающегося с гоголевской мистикой ночи перед Рождеством. Действие рассказа происходит в «чистый понедельник» и накануне его, несомненны и другие переклички толстовского рассказа и бунинского «Чистого понедельника», как бы подхватившего прозвучавший в последних произведениях Толстого призыв России к покаянию в преддверии ещё более страшной эпохи.
В высшей степени современно звучит осуждение тоталитаризма и религиозного фанатизма в повести «Хаджи-Мурат» (1904, опубликована после смерти Толстого, в 1912 г.), а повесть «Фальшивый купон» (1904), также напечатанная после смерти автора, – это не услышанное нами предупреждение Толстого о том, к чему приведет Россию нравственный релятивизм.
Своеобразный уход героя рассказа «После бала» Ивана Васильевича, ассирийского царя Асархадона (в одноимённой сказке), старца Фёдора Кузмича (в незаконченной повести 1905 г.), заглавного героя рассказа «Корней Васильев» (1905), просветление и уход (не только на казнь, но и к Богу) революционера Анатолия Светлогуба («Божеское и человеческое», 1905), подобно Нехлюдову нашедшего ответ о смысле жизни в Евангелии, наконец, уход самого Толстого из Ясной Поляны в мир – это виртуальное, а затем и жизненное исполнение великого шага, о котором мечтала ещё любимая героиня Толстого княжна Марья в «Войне и мире»: положить «душу свою за други своя» и, подобно Будде, Христу, святому Франциску, жизнью свидетельствовать о своём учении. Ведя праведную жизнь, каждый может достигнуть просветления и даже стать богом – немаловажен здесь и этот аспект буддийского учения.
«К числу наиболее значительных явлений русской философской мысли XX в.» (Николюкин А.Н.) относится духовное завещание Толстого – философская трилогия («Круг чтения», «На каждый день», «Путь жизни»), работа над которой продолжалась с 1903 г. до смерти Толстого. Задумано же это собрание «мыслей мудрых людей», как назывался первоначальный вариант «Круга чтения», ещё в 80-е гг. Даже отбор и обработка детского чтения для «Азбуки» могли послужить исходной моделью для объединения основных религий и этических учений в свод экуменической мудрости.
Сборники трилогии, выходившие в последние годы жизни Толстого, с большими трудностями проходили через цензуру, а в советское время были просто запрещены, как и другие философско-религиозные труды. До сих пор недоступно для массового читателя публицистическое и философское наследие величайшего русского писателя.
Р. Роллан уподобил Толстого «библейскому Духу Божию».
А.А. Фет писал, что произведения Толстого – «сокровищница художественных откровений и дай Бог, чтобы русское общество доросло до понимания всего там хранящегося». «У меня были времена, когда я чувствовал, что становился проводником воли Божьей, – записывает Толстой в Дневнике 27 марта 1895 г. – …Иногда эта истина проходила через меня, и это были счастливейшие минуты моей жизни».
Литература
Гусев Н.Н., Опульская Л Д. Л.Н. Толстой: материалы к биографии.
Гольденвейзер А.Б. Вблизи Толстого. М., 2002.
Толстой С.М. Древо жизни. Толстой и Толстые. М., 2002.
Жданов В. Любовь в жизни Льва Толстого. М., 1993.
Эйхенбаум Б.М. Лев Толстой. 60-е гг. Л.; М., 1931;
Он же. Лев Толстой. Семидесятые годы. Л., 1974;
Он же. О прозе. Л., 1969.
Опульская Л.Д. Л.Н. Толстой: материалы к биографии с 1886 по-1892 год. М., 1979;
Она же. С 1892 по 1899 год. М., 1998.
Война из-за «Войны и мира». Роман Л.Н. Толстого «Война и мир» в русской критике и литературоведении. СПб., 2002.
Бочаров С.Г. Роман Л.Н. Толстого «Война и мир». М., 1963.
Зайденшпур Э.Е. «Война и мир» Л.Н. Толстого: Создание великой книги. М., 1966.
Камянов В. Поэтический мир эпоса. О романе Л. Толстого «Война и мир». М., 1978.
Мотылёва Т.Л. «Война и мир» за рубежом. М., 1978.
Талаган ГЛ. Л.Н. Толстой. Художественно-этические искания. Л., 1981.
Хализев В.Е., Кормилов С.И. Роман Л.Н. Толстого «Война и мир». М., 1983.
Опульская Л Д. Роман-эпопея Л.Н. Толстого «Война и мир». М., 1978.
Григорьева Т.Г. Новые пророки. СПб., 1996.
Линков В.Я. «Война и мир» Л.Н. Толстого. М., 1998.
Полтавец Е.Ю. «Война и мир» Л.Н. Толстого на уроках литературы. М., 2005.
В.Г. Короленко (1853–1921)
Известный прозаик, публицист и гуманист, общественный деятель, боровшийся против социального зла и несправедливости, Владимир Галактионович Короленко снискал себе славу правдолюбца. Он очень многое сделал для защиты и освобождения невинных людей.
Будущий писатель родился в Житомире в семье уездного судьи. «Мой прадед <…> был полковым писарем, дед – русским чиновником, как и отец. Крепостными душами и землями они, кажется, никогда не владели… Восстановить свои потомственно-дворянские права отец никогда не стремился, и, когда он умер, мы оказались “сыновьями надворного советника”, с правами беспоместного служилого дворянства, без всяких реальных связей с дворянской средой, да, кажется, и с какой бы то ни было другой».
Образ отца писатель хранил в душе как эталон неподкупности, честности, исключительной чуткости и порядочности. Отец «признавал себя ответственным лишь за свою личную деятельность. Едкое чувство вины за общественную неправду ему было совершенно незнакомо. Бог, царь и закон стояли для него на высоте, недоступной для критики». Мать – дочь польского шляхтича. По признанию писателя, мать была «светлым ангелом» семьи, где мирно уживались две веры (католическая и православная) и три языка (украинский, польский и русский). Первая книга, прочитанная будущим прозаиком, была на польском языке.
Мальчик с шести лет учился в различных польских пансионах, в 1863 г. поступает в Житомирскую классическую гимназию, в 1866 г. переходит в Ровенскую реальную гимназию. Он окончил её с серебряной медалью в 1871 г. Благодаря общению с замечательным учителем-словесником В.В. Авдиевым, который своими блестящими уроками привил интерес к художественной литературе, родному языку, гимназисты прониклись любовью к отечественной культуре. В старших классах гимназии юноша серьёзно увлекается русской литературой – Пушкиным, Тургеневым, Некрасовым; возникла мечта стать адвокатом, чтобы защищать обездоленных. В эти годы формируется и демократическое мировоззрение молодого человека, появляется мысль о просвещении народа, что впоследствии приведёт его к народникам. Поступить в университет не было возможности: умер отец, началась нужда. Кроме того, реальная гимназия и не давала права поступления в университет.
В 1871 г. Короленко поступил в Петербургский технологический институт. Острая нужда и хроническое недоедание вынудили юношу искать возможность зарабатывать себе на жизнь. В 1873 г. он подал заявление о выходе из института и стал работать: раскрашивал атласы, делал чертежи, занимался корректорским трудом.
В 1874 г. по совету земляков отправился в Москву, где поступил в Петровскую (ныне Тимирязевскую) академию на лесное отделение. Учеба наладилась, была начислена стипендия, но «юноша с воображением» не мог пройти мимо нелегальной литературы, организации библиотеки запрещённых книг, студенческих политических сходок, массовых протестов. Всё это приводит к отчислению его из академии в 1876 г. и к высылке в Вологодскую губернию «в видах водворения спокойствия между студентами». Но с дороги Короленко вернули и направили под гласный надзор полиции в Кронштадт. Вернуться в Петровскую академию не удалось. В 1877 г. семья переезжает в Петербург, и молодой человек поступает в Горный институт. Однако мечта о получении высшего образования так и осталась не реализованной. Нужда заставляла искать средства к существованию; для будущего же своего «хождения в народ» он овладел ремеслом сапожника.
Для писателя начинается профессиональная трудовая деятельность. В конце 1877 г. он приступил к литературной работе (корректор газеты «Новости»). В 1878 г. появилась первая корреспонденция «Драка у Апраксина двора» за подписью В.К. «Стройная система революционного народничества» уже захватила юношу в это время. Психология народничества сформирует, по сути, личность писателя. Взгляды П.Л. Лаврова были ему особенно близки, поэтому «хождения в народ» были восприняты как дело всей жизни: «Мы были лавристы и смотрели на “хождения в народ" не как на революционную экскурсию с временными пропагандистскими целями, а как на изменение всей жизни».
Первый рассказ «Эпизоды из жизни "искателя” (1879) передают настроения Короленко той поры. Постепенно душа писателя, «принадлежавшая трем национальностям», всё-таки обретает «свою родину; то была <…> русская литература». В центре рассказа – герой-искатель, студент естественного факультета. Он увлекается наукой, политической экономией и поэзией. Юноша оказывается перед выбором – реализовать «мещанское счастье» с любимой девушкой либо идти по пути революционера и бороться за социальное равенство и счастье всего народа. Эта дилемма в духе 1870-х гг., когда народничество обретает новую форму, которую Короленко назовёт «революционерами без народа». Автор призывает к поиску новых путей борьбы.
В 1879 г. по доносу агента III отделения Короленко был арестован и отправлен в ссылку сначала в г. Глазов Вятской губернии, а затем в Сибирь. В течение шести последующих лет он находится в ссылке (в том числе три года в Якутии). Впечатления тех лет отражены в «Письмах из тюрем и ссылок. 1879–1885». Знакомство с жизнью страны привело писателя к выводу, что «сентиментальное народолюбие» совсем не совпадает с реальною жизнью народа. Это повлияло и на смену литературных авторитетов, с этого времени он ориентируется на взгляды и творчество Г.И. Успенского. Литературная манера последнего повлияла на очерк Короленко «Ненастоящий город» (1880), где описаны глазовские впечатления.
Еще будучи в Вышневолоцкой политической тюрьме, в том же 1880 г. Короленко пишет рассказ «Чудная» (в России он был опубликован только спустя четверть века, в 1905 г. под названием «Командировка»). Суровый и непримиримый образ девушки-революционерки – героини рассказа – типичен для той поры. Мужественная революционерка, исповедующая народнические идеи, Морозова наделена высокими духовными качествами. Её романтически возвышенная натура показана в ореоле подвижнической жизни и трагизме ранней смерти. Она до последнего вздоха остается непримирима и нетерпима к вольным или невольным слугам царизма. Один из её товарищей очень точно определяет суть её характера: таких как Морозова можно сломать, а согнуть нельзя – «не гнутся этакие». Важен и заключительный эпизод, в котором предстаёт мать революционерки, беззаветно любящая «свою голубку». Эта простая женщина вместе с образом рассказчика (жандармом Гавриловым) служи! художественной антитезой несгибаемой революционерке. Автор противопоставил ограниченность революционной идеологии и общечеловеческую мораль, здравый смысл крестьянства. Для него была очевидна разрушительность и бесперспективность действий во благо народа, но без народа. Образ рассказчика раскрывает позицию писателя, из его уст звучат укоры в адрес интеллигенции, только разговаривающей с народом.
В Восточной Сибири Короленко занимался крестьянским трудом, шил сапоги, изучал быт местных жителей. В этих суровых условиях проявился и его художественный талант. Его записные книжки и дневники хранят наброски и эскизы будущих произведений. В конце 1884 г. писатель освободился из ссылки и поселился в Нижнем Новгороде, где провёл, по его собственным словам, «самый счастливый период» жизни. Прожитые здесь 11 лет были весьма плодотворны в смысле творческой активности. Впоследствии этот город он признал своей «второй родиной». М. Горький затем назовёт этот период в жизни города «временем Короленко», так как он стал «центральной фигурой культурной жизни города, как магнит притягивал к себе <…> людей». Вокруг него образовался кружок прогрессивно настроенной интеллигенции, где обсуждались вопросы экономической и культурной жизни Нижегородского края. Своей деятельностью он заслуживает не только всеобщую любовь «униженных и оскорблённых», но становится человеком-легендой. Среди крестьян долго жило предание о «Короленко-королевиче», который защитит и накормит обиженных и голодных людей.
Именно в Нижнем Новгороде Короленко сложился как писатель-публицист и снискал себе всероссийскую известность. Он опубликовал свыше ста газетных и журнальных очерков, резко критиковавших бюрократическую систему, он пешком исходил Нижегородский край, становясь свидетелем тяжелейшей жизни крестьян. Результатом этих впечатлений писателя стали его очерки о труде и быте Павловских кустарей «Павловские очерки». В 1887 г. вместе с богомольцами писатель отправляется в Оранский монастырь за чудотворной иконой (очерк «За иконой»). В г. Юрьевце Костромской губернии он наблюдал солнечное затмение (очерк «На затмении»). Путешествие на озеро Светлояр, связанное по легенде с затонувшим градом Китежем, свидетельствует о подвижническом образе жизни писателя. Возвращаясь с озера, он встретился с перевозчиком на реке Ветлуга, который послужил прототипом для образа Тюлина в рассказе «Река играет» (1892). Образ «реки жизни» обобщает воспоминания автора, обрамляющие повествование строками А.Кю Толстого:
Всё это было когда-то, Но только не помню когда…Звучит философская мысль о единстве всего живого на земле. Личные воспоминания автора включены в память народную, хранящую предания о староверах, молоканах. Старый мир со своими идеалами и воззрениями уже отошёл в историю. Это подтверждает «смешица» о песочинцах, которые, спасая железо, привязали его на спины во время переправы, и пошли на дно.
Тюлин вначале предстаёт далеко не идеальным человеком (ленив, равнодушен к делу и т. п.), но в момент опасности, когда река начала уносить плот, он проявляет истинные качества своего характера (великолепное знание речного нрава, физическую сноровку). Так «стихийный, безалаберный, распущенный и вечно страждущий от похмельного недуга перевозчик Тюлин» подтверждает звание «исторически верного типа великорусам (М. Горький).
Образ героя рассказа воплотил в себе исполинские силы народа, дремлющие в нём до поры до времени. Короленко в «Истории своего современника» писал: «Я был человек моего мечтательного поколения и вместе с другими искал того “пупа земли” того рычажка, которым землю можно было повернуть в ином более разумном направлении, и того Микулушку, который готов был исполнить эту важную работу».
Эпоха реакции в России (после марта 1881 г.) повергла русское общество в состояние духовного оцепенения, апатию, тоску и уныние. Короленко стремится противостоять этому упадническому настроению, создавая жизнеутверждающие образы. Он обращается к сибирской тематике, среди каторжан, ссыльных и бродяг – людей из народа – он ищет достойные образцы. Во многом он продолжил традицию Ф.М. Достоевского и предвосхитил прозу о Сахалине А.П. Чехова. В его творчестве наметились две основные темы: жизнь Сибири и украинские впечатления. К ним присоединяется и тема великой русской реки Волги. Образ реки для писателя – «колыбель русского романтизма».
В 1885 г. Короленко женится на старинной знакомой по московским студенческим сходкам, Авдотье Семёновне Ивановской. С этого года в столичных журналах регулярно появляются его рассказы и очерки, созданные в ссылке. В 1886 г. он объединяет их в одно издание «Очерки и рассказы».
В 1880 г. написан рассказ «Временные обитатели “подследственного отделения”» (опубликован в 1881 г.). Впоследствии, в 1910-е гг., рассказ получил другое заглавие – «Яшка». Тюрьма как «скорбная обитель» умалишённых и обиженных показана в рассказе как своеобразная модель мира (России), где Яшка стоит «за Бога, за великого государя, за Христов закон, за святое крещение, за всё отечество и за всех людей», а в финале Тимошка замешает его, но в явно пародийном свете. Бунтарь-одиночка из крестьян неистово обличает угнетателей, в нём заключена душа народа. Герой обречен на гибель, тем не менее он показан как человек, так и «не сдавшийся победителю». Сюжет основан на реальных событиях. Короленко вспоминает об этом эпизоде в «Истории моего современника»: «Представьте, что как грибы после дождика пойдут из почвы Яшки за Яшками, всё такие же недовольные, непримиримые, всеотрицающие и громко постучат в дверь общественной жизни. <…> Тогда жизнь будет за Яшками».
Тюремный жизненный опыт воссоздан и в рассказе «Искушение» (1894, опубликован в 1915). Психологически точно автор изображает душевное состояние заключённого в одиночной камере, когда мысль о побеге становится подлинным искушением. Рассказ проникнут удивительным гуманизмом, автор показывает, что «<…> люди – всюду люди, даже и за стенами военно-каторжной тюрьмы».
Желание выявить истинное гуманистическое начало в русском крестьянине отражено в рассказе «Убивец» (1885), в котором автор продолжает исследовать народный характер. Поиск и стремление к истинной вере (праведных людей) приводит героя к добровольному заточению в остроге. Центральный образ могучего богатыря Фёдора Силина дан в противоположность старику Безрукому, под мнимое обаяние которого попадает герой.
Рассказ «Соколинец» (1885) пронизан ощущением красоты и поэзией жизни Сибири, радости и величия «раздолья и простора, моря, тайги и степи». Своеобразной увертюрой рассказа служит удивительный вид морозной ночи, когда тишина природы и одиночество человека выступают полярными явлениями. Гармония природы вступает в противоборство с внутренней неудовлетворённостью человека. Впоследствии автор признавался, что жизнь ему представлялась «могучим зудом морского прибоя, в котором, однако, есть своя гармония».
Короленко высказывает интересную парадоксальную мысль: «Сибирь приучает видеть и в убийце человека, и хотя ближайшее знакомство не позволяет, конечно, особенно идеализировать “несчастненького”, взламывавшего замки, воровавшего лошадей или проламывавшего темною ночью головы ближних, но всё же это знакомство позволяет трезво ориентироваться среди сложных человеческих побуждений». Главный герой Василий – романтизированный образ бродяги. Этот шедевр писателя был высоко оценён современниками. Чехов, перечитав рассказ, писал автору: «Ваш “Соколинец”, мне кажется, самое выдающееся произведение последнего времени. Он написан как хорошая музыкальная композиция, по всем тем правилам, которые подсказываются художнику его инстинктом».
Эпоха общественных бурь и борьбы за социальные перемены не располагала к красивым художественным формам, но Короленко утверждал обратное. В ту пору молодой и ещё никому не известный Алексей Пешков принес на суд старшего товарища свои первые литературные опыты: «Короленко первый сказал мне веские человечьи слова о значении формы, о красоте формы, я был удивлен простой, понятной правдой этих слов и, слушая его, жутко почувствовал, что писательство – дело нелёгкое».
Образ правдоискателя и философа-бродяги предстаёт на страницах рассказа «Фёдор Бесприютный» (1885, опубликован в 1927). Фёдор Панов, всю жизнь проведший на каторге и ссылке, мучительно ищет причины своей незадачливой судьбы. Несмотря на неудовлетворённость окружающей действительностью, он тем не менее стремится честно исполнять свои обязанности старосты этапа. Не дают ему покоя «вечные проклятые» вопросы, некого винить в социальной несправедливости. Мучительные поиски смысла жизни и высокого предназначения человека приводят его к чтению книги «Вопросы о жизни и духе» Образ бесприютного бродяги, ищущего высший смысл Бытия предвосхищает галерею босяков Горького.
Рассказ «Сон Макара» (опубликован в 1885 г.) восходит t святочному жанру, приём сна позволяет в эпическом свете увидеть жизнь бедного Макара. Его монолог на суде большого Той она содержит обобщение тягостной судьбы народа Мысль о егх долготерпении пронизывает всё повествование. Масштаб горя народного искупает все его грехи и делает его святым. Фольклорное начало помогает осмыслить происходящее в метафорическом значении. Перефразированная пословица в начале рас сказа о Макаре, гоняющем телят, на которого все шишки валятся, придает притчевый характер последующим событиям. Фольклорный Макар не что иное, как пример народного страдания. Автор не стремится к подробному изображению жизни героя: «Работал он страшно, жил бедно, терпел голод и холод. <…> Когда он бывал пьян, он плакал. «Какая наша жизнь, – говорил он, – господи Боже!».
Действие рассказа приурочено к сакральному времени христианского мира – «в канун Рождества». Несмотря на то что речь идёт о Сибири, создаётся ясное представление о мировоззрении и жизни народа всей России. Писатель выступил защитником и «народолюбцем». Убедительная картина самопознания героя доказывает веру автора в светлую перспективу социальных перемен: «…случилось что-то странное. Макар, тот самый Макар, который никогда в жизни не произносил более десяти слов кряду, вдруг ощутил в себе дар слова. Он заговорил и сам изумился. Стало как бы два Макара: один говорил, другой слушал и сам удивлялся. Он не верил своим ушам. Речь у него лилась плавно и страстно, слова гнались одно за другим вперегонку и потом становились длинными, стройными рядами». Глубина психологического анализа народного героя в рассказе была высоко оценена современниками.
Этот рассказ принес автору литературную известность. В середине 1880-х гг. он занял прочное и видное место в литературе, получил читательское признание. Популярность Короленко быстро растёт, многие журналы стремятся привлечь его к сотрудничеству, он близко сходится со многими известными литераторами, знакомится с Л.Н. Толстым, А.П. Чеховым, Н.К. Михайловским, Г.И. Успенским. Воспоминания о встречах с писателями затем вошли в книгу «Отошедшие» (1908).
Ровенские воспоминания легли в основу рассказа «В дурном обществе» (опубликован в 1885 г.). Рассказ имеет довольно сложную композицию: он состоит из девяти глав, причем первая – «Развалины» – служит как бы экспозицией по отношению к последующим главам. Философские размышления о жизни и смерти даны в восприятии ребенка. Его взгляд определяет и главную тему рассказа – потеря матери, разрушение основ жизни. Сын судьи Вася наблюдает тягостную картину изгнания из замка различных босяков и бродяг другими нищими («аристократами?»). Несправедливость этого не даёт покоя детской душе. Некое успокоение он находит в обществе Валека и Маруси. Их общение – символ единения всего живого и светлого. Яркий и психологически достоверный образ сиротского детства предстаёт в произведении. Тюрьма как «лучшее архитектурное украшение города» и развалины старинного замка – два полюса рассказа. На этом фоне возникает и мотив «отверженных», «потерявших человеческий облик только внешне, но способных вызвать любовь детской души. Нищие трагической чередой проходят перед читателем, а образ маленькой девочки, как цветка, «выросшего без лучей солнца», передает глубочайшую драму жизни ребёнка. Символичен и образ развалившейся часовни – последнего приюта умершей Маруси. На основе этого рассказа был создан и сокращённый адаптированный вариант – «Дети подземелья».
Повесть «Слепой музыкант» (1885–1898) – одно из самых известных произведений писателя. Автор сопровождает его подзаголовком «этюд», желая придать экспериментальный характер повествованию. В предисловии написано: «Основной психологический мотив эпода составляет инстинктивное, органическое влечение к свету». Многие современники оспорили это суждение Короленко, утверждая, что невозможно слепорожденному, не видевшему света, стремиться к нему. Писатель объясняет это желание человека генетической памятью. Произведение явилось новым этапом в углублении психологического анализа. Короленко много работает над ним: первая редакция (1886) не удовлетворила его, он существенно её дорабатывает, и окончательный вариант появляется только в 1898 г.
Герой повести Пётр Попельский ведет последовательную и упорную борьбу за полноценную жизнь. В этом ему помогают мать и дядя Максим. Очень достоверно и психологически точно воссоздано его знакомство с окружающим миром (комната, пение птиц весной, природа). Писатель передает малейшие движения души ребенка, впечатления от звуков музыки. Именно звуки стали постепенно раскрывать мальчику богатство красок окружающего мира. Значимым элементом поэтики повести становится звуковой пейзаж. Восприятие мира происходит благодаря обострённому слуху и обонянию героя.
А между тем, из конюшни каждый вечер звучали мелодические призывы, и мальчик кидался туда, даже не спрашивая уже позволения матери. Специфический запах конюшни смешивался с ароматом сухой травы и острым запахом сыромятных ремней. Лошади тихо жевали, шурша добываемыми из-за решётки клочьями сена; когда дударь останавливался для передышки, в конюшню явственно доносился шёпот зелёных буков из сада. Петрик сидел, как очарованный, и слушал.
Так для слепого сливаются в гармоническое единство звуки музыки и звуки природы. Окружённый заботой и лаской богатых родственников, герой постоянно сокрушается о своей несчастной судьбе, но дядя Максим предлагает ему почувствовать и другой мир – мир слепых бродячих музыкантов. Путешествие исцеляет душу Петра от глубокого душевного комплекса. Музыка не только приносит успокоение герою, но и делает его нужным людям. «Да, он прозрел… На место слепого и неутолимого эгоистического страдания он носит в душе ощущение жизни, он чувствует и людское горе, и людскую радость, он. прозрел и сумеет напомнить счастливым о несчастных…» Истинное счастье он испытывает, когда у него рождается зрячий сын. И вместе с этим ощущением счастья наступает духовное прозрение слепого. Он уже не жаждет сочувствия к своей несчастной судьбе, он готов помогать и поддерживать других. Повесть была чрезвычайно популярна и выдержала при жизни автора 15 изданий.
Широко известная «полесская легенда» Короленко «Лес шумит» (1886) в лирико-романтическом ключе рассказывает о нравственном противостоянии лесника Романа и молодого пана. Роман как человек, живущий в гармонии с природой, болезненно воспринимает малейшую несправедливость по отношению к нему и его жене. Убийство пана – вынужденная мера: он хотел разрушить семейное счастье лесника. Казалось бы, виновникам не миновать Сибири, но лесная буря «покрывает» их грех. Именно в этой легенде ярко выражено стремление писателя «освещать будничные картины небудничным светом». Удивительно поэтичным, истинно фольклорным существом выступает лес. Рассказ о хозяине леса, его повадках звучит увертюрой к разыгравшейся драме. Именно лес помогает людям, охраняющим свое достоинство и честь.
Гуманистическими настроениями проникнуто и «Сказание о Флоре, Агриппе и Меиахеме, сыне Иегуды» (1886). Его можно воспринимать как программное, по жанру оно близко к исторической были-притче. Здесь автор полемизирует с толстовской теорией «непротивления злу насилием», но значение «Сказания…» гораздо шире и глубже. Короленко не приемлет смирения, покорности и пассивности, высказывая мысль о торжестве справедливости и закона, которые, если надо, можно и нужно отстаивать при помощи силы: «…камень дробят камнем, сталь отражают сталью, а силу – силой…»
С апреля 1885 г. Короленко – постоянный сотрудник одной из газет Нижнего Новгорода, одновременно он посылает публикации и в центральную прессу. Общественная деятельность писателя в это время сводилась к объединению всей оппозиционной творческой интеллигенции. Позиция Короленко была крайне неудобна властям, но его публицистический напор заставил с ним считаться. Александр III в октябре 1888 г. заметил: «По всему видно, что личность Короленко весьма неблагонадёжная, а не без таланта». Весь свой талант писатель направил на борьбу с произволом бюрократических сфер. Его корреспонденции раскрыли систему хищений. Он пишет серию статей о голоде, составив основу «скорбной книги» о русской деревне – «В голодный год» (отдельное издание – 1893 г.). Потрясающая картинг народного горя встаёт перед глазами читателя: крайняя степень нищеты, полуголодное существование крестьян, частые неурожаи – вот истинные причины бедствия русской деревни, по мнению писателя.
В июле-сентябре 1893 г. Короленко ездил на Всемирную вы ставку в Чикаго через Швецию, Данию и Англию. В Лондоне от встретился с революционерами-народниками – С.М. Степняком-Кравчинским и Ф.В. Волховским, на обратном пути побывал в Париже. Впечатления от зарубежных поездок отразились в очерках: «Драка в Доме» (1894), «В борьбе с дьяволом» (1895), «Фабрика смерти» (1896). Жизнь Америки дала основу для повести «Без языка» (1895). Её публикация состоялась в четырёх номерах журнала «Русское богатство». Отдельное дополненное издание вышло в 1902 г.
Именно за границей прозаика охватила ещё большая любовь к русскому человеку и родной стране: «Лучше русского человека, ей-богу, нет человека на свете. И за что его, бедного, держат в чёрном теле!» Это подтверждает герой повести Матвей Лозинский, «лесной человек». Скитания за пределами родного края в надежде обрести землю и возможность на ней работать демонстрируют его недюжинную силу. Освоение чужого пространства происходит чрезвычайно тяжело, почти трагически, особенно когда он остаётся один на один с миром капиталистической «демократии». Он вливается в армию безработных. На митинге безработных, слушая выступление «знаменитого оратора рабочего союза», он почувствовал, что начал понимать чужую речь. Этот момент стал определяющим в сознании героя: «…он внезапно поднялся, как разъярённый медведь.<…> По лицу его текла кровь, шапка свалилась, глаза стали дикие. <…> В этом ударе для него вдруг сосредоточилось всё то, что он пережил, перечувствовал, перестрадал за это время, вся ненависть и гнев бродяги, которого, наконец, затравили, как дикого зверя. <…> Через несколько секунд огромный человек, в невиданной одежде, лохматый и свирепый, один опрокинул ближайшую цепь полицейских города Нью-Йорка…» Рукопашная схватка с американским полицейским явилась кульминацией повести.
В 1892 г. выходит вторая книга «Очерков и рассказов». Художественную прозу Короленко традиционно воспринимали не только в реалистическом, но в большей степени в романтическом ключе. Центральная тема многих его произведений – это поиски пути интеллигенции к «настоящему народу», особенности национального характера. Значительная часть рассказов посвящена этой проблеме, что поначалу соотносилось и со взглядами народничества. Многолетние ссылки и скитания писателя постепенно развеяли некую односторонность решения этой нравственной и художественной задачи. Он встречает множество людей, явно не укладывающихся в схему. В творчестве Короленко появляется целая галерея героев бродяг, ссыльных, изгоев общества. Отношение к ним у писателя неоднозначное. Он стремится дойти до глубин человеческой натуры, увидеть и понять истинные достоинства человека, вне зависимости от того, бродяга это, вор или убийца. В характере героев произведений автор стремится выявить природные черты их натуры. Это в полной мере относится к Фёдору Бесприютному – герою одноимённого рассказа (1888), который вполне может быть рассмотрен и как «отец Ивана Денисовичам, т. е. вписаться в лагерную прозу уже двадцатого столетия. Тоска героя по нормальной жизни, жизни «как у всех», роднит его с представителями ссыльной братии – бродягой Василием из рассказа «Соколинец» и персонажами других произведений Короленко. Образы «отверженных» писатель романтизирует, но не идеализирует – они человечны и жестоки одновременно, красота их души уживается с нравственным уродством.
«Человек рождён для счастья, как птица для полета» – эти слова из рассказа «Парадокс» (1894) стали девизом рубежной эпохи не только для самого писателя, но и для многих других представителей русской интеллигенции, пишущих о народе.
В 1896 г. Короленко переезжает в Петербург, а двумя годами ранее он становится пайщиком, а затем и официальным издателем и фактическим руководителем журнала «Русское богатство» вплоть до его закрытия в 1918 г. В эти годы выходят многочисленные издания книг писателя. А в 1914 г. в издательстве А.Ф. Маркса вышло 9-томное полное собрание его сочинений.
Возрождение романтизма в литературе конца XIX в. многие связывали с художественным творчеством Короленко. Для этого есть все основания. Интерес к героическим поступкам, традиционный романтический конфликт, сильные личности, аллегорическая форма многих рассказов – всё это позволяет причислить прозу художника к романтическому направлению. Косвенным подтверждением этого является и рассказ «Мороз» (1901), где автор выводит в качестве главного персонажа поляка Игнатовича, воспитанного на поэзии романтизма, по взглядам на жизнь и отношением к миру – романтика. Внутренние противоречия его натуры явно не вызывают авторского сочувствия. Короленко хорошо понимал опасность подобного поведения в жизни. По его мнению, многие народовольцы относились именно к такому разряду людей.
Необходимо отметить, что Короленко ощущал себя писателем «только наполовину», публицистика в его творческом наследии занимает большое место. Его активная гражданская позиция получила воплощение в очерках и статьях. Он не только открыто обвиняет и обличает в печати, но и организует общественные акции, направленные на помощь голодающим (сбор пожертвований), открывает бесплатные столовые для крестьян, создаёт общественное мнение по поводу принципиальных социальных вопросов.
Высокой гуманитарной миссией можно назвать его деятельность в различных судебных разбирательствах. Он спасает от каторги удмуртов-крестьян из села Старый Мултан, ложно обвинённых в человеческом жертвоприношении языческим богам. Внимательно изучив материалы следствия, Короленко обнаружил подлога и нарушения в ходе судебного процесса. Он добивается повторного разбирательства, пишет статьи и очерки в центральную прессу, тем самым привлекая внимание к этому делу общественности всей страны. Впоследствии эти материалы были объединены в цикл «Мултанское жертвоприношение» (1895–1896). На суде он выступил защитником несправедливо осуждённых, сняв обвинение с целой народности. Но, к сожалению, успешное окончание судебного процесса, оправдательный приговор обвиняемых по Мултанскому делу совпал с печальным известием о смерти дочери писателя Ольги. Здоровье Короленко резко ухудшилось: «Мне кажется, что я за это время потерял несколько лет жизни».
В Петербурге Короленко много времени и сил отдаёт редакторской работе в журнале «Русское богатством. В 1900 г. Российская Академия наук избирает его почётным академиком по разряду изящной словесности. В 1902 г. вместе с Чеховым и математиком А. А. Марковым он в знак протеста против отмены избрания М. Горького в Академию сложил с себя звание почётного академика. В глазах писателя звание академика утратило своё значение. Когда в 1917 г. Академия наук пожелала вернуть звание писателю, он вежливо отказался.
На рубеже веков творческая деятельность писателя многообразна как по содержанию, так и по жанрам. Отражая социальную тему, прозаик погружается в историческое и революционное прошлое страны, в частности, обращается к изображению крестьянских мятежей и бунтов. Очерк «Божий городок» (1894), рассказ «Художник Алымов» (1896) художественно воссоздают отдельные эпизоды народных восстаний под предводительством Разина и Пугачёва. Короленко в этот период собирал материал для повести «В ссоре с меньшим братом», о разочаровании интеллигенции в народе. Но в то же время сам писатель продолжал верить в народные силы. В очерке «В облачный день» (1896) говорится о приближающемся народном возмездии. В атмосфере близкой «грозы» писатель задумывает роман о Пугачёве «Набеглый царь».
Его привлекает и судьба декабристов, политических каторжан и ссыльных. Интерес к этим темам отражён в рассказе «Последний луч» (1900). Сюжет рассказа возвращает читателя к жизни Сибири. Именно на фоне суровой сибирской природы автор хочет показать людей, рвущихся к счастью, к свободе. Таковы герои произведений «Марусина заимка» (1899), «Государевы ямщики» (1901), «Феодалы» (1904). В сибирских рассказах Короленко выступает большим мастером пейзажа, особенно выразительны в его поэтике предгрозовые пейзажи: «Молния короткими вспышками освещала реку от берега до другого. <…> Волны вздымались, поблёскивая пеной гребней, и опять падали и утопали во мраке. Будет буря <…>».
Короленко не остаётся в стороне от проблематики семидесятничества. С ней связан рассказ «Не страшное» (1901, 1903), ведущей темой которого становится ответственность интеллигенции перед народом и обществом. Короленко уверяет, что «безрассудство» прогрессивной интеллигенции является обязательной составной частью «общего смысла жизни». Современники высоко оценили выраженные в рассказе идеалы писателя, связывая их с идейным и моральным наследством русской интеллигенции 1870-х гг.
По состоянию здоровья Короленко вынужден был уехать из столицы, от городской суеты у него началась хриническая бессонница. Желая найти успокоение на родной стороне, писатель вместе с семьей отправляется в Полтаву. Тихая провинция лишь отчасти оправдала его надежды. Жизнь требовала его активного участия. В 1902 г. он поехал в Сумы на процесс Павловских сектантов, в 1903 г. – в Кишинёв, где произошёл еврейский погром («Дом № 13»), В 1904 г. ездил в Петербург для участия в собраниях о требовании Российской конституции. Начало русско-японской войны Короленко встретил крайне негативно и назвал её «исторической ошибкой». «Кровавое воскресенье» обозначило, по его мнению, новые перемены в истории России («9 января в Петербурге», 1905). Писатель активно выступает в печати против всевозможных нарушений прав личности, в частности, против карательной экспедиции статского советника Филонова, требуя суда над ним («Сорочинская трагедия», 1907). Он требует судебного разбирательства над полицейскими, издевающимися над крестьянами («В успокоенной деревне», 1911).
Современники называли Короленко «совестью эпохи». Это звание он заслужил своим непримиримым отношением к подлости и несправедливости. Горький назвал его «совестным судией». Пиком его публицистической и гражданской деятельности стал «Ритуальный процесс» (дело Бейлиса, 1911). Благодаря вмешательству Короленко в судебное следствие невиновные остались на свободе. Он сумел противостоять воинствующему и «оскорбляющему» национализму – «суррогату патриотизма». На суде он присутствовал в качестве корреспондента, одна из его статей «Господа присяжные заседатели» (1913) вызвала судебное преследование. Его неоднократно привлекали к суду за антиправительственные настроения, высказанные в печати, журнал «Русское богатство» закрывали, изымали тираж, в его доме производились обыски. По почте он получал угрозы (смертные приговоры) от экстремистских групп. За него вступались рабочие, они выставляли вооружённую охрану возле его дома.
Честность и справедливость для Короленко были превыше всего, им он служил с «глубокой религиозной страстью» и «разбудил дремавшее правосознание огромного количества русских людей» (М. Горький). Публичная деятельность писателя весьма широка, он активно включался во все общественные процессы, акции, выступал за создание демократичного общества со свободной прессой («О свободе печати», 1905). Его статья «Бытовое явление» (1910–1911) была высоко оценена великим современником – Л.Н. Толстым, который отмечал: «Её надо перепечатать и распространять в миллионах экземпляров. Никакие думские речи, никакие трактаты, никакие драмы, романы не произведут одной тысячной того благотворного действия, какое должна произвести эта статья». Статья Короленко перепечатывалась многими иностранными издательствами, мнение Толстого служило предисловием гс пей.
Обращение к биографии своего поколения, описание его истории послужили истоками идейно-художественного замысла «Истории моего современника», своеобразной попыткой автора рассказать о себе и о своём поколении. Мысль об этом возникла ещё в 1896 г., но приступил к работе писатель только в 1905 г. Художественную летопись поколения Короленко создавал до последних дней жизни. Первый том появился в журнале «Русское богатство» (1906–1908), отдельной книгой после переработки вышел в 1909 г. Работа над вторым томом была завершена в 1918 г., третий и четвёртый тома были окончены в 1920 г. Планировался и пятый том о нижегородском периоде, но смерть помешала осуществить задуманное.
Эту книгу можно воспринимать не только как своеобразное подведение итогов собственной жизни писателя, но и как картину жизни целого поколения, полувековой истории страны. У писателя возникла настоятельная потребность осмыслить прошлое. Он «вызывает в памяти ряд картин <…>, как они отражались в душе сначала ребёнка, потом юноши, потом взрослого человека». Восприятие ребёнка придает особую лиричность повествованию. Оценки ребёнка и взрослого человека разнятся, мы видим умудрённого жизненным опытом автора, вспоминающего жизнь эпохи. Перед ним встала и проблема жанра.
Эти записки не биография, потому что я не особенно заботился о полноте биографических сведений; не исповедь, потому что я не верю ни в возможность, ни в полезность публичной исповеди; не портрет, потому что трудно рисовать собственный портрет с ручательством за сходство. <…> В своей работе я стремился к возможно полной исторической правде, часто жертвуя ей красивыми или яркими чертами правды художественной. <…> Здесь читатель найдет только черты из «истории моего современникам, человека, известного мне ближе всех остальных людей моего времени…
Достоверна картина пробуждения национального самосознания целого поколения, о чём в предисловии автор пишет: «Сознательная жизнь начиналась среди борьбы с ушедшим, наконец, строем, а заканчивается среди обломков этого строя, застилающих горизонт будущего». Читатель наблюдает развитие души ребёнка, юноши, взрослого. Книга явилась свидетельством духовной жизни не только героев, но и демократической интеллигенции изображаемой эпохи.
Книга «История моего современника» отразила главные особенности художественного творчества Короленко в сочетании изобразительного (эпического), лирического, публицистического начал. Очерковость и публицистичность преобладают во второй части произведения, что обусловлено погружением героя в сознательную социальную жизнь. Очевидна преемственность классической автобиографической прозы (С.Т. Аксаков, Л.Н. Толстой), но в большей степени ощущается влияние «Былого и дум» АИ. Герцена Горький отозвался о новой книге Короленко с восторгом: «… на каждой странице чувствуешь умную, человечью улыбку много думавшей, много пережившей большой души. Хорошо!» А. В. Амфитеатров был еще более лаконичен и категоричен: «Благоухающая книга!».
Первая мировая война не позволила Короленко забыть о своих гуманистических принципах, в печати он продолжает взывать к человеколюбию («Отвоёванная позиция», 1915). Накануне войны он выехал для лечения за границу, но, вернувшись на родину в 1915 г., наблюдал последствия тотальной бойни в качестве живого и непосредственного свидетеля тех страшных и фатальных для истории России событий.
Февральская революция 1917 г. для Короленко – это возможность демократического переустройства страны. Он выступил на митинге в Полтаве (6 марта 1917 г.) по поводу свержения самодержавия. Будучи сторонником освобождения национальной территории, он требовал продолжения войны до заключения справедливого мира («Родина в опасности», 1917).
В цикле статей «Война, отечество и человечество (Письма о вопросах нашего времени)» (1917) он выражает опасения по поводу внутренней войны, «войны всех против всех». Следует заметить, что взгляды писателя расходились с мнением большевиков. Короленко ратовал за создание «независимых и сильных, справедливых и свободных» отечеств. На крестьянских митингах 1917 г. писатель стремился поднять уровень правосознания народных масс. Эти же взгляды изложены им в брошюре «Падение царской власти (Речь к простым людям о событиях в России)» (1917).
На Октябрьскую революцию писатель откликнулся статьёй «Опять цензура» (1917), где выступил против восстановления государственной цензуры. В последующих публикациях Короленко предостерегает общество от тенденции подавления свободы. Он вступается за тяжело больного Г.В. Плеханова, у которого производили обыск. Протестует против грабежей, казней и насилия, возглавляет Лигу спасения голодающих детей. Вплоть до последних дней жизни он борется за жизнь арестованных и несправедливо репрессированных ЧК людей, организует сбор денег для нуждающихся.
В цикле очерков «Земли! Земли!» (1919) писатель делает своеобразный обзор земельного устройства в России. Он рассказывает о формировании крестьянских представлений – от «легенды о царской милости» до самостийных захватов. В этой «книге греха и печали» Короленко высказывает и свои взгляды на государственную программу – справедливый выкуп земли по государственным оценкам, но в то же время сознаёт, что к этому ведет долгий и трудный путь.
В этом духе написаны и знаменитые письма Короленко к наркому просвещения Луначарскому, где писатель протестует против «схематического эксперимента», навязанного стране большевиками и способного вызвать «неслыханные бедствия». В письмах он выступает против введения цензуры, массовых расправ, подавления оппозиционных партий и других мер новой власти. По цензурным соображениям эти мысли нельзя было опубликовать, поэтому Короленко оформляет их в качестве писем, которые, к сожалению, остались «гласом вопиющего в пустыне».
Тяжело больной писатель не воспользовался возможностью уехать лечиться за границу. Хотя болезнь сердца прогрессировала, он не прекращает своей подвижнической деятельности, продолжает трудиться, основывает колонии для беспризорных детей и сирот, собирает деньги голодающим.
Короленко умер от воспаления лёгких 25 февраля 1921 г. в Полтаве. Похороны выдающегося писателя и гуманиста превратились в многотысячную общественную акцию. Среди прощавшихся были представители всех сословий. Р. Роллан удивлялся, что все русские, «к какой бы партии они ни принадлежали», говорили о Короленко «с одинаковой искренней любовью». По мнению Горького, Короленко был «идеальным образцом русского писателя».
Литература
В.Г. Короленко в воспоминаниях современников. М., 1962.
Катаев В.П. Короленко // В.П. Катаев. Почти дневник. 2-е изд. М., 1978.
Вялый ГЛ. В.Г. Короленко. 2-е изд. Л., 1983.
Петрова М.Г. Добрый человек из XIX столетия: Короленко // Связь времен. Проблемы преемственности в русской литературе конца XIX – начала XX в. М., 1992.
А.П. Чехов (1860–1904)
«История нашей литературы не знает такого разительного перерождения писательской личности», – писал К.И. Чуковский, размышляя как о стиле А.П. Чехова, так и о волевых качествах писателя, об удивительной красоте и силе его натуры, достигнутых нелёгким духовным трудом.
Антон Павлович Чехов родился в семье владельца бакалейной лавки, купца III гильдии Павла Егоровича Чехова. Дед Чехова, бывший крепостной, сумел выкупиться на волю и дослужился до должности управляющего. Судьба этого незаурядного человека невольно вспоминается, когда читаешь знаменитые слова А. П. Чехова, которые биографы справедливо относят к личности и судьбе писателя:
Напишите-ка рассказ о том, Как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз сеченный, ходивший по урокам без калош, дравшийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший и Богу и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества, – напишите, как этот молодой человек выдавливает из себя по капле раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая.
Детство и юность Чехова прошли в Таганроге, в довольно суровой обстановке патриархальной семьи. Антон Чехов и его братья не любили вспоминать своё детство. «Я прошу тебя вспомнить, – писал Чехов одному из братьев, – что деспотизм и ложь сгубили молодость твоей матери. Деспотизм и ложь исковеркали наше детство до такой степени, что тошно и страшно вспоминать». И тем не менее писатель на всю жизнь сохранил трогательную привязанность к матери, отцу, сестре и братьям.
Когда в 1876 г. отец обанкротился и вынужден был продать лавку, вся семья перебралась в Москву. Антон Чехов остался в Таганроге один. Распродавая вещи и давая грошовые уроки, он оканчивает гимназию, готовится к поступлению на медицинский факультет и даже посылает деньги в Москву. Эти нелёгкие годы закалили его характер и выработали в нём чувство собственного достоинства.
В 1879 г. Чехов поступил в Московский университет, на медицинский факультет. «Не сомневаюсь, занятия медицинскими науками имели серьёзное влияние на мою литературную деятельность; они значительно раздвинули область моих наблюдений…» – писал он позднее. В 1884 г. Чехов получил диплом и приступил к врачебной практике, к этому времени он был уже известным писателем. С 1880 г., дебютировав рассказом «Письмо учёному соседу» в журнале «Стрекоза», он начал сотрудничать в так называемой малой прессе – юмористических журналах «Будильник», «Зритель», «Осколки» и др., подписывая юмористические рассказы псевдонимами Антоша Чехонте, Брат моего брата, Человек без селезёнки и др.
Ранние рассказы Чехова, занимающие около половины его собрания сочинений, далеко не однородны по своему художественному уровню. Лишь часть этих произведений писатель впоследствии включил в собрание сочинений. Они уже и тогда выделялись на фоне других: «Смерть чиновника», «Толстый и тонкий», «Хирургия», «Хамелеон», «Лошадиная фамилия» и др.
Анализируя «матрицу» чеховской беллетристики 1880-х гг., И.Н. Сухих выстраивает цепочку постепенно усложняющихся жанров: подпись к рисунку – «мелочишка» (циклы острот и афоризмов, повторяющихся из номера в номер, в форме календарей, дневников, объявлений и т. п.) – рассказ-сценка – повествовательный рассказ – повесть.
Добавить к этому ряду можно стилизации и пародии («Грешник из Толедо», 1881; «Шведская спичка.», 1883 и др.), к ним отчасти примыкают рассказы, в которых иронически изображается привычка заурядных людей мыслить литературными штампами, скрываясь за ними от сложности реальной жизни («Цветы запоздалые», 1882; «Загадочная натура», 1883; «Слова, слова и слова», 1883).
Исследователи единодушно выделяют в ранних рассказах Чехова необычную трактовку традиционного для русской литературы образа «маленького человека». Чехов показывает мелкого чиновника сатирически. Трагикомический финал рассказа «Смерть чиновника» – смерть от ничтожной причины – подчёркивает не только нелепость поведения Червякова, досаждавшего генералу извинениями, но нелепость всей его жизни, замкнутой в убогих рамках чиновничьей иерархии.
Комические черты были и в облике гоголевского Акакия Акакиевича. Гоголь заставил читателя увидеть сквозь жалкую и смешную внешность героя его трагедию. Чехов вновь разрушает инерцию читательского восприятия, показывая: то, что персонажу кажется драмой (генерал сердится), извне выглядит как фарс. Герой, добровольно впадающий в состояние социального рабства, лишается читательского сочувствия.
В рассказе «Толстый и тонкий» «обряд» чинопочитания мгновенно вытесняет из сознания персонажа понятия товарищества и дружбы.
– …Ну, а ты как? Небось, уже статский? А?
– Нет, милый мой, поднимай повыше, – сказал толстый.
Я уже до тайного дослужился… Две звезды имею.
Тонкий вдруг побелел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съёжился, сгорбился, сузился…
Среди привычных и уродливых шаблонов поведения, подвергаемых осмеянию, Чехова более всего интересует тот тип поведения, который можно назвать социальной мимикрией, кратко и точно охарактеризованный названием рассказа «Хамелеон». Герой этого рассказа, как и «тонкий» в предыдущем, меняет своё поведение без давления извне, по собственному внутреннему побуждению. Таким образом, вопрос о влиянии среды на человека подвергается кардинальному переосмыслению: Чехов показывает, как сам человек участвует в создании среды, пагубной для его духовной свободы.
Добровольное рабство, по Чехову, приводит к замкнутому, «футлярному» существованию; порождает абсолютно непонимание, отчуждение людей друг от друга. В ранних рассказах эта взаимная глухота становится одним из источников комического («Унтер Пришибеев», «Злоумышленник», «Смерть чиновника»).
Среди ранних юмористических рассказов Чехова преобладает рассказ-сценка, почти целиком складывающийся из реплик диалога: «Хирургия», «Лошадиная фамилия», «Толстый и тонкий», «Налим», «Хамелеон», «Дочь Альбиона» и др. Отсюда протягиваются нити к чеховским водевилям и поздней драматургии. В этих несерьёзных рассказах отрабатываются некоторые приёмы чеховского психологизма: психологическое состояние и даже характер героя выражается через речь, жест, деталь. Так, например, в рассказе «Хамелеон» целая гамма чувств полицейского надзирателя Очумелова передаётся через многократно повторяющийся комический жест: «Сними-ка, Елдырин, с меня пальто… Ужас как жарко!»; «Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто… Что-то ветром подуло…» и т. п. Столь же выразительно начало рассказа «Смерть чиновника», иронически характеризующее героя: «В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор, Иван Дмитриевич Червяков, сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на “Корневильские колокола"».
Давно замечено также, что организация сюжета большей части рассказов первой половины 1880-х гг. роднит их с жанром анекдота. Почти все они представляют собой краткое динамичное повествование с неожиданной концовкой. Чеховские рассказы расширяют выразительные возможности анекдота – популярного жанра «малой прессы». В жизненных противоречиях писатель видит не только комическую, но и трагическую их сторону. Комизм положений вытесняется психологическим парадоксом. Таков рассказ «Злой мальчик» (первоначальное название «Скверный мальчик», 1883), смешной финал которого заставляет серьезно задуматься о парадоксах человеческой психологии. Мальчик Коля, случайно видевший поцелуй влюблённых, всё лето не давал им житья, вымогая деньги и подарки. Наконец настал самый счастливый день в их жизни: «Лапкин сделал Анне Семёновне предложение». Получив согласие родителей, влюблённые разыскивают Колю: «И потом оба они сознавались, что за всё время, пока были влюблены друг в друга, они ни разу не испытывали такого счастья, такого захватывающего блаженства, как в те минуты, когда драли злого мальчика за уши».
Таков рассказ «Тоска» (1886) – анекдотичный по форме, но трагический по содержанию. Извозчик изливает своё горе лошади, потому что ему больше не с кем его разделить: «Так-то, брат кобылка… Нету Кузьмы Ионыча… Приказал долго жить… Взял и помер зря… Таперя, скажем, у тебя жеребёночек, и ты этому жеребёночку родная мать… И вдруг, скажем, этот самый жеребёночек приказал долго жить… Ведь жалко?»
Любопытна исследовательская интерпретация названия сборника «Пёстрые рассказы», который подвёл итог раннему периоду чеховского творчества: «Окончательное название, как можно полагать, – компромисс: серьёзность смысла соединяется в нем с лёгкостью тона» (А.Н. Гершаник).
Пройдя серьёзную писательскую школу, Чехов в 1890 г. писал В.М. Лаврову: «…у меня есть много рассказов и передовых статей, которые я охотно бы выбросил за их негодностью, но нет ни одной такой строки, за которую мне теперь было бы стыдно».
Новый этап творчества Чехова связан с сотрудничеством в газете А.С. Суворина «Новое время». Именно в «Новом времени», с 1886 г., Чехов начинает публиковаться под собственным именем, оставив забавные псевдонимы в прошлом. Во второй половине 1880-х гг. выходят его сборники «Пёстрые рассказы» (1886), «В сумерках» (1887), «Рассказы» (1888). В творчестве Чехова идет напряжённый поиск новых форм.
В 1888 г. в журнале «Северный вестник» увидела свет повесть «Степь». Её Чехов называл своим шедевром, считал дебютом в большой литературе.
Повествование представляет собой сменяющие друг друга путевые впечатления мальчика Егорушки, которого везут в город учиться. Чехов писал, что в повести «каждая отдельная глава представляет собой отдельный рассказ» и что она «похожа не на повесть, а на степную энциклопедию». Структурное единство этого бессюжетного повествования достигается через образ дороги; описание путешествия по бесконечной степи композиционно соединяет ряд встреч, дорожных впечатлений, разговоров.
Образ степи вынесен в заглавие произведения и подчиняет себе всю систему его образов. В нём раскрывается поэзия огромного пространства, звучат гоголевские мотивы. «Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где разгуляться и пройтись ему?» – это лирическое отступление из «Мёртвых душ» Н.В. Гоголя невольно вспоминаешь, читая «Степь»: «Что-то необыкновенно широкое, размашистое и богатырское тянулось по степи вместо дороги… Своим простором она возбудила в Егорушке недоумение и навела его на сказочные мысли. Кто по ней ездит? Кому нужен такой простор? Непонятно и странно. Можно, в самом деле, подумать, что на Руси не перевелись ещё громадные, широко шагающие люди, вроде Ильи Муромца и Соловья Разбойника, и что не вымерли ещё богатырские кони». По своей жанровой природе «Степь» представляет собой лиро-эпическое повествование (ив этом сближаясь с повествовательной структурой «Мёртвых душ»). Через пейзажные зарисовки и лирические отступления проходит мотив красоты, напрасно пропадающей, никем не замеченной, зовущей: «Певца, певца!».
«Быть может, – писал Чехов Д. В. Григоровичу о повести, – она раскроет глаза моим сверстникам и покажет им, какое богатство, какие залежи красоты остаются ещё нетронутыми и как ещё не тесно русскому художнику…»
Значение пейзажа в поэтике повести огромно: «Пейзаж, который обычно занимал в литературе подчинённое место, стал здесь самостоятельным сюжетом» (И.Н. Сухих).
Образ степи становится своеобразным эталоном, в соответствии с которым оцениваются все герои повести: богач Варламов, чувствующий себя хозяином степи; «злой озорник» Дымов, сильный и красивый, но беспокойный и жестокий человек; Соломон, считающий себя свободным от власти денег, но порабощённый гордыней, жалкий и несчастный. Нет людей, чьё душевное устройство гармонировало бы с огромной печальной красотой степи. Люди, словно скованные какой-то загадочной силой, слепо проходят мимо, не чувствуя красоты жизни. Исключение составляют, пожалуй, лишь два путешествующих героя – мальчик Егорушка и о. Христофор.
Красота мира воссоздаётся в повести через незамутнённое детское восприятие. Мир взрослых в детском сознании предстаёт как странный, полный необъяснимых противоречий. (Этим повесть «Степь» непосредственно связана с «детскими» рассказами Чехова: «Гришам, «Кухарка женится», «Мальчики» и др.) Именно ребенок ближе всего к истине, именно у Егорушки всё еще впереди. Один из первых знаменитых «открытых финалов» Чехова связан с загадкой «новой, неведомой жизни» Егорушки: «Какова-то будет эта жизнь?».
Другое направление развития чеховской прозы во второй половине 1880-х гг. – обострённое восприятие конфликтности и контрастности человеческой жизни. «Считая Чехова писателем полутонов, часто забывают, что он был ещё и художник контрастных, резких красок», – отмечал А.П. Чудаков. В жизненных противоречиях, над которыми беззаботно смеялся Антоша Чехонте, Чехов начинает подмечать их трагическую сторону.
В идейной структуре рассказа «Именины» (1888) на первый план выдвинута тема лжи, которая, как убедительно показывает писатель, даже будучи ничтожной, мучительна для героев, влечёт за собой тоску, уныние, ревность, гнев, и наконец приводит к потере ребёнка. Тяжёлая душевная атмосфера, связанная с духовным и физическим состоянием героини, окрашивает все её впечатления; от запаха сена до крайне искажённой оценки поступков мужа. По словам Чехова, это одно из первых его произведений «с направлением» – с достаточно ясно выраженной авторской оценкой происходящего: «Но разве в рассказе от начала до конца я не протестую против лжи? Разве это не направление?». В «Именинах» отчетливо проявляется дистанция между мировоззрением героев и точкой зрения автора: персонажи могут спорить о чём угодно, правда об их жизни находится в стороне от этих споров: «Правда, подозрительно в моем рассказе стремление к уравновешиванию плюсов и минусов. Но ведь я уравновешиваю не консерватизм и либерализм, которые не представляют для меня главной сути, а ложь героев с их правдой».
Диссонанс проникает и в детскую тему, всегда светлую у Чехова. В рассказе «Володя» описано нравственное осквернение по-детски чистого и доверчивого героя, приводящее его к гибели.
1890 г. ознаменовался необычным поступком молодого писателя: он неожиданно уехал на Сахалин, совершив долгое и опасное путешествие через всю Сибирь. Восемь месяцев писатель провёл в пути, из них три – на каторжном острове, где собственноручно осуществил полную перепись населения острова. Результатом поездки стало появление книги «Остров Сахалин», над которой Чехов работал несколько лет.
А.С. Суворину Чехов писал: «Сахалин – это место невыносимых мучений». «Остров Сахалин» контрастен: внешне бесстрастным тоном описываются казни и пытки – и трогательное венчание молодого каторжника, страшные нераскаявшиеся убийцы и люди, сохранившие христианское отношение к другим в нечеловеческих условиях каторги. Столь же контрастен образ вольных жителей острова: грубые, лицемерные, жестокие чиновники – и «человек редкого нравственного закала» агроном Мицуль, мечтавший о Сахалине как цветущем уголке земли, и поп Семен, слух о котором распространился по всей Сибири: «О каторжных он судил так: “Для создателя мира мы все равны”, и это – в официальной бумаге».
В книге царит сдержанный и беспристрастный тон. Чехов излагает историю открытия, изучения и колонизации острова. Личные наблюдения, пейзажные зарисовки и художественно точные очерки типов и характеров сочетаются со статистическими данными. Каждый описанный факт реален. «Книга выходит толстая, с массой примечаний, анекдотов, цифр…» – писал Чехов в одном из писем. Эти особенности текста дали исследователям основание называть «Остров Сахалин» своеобразным научным трактатом. Однако книга Чехова несёт масштабный обобщающий смысл. В русской классической литературе она составляет важное звено в ряду таких произведений, как «Записки из Мёртвого дома» Ф.М. Достоевского, «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицына.
Сахалинские впечатления почти не отразились в сюжетах художественных текстов Чехова, за исключением нескольких рассказов («Гусев», «Убийство»). По словам И.Н. Сухих, «трагедия каторжного острова была для Чехова темой, закрытой для “беллетризации”». Однако книга «Остров Сахалин» стала важным этапом выработки «бесстрастного» стиля, «основанного на всестороннем знании предмета».
В 1892 г. Чехов переехал в Мелихово, где им было куплено имение. Здесь он занимался врачебной практикой, заведовал участком во время холерной эпидемии, участвовал в организации помощи голодающим, создавал школы, библиотеки, вёл обширную переписку. Удивительно, как вся эта многообразная деятельность, требовавшая много сил и времени, в сочетании с необычайным гостеприимством не помешала Чехову создать в мелиховские годы лучшие свои произведения.
В годы работы Чехова над «Островом Сахалин» (1891–1895) складываются основные принципы «объективного повествования». Творческий контекст «Острова Сахалин» – повести «Скучная история» (1889, написана перед поездкой); чДуэль» (1891), «Палата № 6» (1892), над которыми Чехов работал по возвращении из путешествия. Затем последовали «Три года» (1895), «Моя жизнь» (1896).
Обращение к более объёмному по сравнению с рассказом жанру повести в первой половине 90-х гг. связано с поиском новых средств изображения жизни. По насыщенности проблематики и событийного ряда, системы образов, по кардинальным трансформациям, происходящими с душами героев, повести Чехова уникальны. Оспаривая определение чеховской повести как «растянутого рассказа», Э.А. Полоцкая писала: «Правильнее было бы говорить о её тяготении к компактному роману». Не случайно в письмах Чехова с конца 80-х гг. лейтмотивом звучит мечта о романе. «Повесть у Чехова (как и его драма) близка к рассказу по типу отобранных событий. В фабульном отношении это всегда целеустремлённое, весьма ограниченное сцепление событий – та же цепь эпизодов, создающих в целом впечатление важных вех в человеческой судьбе, неразрывно связанной с судьбами всей русской жизни».
Открывает ряд зрелых чеховских повестей «Скучная история», само название которой может быть воспринято как аллюзия к роману И.А. Гончарова «Обыкновенная история».
«Скучная история» написана в форме монолога-исповеди пожилого профессора, известного учёного. Подводя итоги прожитой жизни, герой осознаёт, что, несмотря на её внешнее благополучие, – он глубоко несчастлив: «счастливо» его научное имя, но сам он одинок, никому не нужен, болен: «Насколько блестяще и красиво моё имя, настолько тускл и безобразен я сам».
Параллельно разворачиваются побочные сюжетные линии, углубляющие основную: истории племянницы Кати и дочери Лизы. В этом одна из черт поэтики чеховской повести. Постаревший профессор вспоминает ряд прошедших лет и обнаруживает в них постепенную эрозию счастья, исчезновение полноты и смысла жизни. Взаимоотношения в семье утрачивают живость и непосредственность. Поступки жены, студентов, коллег кажутся Николаю Степановичу скучными, однообразными, легко предсказуемыми. Равнодушие героя усиливается и пугает его самого. По словам Чехова, оно губит Лизу и Катю. Холодная ирония, злословие приносят глубокое опустошение: «всё гадко», «не для чего жить». Всё – наука, семья, служение другим людям, искусство – теряет смысл и ценность в глазах человека. Диагноз, поставленный героем-рассказчиком самому себе, достаточно точен: он обнаруживает, что во всех его «мыслях, чувствах и понятиях <—> нет чего-то общего, что связывало бы всё это в одно целое <…> того, что называется общей идеей или Богом живого человека».
М. Горький писал о Чехове: «Его упрекали в отсутствии миросозерцания. Нелепый упрёк! <…> У Чехова есть нечто большее, чем миросозерцание, – он овладел своим представлением о жизни и таким образом стал выше её. Он освещает её скуку, её нелепости, её стремление, весь её хаос с высшей точки зрения».
К художественным принципам «объективного» повествования следует отнести нейтральность, отсутствие ярко выраженной авторской оценки. «Цель моя – убить сразу двух зайцев: правдиво нарисовать жизнь и кстати показать, насколько эта жизнь уклоняется от нормы. Норма мне неизвестна, как неизвестна никому из нас. Все мы знаем, что такое бесчестный поступок, но что такое честь мы не знаем», – писал Чехов Плещееву в 1889 г.
Не случайно в повестях писатель часто прибегает к форме повествования от первого лица – в «Скучной истории», «Моей житой жизни, герой осознаёт, что, несмотря на её внешнее благополучие, он глубоко несчастлив: «счастливо» его научное имя, но сам он одинок, никому не нужен, болен: «Насколько блестяще и красиво моё имя, настолько тускл и безобразен я сам».
Параллельно разворачиваются побочные сюжетные линии, углубляющие основную: истории племянницы Кати и дочери Лизы. В этом одна из черт поэтики чеховской повести. Постаревший профессор вспоминает ряд прошедших лет и обнаруживает в них постепенную эрозию счастья, исчезновение полноты и смысла жизни. Взаимоотношения в семье утрачивают живость и непосредственность. Поступки жены, студентов, коллег кажутся Николаю Степановичу скучными, однообразными, легко предсказуемыми. Равнодушие героя усиливается и пугает его самого. По словам Чехова, оно губит Лизу и Катю. Холодная ирония, злословие приносят глубокое опустошение: «всё гадко», «не для чего жить». Всё – наука, семья, служение другим людям, искусство – теряет смысл и ценность в глазах человека. Диагноз, поставленный героем-рассказчиком самому себе, достаточно точен: он обнаруживает, что во всех его «мыслях, чувствах и понятиях <…> нет чего-то общего, что связывало бы всё это в одно целое <…> того, что называется общей идеей или Богом живого человека».
М. Горький писал о Чехове: «Его упрекали в отсутствии миросозерцания. Нелепый упрёк! <…> У Чехова есть нечто большее, чем миросозерцание, – он овладел своим представлением о жизни и таким образом стал выше её. Он освещает её скуку, её нелепости, её стремление, весь её хаос с высшей точки зрения».
К художественным принципам «объективного» повествования следует отнести нейтральность, отсутствие ярко выраженной авторской оценки. «Цель моя – убить сразу двух зайцев: правдиво нарисовать жизнь и кстати показать, насколько эта жизнь уклоняется от нормы. Норма мне неизвестна, как неизвестна никому из нас. Все мы знаем, что такое бесчестный поступок, но что такое честь мы не знаем», – писал Чехов Плещееву в 1889 г.
Не случайно в повестях писатель часто прибегает к форме повествования от первого лица – в «Скучной истопи и «Моей жизни», «Доме с мезонином». Голос автора лишь изредка поднимается на поверхность текста из его глубин, совпадая с некоторыми высказываниями персонажей, как, например, в приведённом выше выводе старого профессора или словах одного из героев рассказа «Дом с мезонином»: «Хорошее воспитание не в том, что ты не прольёшь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой».
Чеховское повествование в повестях 1890-х гг. можно вслед за М. М. Бахтиным, писавшим о Ф.М. Достоевском, назвать полифоническим. Доверяя известные, легко узнаваемые философские, социальные, научные идеи своим персонажам, Чехов сталкивает их между собой в остром идейном или личностном конфликте. Повесть «Дуэль» (1891) – яркий пример такого произведения. Название её может быть объяснено не только кульминационным событием сюжета. Многочисленные и многословные диалоги героев воспринимаются как словесные дуэли. Различные главы повести окрашены восприятием сменяющих друг друга героев: доктора Самойленко, Лаевского, Надежды Фёдоровны, фон Корена, дьякона.
Центральный конфликт повести – конфликт «лишнего человека» Лаевского и учёного-естествоиспытателя фон Корена – развивается в нескольких планах: это столкновение гуманитария и естественника, прагматика, человека дела – и ленивого, непрактичного человека, это, в первую очередь, личная неприязнь и взаимное непонимание. Идейный конфликт повести неразрешим на рассудочном уровне, более того, он иллюзорен. В финале произведения как итог конфликта персонажей звучит фраза: «Никто не знает настоящей правды».
Главное, ради чего написана повесть, происходит в душе героев. Настоящей кульминацией повести Чехова становится не дуэль, а нравственное преображение Лаевского, впервые в жизни честно оценившего себя и свою жизнь перед почти неизбежной смертью. Фон Корен, считавший убийство Лаевского «добрым делом», признаётся: «…если бы я мог предвидеть эту перемену, то я мог бы стать его лучшим другом». Разрешение конфликта в повести Чехова – в выходе за его пределы, в сферу взаимопонимания, сочувствия и прощения.
Таким образом, принципиальная неразрешимость идейного конфликта становится чертой «объективного повествованиям в повестях Чехова 1890-х гг. Своеобразие чеховских идейных конфликтов заключается в том, что герои могут высказывать «правильные» мысли, но при этом быть неправыми по существу, бесчеловечными. Герои своими поступками косвенно ставят идею под сомнение, поскольку преданность идее приводит их к душевной черствости и узости мышления.
Повесть «Палата № 6» была воспринята современниками Чехова как масштабное символическое обобщение – образ-символ уродливого социального устройства. Так она трактовалась в большинстве литературоведческих работ советского периода. Однако и в этом произведении на первом плане (даже при описании «отклонений от нормы» в устройстве общества, социальных уродств и нелепостей) стоит вопрос нравственной ответственности человека за мир, в котором он существует.
Философские идеи, которыми доктор Ратин пытается оправдать свою жизнь, приводят его к полному равнодушию к людям, отчуждению от них: «Если же видеть цель медицины в том, что лекарства облегчают страдания, то невольно напрашивается вопрос: зачем их облегчать? Во-первых, говорят, что страдания ведут человека к совершенству, и, во-вторых, если человечество в самом деле научится облегчать свои страдания пилюлями и каплями, то оно совершенно забросит религию и философию, в которых до сих пор находило не только защиту от всяких бед, но даже счастие».
Идея становится для героя не способом познания, а средством самооправдания и бегства от реальности. «Удобная философия: и делать нечего, и совесть чиста, и мудрецом себя чувствуешь… Нет, сударь, это не философия, не мышление, не широта взгляда, а лень, факирство, сонная одурь», – отвечает на его рассуждения Громов.
Авторская оценка героя повести проявляется не только в финале повести, опровергающем успокоительные иллюзии доктора Рагина, но и в ряде предметных деталей. Описывая, как читает Андрей Ефимович книги и журналы, автор замечает: «Около книги всегда стоит графинчик с водкой и лежит солёный огурец или мочёное яблоко прямо на сукне, без тарелки». Эта выразительная деталь характеризует героя не в меньшей степени, чем его убеждения или робость перед фельдшером и торопливость в приёме пациентов. Равнодушие и ложь в художественном мире Чехова всегда влекут за собой трагические последствия. Попав в палату № 6, доктор испытывает ужас и отчаяние не только от собственных нравственных и физических страданий, но и оттого, что такое ужасное место существует с его молчаливого согласия и попустительства.
Сюжет рассказа «Дом с мезонином» (1896) развивается в двух планах: это история любви художника к Мисюсь и история его идейного столкновения с её старшей сестрой Лидией. Идея «чистого искусства» в сочетании с туманными мечтами о переустройстве всей жизни и освобождении людей для духовной деятельности (художник) сталкивается с модной идеей времени – «теорией малых дел», порождённой последним поколением народников. Лида увлечена земством, созданием школ, больниц и библиотек. Однозначно установить авторскую позицию (или хотя бы Предпочтение) в этом споре не представляется возможным.
Спор героев – лишь внешнее выражение их скрытых чувств. «Я был ей несимпатичен, – размышляет художник. – Она не любила меня за то, что я пейзажист и в своих картинах не изображаю народных нужд…»
Авторское отношение к персонажам просвечивает сквозь нейтральное повествование художника, старающегося сохранить беспристрастность – в контрастном портрете двух героинь, в ряде повторяющихся деталей внешнего облика Лидии: «В это время Лида только что вернулась откуда-то и, стоя около крыльца с хлыстом в руках, стройная, красивая, освещённая солнцем, приказывала что-то работнику». И.Н. Сухих точно подметил ряд характерных жестов, связанных с появлением Лидии на страницах рассказа. «При первой встрече старшая сестра “едва обратила внимание" на незнакомца, младшая же – “с удивлением посмотрела” на него <…> Вот Лида приезжает собирать деньги на погорельцев (второе её появление в рассказе): “Не глядя на нас, она очень серьёзно и обстоятельно рассказала нам…”. Вот она в споре “закрылась от меня газетой, как бы не желая слушать”. Наконец, в финале художник (и читатель) совсем не увидит ее лица, послышится лишь голос из-за закрытой двери». «Лида никогда не ласкалась, говорила только о серьёзном; она жила своею особенною жизнью и для матери и для сестры была такою же священной, немного загадочной особой, как для матросов адмирал, который всё сидит у себя в каюте», – с тонкой иронией замечает повествователь. Хочется воскликнуть, как герой другого чеховского рассказа: разве это не футляр?
Деспотизм Лидии, которым в повседневной жизни оборачивается её «идейность» и принципиальность, губит любовь художника и Мисюсь.
Итак, вместо какого-либо однозначного разрешения спора персонажей – утверждение свободной мысли, любви к ближнему и отрицание всех форм диктата, холодности и высокомерия. Важным снова оказывается не правота в рациональном, идейном плане, но духовное состояние персонажей: любящий человек сталкивается с чёрствым и равнодушным.
«Дом с мезонином» – один из самых поэтичных рассказов Чехова. Кольцевое обрамление этого повествования о душевной драме героев создаёт прекрасный среднерусский пейзаж, переданный через восприятие чуткого к красоте художника: «Два ряда старых, тесно посаженных, очень высоких елей стояли, как две сплошные стены, образуя мрачную, красивую аллею. Я легко перелез через изгородь и пошёл по этой аллее, скользя по еловым иглам, которые тут на вершок покрывали землю. Было тихо, темно, и только высоко на вершинах кое-где дрожал яркий золотой свет и переливал радугой в сетях паука… Потом я повернул на длинную липовую аллею…»; «И я ушёл из усадьбы тою же дорогой, какой пришёл сюда в первый раз, только в обратном порядке: сначала со двора в сад, мимо дома, потом по липовой аллее… Потом тёмная еловая аллея, обвалившаяся изгородь…»
Пейзаж, как раньше, в «Степи» и позднее, в пьесах и других рассказах, дан как некий светлый идеал, до которого не дотягивается мелочная жизнь людей, раздражённых и недовольных друг быть около них красивая жизнь!» («Три сестры»). Поэтичное описание усадьбы Волчаниновых вызывает у читателя ожидание изящной, счастливой жизни в доме с мезонином. Название рассказа отзывается в его финале тонким диссонансом. Художник повествует об утрате любви, тепла, понимания, надежд на обновление жизни – всего, с чем дом с мезонином связан в его памяти.
Характеризуя особенности своего стиля, А.П. Чехов не без гордости писал: «Умею коротко говорить о длинных предметах». Небольшое повествовательное пространство его зрелых произведений вмещает богатое содержание. Видоизменяя традиционный взгляд на систем эпических жанров, Чехов через ряд эпизодов повести передаёт романное содержание, описывает жизнь человека. Позднее писатель найдёт такие художественные возможности даже в сюжете рассказа «Ионыч».
Молодой герой повести «Моя жизнь» (1896), дворянин Михаил Полознев отказывается мириться с лживым и порочным укладом жизни людей своего круга. Он порывает с отцом, становится маляром и испытывает на собственном опыте все тяготы и несправедливости, которыми полна жизнь «простого» человека. В этом сюжетном мотиве явно отозвалась толстовская идея «опрощения». Читатель напряжённо следит, станет ли эта идея спасительной для героя.
Попутно художественную проверку проходят идея физического труда на земле, должного придать смысл жизни, идея служения «святому искусству», которым предаётся жена Полознева – Маша, идея спасительной миссии науки, культуры и цивилизации, которую исповедует доктор Благово.
В повести возникает образ бесплодной, бездарной провинции: города, не давшего ни одного талантливого человека, деревни, которая поражает молодую жену Полознева мрачностью и безысходностью. В этой атмосфере ни один из героев не находит выхода. Единственной истинной мыслью, не дискредитировавшей себя в сюжете, оказывается любимое выражение старого маляра Редьки: «Тля ест траву, ржа – железо, а лжа – душу».
В своей прозе Чехов исповедует краткость, парадоксально сочетая ее с системой повторов и лейтмотивов. Художественная деталь, лейтмотив, контраст – главные приёмы, на которых построен текст и подтекст чеховских рассказов и повестей. Рассмотрим их роль в хрестоматийном рассказе Чехова «Ионыч».
Сюжет этого рассказа охватывает большой период времени из жизни персонажа, за который молодой, полный энергии доктор Старцев превращается в Ионыча – грубое и равнодушное существо.
Начинается рассказ с описания «самой образованной и талантливой» семьи в городе С., куда попадает молодой доктор. С описанием «талантов» этого семейства Туркиных в рассказ входит мотив скуки и однообразия. Ритуал повторяется из года в год: Иван Петрович всё так же острит, Вера Иосифовна всё пишет романы о том, чего не бывает в жизни, Котик (Екатерина Ивановка) всё так же шумно играет на рояле. Лакей Пава, в финале превратившийся из мальчика в молодого человека, произносит одну и ту же фразу: «Умри, несчастная!».
Даже легкомысленная Екатерина Ивановна называет свою жизнь «пустой, бесполезной» и мечтает о славе пианистки. Впрочем, бегство никогда не спасает чеховских героев: спустя некоторое время она возвращается с мечтой о простой трудовой жизни рядом со Старцевым.
Через несколько лет, навсегда уходя от Туркиных, Старцев думает, «что если самые талантливые люди во всём городе так бездарны, то каков же должен быть город». Доктор Старцев нисколько не заблуждается насчет своего окружения: «Обыватели своими разговорами, взглядами на жизнь и даже своим видом раздражали его». Но это не спасает его самого от медленной деградации. Причём чем больше он опускается, тем больше ругает обывателей и жалуется на жизнь. Чехов рисует этот процесс угасания в человеке всего лучшего при помощи выразительных повторяющихся деталей.
В первой части рассказа говорится о том, что молодой доктор Дмитрий Ионыч Старцев живёт в Дялиже, в девяти верстах от города. Весной, в праздник Вознесения, он идет в гости к Туркиным: «Он шел пешком, не спеша (своих лошадей у него ещё не было) и всё время напевал…».
Когда во второй главке рассказа Старцев приезжает к Туркиным, у него уже своя пара лошадей и кучер Пантелеймон. Глава завершается симптоматичной фразой: «Ох, не надо бы полнеть!».
В третьей части описано неудачное сватовство героя. «А приданого они дадут, должно быть, немало», – думает страстно влюблённый молодой человек. Он мечтает о переезде в город: «В городе, так в городе. Дадут приданое, заведём обстановку».
В четвёртой главке рассказа описываются события по прошествии четырёх лет. У Старцева уже большая практика в городе и тройка с бубенцами. «Он пополнел, раздобрел и неохотно ходил пешком», – замечает автор. Единственная радость и удовольствие в его жизни – доставать по вечерам «бумажки» (деньги) и пересчитывать их. Встретившись с Екатериной Ивановной, он думает: «А хорошо, что я на ней не женился».
Имя героя от главы к главе уменьшается в размерах: Дмитрий Ионыч Старцев – доктор Старцев – Ионыч. Постепенно герой лишается имени, потому что становится безликим. С точки зрения пространственной он постепенно всё больше втягивается в жизнь города С., у него расширяется практика. Растут доходы и жадность к деньгам. Сам герой становится всё более неповоротливым и тучным. Мы постоянно чувствуем течение времени в рассказе. И только последняя глава – это точка, а не линия, застывшее в безысходности настоящее. В последней главе автор неожиданно меняет прошедшее время на настоящее, образ героя становится почти гротескным, а отношение к нему автора – предельно ясным: «Старцев ещё больше пополнел, ожирел, тяжело дышит и уже ходит, откинув назад голову». Пухлый, красный, он похож на языческого бога. В городе у него громадная практика, ему принадлежат имение и два дома. Однако он не бросает и земскую службу в Дялиже – «жадность одолела».
Все эти детали важны Чехову, чтобы подчеркнуть духовные перемены, происходящие с героем. Всё лучшее, что в нем есть: чуткость, способность любить, увлечённость работой, музыкальность – сходит на нет. Чуткость становится грубостью и равнодушием, страсть к работе – жадностью к деньгам, от страстной любви к Котику остается вопрос.: который звучит в финале: «Это вы про каких Туркиных? Это про тех, что дочка играет на фортепьянах?».
Рассказы Чехова вмещают острейшие конфликты, множество событий, исполнены напряжённого психологизма. В них предельно значимо каждое слово, важнейшую роль играет второй смысловой план, подтекст, огромно значение детали. Характерен для позднего Чехова открытый финал.
В конце 90-х гг. в рассказах Чехова появляются развёрнутые медитации, философские рассуждения. А. Измайлов в 1898 г. писал: «…нам кажется, что настаёт серьёзный перелом в творчестве г. Чехова… Объективное, спокойное изображение действительности уступает место философскому обсуждению зол жизни, выступает на сцену не факт, но философия факта». Это замечание критика особенно отвечает художественной структуре «маленькой трилогии» Чехова: «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», единственного в творчестве писателя цикла рассказов. Их объединяют общие герои, каждый из которых становится рассказчиком очередной истории, сама композиционная структура рассказа в рассказе, взволнованный комментарий-вывод, которым непременно сопровождается повествование.
Возвращаясь к темам ранних рассказов, Чехов показывает, как смешон и отвратителен страх перед жизнью. Беликов – тиран и жертва в одном лице, он жалок, смешон – и держит в страхе весь город. Смерть его также анекдотична, как смерть чиновника Червякова. Создавая образ человека в футляре в первом рассказе цикла, писатель прибегает к откровенной характеристике персонажа через настойчивое повторение заглавной детали и гротеск. Однако осмеянием героя рассказ далеко не ограничивается. Сама жизнь, «не запрещённая циркулярно, но и не разрешённая вполне», порождает множество Беликовых: «А разве то, что мы живём в городе в духоте, в тесноте, пишем ненужные бумаги, играем в винт, разве это не футляр? <…> нет, больше жить так невозможно», – таков итог первого рассказа трилогии.
Во втором рассказе описываются менее явные проявления «футляра», которым человек добровольно уродует свою жизнь, – это короста материальности. Брат Чимши– Гималайского свёл смысл своего существования к приобретению собственной усадьбы, где непременно будет расти крыжовник. И эта, на первый взгляд, безобидная мания, приводит героя к полной потере человеческого облика. Чехов вновь прибегает к гротеску и градации в изображении вожделенной жизни в усадьбе: «Иду к дому, а навстречу мне рыжая собака, толстая, похожая на свинью. Хочется ей лаять, да лень. Вышла из кухни кухарка, голоногая, толстая, тоже похожая на свинью, и сказала, что барин отдыхает после обеда. Вхожу к брату, он сидит в постели; колени покрыты одеялом; постарел, расползся, обрюзг, щеки, нос и губы тянутся вперед, – того и гляди, хрюкнет в одеяло».
Под сомнение ставится убогое счастье, которое разъединяет людей, делает их равнодушными друг к другу. Рассказ снова завершается эмоциональным монологом, придающим частному сюжету предельно обобщающий смысл: «Я соображал: как, в сущности, много довольных, счастливых людей! <…> Всё тихо, спокойно, и протестует одна только немая статистика: столько-то с ума сошло, столько-то вёдер выпито, столько-то детей погибло от недоедания. <…> Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные…»
Завершающий рассказ трилогии – «О любви» – самый сложный для интерпретации и однозначных выводов. От внешней, общественной и частной жизни человека, писатель переходит к анализу тонких душевных движений, к проблеме личного счастья, без которого так трудно жить человеку. История любви Алёхина к жене Лугановича Анне Алексеевне, воспринятая в контексте рассказов «Человек в футляре» и «Крыжовник», заново ставит вопросы, казалось бы, давно уже разрешённые. «До сих пор о любви была сказана только одна неоспоримая правда, а именно, что “тайна сия велика есть”», – размышляет герой-рассказчик. Вывод, который звучит в финале повествования, самый взволнованный и неопределённый в трилогии: «Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе».
Тема любви как огромной преображающей человека силы раскрывается и в рассказе «Дама с собачкой» (1899). Всё в этом произведении подчинено главной задаче – показать, как недалекий и чёрствый человек неожиданно для себя становится чутким и любящим. История взаимоотношений Гурова и Анны Сергеевны начинается как обычный курортный роман: события первых двух глав происходят в Ялте, летом. Они вполне соответствуют традиционной сюжетной схеме – завязка (знакомство), кульминация (близость) и развязка (расставание). Вот только кульминация и развязка оказываются ложными. В третьей и четвёртой части автор переносит нас в другое пространство и время – события происходят зимой, в Москве и городе С. Они составляют второй виток сюжета – историю подлинно глубокого взаимного чувства. В конце второй главы Чехов описывает этот переход как пробуждение от сладкого забытья и подчёркивает его пространственно-временными деталями: «Здесь на станции уже пахло осенью, вечер был прохладный. “Пора и мне на север, – думал Гуров, уходя с платформы. – Пора!”».
Используя повторяющиеся детали и зеркальные эпизоды, Чехов подчёркивает поразительную перемену, произошедшую в отношении Гурова к Анне Сергеевне: «Тогда он пристально поглядел на нее и вдруг обнял её и поцеловал в губы, и его обдало запахом и влагой цветов, и тотчас же он пугливо огляделся: не видел ли кто?» (2 часть); «Повыше, на площадке, два гимназиста курили и смотрели вниз, но Гурову было всё равно, он привлек к себе Анну Сергеевну и стал целовать её лицо, щёки, руки» (3 часть).
Подчёркивает эту внутреннюю трансформацию героя название рассказа. В первой главе героиня воспринимается Гуровым извне, как объект новой интрижки, как «дама с собачкой». Во второй заглавие рассказа отзывается так: «Анна Сергеевна, эта “дама с собачкой”, к тому, что произошло, отнеслась как-то особенно, очень серьёзно…». Необычное поведение героини подталкивает Гурова к тому, чтобы воспринять её как личность. В третьей главе заглавное словосочетание звучит как саркастическая насмешка героя над самим собой: «Вот тебе и дама с собачкой… Вот тебе и приключение… Вот и сиди тут». После этого оно исчезает из рассказа, вытесненное именем героини.
В «Даме с собачкой» проявилась высшая степень чеховского психологизма – тончайшие душевные процессы, чувства героев писатель передаёт через детали и символы (например, символику серого цвета), через восприятие пейзажа (поездка в Ореанду), описание поведения героев: «Гуров хотел позвать собаку, но у него вдруг забилось сердце, и он от волнения не мог вспомнить, как зовут шпица».
Кульминация в третьей и четвёртой части, связанная с осознанием Гуровым любви к Анне Сергеевне, неотделима от переоценки им всей своей жизни: «Какие дикие нравы, какие лица! Что за бестолковые ночи, какие неинтересные, незаметные дни! <…> какая-то куцая, бескрылая жизнь, какая-то чепуха, и уйти и бежать нельзя, точно сидишь в сумасшедшем доме или в арестантских ротах!» А развязки нет вовсе: «…и обоим было ясно, что до конца ещё далеко-далеко…»
Столь же неопределённый открытый финал венчает последний рассказ Чехова «Невеста» (1903). Героиня рассказа – Надя Шумина – отказывается от замужества, спокойного, заранее известного уклада жизни и уезжает из дома: «Она пошла к себе наверх укладываться, а на другой день утром простилась со своими и, живая, весёлая, покинула город – как полагала, навсегда». В сюжете этого рассказа и образах персонажей (особенно Нади и Саши) очевидны переклички с пьесами Чехова, в первую очередь с комедией «Вишнёвый сад».
Последние годы Чехов по настоянию врачей жил в Ялте. Он страстно увлёкся театром и большую часть времени отдавал драматургии. В 1901 г. женился на актрисе МХТ O.Л. Книппер. Эти годы – самый тяжёлый и драматический период его жизни. Он жил в разлуке с женой, в отрыве от привычной столичной среды, в нелюбимом городе, в полном сознании близкой смерти. Уезжая летом 1904 г. за границу, на юг Германии, он говорил: «Еду умирать». Работа в эти годы шла медленно и мучительно – его физические силы были на исходе. Работая над рассказом «Невеста», он писал «по 6–7 строк в день». В апреле 1904 г. Чехов показывал Н.Г. Гарину-Михайловскому свои записные книжки: «Листов на пятьсот ещё неиспользованного материала. Лет на пять работы. Если напишу, семья останется обеспеченной». В июле 1904 г. Чехов, находясь на лечении в Южной Германии (курорт Баденвейлер), умер. Тело его было перевезено в Россию, и похоронен великий русский писатель был в Москве на Новодевичьем кладбище. Подвести итог всего сделанного за недолгую жизнь этим фантастически талантливым и трудолюбивым человеком можно словами Андрея Белого: «Чехов – это завершение целой эпохи русской литературы».
Драматургия Чехова
Чеховская драматургия сыграла особую роль в развитии русской драмы и русского театра. Не просто значительную или выдающуюся, а именно – особую. Чехов-драматург художественно осмыслил философское и эстетическое наследие русской драмы девятнадцатого века и предугадал многие художественные явления века двадцатого, воплотив свои предвидения в новую эстетику, в новый тип драмы, во многом определивший развитие всего мирового театра на целое столетие.
Драматургическое наследие Чехова составляет более двадцати пьес, среди которых наиболее известны так называемая «Пьеса без названия» – первый драматургический опыт писателя, «Иванов» (1887), водевили «Гамлет, принц Датский» (не окончен, сохранился лишь план), «Медведь», «Предложение» (оба – 1888), «Свадьба» (1890) и «Юбилей» (1891), пьесы «Леший» (1889), «Чайка» (1895), «Дядя Ваня» (1896), «Три сестры» (1900) и «Вишнёвый сад» (1903).
Не простым был и путь Чехова к признанию его драматургических произведений. С тринадцатилетнего возраста он стал завсегдатаем галёрки Таганрогского театра, в гимназические годы издавал рукописный журнал, писал одноактные комедии и начал работу над большим драматургическим произведением. Начинающий драматург послал своё творение знаменитой актрисе Малого театра М.Н. Ермоловой, однако пьеса вернулась к автору, по всей вероятности, непрочитанной.
Театральные неудачи продолжали преследовать Чехова и тогда, когда он стал уже признанным прозаиком и всерьёз решил обратиться к драматургическому поприщу. Малоуспешной была постановка «Иванова», увидевшая свет рампы в Московском театре Ф.А. Корша и вызвавшая в публике, по определению самого автора, реакцию «всеобщего аплодисменто-шиканья». Некоторые критики и литераторы уже в ту пору признали чеховский дар драматурга, в частности, «большое драматургическое дарование» автора пьесы отметил Н.С. Лесков.
Однако еще более тяжёлые удары ждали Чехова после премьеры «Лешего» в конце 1889 г. на сцене театра М. М. Абрамовой, куда перешла часть артистов из театра Корша. «Первый спектакль с «Лешим» шёл на праздниках (Рождества), – вспоминал зритель. – … Публика была праздничная и к драматическим тонкостям и достоинствам в высшей степени равнодушная». Равнодушие большинства публики привело, по свидетельству того же мемуариста, «к грандиозному скандалу, к которому приложили руку все недоброжелатели Чехова, все завистники».
А затем последовал грандиозный провал «Чайки» в Александринском театре в 1896 г. Чехова потрясло тогда и злорадство собратьев по перу, писавших, что он «кончился», что его перехвалили, что он написал «дичь». Он досадовал и на театр, и на режиссёра, не понявшего новаторской природы пьесы, и на публику, собравшуюся повеселиться на бенефис любимой комической актрисы Е.И. Левкеевой. Но даже этот провал потряс, но не сломал автора. Поклявшийся больше никогда не писать пьес Чехов вскоре приступил к переработке «Лешего», в результате чего родилось новое драматургическое произведение – «Дядя Ваня». А затем к Чехову-драматургу пришел безоговорочный успех и признание «живым классиком».
«Потребовалось несколько лет и блистательная постановка «Чайки» в новорожденном Художественном театре, – отмечает А.М. Турков, – чтобы то, что ощущалось как решительный недостаток чеховских пьес, стало наконец осознаваться в своем истинном качестве – как достоинство, как новая ступень, на которую, сблизившись с великой русской прозой, поднялась драматургия».
По сей день чеховские пьесы скрывают в себе некую тайну, не объяснимую только художественными достоинствами, манят чудной разгадкой её, обещают возвышенное откровение. Именно поэтому так необыкновенно богата сценическая история чеховской драматургии, а в мировом театре последнего десятилетия XX в. Чехов стал, безусловно, самым репертуарным из классиков, оставив позади даже Шекспира. Пожалуй, нет в современной мировой театральной практике ни одного известного режиссера, который не внёс бы свой вклад в сценическую историю чеховских пьес – это и Брук, и Ронкони, и Стрелер, и Крейча, и Штайн, и Палитч, и Шеро и многие-многие другие.
Секрет, видимо, в том (и это отмечают сами постановщики), что чеховская драматургия универсальна. Она способна органично влиться в любое время и выразить не только его доминантные черты, но и озвучить самые неуловимые, тончайшие нюансы духовной жизни. Известные хрестоматийные чеховские слова о выдавливании «из себя раба», о его личном непростом пути к подлинной духовной свободе, определяют не только духовный мир писателя, они служат ключом к его произведениям, и в том числе к произведениям драматургическим.
Да, герой «Чайки» начинающий писатель Константин Треплев с болью восклицал: «Новые формы нужны!» Но, думается, и само стремление к обновлению драматургической формы было продиктовано для Чехова прежде всего обретением этой внутренней духовной свободы. «Герои Чехова состоят в прямом родстве с лишними людьми Пушкина и Лермонтова, в отдалённом – с маленьким человеком Гоголя и в перспективе не чужды сверхчеловеку Горького. Составленных из столь пестрой смеси, всех их отличает одно – свобода», – справедливо отмечают П. Вайль и А. Генис.
Герой Чехова – прежде всего свободный человек, который оставляет свой след в мире уже тем, что живёт вне зависимости от более или менее успешного соблюдения общепринятых формальностей, связанных с родом занятий, социальным положением или степенью личной одарённости. Для Чехова вовсе не принципиально, что одна из трех сестёр – Ирина – служит на телеграфе, другая – Ольга– в гимназии, а третья – Маша служит вообще. Всё могло бы быть наоборот, и от перемены мест слагаемых (т. е. рода занятий каждой из героинь) общая атмосфера и характер конфликта пьесы не претерпели бы существенных изменений. Ни та, ни другая, ни третья не удовлетворены своим положением в настоящем, но корень этой неудовлетворённости следует искать никак не во внешних атрибутах, в том числе связанных с профессией. Если в драме дочеховского периода перемена в профессиональной сфере (например, получение или неполучение должности, места в пьесах А.Н. Островского или А.В. Сухово-Кобылина) могла стать источником и движущей силой конфликта, то получение, скажем, Гаевым места в банке никак не изменит его судьбы – поэтому и о самом этом факте в пьесе говорится вскользь, мимоходом, между прочим.
В героях Чехова всегда ощутим серьёзный внутренний потенциал – писательский талант Треплева и актерский – Заречной; духовная утончённость, изящество и потребность в любви Маши, Ирины и Тузенбаха; искренность, чуткость и способность к самопожертвованию Войницкого и Сони; наконец, подлинный и высокий аристократизм (несмотря на всё внешнее легкомыслие) Раневской. Но этот потенциал, как правило, остаётся нереализованным.
Во всех чеховских пьесах перед нами – несложившиеся судьбы, нерастраченные духовные силы и интеллектуальные возможности, так и ушедшие в песок, превратившиеся в ничто. «Если бы я была таким писателем, как вы, то я отдала бы толпе всю свою жизнь, но сознавала бы, что счастье её только в том, чтобы возвышаться до меня, и она возила бы меня на колеснице», – восторженно восклицает во втором действии пьесы «Чайка» влюблённая, окрылённая и полная надежд Нина, а в финале она же горько констатирует: «Вы – писатель, я – актриса… Попали и мы с вами в круговорот… Жила я радостно, по-детски – проснёшься утром и запоёшь; любила вас, мечтала о славе, а теперь? Завтра рано утром ехать в Елец в третьем классе… с мужиками, а в Ельце образованные купцы будут приставать с любезностями Груба жизнь!» И вслед за героиней «Чайки» подобный горький путь разочарований и ошибок проходят все главные (да и неглавные в традиционной драматургической классификации) герои чеховской драматургии.
В чем причина такой всеобщей нереализованности? В том, что «среда заела»? Или в пресловутой тине мелочей, которая, как болото, засасывает все лучшие душевные порывы героев? Пожалуй, верно – ведь так «груба жизнь»! Но такое объяснение неизбежно представляется поверхностным и слишком простым, когда мы глубже проникаем в чеховский мир. Тогда, может быть, причина в самих героях? Действительно, они много жалуются, но ничего не делают решительного, чтобы каким-то образом изменить свою судьбу. Что бы трем сёстрам не поехать в Москву, о которой они так мечтают? Что бы Раневской и Гаеву не разбить вишнёвый сад на участки под дачи, как советует Лопахин? Однако вполне очевидно, что подобные действия – поездка в Москву или продажа сада – ничего решительно в судьбе персонажей не изменят. Да что там поездки и продажи, когда здесь даже выстрелы звучат «вхолостую». В том смысле, что ничего не разъясняют в характере героев (самоубийство Иванова, например, не есть разгадка его человеческой сущности, скорее, ещё одна, последняя, загадка).
В чём же дело? Что же не так в этом мире и в этих хороших, в сущности, людях? Вот уже сто лет мировой театр мучается чеховскими неразрешимыми вопросами. Этот странный разлад мысли и поступка, внешняя нелогичность поведения его героев… Что это – болезнь, от которой нужно излечиваться? Или особое состояние духа, которое необходимо понять и принять? Как не вспомнить здесь Коврина из рассказа «Чёрный монах», который столь сродни драматургическим персонажам! Любящие и желающие добра люди излечили Коврина от душевной болезни, избавили от галлюцинаций и – тем убили его особый мир, своеобразие его души и, как полагает сам герой, его талант. «Зачем, зачем вы меня лечили? – горестно восклицает Коврин. – …Я сходил с ума, у меня была мания величия, но зато я был весел, бодр и даже счастлив, я был интересен и оригинален. Теперь я стал рассудительнее и солиднее, но зато я такой, как все: я – посредственность, мне скучно жить… О, как вы жестоко поступили со мной! Я видел галлюцинации, но кому это мешало? Я спрашиваю: кому это мешало?» Да, чеховский герой – всегда живой вопрос, всегда загадка, неисчерпаемая в своей глубине и тайне.
Решив отвлечься немного от персонажей и оглянуться вокруг, на тот мир, что их окружает, мы неизбежно приходим к набоковскому выводу о том, что «Чехов сбежал из темницы детерминизма, от категории причинности, от эффекта – и тем освободил драму». Получается, что и здесь он совершил трудный путь из «темницы» условностей к свободе творчества.
Что же навеял ему «воздух свободы», что дал возможность понять об окружающем мире? Прежде всего то, что он стремительно уходит из-под ног человека XX в., он дробится, распадается, и разум человеческий слишком слаб, чтобы по-настоящему осознать этот распад. Рушатся родственные связи – даже близкие, даже любящие люди не в состоянии понять друг друга. «В вашей пьесе трудно играть», – говорит Треплеву Нина. «Ради шутки я готова слушать и бред, но ведь тут претензии на новые формы, на новую эру в искусстве. А по-моему, никаких тут новых форм нет, а просто дурной характер», – вторит ей Аркадина.
По существу каждый чеховский персонаж – это вещь в себе, замкнутая, закрытая и вполне самодостаточная система. «…В каждом из нас слишком много колёс, винтов и клапанов, – говорит Иванов доктору Львову, – чтобы мы могли судить друг о друге по первому впечатлению или по двум-трём внешним признакам. Я не понимаю вас, вы меня не понимаете, и сами мы себя не понимаем». Здесь каждый сам себе и жертва, и палач, и судья, и обвинитель, и защитник. И в этот замкнутый мир нам – читателям и зрителям – тоже непросто проникнуть. Любой из чеховских персонажей мог бы, наверное, произнести слова Ирины из «Трёх сестёр»: «Я не любила ни разу в жизни. О, я так мечтала о любви, мечтаю уже давно, дни и ночи, но душа моя, как дорогой рояль, который заперт и ключ потерян». Поэтому чеховских героев либо жаль – всех, либо не жаль – но тоже всех. Все правы и все виноваты, все по-своему несчастны.
Чеховские герои не слышат друг друга, поэтому в его пьесах мы находим не диалоги или полилоги, а длинные монологи одних персонажей, то и дело невпопад прерываемые монологами других. Каждый говорит о своём, о самом наболевшем, будучи уже не в состоянии почувствовать и разделить чужую боль. А если даже можно почувствовать и разделить, помочь всё равно ничем нельзя. Поэтому даже любовь Маши и Вершинина в «Трёх сёстрах» – это, скорее, страдание в унисон, когда монологи героев вдруг гармонично сливаются в своей тональности и герои по созвучию переживаний наконец узнают друг друга. «Бедная моя, хорошая, – сокрушается только что купивший вишнёвый сад Лопахин, – не вернёшь теперь. (Со слезами.) О, скорее бы всё это прошло, скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная, несчастливая жизнь». Реальная и бесповоротная картина распавшегося космоса (причём на всех уровнях – от концептуального до языкового) будет явлена читателю и зрителю очень скоро, всего через четверть века после смерти Чехова, в драматургии обэриутов (Д. Хармса, А. Введенского и др.), а вслед за ними в европейском театре абсурда 1950—1960-х гг. (С. Беккет, Э. Ионеско и др.).
Героям Чехова очень неуютно в настоящем, здесь они не находят душевного (а часто и житейского) пристанища. Они ведут своеобразное «вокзальное» существование, их жизнь состоит из во многом случайных встреч и расставаний, а по большей части они лишь ждут этих встреч. Можно даже сказать, что все пьесы Чехова – это своеобразный зал ожидания для их героев. Причём ждут здесь не только и не столько людей, но будущего, которое принесёт с собой более осмысленную, более совершенную жизнь.
Вообще у чеховских героев с настоящим временем отношения сложные. Они мало думают и говорят о дне сегодняшнем, они не укоренены в нём. Они либо с тоской говорят о прошлом, представляя его в воспоминаниях неким потерянным раем («Отец получил бригаду и выехал с нами из Москвы одиннадцать лет назад, и, я отлично помню, в начале мая, вот в эту пору, в Москве уже всё в цвету, тепло, всё залито солнцем», – вспоминает Ольга в «Трёх сёстрах». «О, мое детство, чистота моя! В этой детской я спала, глядела отсюда на сад, счастье просыпалось вместе со мною каждое утро», – вторит ей Любовь Андреевна Раневская в «Вишнёвом саде»), либо столь же упоённо мечтают о будущем., которое, заметим, измеряется для чеховских персонажей не годами и даже не десятилетиями, а сотнями лет, либо вообще не определяется во времени. «Мы отдохнём! Мы услышим ангелов, мы увидим всё небо в алмазах, мы увидим, как всё зло земное, все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собою весь мир, и наша жизнь станет тихою, нежною, сладкою, как ласка. Я верую, верую…», – так вдохновенным апофеозом надежд на будущее звучит молитва некрасивой и несчастливой Сони в «Дяде Ване».
Традиционно исследователи отмечают чеховский подтекст, открытые финалы его пьес. Безусловно, сама возможность открытого финала связана с совершенно особым типом чеховского конфликта. Реальные взаимоотношения и столкновения чеховских персонажей – лишь видимая малая часть айсберга, ледяной глыбы противоречий, основная масса которой как раз и уходит вглубь, в подводное течение, в подтекст.
В конфликте вокруг вишнёвого сада в последней чеховской пьесе вполне можно обозначить традиционные завязку (затруднительное положение хозяев и в связи с этим вопрос о судьбе поместья), кульминацию (торги) и развязку (покупка сада Лопахиным и отъезд прежних хозяев). Но, как уже отмечалось, великий парадокс чеховской драмы состоит в том, что внешний конфликт здесь может разрешиться каким-то образом, но по существу ничего не разрешается, не изменяется в судьбах героев.
Представляется не вполне справедливым распространённое суждение о том, что герои Чехова – такие тонко чувствующие, интеллигентные, ранимые – совершенно не способны на поступок, что их существование пронизано скукой и безверием. Напротив, персонажи чеховских пьес поступки совершают: уходит из родительского дома Нина Заречная, чтобы осуществить свою мечту и стать актрисой; стреляет в Серебрякова Войницкий; отправляется на дуэль и гибнет Тузенбах; покупает вишнёвый сад Ермолай Лопахин. Чеховские герои не просто скучают – они трудятся, они честно несут свой крест: Нина Заречная играет на провинциальной сцене, Войницкий и Соня хозяйствуют в имении, Астров лечит и сажает леса, Ольга преподает, Ирина служит на телеграфе, постоянно в работе Лопахин. Другое дело, что любимые чеховские герои всегда не удовлетворены тем, что сделали: слишком высокую жизненную планку они сами себе устанавливают, вечно мучаются тем, чего еще не достигли. И это отнюдь не ущербность, напротив – свойство людей образованных, умных, талантливых, ведь, по определению самого Чехова в одном из писем к брату: «Истинные таланты всегда сидят в потёмках, в толпе, подальше от выставки… Если они имеют в себе талант, то уважают его. Они жертвуют для него покоем, женщинами, вином, суетой… Тут нужны беспрерывный дневной и ночной труд, вечное чтение, штудировка, воля, тут дорог каждый час…»
Что же касается вопросов веры, то в этой области Чехов был, пожалуй, особенно деликатен и по поводу собственных убеждений, и по поводу воззрений своих героев. Убеждены они в одном – человек должен быть верующим, должен искать веры. К такому выводу приходит Нина Заречная в «Чайке» и говорит Треплеву о том, что главное в жизни – «это умение нести свой крест и верить». Об этом же рассуждает Маша в «Трёх сёстрах»: «Или знать, для чего живёшь, или же всё пустяки, трын-трава…» Вершинин в тех же «Трёх сёстрах» исповедует веру в то, что счастье есть удел наших далёких потомков, и эта вера, несмотря на все его домашние несчастья, помогает герою «нести свой крест».
Есть среди чеховских персонажей и такие, которые благополучно заменили веру расчётом и пользой. Эта внутренняя подмена сближает, казалось бы, таких разных героев, как Наташа («Три сестры») и Лопахин («Вишнёвый сад»). Наташа являет собой яркий пример агрессивного прагматизма: вилка не должна валяться в углу, а находиться в положенном ей месте; старая нянька должна быть изгнана из дома, потому что отработала свой срок и стала бесполезной; старую еловую аллею необходимо вырубить и посадить на её месте цветочки, которые тоже должны приносить пользу – сладко пахнуть и радовать взгляд хозяйки. Таково же, по существу, и стремление Лопахина: «Если вишнёвый сад и землю по реке разбить на дачные участки и отдавать потом в аренду под дачи, то вы будете иметь самое малое двадцать пять тысяч в год дохода. Завоёванное окружающее пространство должно приносить пользу, и прибыль от вырубки сада уже просчитана. Герои, подобные Наташе или Лоиахину, не только разрушители, они тоже созидают – созидают свой уютный, выгодный, понятный мир, в котором веру заместила польза.
В связи с этим, казалось бы, напрашивается вывод, что герои-предприниматели в поздних чеховских драмах неизбежно вытесняют из жизненного пространства героев-романтиков. Однако думается, что это не совсем так. Да, они торжествуют в своём тесном мирке практической выгоды, но при этом внутренне все же несчастны, независимо от того, осознают они это сами (как Лопахин) или не осознают (как Наташа). Так что вопрос о победителях у Чехова, как правило, остаётся открытым: кто же может назвать себя обладателем единственно правильной, настоящей веры? Американский драматург А. Миллер справедливо заметил, размышляя о чеховских драмах: «Это великие пьесы… не потому, что они не дают ответов, а потому, что они так неистово жаждут открыть их, в ходе поисков вовлекают в поле зрения целый исторический мир».
В связи с этим неправильно было бы также говорить и о принципиальной бесконфликтности чеховской драматургии. Конфликт, безусловно, существует, но он столь глобален, что разрешить его в рамках одного произведения не представляется возможным. Этот конфликт есть следствие мировой дисгармонии, того распада и крушения межличностных связей и отношений человека с миром, о которых уже было сказано выше.
Не будем также забывать, что Чехов был современником «поэта мировой дисгармонии» И.Ф. Анненского, современником старших символистов и «почти современником» А. Блока и А. Белого. Вот почему символы как знаки этой мировой дисгармонии так важны в пьесах Чехова и, пожалуй, особенно в его последней драме – «Вишнёвый сад». Яркую, убедительную характеристику сада как центрального символа этой пьесы предлагали в своих работах многие специалисты, и думается, нет нужды ещё раз повторять здесь сказанное другими исследователями. Следует, однако, отметить, что символы у Чехова всё же иной природы, нежели в мироощущении и творчестве символистов. Двоемирие последних Чехову было безусловно чуждо, а сам вопрос о чеховских взглядах касательно проблем религиозных, богословских или теософских слишком дискуссионный. Чеховские символы всё же принадлежат «этому» миру, хотя и являются столь же загадочными, неисчерпаемыми, как Прекрасная Дама или Недотыкомка символистов. Так, например, в пьесе «Чайка» символические образы Мировой души, Чайки, Озера, Театра взаимодействуют со сквозными темами и ситуациями и тем самым образуют эмоционально-философское «подводное течение» чеховской драмы, организуют движение авторской мысли и единое драматическое действие.
В чеховской драматургии (как, впрочем, и в прозаических произведениях) нашли своеобразное воплощение два важнейших, определяющих образа-символа всей русской драматургии девятнадцатого столетия – «лес» и «сад».
Разрешая к постановке последнюю пьесу Чехова «Вишнёвый сад», излишне осторожный цензор вычеркнул крамольные, как ему показалось, слова Пети Трофимова: «Владеть живыми душами – ведь это переродило всех нас, живших раньше и теперь живущих, так что ваша мать, вы, дядя, уже не замечаете, что вы живёте в долг, на чужой счёт, на счёт тех людей, которых вы не пускаете дальше передней…» Позже справедливость была восстановлена, монолог «вечного студента» возвращён на должное место. Однако в связи с образом сада в чеховской драматургии весьма важны строки, которыми автор заменил не понравившийся цензору монолог и которые теперь мы в тексте пьесы не увидим. «О, это ужасно, – восклицает чеховский персонаж, – сад ваш страшен, и когда вечером или ночью проходишь по саду, то старая кора на деревьях отсвечивает тускло и, кажется, вишнёвые деревья видят во сне то, что было сто, двести лет назад, и тяжёлые сны томят их. (Пауза.) Что говорить!»
Образ сада, столетиями живущего своей загадочной жизнью, видящего странные сны, помнящего людей, бывших и нынешних хозяев поместья, осыпающего вишнёвый цвет бесшумно и незаметно, играет важную роль не только в последней пьесе, но и во всём творчестве Чехова. Он точно уловил доминирующее настроение рубежа веков: кризис и стремление этот кризис преодолеть, гибель старых надежд и обретение нового духовного зрения, равнодушие вечной природы к жизни и смерти каждого отдельного человека и медленное, неуклонное обращение людских взоров к высшим целям бытия. Не случайно это чеховское настроение так тонко прочувствовал А.А. Блок, писавший, что «всеобщая душа так же действенна и так же заявит о себе, когда понадобится, как всегда. Никакая общественная усталость не уничтожит этого верховного и векового закона. И, значит, приходится думать, что писатели недостойны услышать её дуновение. Последним слышавшим был, кажется, Чехов».
Таким образом, мифологемы «лес» и «сад» непосредственно участвуют в создании того особого – вселенского, космического – ритма, который отличает чеховскую драму, выводит её из узких рамок русской провинциальной жизни и вообще из атмосферы России рубежа веков на мировые просторы и делает героев «Чайки», «Дяди Вани», «Трёх сестёр», «Вишнёвого сада» участниками всемирной мистерии, диалога культур, мировоззрений, эпох. Ведь исследователями многократно отмечалось, что для полноценного понимания художественного мира чеховских пьес так много значат реминисценции из Платона, Марка Аврелия, Шекспира, Мопассана, Тютчева, Тургенева и др.
Пьесы Чехова для драматургии XX в., как Пушкин для русской литературы в целом, – «наше всё». В его творчестве можно обнаружить истоки чуть ли не всех сколько-нибудь серьёзных направлений в развитии мирового театра. Он своеобразный предтеча и символистского театра Метерлинка, и психологической драмы Ибсена и Шоу, и интеллектуальной драмы Брехта, Ануя, Сартра, и драмы абсурда, и современной постмодернистской драмы, поэтому в определённом смысле всю драматургию прошлого столетия можно назвать постчеховской драматургией. «Чехов несёт ответственность за развитие всей мировой драмы в XX веке», – писал драматург Э. Олби. «Иванов», «Чайка», «Дядя Ваня» по-прежнему не сходят со сцены, но сегодня, пожалуй, особенно волнуют театр две последние чеховские пьесы – «Три сестры» и «Вишнёвый сад». И это, наверное, связано с тем особым настроением рубежа веков, которое Чехов так чувствовал, так выстрадал всей своей жизнью. Здесь, очевидно, причина того, что «век Чехова» не имеет хронологических рамок, и сто минувших лет тому яркое свидетельство.
Литература
Шах-Азизова Т.К. Чехов и западноевропейская драма его времени. М., 1966.
Семанова М.Л. Чехов-художник. М., 1976.
Паперный 3. Вопреки всем правилам… Пьесы и водевили Чехова. М., 1982.
А.П. Чехов: Pro et contra: Творчество АП. Чехова в русской мысли конца XIX – начала XX в. (1887–1914): Антология. СПб., 2002.
Бердников Г.П. А.П. Чехов. Идейные и творческие искания. М., 1984.
Бялый Г.А. Чехов и русский реализм. Л., 1981.
Громов М.П. Чехов. М., 1993. (Жизнь замечательных людей)
Катаев В.Б. Проза А.П. Чехова: Проблемы интерпретации. М., 1979.
Полоцкая Э.А. АП. Чехов: Движение художественной мысли. М., 1979.
Полоцкая Э.А. О поэтике Чехова. М., 2001.
Сухих И.Н. Проблемы поэтики А.П. Чехова. Л., 1987.
Чудаков А.П. Мир Чехова: Возникновение и утверждение. М., 1986.
Головачёва А.Г. Пьеса «Чайка» в творческой эволюции А.П. Чехова 1890-х гг. Л., 1985.
Поэзия 80—90-х годов
В 1870-е гг. поэзия развивалась под знаком завершения «тютчевской» поэтической эпохи. Именно в этот период стала накапливаться та художественная энергия, которая предопределила переход в Серебряный век, где поэтической культуре будут принадлежать ведущие позиции. У истоков этого перехода оказались «старые» поэты – А.Н. Майков, Я. П. Полонский и А.А. Фет, влияние которых на развитие поэзии значительно усилилось к началу 1880-х гг.
Такое усиление обусловлено тем, что к этому времени в художественных системах Майкова, Полонского и Фета наиболее глубоко и органично эстетка романтизма объединилась с философией «чистого искусства». На основе нового художественного синтеза возник «союз» этих поэтов, о котором писал Майков в 1887 г. в стихотворении «Я.П. Полонскому»:
Так отблеск первых впечатлений, И тот же стиль, и тот же вкус В порывах первых вдохновений Наш уготовили союз. Друг друга мы тотчас признали Почти на первых же шагах И той же радостью в сердцах Успех друг друга принимали. В полустолетье ж наших муз Провозгласим мы тост примерный За поэтический, наш верный, Наш добрый тройственный союз!В этом «союзе» впереди окажется Фет. Данное обстоятельство признает сам Майков, подчеркнув в январе 1889 г. в стихотворении «А.А. Фету», что фетовские поэтические открытия «перейдут в наследие векам».
Именно фетовской поэзии суждено будет связать «тютчевскую» поэтическую эпоху с Серебряным веком. На эту высокую поэтическую миссию Фета (осуществление преемственности литературных эпох) особенно чутко откликнулся Вл. С. Соловьёв, многое воспринявший из непосредственного общения с поэтом во время знаменитых встреч в имении Фета Воробьёвка (Курской губернии).
«Внутренний духовный мир ещё более реален и бесконечно более значителен для поэта, чем мир материального бытия», – писал о Фете Соловьёв в статье 1890 г. «О лирической поэзии. По поводу последних стихотворений Фета и Полонского», стремясь и сам следовать по этому же поэтическому пути. Соловьёв постепенно усиливает философско-символическое начало, что приводит к появлению в его поэзии элементов символистской поэтики.
В этом же русле шло развитие поэзии Д.С. Мережковского, Н.М. Минского и К.Д. Бальмонта, только чуть с большим перевесом в сторону уже чисто символистских поэтических откровений (во второй половине 1890-х гг. это составит основу поэтики
В.Я. Брюсова). Эти откровения получат декларативное закрепление в 1892 г. в речи-манифесте Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», где «мистическое содержание, символы и расширение художественной впечатлительности» представлены как коренные свойства новой поэзии.
Однако далеко не вся поэзия ушла в сферу художественной абсолютизации символа. Вплоть до конца 1890-х гг. ярко заявляло о себе творчество поэтов-лириков романтического направления, скорбно-трагически изображавших несовершенство земного мира в противопоставлении тому идеальному миру, «где печаль над крылатой мечтой не властна» (А.А. Голенищев-Кутузов). Подобным романтическим энтузиазмом проникнута поэзия А.Н. Апухтина, К.К. Случевского, С.Я. Надсона, А.А. Голенищева-Кутузова, Д.Н. Цертелева, К.Н. Льдова, К.М. ФофаI нова, K.P. (К.К. Романова), М.А. Лохвицкой, ГТ.С. Соловьёвой, С.А. Андреевского, С.Г. Фруга, А.А. Коринфского Д.М. Ратгауза, И.О. Лялечкина, А.М. Добролюбова.
Но не только «романтическим двоемирием» отличалась эта поэзия. В ней довольно часто пробуждалось философское начало. В ней вспыхивали и мотивы гражданской лирики, не образуя при этом художественной доминанты.
Мотивы гражданской лирики доминируют в творчестве тех поэтов, которые следовали традициям «некрасовской школы». Особенно в этом отношении выделялась поэзия позднего А.Н. Плещеева В ноябре 1891 г. в Ницце он напишет стихотворение «Это пламенное солнце…», в котором мотив «гражданской скорби» получит поистине символическое выражение:
Но ликующей природе Не рассеять мрачных дум, Отравляющих печалью Сердце мне, гнетущих ум: В плеске волн и в шуме листьев, В песне ветра в час ночной Слышу плач я о невзгоде Стороны моей родной!С таким же риторическим напором воплощался гражданский пафос в поэзии П.Ф. Якубовича:
Опять над несчастной страной Сгущается сумрак насилья; Опять у свободы святой Оборваны светлые крылья 1885 г.Определяющее начало в этом поэтическом течении – лирическая гиперболизация гражданского пафоса и стремление воплотить «один из глубочайших родников всемирной поэзии – любовь к народу» (Д.С. Мережковский), что впечатляюще вырази-
А.А. Фет (1820–1892)
В 1880-е гг. русская поэзия развивалась под знаком окончательного породнения романтизма и «чистого искусства». Это станет самым характерным явлением «фетовского» периода (конец 1870-х – начало 1890-х гг.), когда влияние его будет наиболее сильным и значимым. Именно в творчестве Фета гармонично сливаются романтизм и эстетика «чистого искусства», что породило ту музыку стиха, которая предвосхищает художественные открытия поэтического символизма.
Жизненный путь Фета начался с сурового испытания. Мать его, Каролина Шарлотта Фёт, в 1820 г. уехала из Германии с отставным ротмистром, помещиком А.Н. Шеншиным. Вскоре родился Афанасий, которого АН. Шеншин усыновляет. Отец Шарлотты Карл Беккер пишет гневное письмо, из которого ясно: отец будущего поэта не Шеншин, а Иоганн Фёт – чиновник, служивший в суде г. Дармштадта. Всё это впоследствии признает и сам Фет и в несколько мифологизированном виде (отца представил учёным и адвокатом) изложит в письме к своей невесте М.П. Боткиной, которая затем станет его женой. По этим причинам в январе 1835 г. Орловская духовная консистория отлучила Афанасия от рода Шеншиных. Отнята была и фамилия. В 14 лет он становится гессендармштадским подданным и получает фамилию настоящего отца. Всё случившееся Фет пережил как трагедию, как несправедливый удар судьбы. Он ставит себе цель вернуться в дворянское лоно Шеншиных и с фанатическим упорством добивается её: с 1873 г. Фет по разрешению Александра II опять становится Шеншиным.
С 1835 по 1837 г. Фет учился в немецком пансионе Крюммера в г. Верро; он увлечённо занимается классической филологией и начинает писать стихи. Увлечение филологией приводит Фета на словесное отделение философского факультета Московского университета, который он окончил в июне 1844 г. В университетские годы Фет изучает историю мировой литературы, штудирует трактаты Шеллинга и Гегеля и продолжает писать пантеон», а с 1842 г. стихи Фета регулярно появляются на страницах журналов «Москвитянин» и «Отечественные записки». Творческий дебют оказался успешным. Профессор Московского университета С.П. Шевырёв, редактор «Москвитянина», часто принимает Фета у себя дома, добрыми советами поддерживая молодого поэта. С большой симпатией к дарованию Фета отнёсся прозаик и драматург М. П. Погодин, в пансионе которого Фет пробыл весь 1838 г. Затем следует знакомство с критиком В.П. Боткиным, который содействовал публикации стихотворений Фета в «Отечественных записках». Н.В. Гоголь и В.Г. Белинский одобрительно отзываются о стихах молодого поэта. С 1838 г. начинается дружба его с Аполлоном Григорьевым, в доме родителей которого Фет жил в студенческие годы. Как философ и поэт Григорьев сильно повлиял на Фета. Романсное начало в лирике Фета формируется под воздействием романтической поэзии Григорьева.
У Фета появляется великолепная возможность для литературного самоутверждения, но он предпочитает поступить на военную службу, чтобы вернуть дворянское звание. По данным «Летописи жизни А.А. Фета», составленной Г.П. Блоком, в 1845 г. Фет начинает службу унтер-офицером в кирасирском полку, находившемся в Херсонской губернии. Поэт с трудом входит в армейскую среду, но ради своей цели он готов выдержать любое испытание. Военную службу он подчиняет тренировке воли и выработке непоколебимого упорства «к мгновенному достижению цели кратчайшим путем». Это соответствует жизненной философии Фета, где главное – забота о будущем: «Я всегда держался убеждения, что надо разметить путь перед собою, а не за собою, и потому в жизни всегда заботило меня будущее, а не прошедшее, которого изменить нельзя».
Движение к цели по «размеченному» пути потребовало от Фета ещё одной жертвы. Полюбив Марию Лазич (они встретились осенью 1848 г.), Фет, однако, решает расстаться с возлюбленной, испугавшись житейских трудностей: Мария – бесприданница, а сам он был весьма стеснён в средствах. В браке он видит и существенное препятствие в продвижении по службе.
Как раз в это время Фет, уже офицер, добивается самых значительных успехов. Живя для будущего, поэт ещё раз приносит в жертву настоящее.
Фет не подозревает, что после смерти Марии (1850 г.), когда он достигнет Всех высот благополучия (дворянин, камергер, крупный помещик), произойдёт непредвиденное: он станет рваться из счастливого настоящего в прошлое, в котором навсегда осталась его возлюбленная. Преодолевая эту мучительную раздвоенность, Фет создаёт цикл исповедальных стихотворений, посвящённых Марии, куда уже традиционно относят такие стихи разных лет, как «В душе, измученной годами…», «Ты отстрадала, я ещё страдаю…», «Не вижу ни красы души твоей нетленной…», «Солнца луч промеж лип был и жгуч и высок…», «Долго снились мне вопли рыданий твоих…».
Сюда же примыкает исповедальный фрагмент поэмы «Сон поручика Лосева» (1856), где поэт признаётся в самом сокровенном: «Ты, дней моих минувших благодать, / Тень, пред которой я благоговею». Определяющая тональность цикла – трагическая. Не избежал Фет и сурового самоосуждения: он изображает себя «палачом», убившим Марию и своё собственное счастье. В раннем цикле «К Офелии» (1842–1847), хотя здесь другой женский прототип, поэт как бы предвосхитил всё то, что произойдёт с ним и Марией. «Офелия гибла и пела» – это символизирует трагическую судьбу Марии; другая же метафора («И многое с песнями канет / Мне в душу на тёмное дно») становится прологом его собственной духовной драмы.
Трагизм стихотворений о Марии усиливается ещё и влиянием «денисьевского» цикла Ф.И. Тютчева, поэзию которого Фет воспринимал как высшее откровение творческого духа (статья «О стихотворениях Ф. Тютчева» и лирические послания Тютчеву). Фет искал пути сближения со своим поэтическим божеством и нашел: их духовно породнило страдание. Фет был одним из немногих, кто видел Тютчева в дни скорби, когда тот оплакивал смерть Елены Денисьевой. Как только он увидел «изнемогающее лицо» Тютчева, то сразу ощутил: страдания Тютчева – это и его страдания. Автобиографизм Фета органично слился в цикле с духовной биографией Тютчева.
Встреча с Марией отразилась в поэзии Фета, а вот армейский быт не оставил следа, хотя он продолжал служить вплоть до 1858 г. В 1853 г. он добивается перевода в уланский полк, который располагался в Новгородской губернии, сравнительно недалеко от Петербурга. Теперь, часто бывая в Петербурге, Фет вновь возвращается в литературный мир; сближается с писателями и поэтами, сотрудничавшими в журнале «Современник». Его поддерживает И.С. Тургенев, а Н.А. Некрасов включает в число постоянных авторов «Современника». Но в 1859 г. Фет перестает сотрудничать в некрасовском журнале.
К этому времени определилась общественная и эстетическая позиция Фета, которая противоречила революционно-демократической идеологии. Поэт сознательно уходит от борьбы и всех «гражданских» вопросов, в этом отношении он был категоричен. Через тридцать лет в авторском предисловии к третьему выпуску «Вечерних огней» (1889) Фет напишет: «Мы, если припомните, постоянно искали в поэзий единственного убежища от всяческих житейских скорбей, в том числе и гражданских».
Заботясь больше об устройстве собственной жизни, Фет в 1860 г. покупает имение Степановка в Мценском уезде Орловской губернии и начинает создавать помещичье хозяйство. Революционно-демократическая критика осуждает его за чрезмерное проявление социального эгоизма. Особенно настойчив был в этом отношении М.Е. Салтыков-Щедрин, писавший в хронике «Наша общественная жизнь» в апреле 1863 г.: «Вместе с людьми, спрятавшимися в земные расселины, и г. Фет скрылся в деревню. Там, на досуге, он отчасти пишет романсы, отчасти человеконенавистничает; сперва напишет романс, потом почеловеконенавистничает, потом опять напишет романс и опять почеловеконенавистничает». Столь же резкими были выпады против Фета Д.И. Писарева и В.А. Зайцева, а Д.Д. Минаев создаёт его сатирический образ как прижимистого помещика: «Во время оно / Мы не знавали этих бед / И на работника Семёна / Тогда не жаловался Фет». Но даже суровая критика не может остановить Фета. Он продолжает укрупнять своё хозяйство, переехав в 1877 г. в купленное им имение Воробьёвка, которое находилось в Щигробском уезде Курской губернии. Почти безвыездно живёт Фет в Воробьёвке по 1881 г., а затем, приобретя дом в Москве, проводит там весну и лето. Круг замкнулся: Фет достиг всего того, к чему он стремился с молодых лет в противоборстве с судьбой.
Прагматизм Фета имел и другую направленность. Его творчество знаменует новый этап в развитии русской романтической эстетики. На этом этапе поэтическая возвышенность в сочетании с откровенным прагматизмом характерна для романтического жизнетворчества. Прагматизм Фета был обусловлен не только заботой о себе самом, но и о своей Музе. К нему рано пришло понимание того, что романтический поэт беззащитен перед миром и должен сам разумно устроить свою судьбу. По мысли Фета, велик тот поэт, который ради свободного общения со своей Музой нашёл прочную защиту от мира. Он убеждён, что создание своего прочного мира (для него это устройство имений в Степановке и Воробьёвке) – тоже творческая задача: «Насколько в деле свободных искусств я мало ценю разум в сравнении с бессознательным инстинктом (вдохновением), пружины которого для нас скрыты… настолько в практической жизни требую разумных оснований, подкрепляемых опытом». Только так поэт-романтик может завоевать творческую свободу.
Фет признавался, что его упорный прагматизм давал возможность «хотя бы на мгновение вздохнуть чистым и свободным воздухом поэзии». Не случайно во всех стихотворениях Фета, посвящённых Музе, декларируется идея независимости. Фет даже решается сравнить своё поэтическое слово с «божественной властью» («Муза», 1887). Его дуализм (поэт-прагматик) и есть проявление романтической свободы. У Фета, как у всякого поэта-романтика, жизнь и творчество образуют единый художественный мир. В центре фетовского мира образ поэта-творца, созданный в стихотворении «Не тем, Господь, могуч, непостижим…» (1879):
Нет, Ты могуч и мне непостижим Тем, что я сам, бессильный и мгновенный, Ношу в груди, как оный серафим, Огонь сильней и ярче всей вселенной.живёт Фет в Воробьёвке по 1881 г., а затем, приобретя дом в Москве, проводит там весну и лето. Круг замкнулся: Фет достиг всего того, к чему он стремился с молодых лет в противоборстве с судьбой.
Прагматизм Фета имел и другую направленность. Его творчество знаменует новый этап в развитии русской романтической эстетики. На этом этапе поэтическая возвышенность в сочетании с откровенным прагматизмом характерна для романтического жизнетворчества. Прагматизм Фета был обусловлен не только заботой о себе самом, но и о своей Музе. К нему рано пришло понимание того, что романтический поэт беззащитен перед миром и должен сам разумно устроить свою судьбу. По мысли Фета, велик тот поэт, который ради свободного общения со своей Музой нашёл прочную защиту от мира. Он убеждён, что создание своего прочного мира (для него это устройство имений в Степановке и Воробьёвке) – тоже творческая задача; «Насколько в деле свободных искусств я мало ценю разум в сравнении с бессознательным инстинктом (вдохновением), пружины которого для нас скрыты… настолько в практической жизни требую разумных оснований, подкрепляемых опытом». Только так поэт-романтик может завоевать творческую свободу.
Фет признавался, что его упорный прагматизм давал возможность «хотя бы на мгновение вздохнуть чистым и свободным воздухом поэзии». Не случайно во всех стихотворениях Фета, посвящённых Музе, декларируется идея независимости. Фет даже решается сравнить своё поэтическое слово с «божественной властью» («Муза», 1887). Его дуализм (поэт-прагматик) и есть проявление романтической свободы. У Фета, как у всякого поэта-романтика, жизнь и творчество образуют единый художественный мир. В центре фетовского мира образ поэта-творца, созданный в стихотворении «Не тем, Господь, могуч, непостижим…» (1879):
Нет, Ты могуч и мне непостижим Тем, что я сам, бессильный и мгновенный, Ношу в груди, как оный серафим, Огонь сильней и ярче всей вселенной. Меж тем как я – добыча суеты, Игралище её непостоянства, — Во мне он вечен, вездесущ, как Ты, Ни времени не знает, ни пространства.Духовные силы Фета всегда распределялись поровну: их ему всегда хватало на сотворение материального мира и на художественное творчество. Поэтому у Фета жизненные успехи всегда сопутствуют поэтическим. Период выпуска сборников «Вечерние огни» (1883–1891) – это период необычайного творческого взлета Фета, но как раз теперь он достиг полной материальной независимости. Довольно быстрое продвижение по службе (Фет был исполнительным офицером) как радостное эхо отозвалось в его поэтической деятельности: с 1850 по 1856 г. он выпускает две книги стихов.
В это время активно формируется поэтика Фета, давшая жизнь его всепоглощающей романтической устремлённости. В основе этой поэтики – фетовская натурфилософия, выражающая зримые и незримые связи человека и природы. Стремясь охватить их во всем многообразии, Фет создаёт целые циклы стихотворений: то, что не удавалось полностью воплотить в одном, тут же переходило в другое стихотворение. Развитие одной темы – главное организующее начало фетовских циклов и прежде всего таких, ккк «Весна», «Лето», «Осень», «Снега», «Гадания», «Вечера и ночи», «Море». Пантеистические пейзажи Фета за счет циклизации сливаются вместе, образуя единый символический пейзаж, который выражает состояние человеческой души.
Это состояние характеризуется тем, что романтический герой Фета стремится слиться с запредельным. Только жизнь в запредельном дает возможность ему пережить состояние абсолютной свободы. Но в это запредельное человека ведёт природа. Растворяясь в природном мире, погружаясь в самые таинственные его глубины, герой Фета обретает способность видеть прекрасную душу природы. Она становится обителью фетовского героя. Вне этой обители он не может жить. Самый счастливый миг для него – ощущение полного духовного слияния с
Целый день спят ночные цветы, Но лишь солнце за рощу зайдёт, Раскрываются тихо листы, И я слышу, как сердце цветёт. 1885Цветение сердца – символ духовного соединения с природой, причем такого соединения, которое происходит как эстетическое переживание. Поэтому эстетизм становится определяющим признаком психологизма Фета. Он первопричина отчуждения героя от реального мира: чем сильнее захватывает его эстетическое переживание природы, тем дальше он уходит от реальности. Такое раздвоение и есть художественное проявление романтического «двоемирия».
Эстетизм, таким образом, образует основу лирической поэтики Фета. Поэтому во всех стихотворениях, в том числе и в сборнике Фета 1863 г., повествовательные усилия направлены на то, чтобы создать атмосферу эстетического переживания, когда человек начинает говорить на прекрасном языке природы: «Вся эта ночь у ног твоих / Воскреснет в звуках пес но пенья» («Как ярко полная луна…», 1859); «Но безмолвствует, пышно чиста, / Молодая владычица сада: / Только песне нужна красота, / Красоте же и песен не надо» («Только встречу улыбку твою…», 1873).
В.Ф. Лазурский справедливо назвал эту атмосферу эстетического переживания «сладостной». Соприкосновение с душой природы доставляет лирическому герою Фета высшее эстетическое наслаждение, как это происходит, например, в стихотворении «Цветы» (1858):
Сестра цветов, подруга розы, Очами в очи мне взгляни, Навей живительные грёзы И в сердце песню зарони.Последний стих как нельзя лучше подчёркивает эстетическое начало в восприятии природы: переживание как песня. Таким обращениям к природе в лирике Фета нет конца. «Распахни мне объятья твои, / Густолистный, развесистый лес!» – призывает поэт в стихотворении «Солнце нижет лучами в отвес…» (1863). Возникает всё тот же лейтмотив: ему хочется соединиться с лесом для того, чтобы «сладко вздохнуть». Чуть раньше в стихотворении «На стоге сена ночью южной» (1857) Фет показал, что «сонмы звёзд» могут вызывать у человека ощущение райского блаженства:
Земля, как смутный сон немая, Безвестно уносилась прочь, И я, как первый житель рая, Один в лицо увидел ночь.Бесконечно повторяющееся состояние лирического героя Фета – это состояние эстетической восторженности. Читатель как бы постепенно вовлекается в процесс переживаний, а затем и сам становится участником эстетического действия:
Как нежно содрогнулась грудь Над этой тенью золотой! Как к этим призракам прильнуть Хочу мгновенною душой! («Тихонько движется мой конь…», 1862)Восторженная привязанность к природе уводит героя Фета в мир красоты, что и предопределяет его романтическое отчуждение от земного бытия. Такой же властью над ним обладает и женская красота. Для него созерцание лика любимой женщины сродни бесконечному любованию природой: это вызывает не меньший (если не больший) эстетический восторг. В поэтике Фета символ такой «всепобедной красоты» – Венера Милосская. Её красота – это красота небесная: «Как много неги горделивой / В небесном лике разлилось!» («Венера Милосская», 1856). Подобное же впечатление у Фета и от «Сикстинской Мадонны» Рафаэля: «…подняв глаза, я уже ни на минуту не мог оторвать их
Между стихотворением и путевой прозой есть совпадение – эпитет «небесный». Всюду, где Фет говорит о высшем проявлении женской красоты, появляется этот символический эпитет, выполняющий одну смысловую функцию: женская красота подобна прекрасной душе природы. Наиболее сильно фетовская философия женской красоты воплощена в стихотворении («Пойми хоть раз тоскливое признанье…», 1857), где небесный мотив синонимически заменяется божественным:
Пойми хоть раз тоскливое признанье, Хоть раз услышь души молящий стон, Я пред тобой, прекрасное созданье, Безвестных сил дыханьем окрылён… Её пою, во прах упасть готовый. Ты предо мной стоишь, как божество — И я блажен; я в каждой муке новой Твоей красы провижу торжество.С опорой на эту философию красоты Фет создаёт целый цикл лирических посланий, адресованных женщинам: А.Л. Бржеской, С.А. Толстой, А.А. Олсуфьевой, Е.С. Хомутовой, Н.М. Сологуб, Л.И. Офросимовой, М.Н. Коншиной, М.Ф. Ванлярской. Главное связующее звено цикла – натурфилософские мотивы, позволяющие Фету и природу сделать символом женской красоты.
В 1860-е гг. приостанавливается развитие лирической поэтики Фета Стихов в ту пору он пишет мало. Но зато не прекращается становление фетовского художественного мира в целом, включая прозу и публицистику. Как раз в это время в творчестве Фета проза потеснила стихи, что существенно повлияло на дальнейшее развитие его романтической лирики.
С 1862 по 1871 г. в журналах «Русский вестник», «Литературная библиотека», «Заря» были опубликованы два самых крупных прозаических цикла Фета: «Из деревни» и «Записки о вольнонаёмном труде». Определяющее начало в циклах – публицистика, но вместе с тем это самая настоящая деревенская проза: циклы состоят из очерков, рассказов и даже новелл. Активное общение с писателями круга «Современника» не прошло для Фета даром, он многое освоил в этой беллетристической школе, что сказалось на художественно умелом построении циклов. Особенно был важен для Фета художественный опыт И.С. Тургенева как автора «Записок охотника», с которым поэта связывала многолетняя творческая дружба (Фет даже доверил Тургеневу редактировать свой третий сборник стихотворений 1856 г.).
Циклизация сближает поэзию и прозу Фета, но во всём остальном они расходятся по разным полюсам как художественные антиподы. Сам Фет их настойчиво разграничивал, полагая, что проза – язык жизни обыденной, а поэзия выражает жизнь человеческой души. Всё то, что отвергалось поэзией Фета (мутный поток жизни), без напряжения принималось его прозой. Романтический дуализм предопределил и раздвоенность его поэтики: в поэзии Фет следует романтической традиции, а в прозе – реалистической с опорой на «натуральную школу». Поэтому в повести Фета «Семейство Гольц» (1870) печальная история семьи спившегося ветеринарного врача Гольца представлена как бытовая драма.
Социальность характерна и для деревенских циклов Фета, она питает публицистический пафос Фета. Публицистика имеет двойную направленность: это экономическая защита своего помещичьего хозяйства и утверждение мысли о преимуществе вольнонаёмного труда. В первом случае Фетом декларируется мысль о том, что материальная независимость даёт и творческую независимость. Это было выражено не без публицистического заострения в послании «Тургеневу» (1864). Дом – это его крепость, где он спасается от суетного и враждебного мира:
Свершилось! Дом укрыл меня от непогод, Луна и солнце в окна блещет, И, зеленью шумя, деревьев хоровод Ликует жизнью и трепещет. Ни резкий крик глупцов, ни подлый их разгул Сюда не посягнут. Я слышу лишь из салу Лихого табуна сближающийся гул Да крик козы, бегущей к стаду.В публицистических циклах Фет создаёт охранную грамоту своему дому, но одновременно его волнуют и всеобщие проблемы, в частности вольнонаемный труд. По мысли Фета, такой труд есть идеал деятельности человека: «Такой труд, где рабочий напрягает свои силы чисто и единственно для себя, есть идеал вольного труда, идеал естественного отношения человека к труду». Вольнонаёмный труд создаёт такие условия, когда в человеческий мир вернётся утерянная «стройность». «При вольном труде стройность ещё впереди», – подчёркивал Фет, не забывая напомнить при этом, что «стройность» может возникнуть в результате свободного развития. Романтический образ свободы проникает в публицистику Фета и помогает ему в отрицании чрезмерной регламентации человеческого поведения: «Нередко вся мудрость воспитателя состоит в умении воздержаться от уничтожения временного безобразия воспитанника. Обрубите у молодой хвойки её корявые, низменные сучья. Лишив дерева необходимого питания воздухом, вы убьёте его. Подождите лет 40 и увидите стройный, могучий ствол с небольшой зелёной короной наверху».
Идею «стройности» Фет переносил и в нравственное воспитание человека. На её основе Фет создаёт свою концепцию морального просветительства, согласно которой человек обретает «стройность» жизненного поведения только тогда, когда дорожит своей честью и национальной культурой, о чём он пишет в статье «Два письма о значении древних языков в нашем воспитании», тематически примыкающей к деревенским циклам: «Честь – достояние высшего круга понятий, понятия о человеке. Бесчестный человек есть в то же время и бесчестный русский человек. Но русский, в душе француз, англичанин или швейцарец, – явление уродливое. Он – ничто – мертвец; океан русской жизни должен выкинуть его вон, как море выбрасывает свою мертвечину». В конечном итоге Фет настаивает на том, чтобы «стройностью была как в душе человека, так и в окружающем его мире. Это и есть, по Фету, идеал социального бытия, который можно достигнуть честным трудом и неустанным моральным просветительством.
Многообразная публицистическая проза Фета во многом подготовила заключительный этап его поэтического творчества (1870–1892). Образ мира, возникший как отражение идеи «стройности», соединившись с пессимистической доктриной A. Шопенгауэра, составит философскую основу поздней лирики Фета. Вся лирика периода «Вечерних огней» пронизана ощущением того, что человеческий мир, потеряв «стройность», неудержимо распадается на части. Отсюда и эволюция лирики Фета: если его поэзия 1840—1850-х гг. развивалась в полном согласии с гармонией, то с конца 1860-х гг. она художественно породнилась с дисгармонией. Даже любовная лирика Фета расстаётся с привычной мажорностью.
Всё больше тревоги, смятения и боли появляется в любовных стихотворениях. В известном смысле в этом повинен Л.Н. Толстой, который с начала 1870-х гг. сильнее всех влияет на творчество Фета. Частые встречи, философские беседы, жадное чтение новых произведений своего великого друга – всё это способствует подчинению поэтического сознания Фета влиянию Толстого. В письме от 9 марта 1877 г. он признаётся Толстому: «Вы, без всякого преувеличения, единственно для меня интересный человек и собеседник». Духовный диалог с Толстым – одно из самых важных событий последних двух десятилетий творческой жизни Фета.
В общении с Толстым для Фета всё было важно, но особенно выделял он для себя «Анну Каренину». «Прекрасно влюбился в Каренину», – признавался Фет, а потом ещё более важное признание: «Но невозможно, чтобы Каренина вышла замуж за Вронского и благодушествовала» (письмо Л.Н. Толстому от 12 марта 1877 г.). Направление мысли Фета понятно: в любви не может быть душевного спокойствия и благополучия, что совпадало ещё и с теми философскими обобщениями, которые он нашёл у Шопенгауэра. Здесь Фет столкнулся с трагическим пониманием любви, так как Шопенгауэр в своей «Метафизике любви» сравнивает любовную страсть с «демоном». Не меньшее влияние в этом отношении оказал и B.C. Соловьёв, с которым Фет сблизился в 1880-е гг. Фет как истину воспринял утверждение Соловьёва: любовь – это трагическое противоречие между «божественным» и «земным», т. е. «духовным» и «телесным».
Но лирика любви Фета не является производным от философии любви. Это не притесняет художественной естественности, потому что все отмеченные идеи органично сливались с фетовским умонастроением. В результате любовь в изображении Фета – олицетворение всех печалей, невзгод и треволнений, которыми преисполнено человеческое бытие. Поэтому преобладающая тональность любовной лирики Фета – трагическая:
Давно в любви отрады мало, Без отзыва вздохи, без радости слёзы; Что было сладко – горько стало, Осыпались розы, рассеялись грёзы. 1891Осыпавшаяся роза – определяющий символ в поздней лирике Фета, а этому символу сопутствуют символы угасания и умирания: закатное солнце, вечерняя заря, угасающий луч, гаснущий день, чёрная мгла. У Фета уже нет такого стихотворения на тему любви, где бы не заявил о себе какой-нибудь из этих символов. Подобные отражения наполняют и лирику пейзажную. Резко обозначается цветовая символика: изображение человеческой жизни окрашено в тёмные тона, а небесная жизнь воссоздаётся в ослепительно-ярком цветовом насыщении. Небо у Фета всегда пламенеет, оно озарено «нетленным закатом» («В вечер такой золотистый и ясный…», 1886). Цо контрасту с этим представлена земная жизнь как «тоскливый сон» («Одним толчком согнать ладью живую…», 1887).
Романтическая концепция жизни в поздней лирике Фета получает окончательное завершение. Любовь умирает, а без любви человеческий мир становится чужим, враждебным и страшным. Этот мотив в лирике Фета сформировался также под влиянием философии А. Шопенгауэра, философские сочинения которого поэт не только изучал, но и переводил (Фет перевёл такие трактаты Шопенгауэра, как «Мир как воля и представление», «О четвёртом корне закона достаточного основания», «О воле в природе»). Лирического героя Фета ещё больше угнетает тоска по иному миру, поэт даёт возможность ему жить в этом мире. Так в поэзии Фета возникает мотив полёта, на смысловой основе которого создаётся символический образ небесного мира:
Как нежишь ты, серебряная ночь, В душе рассвет немой и тайной силы! О! окрыли – и дай мне превозмочь Весь этот тлен, бездушный и унылый!.. Мой дух, о ночь! как падший серафим, Признал родство с нетленной жизнью звездной И, окрылён дыханием твоим, Готов лететь над этой тайной бездной.Два противоположных мира у Фета всегда сопряжены, в результате чего возникает коллизия: земная жизнь олицетворяет смерть, небесная – жизнь. Эту коллизию Фет полностью воплотил в страшной фантасмагории «Никогда» (1879), где художественной доминантой проходит образ мёртвой земли (особенно в заключительных строках стихотворения): «А ты, застывший труп земли, лети, / Неся мой труп по вечному пути».
Нагнетание трагических мотивов рождает ещё одну метаморфозу: если раньше Фет в своей поэзии находил душевное успокоение и усладу, то теперь она его тревожит и мучит. Фет пишет трагические стихи, но одновременно старается избавиться от них, уходя в стихию ранней лирики, как это представлено в стихотворении «Ночь лазурная смотрит на скошенный луг…» (1892). Выбрал Фет и другой путь спасения: чтение стихов тех поэтов, которые по своей манере сближаются с первыми этапами его творческого пути. В знак благодарности за спасение он пишет исповедальное стихотворение «Поэтам» (1890):
В ваших чертогах мой дух окрылился, Правду провидит он с высей творенья; Этот листок, что иссох и свалился, Золотом вечным горит в песнопенье. Только у вас мимолетные грёзы Старыми в душу глядятся друзьями, Только у вас благовонные розы Вечно восторга блистают слезами.Художественный мир Фета выразился в музыкальности, разнообразных ритмах и звуках. Фет извлёк из силлабо-тонической системы все её ритмические потенциалы, совершенствуя метрические формы. Это художественное совершенство осуществилось за счёт поразительной согласованности метра и поэтического синтаксиса, когда почти каждая стопа имеет свой синтаксический аналог. В синтаксисе появляются особые ритмические доли, создающие дополнительный музыкальный эффект. В результате возникает собственно фетовская музыкальность, когда музыка, порождённая поэтическим словом, обретает способность жить вне этого слова.
Отсюда и определение стиля Фета как «напевного» (Б.М. Эйхенбаум). Обращался Фет и к античной системе стихосложения, выразительно воссоздавая гекзаметры. Представлена у него в фольклорных стихах и тоническая система стихосложения, что надо воспринимать как важный эксперимент в области акцентного стиха. Полные рифмы и самая разнообразная звукопись (от звукоподражания до звуковых оппозиций в трагических стихах) делают мир Фета именно звучащим миром, где мотивы и трагизм находятся в постоянной звуковой сочетаемости.
Значительна переводческая деятельность Фета, её диапазон очень широк: он переводил стихи античных и восточных поэтов, Гете, Шиллера, Гейне, Байрона, Шенье, Беранже, Мицкевича, трагедии Шекспира. В переводах Фет стремился максимально приблизиться к содержанию текста. Точность перевода – главное для Фета. «Конечно, перевожу буквально», – пишет он B.C. Соловьёву (14 апреля 1883 г.) в пору работы над стихами Горация. И так Фет мог бы сказать обо всех своих переводах. Причём поэт переводил только тех авторов, творчество которых ему было близко. Самоотверженно трудился Фет над переводом трагедии Гёте «Фауст», которую он воспринимал как отражение собственной духовной биографии.
В статье «О стихотворениях Ф. Тютчева» Фет писал: «Яркому поэтическому огню г. Тютчева суждена завидная будущность не только освещать, но и согревать грядущие поколения». И фетовскому «поэтическому огню» суждено вечное горение.
Литература
Блок Г.П. Летопись жизни А.А. Фета. Публикация Б.Я. Бухштаба // А. А. Фет. Традиции и проблемы изучения. Курск, 1985.
Озеров Л. А.А. Фет. О мастерстве поэта. М., 1970.
Бухштаб Б. Я. А. Фет: Очерк жизни и творчества. Л., 1974.
Благой Д.Д. Мир как красота: О «Вечерних огнях» А. Фета. М., 1975.
Скатов Н.И. Лирика Афанасия Фета (Истоки, метод, эволюция) // Скатов Н.Н. Далёкое и близкое. М., 1981.
Успенская А.В. Антологическая поэзия А. Фета. СПб., 1997.
Шеншина В.А. А.А. Фет-Шеншин: Поэтическое миросозерцание. М., 2003.
К.К. Случевский (1837–1904)
Я не ношу вериг земли…
(«Я видел Рим, Париж и Лондон…»)Константин Константинович Случевский, пожалуй, даже не «поэт противоречий» (как его часто называют), а «поэт-противоречие». Трагедийная основа его творчества никак не хочет согласовываться с благополучной биографией и карьерой.
Сын сенатора, в молодые годы блестящий офицер и доктор философии, а затем преуспевающий чиновник, дослужившийся до члена Совета министра внутренних дел и гофмейстера двора, обеспечивший себе под старость покойное уединение на берегу Финского залива. Благополучная «издательская» судьба: немалочисленные журнальные публикации, десять отдельных книжек стихов и прозы и шеститомник 1898 года.
Неспокойны, «неблагополучны» сами стихи Случевского – начиная с первых опытов 1850-х и громкого общероссийского дебюта в «Современнике» (1860, № 1), вызвавшего и восторги (А. Григорьев), и насмешки («искровцы»), и заканчивая «Загробными песнями», написанными незадолго до смерти, в 1902 г.
Установить, чей он «сын» или «младший-брат» в поэзии, гораздо сложнее, чем во «внешней» жизни. Его называют поэтом интеллигенции, поэтом умирающей духовной аристократии, последним поэтом «золотого века». По предельной напряжённости мысли он сопоставим с Тютчевым (ср., например, «Silentium!» и «Молчи! Не шевелись! Покойся недвижимо…»), по обнажённо-пессимистической оценке поколения, к которому принадлежал, – с Лермонтовым («Дума» и «Мельчают, что ни день, людские поколенья…»), в балладах (напр., в «Горящем лесе») проступает опыт Жуковского, в народных мотивах – традиции Некрасова. Е. Евтушенко считает, что он «соединил язвительный ум князя Вяземского с поэтикой Баратынского».
Однако Случевский, несмотря на собственное подчёркивание преемственности (например, активнейшая и разнообразная работа по популяризации пушкинского творчества и подготовке пушкинского юбилея в 1899 г.), несмотря на биографическую символику (знаменитые «пятницы Полонского» превратились после смерти последнего в «пятницы Случевского»), резко оригинален. И в первую очередь эта оригинальность заключается в его своеобразной философичности. Как и его современник «космист» Николай Фёдоров, он напряжённо размышляет о смерти и бессмертии – в поэмах и стихах разных жанров и циклов, в прозаическом «Профессоре бессмертия». Однако если философ Фёдоров умозрителен и «проективен», то поэт Случевский в большей степени интуитивен, и место умозрения занимает у него прозрение.
Он пишет» «пуская мысль на мысль», о самом главном, «предельном» – и требующем предельного напряжения ума, а потому не удивительно, что в стихах появляется и образ человека, который не выдержал такого напряжения («В больнице всех скорбящих»). Но именно он, сумасшедший, теперь «осмеивает нас», а не наоборот. Обращает на себя внимание не то чтобы парадокс, но очень многозначительная формула в финале этого стихотворения: «Да кто ж, поистине, скажите, кто из нас / За долгий срок не потемнел душою?»
Ещё более решительно «переворачиваются» привычные представления о мироустройстве и месте человека в нём в стихотворении «LUX AETERNA» («Вечный свет»): «И мнится при луне, что мир наш – мир загробный…». Стихи Случевского – практически в любом жанре – это песни такой вот «потемневшей души», соприкасающейся с «миром загробным». Души то борющейся, то замирающей в ужасе перед «воплощением зла», то просветляющейся в воспоминаниях (цикл «Песни из “Уголка”»), то отступающей перед демонизированным сознанием (цикл «Мефистофель»).
Вряд ли кто-то из русских поэтов XIX в. может соперничать со Случевским по частоте появления кладбищенского мотива.
Уже одно из первых (<1859>) стихотворений начинается шокирующими традиционное восприятие строчками:
Я видел своё погребенье. Высокие свечи горели, Кадил непроспавшийся дьякон, И хриплые певчие пели.Но это всё же ещё не «Загробные песни» с их иллюзией полной реальности ощущений; здесь «вымышленность» картины сопровождается и подчёркивается её сатиричностью:
Объелись на сытных поминках Родные, лакеи и гости.Неслучайность этого мотива в ранней лирике Случевского подтверждается другим стихотворением, с характерным названием «На кладбище». Бездействие и отрешённость лежащего «на гробовой плите» героя лишь подчёркивает вызывающий, провоцирующий характеп стихов, в центре которых – монолог невидимого мертвеца, предлагающего живому поменяться с ним местами. Не удивительно, что именно эти стихи (наряду с «Ходит ветер избочась…») вызвали едкие насмешки критиков демократического лагеря.
Впрочем, и в стихотворении с совершенно по-иному звучащим названием («Невеста»), не случайно, надо полагать, помещённом в цикл «Женщина и дети», мы встречаемся с тем же шокирующим смешением «цветущего» и мёртвого:
В пышном гробе меня разукрасили, — А уж я ли красой не цвела? Восковыми свечами обставили, — Я и так бесконечно светла!Однако даже на этом фоне выделяются поздние циклы «Загробные песни» и «В том мире», в которых автор, подобно Данте, пытается приоткрыть человеку тайны «того» мира – и тем самым, может быть, как-то гармонизировать предощущение неизбежного конца земного существования. Одно из сильнейших стихотворений в «Загробных песнях» – «Я лежал и бессилен, и нем. Что со мной…» – являет собой «одну из картин толчеи мозговой» умирающего (или находившегося в состоянии клинической смерти) человека.
Это картина опустевшей после бесконечного пиршества Смерти земли, над которой она, Смерть, летает в отчаянной и тщетной надежде найти хоть одну оставшуюся жизнь:
Смерть отпрянула к звёздам! Своим костяком, Словно тенью, узор их застлала И, упавши на землю в ущельи глухом, Обезумела Смерть… Голодала!Стихотворение завершается неожиданным описанием «бесплотного» Воскресения:
И накинулась Смерть на ближайшего к ней, На меня! Плоти нет! Привиденье! Только краски и свет, только лики людей… Трубный глас… Началось Воскресенье…Для художественных построений Случевского (как и многих поэтов-философов) свойствен «структурообразующий» мотив двойственности.
Он и в прямых декларациях:
…Я Богу пламенно молился, Я Бога страстно отрицал.. («Я видел Рим, Париж и Лондон…»)Он и в композиции стихотворений, многие из которых проводят свойственную натурфилософской лирике параллель между жизнью природы и жизнью человека. Однако Случевский и здесь оригинален. Часто, начав с описания какого-нибудь несущественного случая, объекта, он проводит неожиданную масштабную аналогию, одним поэтическим «жестом» поднимается к философскому обобщению. Так, отдалённое «мелькание» отмечающих какой-то праздник поселян издали можно принять и за драку – как и (вот он, поэтический «взмах»!) всю человеческую жизнь:
Праздник жизни, бойня жизни, Клики, говор и туман… Непонятное верченье Краткосрочных поселян. («Лес густой; за лесом – праздник…»)Изначальная философичность лирики Случевского обусловила и акцент на понятии и высказывании, а не на формально-содержательном единстве. Отсюда, например, такое множество абстракций (в противовес конкретно-образному началу), отсюда небрежение формой (например, тавтологическая, «детская» рифмовка «прошло» – «отошло» в «Когда бы как-нибудь для нас возможным стало…». Оттого же, может быть, и многостопность стиха Случевского. Велика, например, доля шестистопного ямба – размера раздумчивого, «вместительного». В «Воплощении зла» на такой строке умещается до десяти слов! Плотно вещество такого стиха, в котором Гармония, кажется, с готовностью уступает ведущее место Смыслу.
Но насколько тяжеловесны и порой неуклюжи его многостопные и многострочные размышления – настолько совершенны, изящны образы-миниатюры! Их у Случевского наберётся немало: «В костюме светлом Коломбины…», «Упала молния в ручей…», «Сквозь листву неудержимо…».
Упала молния в ручей. Вода не стала горячей. А что ручей до дна пронзён, Сквозь шелест струй не слышит он. Зато и молнии струя, Упав, лишилась бытия. Другого не было пути… И я прощу, и ты прости.В этом маленьком шедевре Случевского – и не всегда находимая у него гармония звука и смысла, и свидетельство гуманистической основы его творчества, и, возможно, намёк на то, какими могли быть его стихи, если бы он сознательно не подчинил их всепоглощающему размышлению о бренности и бессмертии человека.
«Молния» Случевского упала не в ручей, а в широкую и глубокую реку русской поэзии – как раз перед тем, как та приняла в своё русло приток под названием «модернизм».
В. Брюсов, Н. Гумилёв и другие поэты Серебряного века «услышали» Случевского и стали его внимательными читателями. Воздействие Случевского на модернизм бесспорно, хотя и локально.
После нескольких десятилетий забвения, во времена «оттепели», началось возвращение Случевского отечественному читателю, изучение его творчества. Особенно активно этот процесс идёт в последнее десятилетие.
Литература
Тахо-Годи Е.А. Константин Случевский: портрет на пушкинском фоне: Научное издание. СПб.: Алетейя, 2000.
Тахо-Годи Е.А. Лермонтовская традиция в творчестве К. Случевского // «Русская литература». 1993. № 3. С. 3—16.
Брюсов ВЛ. Поэт противоречий (К.К. Случевский) // В.Я. Брюсов. Далёкие и близкие. М., 1912.
Фёдоров А. Поэтическое творчество К.К. Случевского // К. Случевский. Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1962.
Сахаров В.И. Заповедное трио: Вступ. ст. // К.К. Случевский. Сочинения в стихах. М., 1984.
Щеииикова Л.П. Проблема «сомнения» и цикл «Мефистофель» в поэзии К.К. Случевского // Вестник Московскою университета. Сер. 9. Филология. 2002. № 5. С. 102–110.
B.C. Соловьёв (1853–1900)
Владимир Сергеевич Соловьёв родился 16 января 1853 г. в Москве. Его отец – выдающийся историк Сергей Михайлович Соловьёв, автор многотомной «Истории России с древнейших времен». Мать B.C. Соловьёва – Поликсена Владимировна находилась в родстве с украинским мыслителем и поэтом Григорием Саввичем Сковородой.
В 1864–1869 гг. Соловьёв учился в гимназии, а в 1869–1873 гг. – в Московском университете. В 1874 г. он защищает магистерскую диссертацию «Критика западной философии (против позитивистов)» и читает лекции в Московском университете и на женских курсах. В 1880 г. Соловьёв защищает докторскую диссертацию «Критика отвлечённых начал». В 1880–1881 гт. он читает лекции в Петербургском университете и на Высших женских курсах. С 1882 г. поэт посвящает себя общественной деятельности и публицистике. Высокие литературные достоинства его произведений были отмечены избранием в Пушкинскую академию в 1899 г. B.C. Соловьёв умер 31 июля 1900 г. в имении Узкое и был похоронен в ограде Новодевичьего монастыря рядом с могилой своего отца.
Поэзия Соловьёва своими темами и мотивами взаимосвязана с его биографией и различными сторонами творчества, в первую очередь с философией, которая устремлена к примирению и взаимному восполнению противоположных начал, к свободному единству всего сущего. Её динамическими составляющими являются положительное всеединство, Богочеловечество, Церковь и София. Последние три начала философ определяет как развивающееся женственное живое существо. Соловьёв видит в любви смысл и главное проявление жизни человека. Он определяет задачу искусства как служение делу истины и добра своей красотой.
B.C. Соловьёв относил себя к представителям русской лирики. Отмечаемые им особенности поэзий А.С. Пушкина – духовная трезвость вдохновения, проникновенность и свобода от тенденциозности и от претензии – свойственны и лирике самого Соловьёва. Образы и мотивы лермонтовской поэзии присутствуют главным образом в шуточных стихотворениях поэта, таких как «Видение» (1886) и «Пророк будущего» (1886). А.А. Фет оказал большое влияние на его поэтическое творчество лиризмом своей поэзии. В лирику поэта вошли и образы, мотивы, приёмы и ритмы поэзии Ф.И. Тютчева, который, по его словам, воспроизводил физические явления как состояния и действия живой души. Характерные свойства лирики Я.П. Полонского, выделенные Соловьёвым, – «чувство духовной свободы», «бодрое чувство упования на лучшую будущность» отличают и его собственную поэзию.
Символика света как динамического и положительного образа занимает одно из главных мест в лирике B.C. Соловьёва. Она присутствует во всех жанрах его лирики, как в самых ранних, так и в последних стихах поэта, демонстрируя неизменность его поэтических и философских воззрений.
Свет в поэтике Соловьёва выступает откровением вечности и истинного образа мира, мира «немеркнущего» и «нездешнего» света. Жизнь на земле воспринимается поэтом как «тени» и «отражения» «вечно светлых дней»:
Неясный луч знакомого блистанья, Чуть слышный отзвук песни неземной, — И прежний мир в немеркнущем сияньи Встаёт опять пред чуткою душой. («Бескрылый дух, землею полонённый…», 1883)Изображаемая картина похожа на представления Платона. Однако Соловьёв отвергает дуализм Платона, противопоставляя ему образ мира, имеющего светлое основание и устремлённого к восполнению и всеединству. Торжество вечности над временем, света над тьмой изображается как наступление последнего часа творенья, «дня грядущего», «нового вечного дня» – дня нового по существу и поэтому первого, обновления мира светом, новой жизни мира в свободном единстве:
Тогда наступит час – последний час творенья… Твой свет одним лучом Рассеет целый мир туманного виденья В тяжёлом сне земном. Преграды рушатся, расплавлены оковы Божественным огнем, И утро вечное восходит жизни новой Во всех, и все в Одном. («Прометею», 1874) Верь, проходит тень, — Не скорби же: скоро встанет Новый вечный день. («В сне земном мы тени тени…», 1875)Одним из важнейших элементов поэтики Соловьёва является образ Софии, которая помогает страждущему человечеству,
И над мрачной зимой молодая весна — Вся сияя, склонилась над ним И покрыла его, тихой ласки полна, Лучезарным покровом своим. («У царицы моей есть высокий дворец», 1875–1876)Посредством «световых» эпитетов Соловьёв описывает чувства, испытываемые им при явлении Софии:
И в лучах восходящего дня Тихим светом душа засветилась… «Вся в лазури сегодня явилась…», 1875Поэт свидетельствует о трёх явившихся ему видениях Софии в поэме «Три свидания» (Москва – Лондон – Египет, 1862–1875—1876), которую он называл своей «маленькой автобиографией» (1898). Вот как он описывает свое третье видение:
И в пурпуре небесного блистанья Очами, полными лазурного огня, Глядела ты, как первое сиянье Всемирного и творческого дня. Что есть, что было, что грядет вовеки — Всё обнял тут один недвижный взор… Синеют подо мной моря и реки, И дальний лес, и выси снежных гор.София облечена «в пурпур», что указывает на её царственность. В лирике Соловьёва к Софии часто прилагается эпитет «царица». Поэт использовал строку «С глазами, полными лазурного огня» (у Соловьёва – «очами») из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Как часто, пестрою толпою окружён…». Цветовой символикой образа Софии выступает «лазурь золотистая» (или «золотая»). Именно этими цветами изображается София Премудрость Божия в образе женственного существа в русской иконописи. К сияющей. Софии поэт прилагает эпитеты «лучистая» (улыбка) и «лучезарная».
Обобщая пережитое им, в концовке поэмы Соловьёв воспроизводит с некоторыми вариациями строфу из вступления, в которой рисует Божественное, светлое основание мира как реальность, таящуюся под покровом действительности:
Под грубою корою вещества Так я прозрел нетленную порфиру И ощутил сиянье Божества.Любовная лирика Соловьёва посвящена преимущественно Софье Петровне Хитрово, племяннице жены А.К. Толстого Софьи Андреевны. В своей переписке и в лирике поэт часто прилагает к С.П. Хитрово эпитет «бедный», иногда в сочетании «бедный друг». С 1880-х гг. и до последнего года жизни поэт часто гостил в имении Толстых Пустыньке. Концовка посвящённого С.П. Хитрово стихотворения «Бедный друг, истомил тебя путь…» (1887): «Смерть и Время царят на земле, – / Ты владыками их не зови; / Всё, кружась, исчезает во мгле, / Неподвижно лишь солнце любви», возможно, является творческим усвоением и переосмыслением заключительных строк «Божественной комедии» Данте: «…мои желание и волю, / Подобно равномерно кружащемуся колесу / Направляла любовь, что движет солнце и другие звёзды». Соловьёв противопоставляет круговороту преходящего солнце любви.
В стихотворениях, связанных с событиями, описанными в Библии, выход за границы библейского текста усиливает причастность читателя к изображаемому. Восприятие поэтом описываемых событий сближают эти произведения с любимыми им пушкинскими стихотворениями «Пророк» и «Юдифь».
Во всех изданиях своих стихотворений Соловьёв помещал на первом месте «В стране морозных вьюг, среди седых туманов…» (1882) как характеризующее его поэзию и миросозерцание. Определяя происходящее как «завет», поэт показывает, что Бог открывается пророку Илии не в ветре, землетрясении и огне, а в звуке голоса, тихом и нежном («тонком хладе» и «тайном дуновенье»), Вместо самой библейской фразы «Бога не было в землетрясении», Соловьёв передает её смысл: «Но в страхе Бога нет». В начальных строфах стихотворения рисуется лирический образ, не примыкающий, как и почитаемый поэтом А. К. Толстой, ни к одному из «двух враждебных станов».
В стихотворении «Ночь на Рождество» (1894) Соловьёв изображает Иисуса Христа как свет, побеждающий тьму:
Родился в мире свет, и свет отвергнут тьмою, Но светит он во тьме, где грань добра и зла.В произведении «Ех Oriente Lux» («Свет с Востока», 1890) посредством анафоры Соловьёв акцентирует факт возникновения христианства, свет которого несёт примирение и соединение всех народов и культур:
И слово вещее – не ложно, И свет с Востока засиял, И то, что было невозможно, Он возвестил и обещал. И, разливался широко, Исполнен знамений й сил, Тот свет, исшедший от Востока, С Востоком Запад примирил.В ряде стихотворений Соловьёв изображает образы античной мифологии – Прометея, Пигмалиона, Персея, Орфея и Афродиту, которые, символизируя собой Богочеловечество, являются участниками спасения и преображения мира. С помощью образа Афродиты, перекликающегося с образом Софии, он показывает, как вечная женственность («Das Ewig-Weibliche»), истинная красота побеждает мир своим примиряющим и всеобъединяющим светом:
В свете немеркнущем новой богини Небо слилося с пучиною вод. («Das Ewie-Weibliche». 1898)Стихотворение «А.А. Фету» (1897) входит в группу стихотворений B.C. Соловьёва, посвящённых близким ему поэтам, и носит подзаголовок «Посвящение книги о русских поэтах». Он собирался написать книгу о русской поэзии, думая назвать её «Серебряный век русской лирики». Частями этой так и не написанной книги являются статьи, посвящённые Ф.И. Тютчеву, А.К. Толстому, А.А Фету, А.Н. Майкову и Я.П. Полонскому, которые следовали традиции главного представителя золотого века русской поэзии – А.С. Пушкина. Началом русской лирики Соловьёв считает элегию В.А. Жуковского «Сельское кладбище» – вольный перевод элегии Т. Грея. В примечании к стихотворению «Родина русской поэзии» (1897) он указывает, что «Сельское кладбище» может считаться началом истинно-человеческой поэзии в России после условного риторического творчества Державинской эпохи. Третья строка произведения созвучна строке «И не погаснет то, что раз в душе зажглось» из стихотворения «Ночь на Рождество». По мысли поэта, светлая радость общения не прерывается со смертью, соединяя живых и умерших таинственным негаснущим лучом:
Все нити порваны, все отклики – молчанье. Но скрытой радости в душе остался ключ, И не погаснет в ней до вечного свиданья Один таинственный и неизменный луч.В предпоследней строфе стихотворения поэт разъясняет цель задуманной им книги:
И я хочу, средь царства заблуждений, Войти с лучом в горнило вещих снов, Чтоб отблеском бессмертных озарений Вновь увенчать умолкнувших певцов. («A.A. Фету», 1897)В «Отзыве на “Песни из уголка” (К.К. Случевскому)» (1898) Соловьёв противопоставляет возрастающее светлое поэтическое мастерство К.К. Случевского сокращению светлого времени суток после летнего солнцестояния. Назначение поэзии Случевского – возвещать наступление грядущего дня:
Твой день от солнцеповорота Не убывал, а только рос. Так пусть он блещет и зимою, Когда ж блистать не станет вмочь, Засветит вещею зарею, — Зарёй во всю немую ночь.В пейзажной лирике Соловьёв, так же как в других разделах своей лирики, использует символику природных явлений. Родственная человеку земля предстаёт как живое существо в своём литургическом сочетании с небесным сиянием:
В полуденных лучах такою негой жгучей Сходила благодать сияющих небес, И блеску тихому несли привет певучий И вольная река, и многошумный лес. И в явном таинстве вновь вижу сочетанье Земной души со светом неземным, И от огня любви житейское страданье Уносится, как мимолетный дым. («Земля-владычица! К тебе чело склонил я…», 1886)В свете дня и солнца поэт прозревает благую и светлую душу мира:
А душа природы с ласкою беззвучной В неподвижном блеске замерла над нами. («На поезде утром»)B.C. Соловьёв создал большое число шуточных произведений, находящихся, главным образом, в его переписке. Некоторые стихотворения были созданы в контексте шуточных пьес. Шутливый стиль зачастую служит поэту для более сниженного характера изображения своих переживаний и убеждений. В шуточном стихотворении 1896 г., посвящённом его другу Л.М. Лопатину, «Неврон финляндский, страждущий невритом…» (курсив Соловьёва. – АД.) – он показывает свое несогласие с пониманием Л. М. Лопатиным человека как субстанции (независимого по природе существа).
Поэт изображает «реку времён». Этот образ, возможно, возник у него не только в связи с изречениями его любимого философа Гераклита о невозможности войти дважды в одну реку и о том, что всё течёт («панта рэй»). Река времён встречается в последнем неоконченном стихотворении Г.Р. Державина, которое, в свою очередь, навеяно исторической картой «Река времён» («Эмблематическое изображение всемирной истории»). «Река времён» воспринимается поэтами противоположным образом. Державинская река времён, выступая символом бренности всего существующего, «в своем стремленьи / Уносит все дела людей / И топит в пропасти забвенья / Народы, царства и царей». А Соловьёв, напротив, радостно вступает в эту реку как в поток, текущий в вечность:
И, с каждым годом подбавляя ходу, Река времён несётся все быстрей, И, чуя издали и море, и свободу, Я говорю спокойно: панта рэй!Соловьёв является автором ряда переводов и подражаний. В переводе-переложении из Ф. Петрарки «Хвалы и моления Пресвятой Деве» (1883) обращает на себя внимание ряд связанных со светом эпитетов, прилагаемых поэтом к Богоматери: «в солнце одетая», «ярко светящая», «бесконечности око лучистое», «светлая Дева», «облако светлое… ярко блестящее», облечённая «лучезарным покровом», «озарённая светом», «свет твой нетленный» (вместо варианта «огонь твой нетленный»). Многие из указанных эпитетов Соловьёв прилагает и к Софии.
Последнее стихотворение поэта «Вновь белые колокольчики» (8 июля 1900 г.) перекликается со стихотворением «Белые колокольчики», написанным годом ранее. Стихотворение строится вокруг образа-символа белых колокольчиков, растущих в парке усадьбы Пустынь ка и поразивших поэта своим «совершенно белым» цветом. Колокольчики предстают символом простоты, чистоты и кротости. Сближением образов белых колокольчиков и белых, воздушных ангелов поэт показывает близость и единство земли и неба. Хотя стихотворение проникнуто предчувствиями близкой смерти, завершающий аккорд поэзии Соловьёва соответствует жизнеутверждающему характеру его творчества. В новом мире добро и любовь торжествуют над злом, бессильным, не имеющим собственного бытия и несущим в себе причину своей гибели. Усиливая идею полного избавления мира от зла, в последнем варианте стиха поэт заменяет слово «пережитое» на «позабытое». С восходом непобедимого солнца любви начинается новая жизнь:
Зло позабытое Тонет в крови, — Всходит омытое Солнце любви.B.C. Соловьёв является главным предшественником русских поэтов-символистов. Критически относясь к первым малоудачным опытам В.Я. Брюсова и ряда других поэтов, он одобрил сборник поэзии К.Д. Бальмонта «Тишина» и первый сборник стихов Вяч. И. Иванова «Кормчие звёзды». Поэзия B.C. Соловьёва повлияла и на творчество поэтов и теоретиков символизма – А. Блока, А. Белого, Д.С. Мережковского.
Литература
Лосев А.Ф. Вл. Соловьёв и его время. М., 2000.
Мочулъский К.В. Гоголь. Соловьёв. Достоевский. М., 1995.
Саводник В.Ф. Поэзия Вл. С. Соловьёва. М., 1901.
Скобцова Е.Ю. Миросозерцание Владимира Соловьёва. Paris, 1929.
В. Соловьёв. Pro et contra. Т. 1–2. СПб., 2000.
Соловьёв С.М. Владимир Соловьёв. Жизнь и творческая эволюция. М… 1997.
Владимир Соловьёв и культура Серебряного века: Сб. статей. М., 2005.
Соловьёвский сборник. М., 2001.
А.Н. Апухтин (1840–1893)
Талантливый поэт и прозаик конца XIX в. Алексей Николаевич Апухтин родился в г. Волхове Орловской губернии в дворянской семье, принадлежавшей к старинному роду Опухтиных. Его отец – отставной майор, мать (тоже древнего дворянского происхождения) отличались образованностью и тонким вкусом. Именно с матерью Марией Андреевной связывает Алексея с детских лет нежнейшая дружба. «Ей <…> обязан я <…> порывами сердца высказывать свои ощущения», – напишет поэт уже в шестнадцатилетнем возрасте. Особая забота, которой мать окружила первенца, объясняется рано проявившимися поразительными способностями мальчика (поэтический дар, страсть к чтению, исключительная память) и в то же время физической слабостью, болезненностью. Атмосфера детства Алексея во многом напоминает условия, в которых прошло детство Илюши Обломова. Любовь к матери писатель пронесёт через всю жизнь как самое сокровенное чувство, её смерть в 1859 г. станет для него невосполнимой жизненной утратой:
О, возьми, обними, уврачуй, успокой Моё сердце больное рукою родной, О, скорей бы к тебе мне, как прежде, на грудь, О, скорей бы мне там задремать и заснуть. («Когда был я ребенком…»)Друг и биограф Апухтина Модест Чайковский (брат композитора) отмечал: «Все родственные и дружеские отношения, все сердечные увлечения его жизни были только обломками этого храма сыновней любви». Светлые воспоминания детства – ежегодные поездки с матерью в Оптину пустынь, к старцу Макарию – нашли затем отражение в поэме «Год в монастыре (отрывки из дневника)» (1885).
С 1852 г. Апухтин блестяще учится в Петербургском училище правоведения, где возникает его многолетняя дружба с П.И. Чайковским (они сокурсники) и зарождается слава «будущего Пушкина». Позже поэт вспоминал:
Ты помнишь, как, забившись в «музыкальной», Забыв училище и мир, Мечтали мы о славе идеальной… Искусство было наш кумир… («П. Чайковскому», 1877)Первое опубликованное стихотворение – «Эпаминонд» – посвящено памяти адмирала В.А. Корнилова (1854, газета «Русский инвалид»). Редко кому с первых шагов литературной деятельности удавалось снискать столько сочувствия и поощрений. Апухтин знакомится с Й.С. Тургеневым и А.А. Фетом, они покровительствуют ему. В журнале «Современник» публикуется 10 стихотворений (с цензурными изъятиями) под названием «Деревенские очерки» (1859), где звучат и социальные мотивы. Поэт сотрудничает не только с демократическими журналами «Искра» и «Гудок», но и с почвенническим «Временем». В последнем, в частности, он печатает программное стихотворение «Современным витиям» (1862), направленное как против нигилистов, их безудержной ненависти, приносящей лишь разрушения, так и против болтунов-либералов:
Посреди гнетущих и послушных, Посреди злодеев и рабов Я устал от ваших фраз бездушных, От дрожащих ненавистью слов! Мне противно лгать и лицемерить, Нестерпимо – отрицаньем жить… Я хочу во что-нибудь да верить, Что-нибудь всем сердцем полюбить!По окончании училища молодой человек поступает в Министерство юстиции, однако служебная карьера его совсем не привлекает. В 1862 г. уезжает в свое родовое имение в Орловской губернии, два года состоит чиновником особых поручений при орловском губернаторе, ведёт следственные дела. В Орле, кроме того, читает две публичные лекции о Пушкине, которого обожает и знает наизусть значительную часть его наследия. В 1865 г., вернувшись в Петербург, Апухтин окончательно оставляет карьеру чиновника. Интересно, что в это же время его имя исчезает со страниц всех изданий, он более чем на 20 лет перестаёт печататься, при этом не прекращая писать.
«Молчание» писателя биографы и исследователи объясняют желанием в ситуации активного идейного размежевания 1860-х гг. сохранить позицию «над схваткой», аристократическим неприятием господствующего в тот период демократического направления, когда литература загромождена, по его собственным словам, «подлостями, доносами и… семинаристами». А возможно, и слишком строгим отношением к своему творчеству, и отвращением, как он сам отмечал, к типографскому станку. «Мне противно смотреть на свои стихи как на товар», – пишет Апухтин своему другу Г.П. Карцову. Между тем над формой произведений поэт работает долго и тщательно: «Каждое стихотворение только тогда признавалось готовым выйти на свет Божий, когда единственное выражение замерцавшей в нём мысли было найдено» (М.И. Чайковский). Стихотворения Апухтина широко расходятся в рукописях, декламируются на вечерах, на его стихи поют романсы, известность поэта растёт.
Жизнь его бедна внешними событиями (во многом из-за усугубляющегося недуга). Четыре поездки за границу не поколебали его равнодушия ко всему иностранному, включая западную литературную жизнь. Апухтин совершает паломничество в Святогорский монастырь, на могилу Пушкина (1870), а позже участвует в сборе денег на памятник Пушкину в Москве. Общественная и литературная борьба ничуть не затрагивают Апухтина, который поклоняется лишь вневременным идеалам прекрасного. По словам М. Чайковского, он «зритель, а не актёр в общественной жизни», человек светский, прекрасный декламатор и рассказчик, остроумный собеседник, мастер экспромта.
С 1884 г. поэт снова начинает печататься (биограф сообщает: «Уступая просьбам почитателей его таланта», а может быть, из-за материальных трудностей) главным образом в «Вестнике Европы», «Северном вестнике», «Русской мысли». Выходит в свет и имеет бурный успех сборник «Стихотворения» (1886). Относясь с презрением к литературе как ремеслу, Апухтин избирает маску вечного дилетанта в поэзии. Дилетантизм для него становится полемически заостренной «формой творческого поведения», ориентированной «на образ поэта начала XIX в., когда писательство лишь становилось профессией» (В.И. Масловский). В сатирических куплетах «Дилетант» (нач. 1870-х гг., 1896) автор иронично признаётся, что он не сын протопопа, не лежал в пьяном виде на площадях, не писал пасквилей и доносов на собратьев по перу – он «неизвестный дилетант».
Я нахожу, и в том виновен, Что Пушкин не был идиот, Что выше сапогов Бетховен И что искусство не умрёт, Чту имена (не знаю, кстати ль), Как, например, Шекспир и Дант… Ну, так какой же я писатель? Я дилетант, я дилетант!..На самом деле этот «дилетант» продолжает традиции романтической поэзии 1-й половины XIX в., обращаясь к теме конфликта между толпой и поэтом, теме враждебности века красоте и искусству. Поэт возрождает традиционные жанры элегии, баллады, романса. Популярный в те годы, становившийся явлением массовой культуры жанр романса Апухтин, тонко чувствующий музыку стиха, поднял на большую эстетическую высоту. «Именно романс, как наиболее сгущенное и эмоционально напряжённое средство выражения этого мира, – пишет В.В. Кожинов, – Апухтин избирает как свою основную интонацию». Это искренние, лирически взволнованные монологи человека, переживающего психологическую драму, душевный диссонанс. Многие его романсы положены на музыку П. Чайковским, С. Рахманиновым, С. Прокофьевым и другими композиторами, распеваются цыганскими хорами (что дало А. Блоку повод для обобщения: «цыганские, апухтинские годы»), они широко известны. Среди них «Опять в душе моей тревоги и мечты…» (конец 1860-х гг.), «Пара гнедых», «Цыганская песня», «Мне жаль, что тобою я не был любим…», «В житейском холоде дрожа и изнывая…» (все – 1870-е гг.) и подлинный апухтинский шедевр – «Ночи безумные, ночи бессонные…» (1886):
Ночи безумные, ночи бессонные, Речи несвязные, взоры усталые… Ночи, последним огнем озарённые, Осени мертвой цветы запоздалые!В ряде произведений автор прибегает к символическим образам из мира природы, живо и эмоционально передающим нюансы человеческих отношений, переживания лирического героя, философские раздумья. Таковы романсы «Астрам» (начало 1860-х), «Мухи» (1873), «Две ветки» (1878), «Разбитая ваза» (1870-е) и др. Наряду с традиционными условно-поэтическими образами расцвета, увядания и т. п. Апухтин неожиданно обращается в романсах к таким «прозаизмам», как мухи – чёрные мысли:
Черные мысли, как мухи, всю ночь не дают мне покою: Жалят, язвят и кружатся над бедной моей головою! Только прогонишь одну, а уж в сердце впилася другая…Своеобразен апухтинский жанр психологического стихотворного монолога, а нередко и рассказа, новеллы, диалога с сюжетной ситуацией, построенной на острой драматической или мелодраматической коллизии («Молодая узница» (1858), «Накануне» (1876), «С курьерским поездом» (1884), «Из бумаг прокурора» (1888), «Перед операцией» (1894) и др.). Ситуация в этих стихах лана в переживании одного или двух участников драмы, воспринимающих её эмоционально, взволнованно. Поэту мастерски удаётся соединить лиризм и изобразительность, интимное и повествовательное начала, условно-поэтический язык романса и точную «прозаическую» деталь:
Но где же, где же он? Не видно за толпой, Но он, конечно, здесь… О, Боже, неужели Тот, что глядит сюда, вон этот, пожилой, С очками синими и в меховой шинели? («С курьерским поездом»)Значительно по психологической насыщенности стоящее в этом ряду стихотворение «Сумасшедший» (1890) – монолог душевнобольного, страдающего человека, «отклик на ту общественную “эпидемию”, которая толкала к сумасшествию, самоубийствам», построенный на подчёркнуто разговорных интонациях:
Садитесь, я вам рад. Откиньте всякий страх И можете держать себя свободно, Я разрешаю вам. Вы знаете, на днях Я королём был избран всенародно, Но это всё равно. Смущают мысль мою Все эти почести, приветствия, поклоны… Я день и ночь пишу законы Для счастья подданных и очень устаю.Отрывок из «Сумасшедшего» со временем, отделившись от основного текста, фольклоризовался и стал известной во многих вариантах новой балладой о гибели Оли и об опасностях любви («Всё васильки, васильки…»); она бытует до сих пор в городе и деревне, в том числе среди девочек-подростков.
Ряд сюжетных произведений Апухтина реалистическими разоблачительными деталями близок поэтике Н.А. Некрасова и некрасовской школы: стихотворения «Гаданье», «Старая цыганка» (оба – начало 1860-х), «В убогом рубище, недвижна и мертва…» С 1871? У отрывки из поэмы «Село Колотовка» (1864), несмотря на то что поэт декларативно отрицает эту поэзию, которая, по его словам, «служит только спросу минуты».
В противовес стихотворениям с более или менее развёрнутым сюжетом, напоминающим драматическую сценку или новеллу, есть у Апухтина элегии, в которых сюжетная ситуация логически разорвана, даётся отдельными намёками, импрессионистически, мотивы связаны только потоком воспоминаний: «Любовь» (1872), «В тёмную ночь, непроглядную…» (1875), «Бред» (1882) и др. Именно такая «бессвязность» в развитии лирической темы наиболее близка А. Блоку.
Нередко Апухтин в своём творчестве, как поэтическом, так и прозаическом, обращается к жанровым формам дневника: повесть «Дневник Павлика Дольского» (1895) и др., письма, записки (повесть в письмах «Архив графини Д.**» (1895), стихотворения «Письмо» (1886), «Ответ на письмо» (1896) и др., дружеского послания («А.С. Даргомыжскому» (начало 1860-х), «А.Н. Островскому» (1872), «Графу Л.Н. Толстому» (1877) и многие др.).
Как верно замечает В.В. Кожинов, «три основные стихии творчества Апухтина: прозаически-повестеовательная, декламационно-мелодраматическая и романсовая – слиты нерасторжимо». Лирического героя Апухтина сравнивают с классическим типом «лишнего» человека – это человек одинокий, жаждущий жизни и неудовлетворённый ею, кс нашедший твёрдой жизненной позиции, счастливой любви.
Алексей Николаевич Апухтин умирает от водянки в возрасте 53 лет, умирает тяжело, долго пребывая в неподвижности. Периодически приходя в себя, декламирует Пушкина. Творчество этого эстета, сибарита, «литературного Обломова», «писателя-дилетанта», «первого среди вторых» – и «поэта милостию Божией», «поэта любви», «последнего романтика», «последнего поэта пушкинской плеяды», как о нём отзывались при жизни и после смерти, ещё, пожалуй, по-настоящему не оценено и ждёт новых читателей и исследователей.
Но смерть не всё взяла. Средь этих урн и плит Неизгладимый след минувших дней таится: Все струны порвались, но звук ещё дрожит, И жертвенник погас, но дым ещё струится («Будущему читателю», конец 1860-х гг.).Литература
Чайковский М. А.Н. Апухтин. Биографический очерк // Сочинения А.Н. Апухтина. СПб., 1898. С. 4—20.
Кожинов В.В. Книга о русской лирической поэзии XIX в.: Развитие стиля и жанра М., 1978. С. 269–277.
Громов П.А. Блок, его предшественники и современники. М.; Л., 1966. С. 31–52.
К.М. Фофанов (1862–1911)
Размышляя о своеобразии личности и поэзии Константина Михайловича Фофанова, В.В. Розанов писал: «Стихи его, местами достигающие пушкинской красоты, стихи, которые никогда не умрут, пока жив русский язык и живёт русская восприимчивость к родному слову, – все, однако, суть продукт воображения о природе, а не ощущения природы, воображения о жизни и человеческих отношениях, а не отчётливого их переживания <…> Реальное просто для него отсутствовало. А «сны» его, золотые сны – были действительностью» (курсив В.В. Розанова. – Л.С.).
Поэзия Фофанова действительно являет собой прекрасный, но целиком вымышленный, иллюзорный художественный мир.
Поиск художественного идеала в эпоху угасания гражданской лирики вёл его от стихотворений, посвящённых народовольцам («Хоть грустно мне за них, но я горжуся ими…», «Отошедшим»), к строчкам, которые могли бы считаться образцами «искусства для искусства».
Образ мира в поэзии Фофанова двулик. Во-первых, это сумрачный, печальный мир реальной действительности, чаще всего проступающий в картинах города:
И снова город спит, как истукан великий, И в этой тишине мне чудятся порой То пьяной оргии разнузданные крики, То вздохи нищеты больной.Тоскуя в этом мире, лирический герой Фофанова не находит средств для его улучшения:
Отходят старые глашатаи свободы Под своды вечные, под гробовые своды <…> А мы! Мы, робкое, больное поколенье, Смирив в своих сердцах пытливое волненье, Мы всё хотим простить и все благословить… («Отошедшим»)И, во-вторых, это мир, в который всё больше погружается поэт – мир гармонии, фантазии, искусства, одухотворённой Природы. Поэтическая мысль во многих его стихотворениях движется от тоскливой обыденности к погружению во внутренний мир:
Блуждая в мире лжи и прозы, Люблю я тайны божества: И гармонические грезы, И музыкальные слова. Люблю, устав от дум заботы, От пыток будничных минут, Уйти в лазоревые гроты Моих фантазий и причуд. («Блуждая в мире лжи и прозы…»)Воображение и вдохновение преображают самые прозаические детали быта («У печки», «Папоротник», «Подсолнечник» и др.). Они способны скрасить «холодный мрак» реальности («Мечта»), создать «мир иллюзий золотых» («Иллюзии»),
Так возникает в поэзии Фофанова романтический мотив двоемирия («У поэта два царства…», «Два мира», «Под музыку осеннего дождя»). Антитеза «там – здесь» частый композиционный приём в лирике Фофанова:
Там – свет небес и радужен и мирен, Там в храмах луч негаснущей зари. А здесь – ряды развенчанных кумирен, Потухшие безмолвно алтари… То край певцов, возвышенных, как боги, То мир чудес, любви и красоты… Здесь – злобный мир безумья и тревоги, Певцов борьбы, тоски и суеты…Воплощённым образом прекрасного мира, мира «чудес, любви и красоты» становится в поэзии Фофанова одухотворённая, преображённая природа, природа – храм, в котором ощутимо присутствие Творца. Элементами, из которых поэт творит этот образ одухотворённого мира, становятся звёзды, цветы, птицы, изысканные ароматы, «цветы на полянах, и струны на лире, и волны на море, и звёзды в эфире»:
Сосны в бархате зелёном, И душистая смола По чешуйчатым колоннам Янтарями потекла. И в саду у нас сегодня Я заметил, как тайком Похристосовался ландыш С белокрылым мотыльком! («Под напев молитв пасхальных…»)Самые тревожные стихотворения Фофанова те, в которых лирический герой осознаёт иллюзорность мира красоты, его очертания и краски становятся полупрозрачными, из-за них просвечивает реальная действительность, «этот мир» («Я сердце своё захотел обмануть», «У печки»):
Цветы отравляли дыханием грудь, И думы темнило смятенье разгула… Я сердце своё захотел обмануть, А сердце – меня обмануло!..На обломках разрушенной гармонии появляются пугающие призраки («Лабиринт», «Двойник», «Чудище»), в лирику Фофанова проникает иррациональное, мистическое начало, предвосхищающее поэзию символистов:
Живёшь и не знаешь, где кончишь; Не знаешь, поверить кому. Всё рвёшься мучительно к свету И снова приходишь во тьму <…> Идёшь от порога к порогу, От тёмных ворот до ворот И чувствуешь: кто-то незримый Вослед за тобою идёт…К.М. Фофанова не случайно называют «предтечей» символистов. Русские символисты охотно печатали его в своих журналах. Самый известный сборник стихов Фофанова назван вполне в духе символизма – «Тени и тайны» (1892). Стихотворение «Ищите новые пути…» может быть прочитано как эпиграф к поэзии Серебряного века:
Ищите новые пути! Стал тесен мир. Его оковы Неумолимы и суровы, — Где ж вечным розам зацвести? Ищите новые пути!Личная драма Фофанова (психическое нездоровье, тяга к вину, вечная нужда и лишения, неспособность прокормить большую семью, душевная болезнь жены) осложнилась ещё и тем, что поэт пережил собственную славу: последний сборник Фофанова «Иллюзии» (1907) был холодно принят критикой и читающей публикой.
Литература
Брюсов В.Я. К.М. Фофанов // Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. М., 1975.
Иванова Е.В. Фофанов К. М. // Русские писатели. Биобиблиографический словарь: В 2 ч. Ч. 2. М., 1990. С. 346–348.
С.Я. Надсон (1862–1887)
Судьба Семёна Яковлевича Надсона складывалась драматически: в раннем детстве он лишился отца, затем пережил самоубийство отчима в припадке душевной болезни и смерть матери, воспитывался в семье дяди, где чувствовал себя чужим и одиноким. Тяжёлой душевной травмой для юного Надсона стала смерть М.Н. Дешевовой, в которую он был влюблён. Всё это во многом предопределило пафос его поэзии.
Эмоциональный спад, переживавшийся радикальной русской интеллигенцией в связи с разгромом народнического движения, окрасил 1880-е гт. настроениями пессимизма, разочарования и растерянности. Молодой поэт (Надсон умер в 24-летнем возрасте) оказался властителем дум целого поколения. Его сборник многократно переиздавался, и, несмотря на это, стихотворения распространяли в рукописных списках, заучивали наизусть.
Особый ореол жертвенности возник вокруг его фигуры вследствие резкого ответа В.П. Буренина, сотрудника газеты «Новое время», на язвительные замечания Надсона о его поэзии, прозе и публицистике в киевской газете «Заря». Окружением Надсона этот инцидент был воспринят как «травля», ускорившая смертельный исход болезни. Ранняя смерть Надсона вызвала волну сочувственных откликов, в том числе поэтических (Я. П. Полонский, К.М. Фофанов, Д.С. Мережковский и др.).
Становление Надсона-поэта связано с поддержкой А.Н. Плещеева. Ему Надсон обязан многим, о том числе сотрудничеством в журнале «Отечественные записки». В одном из первых стихотворений Над со на «Вперёд!» («Вперёд, забудь свои страданья, / Не отступай перед грозой…») слышен отзвук знаменитого плещеевского стихотворения, когда-то популярного в революционной среде, – «Вперёд! без страха и сомненья!».
Поэзию Надсона можно считать связующим звеном между двумя этапами русской поэзии: гражданской лирикой середины XIX в. и поэзией русских символистов. Надсон стремился продолжить некрасовскую традицию («Ты уймись, кручинушка, смолкните, страдания…», «Мать», «Похороны»), подвергал резкой критике поэтов «чистого искусства» (А.А. Голенищева-Кутузова, К.К. Случевского, А.А. Фета). Начинающий Д.С. Мережковский воспринимал Надсона как учителя и литературного мэтра.
Гражданская нота в лирике Надсона звучит своеобразно: идея жертвенного служения «толпе» тесно связана с мотивами уныния, алатии, бессилия и разочарования. В. Г. Короленко писал: «В нескольких выдающихся стихах Надсон заинтересовал читателя особенностями своей поэтической личности». Лирический герой поэзии Надсона – мечтатель и страдалец, тоскующий о золотом веке, царстве любви и свободы, и тяжко сомневающийся в собственных возможностях приблизить этот идеал:
Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат, Кто б ты ни был, не падай душой. Пусть неправда и зло полновластно царят Над омытой слезами землёй. Пусть разбит и поруган святой идеал И струится невинная кровь, — Верь: наступит пора – и погибнет Ваал, И вернётся на землю любовь! Пусть я, как боец, цепей не разбиваю, Я ушёл в толпу и вместе с ней страдаю, И даю что в силах – отклик и привет!..Многие темы и мотивы Надсон воспринял у М.Ю. Лермонтова. Таков, например, образ поколения в стихотворении «Наше поколение юности не знает…»:
Чуть не с колыбели сердцем мы дряхлеем, Нас томит безверье, нас грызёт тоска… Даже пожелать мы страстно не умеем, Даже ненавидим мы исподтишка!..В стихах Надсона – изобилие ораторских приемов, риторических фигур речи (риторические вопросы и восклицания, синтаксический параллелизм и т. п.). Стихотворения Надсона как будто созданы для декламации:
Кто из нас любил, весь мир позабывая? Кто не отрекался от своих богов? Кто не падал духом, рабски унывая, Не бросал щита перед лицом врагов? <…> О, проклятье стонам рабского бессилья! Мёртвых дней унынья после не вернуть! Загоритесь, взоры, развернитесь, крылья, Закипи порывом, трепетная грудь!С частым использованием приёма доверительного обращения к читателю связана исповедальность его лирики, подкупающая искренность интонации: «Не вини меня, друг мой, – я сын наших дней…»; «Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат…»; «Милый друг, я знаю, я глубоко знаю…».
Рациональное, логическое начало в поэзии Надсона вытесняет интуитивное и образное. Афористичность – одна из сильных сторон его таланта: «Только утро любви хорошо…»; «Нет на свете мук, сильнее муки слова…», «Жизнь – это океан и тесная тюрьма!»
Знаменитое четверостишие Надсона – яркое подтверждение этой черты его поэзии:
Не говорите мне «он умер». Он живёт! Пусть жертвенник разбит – огонь ещё пылает, Пусть роза сорвана – она ещё цветёт, Пусть арфа сломана – аккорд ещё рыдает!..«С афористичностью поэзии Надсона как нельзя более гармонирует и его тяготение к аллегориям и абстракциям, которыми насыщен его поэтический словарь: идеал и царство Ваала, свет и мрак, любовь и вражда, лавр и тёрн, меч и крест, сомнение и вера, раб и пророк – таковы аллегорические абстракции-антитезы, к которым сводит Надсон всё многообразие житейских коллизий и психологических драм своего времени» (Г.А. Бялый).
К очевидным недостаткам поэтической формы стихотворений Надсона следует отнести банальность эпитетов, сравнений, метафор. Так, стихотворный монолог, который должен раскрыть и подтвердить первый стих-афоризм стихотворения «Только утро любви хорошо…», скорее разочаровывает читателя, чем убеждает его. Он складывается из хорошо знакомых поэтических шаблонов: «девственно-чистая, стыдливая душа», «кумир», кипение «безумных желаний», «миг наслаждения», «кипучий поток», сорванный «пышный цветок» и т. п.
Небогата и стихотворная техника Надсона: он использует традиционные размеры, строфику (как правило, катрен), банальные рифмы (кровь – любовь, идеал – Ваал, знаю – страдаю и т. п.). Тяготение к «долгим» стихотворным строчкам: шестистопный ямб и хорей, четырехстопный дактиль, анапест и амфибрахий – вполне объясняется доминирующим пафосом, эмоциональным фоном его лирики. При этом само звучание стиха нейтрализует «бодрую», «энергичную» лексику:
Верь: наступит пора – и погибнет Ваал, И вернется на землю любовь!Словно бы предчувствуя подобные упрёки, Надсон писал в одном из известнейших стихотворений:
Милый друг, я знаю, я глубоко знаю, Что бессилен стих мой, бледный и больной; От его бессилья часто я страдаю, Часто тайно плачу в тишине ночной… Нет на свете мук сильнее муки слова: Тщетно с уст порой безумный рвётся крик, Тщетно душу сжечь любовь порой готова: Холоден и жалок нищий наш язык!В некоторых стихотворениях Надсона намечается поиск иной стилистической манеры («Закралась в угол мой тайком…»; «Жалко стройных кипарисов…»; «Лазурное утро я встретил в горах»). Эти и некоторые другие произведения, исполненные любованием жизнью, яркими красками, живой интонацией, звучат совсем не по-надсоновски. Не они определили литературную репутацию Надсона и принесли ему громкую известность у современников и охлаждение потомков. Трудно предполагать, как мог бы измениться голос поэта, если бы не его ранняя смерть.
Поэзию Надсона ценил А.П. Чехов, может быть, именно потому, что чутко воспринимал душевное состояние русской жизни, поэтическим голосом которой стал Надсон: «Надсон – поэт гораздо больший, чем все современные поэты, взятые вместе… Из всей молодежи, начавшей писать на моих глазах, только и можно отметить трёх: Гаршина, Короленко и Надсона».
Литература
Кулешов В.И. История русской литературы XIX в. 70–90 гг. М., 1983. С. 193–197.
Л.Н. Трефолев (1839–1905)
Видное место среди поэтов «некрасовской школы» занимает Леонид Николаевич ТпеФолев, поэт-демократ, «рыцарь правды», при жизни недостаточно известный, хотя часть его наследия распространена в народе: вошла в лубочные издания, распевалась, декламировалась на демократических концертах и сходках. Талант поэта признавали М.Е. Салтыков-Щедрин, А.П. Чехов и Н.А. Некрасов, ведь для него Трефолев – ученик, «которым может гордиться учитель». И еще один отзыв Некрасова: «Стихи Трефолева бьют по сердцу. Это мастер, а не подмастерье».
Жизнь Трефолева прошла в Ярославле. Он родился в семье небогатого помещика, театрала и книголюба. С шести лет мальчик много читает, с 12 – пишет стихи и издаёт свой рукописный журнал. Собирает иллюстрированные издания сказок (любовь к русским сказкам привита няней: «Нянины сказки», 1878). После окончания гимназии работает в редакции «Ярославских губернских ведомостей», где с 1857 г. начинает печататься. В ранней лирике воспевает идеальную любовь, переводит Беранже и Гейне.
С 1864 г. служит в строительном отделении при Ярославском губернском правлении, однако, будучи слишком честным и порядочным чиновником, оказался неугодным начальству и был уволен с государственной службы «по причине неблагонадёжности». Четверть века Трефолев посвящает работе в земстве, краеведению и редактированию «Вестника Ярославского земства». Как краевед он изучает архивные материалы, публикует исторические статьи и очерки, самые интересные из которых вошли в сборник «Ярославская старина» (1940).
Произведения поэта печатаются в журналах «Дело», «Искра» (незадолго до его закрытия), «Отечественные записки», «Вестник Европы», «Осколки» и др. Самое крупное прижизненное издание – сборник «Стихотворения Л.Н. Трефолева (1864–1893)».
С Некрасовым и поэтами некрасовской школы Трефолева роднит близость взглядов на крепостническую и пореформенную Россию, положение крестьянства, судьбу русской женщины и пр., а также ритмика, простонародная лексика, фольклорные элементы. Поэт горячо сочувствует страданиям народа: «Семинарист» (1864), «На бедного Макара все шишки валятся» (1872), «Таинственный ямщик» (1883) и др.; со злой иронией изображает жестокость, лживость и безнравственность правящих классов: «Стрелок» (1864), «Филантропу» (1877), «Добряк, душа человек» (1891) и др.; выражает веру в грядущее освобождение народа: «К России» (1877), «Тени» (1880), «Песня о Дрёме и Ерёме» (1882), «Кровавый поток» (1899) и др. Близкий Некрасову образ родины, убогой и могучей, создаётся в стихотворении «К России» (1877):
Они всю тебя истерзали, Пронзили железом, свинцом, И руки и ноги связали, Покрыли терновым венцом…Поэт надеется, что Россия рано или поздно залечит раны и сорвёт терновый венец. К числу своих учителей в поэзии – честных, благородных певцов страдания людского – Трефолев относит поэта-крестьянина И.З. Сурикова, посвящает ему два стихотворения, выражая идею преемственности;
Новая песня с чудесными звуками Будет услышана нашими внуками, И, улыбаясь, воскликнут они: «Пели не так в стародавние дни!» <…> Мы, истомлённые жизнью убогою, Честно пойдём проторённой дорогою И, вспоминая страдальца-певца, Песни твои допоём до конца. («Памяти Ивана Захаровича Сурикова», 1880)Особенно прославили Трефолева песни, созданные по фольклорным мотивам и со временем (в сокращённом виде) вошедшие в народный репертуар: «Дубинушка» (1865), «Когда я на почте служил ямщиком» (1868, переложение стихотворения польского поэта В. Сырокомли) и «Песня о камаринском мужике» (1867). В последней ритм народной плясовой песни намеренно контрастирует с трагическим характером содержания: поэт воссоздаёт судьбу бедолаги «Касьяна, мужика камаринского», загулявшего до смерти в день именин, который у него лишь раз в четыре года:
Ах ты, милый друг, голубчик мой Касьян! Ты сегодня именинник, значит – пьян! Двадцать девять дней бывает в феврале, В день последний спят Касьяны на земле. В этот день для них зелёное вино Уж особенно пьяно, пьяно, пьяно.В этих Макарах и Касьянах Трефолев обобщает черты национального русского характера. «Балалаечный ритм скоморошьей погудки, – по мысли исследователя Н.Н. Скатова, – прекрасно передаёт ту забубённость, ту «трын-траву», которая позволяет иногда так легко переходить от радости к скорби, от веселья к смерти». Сам поэт называет свои песни «грустно-смешными».
Ряд произведений Трефолева отличается версификаторской усложнённостью, изысканностью, например, стихотворение «Набат» (1898) написано секстинами (на 36 стихов – две рифмы). Поэт обращается также к сонету и октаве.
Достоинство поэта Трефолева – в том, что он изображает «…ту безвестную жизнь масс, где совершаются дела и события, почти всегда находящиеся в явном противоречии с показаниями истории, писанной и щеголяющей именами» (М.Е. Салтыков-Щедрин).
Литература
Айзеншток И.Я. Поэт-демократ Леонид Николаевич Трефолев. 1839–1905. Ярославль, 1954.
Скатов Н.Н. Некрасов: Современники и продолжатели. Очерки. М., 1986. С. 20–23.
С.Д. Дрожжин (1848–1930)
Долгая жизнь принесла Спиридону Дмитриевичу Дрожжину, поэту-крестьянину, самоучке, много лишений и нужды. Выходец из беднейшей семьи крепостных крестьян д. Низовка Тверской губернии (грамоте учился у деревенского дьячка), он рано столкнулся С нищетой и грязыо городской петербургской жизни. Служил «мальчиком» в гостинице, половым, лакеем, рассыльным, продавцом, приказчиком. Мечта получить образование не осуществляется. После Петербурга – Ярославль, Ташкент, Киев, Харьков, затем возвращение в родную тверскую деревню, крестьянский труд, семейные неурядицы. Не раз Дрожжина объявляли чуть ли не единственным истинным «поэтом от сохи».
И вместе с тем – настойчивое самообразование, посещение Петербургской публичной библиотеки, собирание своей (сгорела в 1894 г. вместе с домом в Низовке). С 17 лет – литературное творчество (первая публикация – «Песня про горе добра-молодца» (1873), в журнале самоучек «Грамотей») и ведение дневника, который впоследствии входит в автобиографию «Поэт-крестьянин С. Дрожжин в его воспоминаниях. 1848–1884» (1884). Заметно влияние поэзии Н.А. Некрасова, А.В. Кольцова, И.С. Никитина. Поэт не знаком с Некрасовым лично, но не раз заявляет о восторженном отношении к нему, посвящает стихи: «На смерть Н.А. Некрасова» (1877–1878) и др. Свою музу Дрожжин представляет по-некрасовски – крестьянкой.
При жизни Дрожжина выходит 32 его поэтических сборника: первый – «Стихотворения. 1867–1888. С записками автора о своей жизни и поэзии» (1889), наиболее популярные: «Песни крестьянина» (1898), «Поэзия труда и горя» (1901), «Заветные песни» (1907), «Баян» (1909), «Песни старого пахаря. 1906–1912» (1913).
Творчество поэта-самоучки находит признание со стороны литераторов и критиков: Л.Н. Толстого, Н.Д. Телешова, В.Г. Короленко, М. Горького; его переводит австрийский поэт Р. Рильке. Дрожжин знакомится и ведёт переписку с И.З. Суриковым, участвует в суриковском кружке писателей из народа. Становится членом Общества любителей российской словесности, лауреатом Пушкинской премии, Почетным членом Всероссийского Союза поэтов.
Поэт говорит о себе в дневнике: «Я не стихотворец, а песенник». Он сам записывает у крестьян народные лирические песни. Сохранилась и его тетрадь с библиографическими заметками, где среди прочего А.Н. Афанасьев, В.И. Даль, П.В. Киреевский, братья Гримм и др. Есть свидетельства, что свои стихи Дрожжин сначала пел «на голос», а потом записывал. Фольклорное начало в большинстве его песен очень органично (психологический параллелизм, устойчивая символика, постоянные эпитеты, уменьшительно-ласкательные суффиксы и т. п.), их отличает ритмическое богатство, недаром многие затем фольклоризуются:
Красна девица, зазноба ты моя! Зазнобила добра молодца меня. Навела печаль на белое лицо, Истомила сердце влюбчивое. («Песня», 1892, была в репертуаре Ф.И. Шаляпина)Что касается стиховой организации, то, по верному замечанию М.Л. Гаспарова, Дрожжин возвращает «дактилическую рифму к её народному истоку – грамматическому параллелизму»; большинство его рифм однородные (на прилагательные, глаголы), много неточных, как в фольклорных лирических песнях.
Поэт изображает быт, дела, чувства крестьянина, пишет о бедности, тяжком труде, пьянстве, но видит и здоровые, радостные моменты в крестьянской жизни, любуется душевной красотой русского человека:
Поздним вечером красавица С милым другом распрощалася, Он в дороженьку отправился, Сиротой она осталася. Вся до колоса пожатая, Рожь к ногам её склоняется — А на сердце красной девицы Грусть-тоска не унимается… («Жница», 1871)Лучшие его произведения просты, задушевны, искренни. Своим героем Дрожжин делает и самую песню как воплощение поэтической души русского народа:
Далёко эта песенка В родных полях разносится, Звенит, душой согретая, В другую душу просится. («Сельская идиллия. Подражание А.В. Кольцову», 1875)Дрожжин далек от революционных, бунтарских настроений; он проповедует мирные идеи трудолюбия, терпения, подчёркивает важность народного просвещения; вероятно, поэтому в предреволюционные годы официальные круги поднимали его на щит как «идеального» крестьянина. Однако революцию 1917 г. встречает сочувственно, в преклонном возрасте занимается общественной работой.
В.Г. Короленко пишет: «Дрожжин не пылающий маяк, освещающий <…> большие пространства. Но есть у него временами та скромная, тихая прелесть, которая привлекает сочувствием взгляд к огоньку, мерцающему в темноте из-под нахлобученной снегом деревенской избушки».
Литература
И.З. Суриков и поэты-суриковцы / Вступ. ст., биогр. справки, подгот. текста и примеч. Е.С. Калмановского. М.; Л„1966.
Дрожжин С.Д. Песни гражданина / Вступ. ст., подгот. текстов и примеч. Л.А. Ильина. М., 1974.
Нагорная Н.М. Русская демократическая поэзия второй половины XIX в. Киев, 1984. С. 25–36.
Скатов Н.Н. Некрасов: Современники и продолжатели. Очерки. М., 1986. С. 39–48.
Д.С. Мережковский (1866–1941)
Дмитрий Сергеевич Мережковский родился в семье дворцового служащего – столоначальника придворной конторы, действительного тайного советника. Воспитывался в классической гимназии, там же начал писать стихи. В 1880 г. Мережковский познакомился с Ф.М. Достоевским и С.Я. Надсоном.
В «Автобиографической заметке» Мережковский вспоминает, что отец решил показать его произведения Достоевскому, которому стихи не понравились. «Чтобы хорошо писать, – страдать надо, страдать!» – воскликнул он. Первое стихотворение Мережковский напечатал в 1881 г., в 16-летнем возрасте, в сборнике «Отклик».
В литературный мир юный поэт вошёл через Надсона, встречался с Плещеевым, Гончаровым, А.Н. Майковым, Полонским. Благодаря П.Ф. Якубовичу стал печататься в «Отечественных записках».
Мировоззрение Мережковского формировалось в противоречивой обстановке. Гибель Александра II вызвала резкий конфликт в семье – между отцом, монархистом и сторонником классической гуманистической культуры, и вольнодумцем старшим братом. Дмитрий Сергеевич вёл замкнутый образ жизни, в гимназии почти ни с кем не сходился. Такое мироощущение отчасти сформировалось под влиянием большой семьи. Он был младшим из шести сыновей, в семье было ещё три дочери.
В 1884 г. Мережковский поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, где увлёкся философией позитивизма, с её рационализмом, научностью, объективностью. Его «учителями» становятся Спенсер, Конт, Милль, Дарвин. С другой стороны, в «Автобиографической заметке» он вспоминает, что с детства был религиозен и чувствовал недостаточность «позитивного» научного знания, что определило его духовные искания.
Общественные взгляды Мережковского формировались под влиянием народнической идеологии. Идеи служения интеллигенции народу были восприняты под воздействием личного знакомства с Н.К. Михайловским и Г.И. Успенским, которых он называл своими «учителями». С другой стороны, важное воздействие на его мировоззрение оказывало религиозно-мистическое и историософское учение Вл. Соловьёва, со временем возобладавшее. Определённую роль в этой эволюции взглядов Мережковского сыграл поэт, драматург, философ и переводчик Н.М. Минский.
Эстетические взгляды Мережковского определились через поэтику французского декаданса, которая соединилась с религиозно-философским мировосприятием. Творческие искания поэта разделяла и З.Н. Гиппиус (1869–1945), с которой он в 1888 г. познакомился в Тифлисе. Их супружеский союз стал и философско-эстетическим, поэтическим союзом.
Первый поэтический сборник Мережковского «Стихотворения. 1883–1887» вышел в Петербурге в 1888 г. В 90-е гг. поэт сближается с сотрудниками журнала «Северный вестник», вокруг которого начинает формироваться первая группа символистов. В 1892 г. выходит второй сборник Мережковского «Символы: Песни и поэмы».
В том же году Мережковский читает цикл публичных лекций, посвящённых анализу современной литературы и путям её обновления. В 1893 г. опубликована его книга «О причинах упадка и о новых течениях современной литературы», ставшая манифестом нового литературного направления – символизма.
В 1896 г. выходят в свет «Новые стихотворения. 1891–1895». После публикации этой книт Мережковский как поэт выступает всё реже. Его главное внимание сосредотачивается на художественной прозе, философских эссе, литературно-критических и публицистических статьях. Первым в этом ряду становится сборник очерков «Вечные спутники: Портреты из всемирной литературы» (1897). Проза и эссеистика Мережковского развивала его религиозно-философское учение «Третьего Завета». Важной культурной, философской и общественной сферой его деятельности стали организованные им совместно с З.Н. Гиппиус собрания в Религиозно-философском обществе, открытом в 1907 г. в Петербурге по инициативе Мережковского и его друзей.
Последний поэтический сборник Мережковского «Собрание стихов. 1883–1910» был издан в Петербурге в 1910 г. В него вошли 49 «лирических пьес» и 14 «легенд и поэм».
Вообще художник во многом относился к своим стихам отстранённо, как к определённому литературному труду, не являющемуся для него первостепенным. В прижизненном полном собрании сочинений он исключил большую часть своих стихотворений (например, в семнадцатитомном Полном собрании сочинений [М., 19 И—1913]). К тому же он перемещал стихотворения хронологически, не выстраивая при этом композиционно, полифонически звучащую «книгу стихотворений», как это делали Брюсов, Бальмонт, Белый, Блок, Волошин. Поэзия не была его главным литературным самовыражением, однако в ней намечены основные мотивы и символы его миросозерцания в целом.
Как поэт Мережковский прошёл путь, характерный для многих русских символистов «первой волны». Он начал с подражаний Надсону и с использования умозрений и стилистики народнической поэзии. Пережив определённый творческий кризис, теоретически осмысленный им в упоминавшейся выше брошюре «О причинах упадка и о новых течениях современной литературы», он сформировал свою окончательную лирическую семантику и поэтику: мистическое содержание, символизация и «расширение художественной впечатлительности в духе изощрённого импрессионизма».
Установка художника касалась прежде всего образности, содержания поэтического текста. «Изощрённостью» в области ритма, рифмы, мелодики поэт не увлекался. В его стиле преобладает своеобразная взволнованная рассудочность. Он больше был «художником» идеи, а не «формы».
В ранней поэзии Мережковского особенно сильны мотивы одиночества. В духе романтической традиции лирический герой Мережковского говорит о своём конфликте с человеческим обществом и формирует характерную для двоемирия оппозицию общества и природы. Таково, например, лирическое признание в одном из стихотворений 1887 г.:
И хочу, но не з силах любить я людей: Я чужой среди них; сердцу ближе друзей — Звёзды, небо, холодная синяя даль И лесов, и пустыни немая печаль…Романтическая, книжная декларативность чувствуется в искусственной лексике этой вроде бы «исповеди», ведь заканчивается монолог лирического героя молитвенным обращением к Богу. Таково слово «пустыня» в значении «уединение». Вспомним хотя бы пушкинское: «Приветствую тебя, пустынный уголок…». Или слово «пустыня» в одноимённых пушкинском и лермонтовском стихотворениях «Пророк». В монологе 21-летнего поэта эта стилистика явно заимствуется, поэтому и молитвенный финал звучит также книжно: «Дай мне силы, Господь, моих братьев любить!»
С другой стороны, декларативные признания лирического героя приоткрывают реальную философско-психологическую проблему и эмоциональное состояние, ею порождённое. Это своеобразное опустошение души, вызванное рациональной рефлексией (в этом ряду и увлечение позитивизмом), и такой же интеллектуальный эгоцентризм. В том же стихотворении находим следующее признание: «И мне страшно всю жизнь не любить никого. / Неужели навек моё сердце мертво?» Это рационально-депрессивное состояние вообще типично для молодого Мережковского. К нему добавлялись упаднические настроения конца века. В стихотворении «Одиночество» это переживание пересекается с интуициями тютчевского «Silentium»: «Поверь мне: – люди не поймут / Твоей души до дна!»; «Чужое сердце – мир чужой, / И нет к нему пути! / В него и любящей душой / Не можем мы войти».
Однако уже здесь Мережковский переживает это состояние как «болезнь души». Ему плохо с самим собой, его внутренний мир дисгармоничен и вызывает жалость: «В своей тюрьме, – в себе самом, / Ты, бедный человек, // В любви, и в дружбе, и во всём / Один, один навек!..» Как это не похоже на тютчевскую полноту внутреннего мира, которую поэт и призывает сохранить в «молчании».
Романтический мотив «молчания» восходит к аскетической практике «исихазма»: «исихия» буквально означает «молчание», «тишину», «безмолвие». И Мережковский по-своему, творчески стремится выйти из этого «пустого» уединения.
Демоническая природа одиночества лирического героя раскрывается в стихотворении «Тёмный ангел» (1895). Монолог «ангела» демона направлен против любви. Именно он «всегда» присутствует возле лирического героя, что не нарушает его одиночества, а наоборот, создаёт его: «Я – ангел детства, друг единственный, / Всегда с тобой». Этот «последний друг» и отделяет его от других: «Полны могильной безмятежностью / Твои шаги. / Кого люблю с бессмертной нежностью, / И те – враги». Такое одиночество является ноуменальным, а не социальным или идейным.
В стихотворении «Молчание» силою, преодолевающей депрессивное уединение, становится любовь: «И в близости ко мне живой души твоей / Так всё таинственно, так всё необычайно, – / Что слишком страшною божественною тайной / Мне кажется любовь, чтоб говорить о ней». Мотив тайны формирует другой образный пласт лирики Мережковского. Он связан с гностическими интуициями и религиозно-философскими исканиями поэта. Они неотделимы от изначального творческого самосознания. Уже в стихотворении «И хочу, но не в силах любить я людей…» возникает мотив слияния с Природой. Он решается не только романтически, но и мистически. Вроде бы по-лермонтовски далёкая от человека красота мира (стихотворение «Выхожу один я на дорогу…») переживается через интуицию, родство души человека с Душой Природы. Пейзаж мифологизируется: «Словно ветер мне брат, и волна мне сестра, / И сырая земля мне родимая мать…».
В программном стихотворении «Поэт» (1894) эта интуиция выражается уже как творческая задача. Здесь также заявлен мотив одиночества, но теперь оно мистически и теургически оправданно: «Я люблю безумную свободу! / Выше храмов, тюрем и дворцов / Мчится дух мой к дальнему восходу, / В царства ветра, солнца и орлов!»
Мистика Мережковского лирически получает жизнеутверждающий характер. Пейзажная зарисовка в стихотворении «Март» (1895) сливается с пасхальной символикой, с мотивом Воскресения. Эпитеты «больной» и «усталый», привнесённые в чувство природы, противопоставляются близкому поэтике Тютчева («Весенние воды») динамическому образу весеннего таяния снега: «И всё течёт, течёт… / Как весел вешний бег / Могучих, мутных вод!» А в финале мотив «умирания» «больного и тёмного» льда сменяется пасхальной радостью: «Что жив мой Бог вовек, / Что смерть сама умрёт!» Пасхальное песнопение: «Христос воскресе из мёртвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав…» проецируется в апокалиптическое видение: «И отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже…» (Откр. 21: 4).
В концептуальном богословском стихотворении «Бог», написанном в молитвенной форме, возникает образная, символическая теофания (богоявление). В отличие от языческого пантеизма, Бог не «растворён» в космосе, иерархически Он остаётся выше мира. Однако творение становится иконой Творца. Мифологема Всеединства выражается для Мережковского не через символ Софии, а через Ипостась Св. Духа, Откровение Которого поэт считал сущностью Третьего Завета, смыслом и содержанием апокалиптического будущего. Поэт пророчески возвещает:
И Ты открылся мне: Ты – мир, Ты – всё! Ты – небо и вода, Ты – голос бури, Ты – эфир, Ты – мысль поэта, Ты – звезда…Вслед за французским декадентом Бодлером (сонет «Соответствия») Мережковский заблудился в системе космической иерархии бытия. Импрессионистическая игра ассоциациями создала маннхейскую по природе концепцию «двух бездн», в которой Бог и дьявол равновелики и, по существу, мистически неразличимы. В стихотворении «Двойная бездна» (1901) поэт провозглашает не только духовное проникновение «мира иного» в «мир здешний», «отражение» одной «бездны» в другой и «двуприродность» человеческого существа (ср. у Тютчева «О вещая душа моя…»), но и мистическую неразличимость «зла»
И зло, и благо – тайна гроба. И тайна жизни – два пути — Ведут к единой цели оба. И всё равно, куда идти.Странно, что поэт считал своё учение «неохристианским» (так же как и Л.Н. Толстой своё), когда Христос чётко разделяет два пути – греха и спасения: удаления от Бога и соединения с Ним (Мф. 7: 13–14). Мережковский же вдохновенно призывает: «Ты сам – свой Бог, ты сам свой ближний, / О, будь же собственным Творцом, / Будь верхней бездной, бездной нижней, / Своим началом и концом». Идея Богочеловечества получает у поэта ницшеанский характер. По существу речь идёт не об уподоблении Богочеловеку Христу, а об обожествлении самого себя, о мистическом самоутверждении. Развивая христианскую идею богосыновства человека в стихотворении «О, если бы душа полна была любовью…», Мережковский доходит до прямого отождествления себя и Бога: «Душа моя и Ты – с Тобой одни мы оба», «Я всё же знаю: Ты и Я – одно и то же». Эта словесная игра с изречением Христа «Я и Отец – одно» (Ин. 10:30) превращается в хлыстовство.
Мережковский, стремясь освятить человеческое тело, преодолеть аскетические ограничения православия, по существу, реставрирует язычество. Античная пластика раскрывается во многих стихотворениях поэта – «Помпея» (1891), «Смех богов» (1889), «Парфенон», «Титаны», «Рим», «Пантеон» (1891), «Будущий Рим» (1891) и др. Однако язычество с христианством не «синтезируется» в принципе, потому что земное тело человека уже освящено Боговоплощением. Эллинская телесность органически вошла в христианскую культуру, но не стала культом. Поднимая сексуальные проблемы, проповедник Третьего Завета перекликался с проповедью ветхозаветной сексуальности В.В. Розанова. Проблема пола была важной темой философствования и художественного творчества в культуре Серебряного века.
Мотив «двух бездн» является концептуальным во втором романе трилогии «Христос и Антихрист» – «Воскресшие боги: Леонардо да Винчи», опубликованном в 1900 г., где автор приводит гимн из «Изумрудной скрижали» Гермеса Трисмегиста, который считается родоначальником всех оккультных учений. В оккультном, магическом, люциферическом ключе решается поэтом и характер Леонардо да Винчи в одноимённом стихотворении 1895 г.: «Ко всем земным страстям бесстрастный /Таким останется навек – / Богов презревший, самовластный, / Богоподобный человек». Поэт любуется люциферическим величием и в личности Микеланджело. В одноимённом стихотворении из цикла «Легенды и поэмы» показательно понимание природы гениальности титана Возрождения: «Отчаянью подобны вдохновенья: / Ты вечно невозможного хотел. / Являют нам могучие творенья / Страданий человеческих предел». Титанизм ведёт к богооставленности, но это лишь усиливает привлекательность творческого сверхчеловека: «И вот стоишь, непобедимый роком, / Ты предо мной, склоняя гордый лик, / В отчаяньи спокойном и глубоком, / Как демон, безобразен и велик».
На стыке человеческого, демонического и божественного формируются и другие характеры цикла: Леда, Марк Аврелий, Будда, Иов, Франческа Римини, Уголино, Дон Кихот, протопоп Аввакум, Франциск Ассизский.
Пережитые духовные противоречия определяли тип лирического героя и общую стилистику поэзии Мережковского как стремление провидеть Мудрость, Тайну и Красоту бытия. Как лирик он передаёт сложный мир субъективных переживаний: внутренних противоречий любви («Одиночество в любви», «Любовь – вражда», «Проклятие любви»), усталости («Усталость» в диптихе «DE PROFUNDIS» – латинское начало 129 псалма «Из глубины взываю к Тебе, Господи»), скуки («Скука»), старости («Старость»).
Конфликт между свободой и любовью, между «Я» и Другим определяет характер мироощущения лирического героя Мережковского в целом. Почти цитируя пушкинское стихотворение «Из Пиндемонти» (Никому / Отчёта не давать, себе лишь самому / Служить и угождать…), в стихотворении «Волны» Мережковский признаётся:
Ни женщине, ни Богу, ни отчизне, О, никому отчёта не давать И только жить для радости, для жизни И в пене брызг на солнце умирать!.. Но нет во мне глубокого бесстрастья: И родину, и Бога я люблю, Люблю мою любовь, во имя счастья Всё горькое покорно я терплю.За этими простыми словами скрывается не столько люциферическая личность, сколько мечта о гармонии внутреннего и внешнего, жизни и смерти, человеческого и божественного. Это делает субъективный мир поэта универсальным, а личностное – общечеловеческим.
Литература
Русская литература XX в. 1890–1910 / Под ред. С.А. Венгерова М., 2004.
А. Ханзен-Лёве. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Ранний символизм. СПб., 1999.
К.Д. Бальмонт (1867–1942)
Константин Дмитриевич Бальмонт родился в деревне Гумнищи Шуйского уезда Владимирской губернии, в небогатой помещичьей среде. Его предки по отцовской линии были шотландскими или скандинавскими моряками, осевшими в России. Отец служил в земстве по судебной линии. Мать была высокообразованной женщиной, учила и лечила крестьян, устраивала любительские спектакли и концерты. В воспоминаниях Бальмонт отмечал, что именно мать ввела его в мир музыки, словесности, истории, языкознания. Она же научила его «постигать красоту женской души». Первыми его книгами были Пушкин, Жуковский, Лермонтов, Некрасов, Андерсен, Жюль Верн, Майн Рид. Последние авторы символичны. За свою жизнь поэт объехал практически весь мир, вплоть до экзотических островов в Океании. Жизнь Бальмонта была богата впечатлениями и событиями. Он был своеобразным «гражданином мира», но, живя за границей, тосковал по России. Пользовался невероятным успехом, но умер в полной нищете душевно больным человеком в эмиграции во Франции.
В 1876 г. Бальмонт поступил в классическую гимназию города Шуи, откуда в 1884 г. был исключён за принадлежность к «революционному кружку». Продолжил учиться во Владимирской гимназии, которую закончил в 1886 г. и в том же году поступил на юридический факультет Московского университета, но был отчислен из университета как один из организаторов студенческих беспорядков. После трёхдневного заключения в Бутырке Бальмонт был выслан под надзор полиции в Шую. Вообще Бальмонт и позже живо откликался на политические, в особенности революционные события современности, которые воспринимал очень эмоционально, в духе анархического индивидуализма.
В 1888 г. вновь принят в университет, но из-за нервного расстройства вынужден оставить его. Поступает в Демидовский юридический лицей в Ярославле, но вскоре также оставляет учебу, испытывая отвращение к «казённому образованию». Он активно занимается самообразованием, в особенности ему удаётся изучение иностранных языков (возможно, сказывались скандинавские корни).
В марте 1890 г. в результате неудачной женитьбы, показавшей, по воспоминаниям, любовь «в демоническом лике, даже в дьявольском», и общей неустроенности жизни, прочитав накануне «Крейцерову сонату» Толстого, Бальмонт попытался покончить с собой – выбросился из окна третьего этажа. Этот эпизод описан в автобиографическом рассказе «Воздушный путь» (1908). Попытке самоубийства впоследствии придавал важное значение, считая, что близость смерти пробудила в нем «творческую мечту».
Первым литературным опытом стали три стихотворения, опубликованные в 1885 г. в журнале «Живописное обозрение». В автобиографии Бальмонт вспоминает, что ни один журнал не хотел его печатать. В 1890 г. в Ярославле он на свои деньги небольшим тиражом издаёт книгу «Сборник стихотворений». Проникнутый надсоновскими настроениями и мотивами, сборник успеха не имел, и поэт сам уничтожил практически всё издание.
Важную роль в его литературном становлении сыграл В.Г. Короленко, который рекомендовал Бальмонта редакции «Северного вестника» как «способного» поэта, «примятого разными невзгодами», но «не упавшего духом».
В 1887–1889 гг. Бальмонт занимается переводами западноевропейских поэтов – Г. Гейне, Н. Ленау, А. Мюссе, Сюлли-Прюдома и др. После первого в жизни путешествия в Скандинавию начинает Переводить Ибсена, Бьёрнсона, пишет о них статьи и рецензии. По рекомендации профессора Н.И. Стороженко и переводчика и публициста П.Ф. Николаева московский издатель и меценат К.Т. Солдатёнков поручает Бальмонту перевод «Истории скандинавской литературы» Ф.В. Горна и двухтомной «Истории итальянской литературы» А. Гаспари. По воспоминаниям поэта, эта деятельность дала заработок на три года и возможность «осуществить свои поэтические мечты». Знакомство и сближение с князем А. И. Урусовым, поклонником и знатоком западноевропейской культуры, вводит Бальмонта в мир новейшей европейской философии и литературы. В 1893–1899 гг. он переводит и издаёт сочинения П.Б. Шелли в семи выпусках, переводит и издаёт на средства Урусова две книги переводов из Э. По – «Баллады и фантазии» (1895) и «Таинственные рассказы» (1895).
В 1894 г. в студенческом Обществе любителей западной литературы Бальмонт познакомился с В.Я. Брюсовым. Эта встреча стала судьбоносной. Брюсов вспоминает Бальмонта в это время как «жизнерадостного и полного самых разнообразных литературных замыслов» человека. Они читали друг другу свои и чужие стихи. Брюсов открывает Бальмонту Верлена, Тютчева, Каролину Павлову. «Родоначальник» русского символизма признаётся, что знакомство с Бальмонтом останется навсегда «в числе самых значительных событий» его жизни, отмечает, что стал «другим» после знакомства с ним.
В 1894 г. выходит в свет первый «настоящий» сборник стихотворений Бальмонта «Под северным небом: Элегии, стансы, сонеты». Комментируя издание книги, поэт писал Н.М. Минскому: «Предчувствую, что мои либеральные друзья будут очень меня ругать, ибо либерализма в них нет, а “растлевающих” настроений достаточно». К моменту публикации сборника Бальмонт был уже довольно широко известен как переводчик и автор критических статей о европейской литературе.
В 1895 г. появляется вторая книга поэта – «В безбрежности», вызвавшая полемические отклики на новый образный язык поэта, тяготеющий к музыкальному импрессионизму. В том же году Бальмонт знакомится с С.А. Поляковым – московским купцом, математиком и политологом, знатоком и ценителем новейшей европейской литературы. Вместе с Брюсовым в 1900 г. Поляков учредил издательство «Скорпион», ставшее центром русского символизма первой волны. Ступенью к этому было издание в 1899 г. коллективного сборника «Книга раздумий», где были опубликованы стихотворения Брюсова, И. Коневского, М. А Дурнова. Заметное место в книге занимают произведения Константина Николаевич Бальмонта.
В 1897 г. Бальмонт был приглашён в Оксфорд с курсом лекций по истории русской поэзии. Он посещает Рим, Берлин, Париж. Из Франции заезжает в Испанию. Жизнь в Европе обострила русское самосознание поэта. Из Рима (по-гоголевски тоскуя) поэт писал матери: «Боже, до чего я соскучился по России! Всё-таки нет ничего лучше тех мест, где вырос, думал, страдал, жил. А там – вдали – моя родная печальная красота, за которую десяти Италий не возьму».
Третья книга стихов Бальмонта была опубликована в августе 1898 г. Называлась она «Тишина». В ней в ещё большей степени выразились «декадентские» стилевые черты.
Первые книги Бальмонта принято рассматривать как начальный этап его творчества. В начале нового века поэт публикует сборники «Горящие здания (Лирика современной души)» (1900), «Будем как солнце. Книга символов» (1903) и «Только любовь. Семицветник» (1903), которые принесли ему всероссийскую славу и определили следующий этап его поэтической эволюции.
В 1901 г. за публичное чтение и распространение антиправительственных стихов Бальмонт лишается права проживания в столицах и университетских городах. Он уезжает в Ялту в Гаспре дважды посещает Л.Н. Толстого, первый раз вместе с Чеховым и Горьким. Весной 1902 г. поэт переезжает в Европу, возвращаясь в Россию в период первой революции. Опасаясь репрессий за революционные сборники «Стихотворения» (1906) и «Песни мстителя» (1907), запрещённые полицией, снова уезжает за границу, где живёт до 1913 г., до объявления амнистии политическим эмигрантам.
За свою жизнь поэт создал очень много. Только за семилетие с 1907 по 1914 г. он выпускает собрание сочинений в 10 книгах. Кроме поэтических сборников, он публиковал историко-теоретические исследования, самыми известными из которых являются его книги «Горные вершины» (1904) и «Поэзия как волшебство» (1915). Издавал очерки, связанные с его бесконечными путешествиями, обработки мирового фольклора, художественную мемуаристику. Поэтическое творчество было сутью личности поэта. Казалось, что противоречивые критические оценки окружающих его мало волновали. Не писать означало для него не жить.
Первые поэтические книги развивались в традициях лирики 80—90-х гг. В них преобладала грустная интонация, элегические настроения. Критик Измайлов определял характер лирического героя Бальмонта в первой книге так: «…кроткий и смиренный юноша, проникнутый самыми благонамеренными и умеренными чувствами». Эпиграфом к сборнику послужили слова поэта Ленау: «Божественное в жизни всегда являлось мне в сопровождении печали».
Как художник 27-летний Бальмонт тяготел к стилистике «чистой поэзии», представленной в 80-е гг. творчеством Фета и Полонского. Угадываются стилевые черты лирики Фофанова, Надсона, поэтов «усталого» поколения. Образный мир Бальмонта получает романтический характер. Поэт выражает депрессивное неприятие жизни, скорбь, томление по смерти. Эти настроения соседствуют с возвеличиванием любви, природы. Заметно внимание художника к звуковой орнаментации стиха, к музыкальности.
Таково, например, стихотворение «Челн томления». Настроение в нём обрамляется аллитерацией:
Чуждый чистым чарам счастья, Чёлн томленья, чёлн тревог Бросил берег, бьётся с бурей, Ищет светлых снов чертог.Вроде бы напряжённое, драматическое настроение, создаваемое словами «бьётся», «чуждый» (счастья), «бросил» (берег), «горькая грусть», «умер вечер», «ропщет море», «тьмой охвачен», – теряется за стилевой игрой звуками и буквами. Эта игра позволяет забыть об «идейном» содержании произведения, выражающего напряжённое в своей неопределенности томление.
Своеобразное «восхождение» к красоте раскрывается в стихотворении «Я мечтою ловил уходящие тени…» (1894). Лирический герой поднимается на некую «башню». Это движение задается композиционными повторами лексики: «Я на башню всходил, и дрожали ступени, / И дрожали ступени под ногой у меня». Это не просто восхождение по «ступеням», но и духовно-эстетический, творческий выход в мир «иной», в мир таинственных звуков, «музыки» и «сверкающего», просветлённого пейзажа, зримой красоты:
И чем выше я шёл, тем ясней рисовались, Тем ясней рисовались очертанья вдали, И какие-то звуки вокруг раздавались, Вкруг меня раздавались от Небес и Земли.За импрессионистической мимолетностью возникает символическая оппозиция «верха» и «низа». «Нижний» мир погружается в ночную темноту, но художник остаётся в мире света, постигая искусство останавливать мгновенье красоты, «ловить уходящие тени потускневшего дня»:
И внизу подо много уж ночь наступила, Уже ночь наступила для уснувшей Земли, Для меня же блистало дневное светило, Огневое светило догорало вдали.Пейзаж раннего Бальмонта формируется образами пространства. Так, в стихотворении «Чайка» (1894) грустно-тревожное настроение создаётся не только «печальными криками» чайки, её «жалобами» и «безграничной тоской», находящей созвучие с душой лирического героя, но и «холодными» картинами пространства – «пучины морской», «бесконечной дали», «неприветного неба», «пены седой на гребне волны», «северного ветра», «дальней страны». Ритмика стихотворения создаётся чередованием длинной и короткой строки анапеста с дактилической и мужской клаузулой, задающими своеобразную интонационную волну, имитирующую морской прибой.
Во втором сборнике «В безбрежности» эта «пространственная» образная тенденция определяет символику названия, организуя общий семантико-интонационный мотив произведений. В стихотворениях усиливается оппозиция между миром повседневности и миром иным. При этом сознание лирического героя всё больше погружается в пограничные иррациональные состояния, как будто сновидения и грёзы торжествуют над реальностью. Вероятно, на это мироощущение повлияла и работа над переводами из Эдгара По.
Лирический герой Бальмонта признаётся: «Я жить не могу настоящим / Я люблю беспокойные сны, / Под солнечным блеском палящим / И под влажным мерцаньем луны. (…) Желаньем томясь несказанным / Я в неясном грядущем живу» («Ветер», 1894). Или: «В этой жизни смутной / Нас повсюду ждёт – / За восторг минутный – / Долгой скорби гнёт». В этом стихотворении «блаженство» понимается как «мертвенный покой». Одиночество становится катастрофическим. Поэт взывает. «Помогите! Помогите! Я один в ночной тиши./ Целый мир ношу я в сердце, но со мною ни души» («Погибшие», 1895). Однако его собеседником оказывается лишь Ветер: «Шепчет Ветер перелетный: Ты – один – один – один». Образ ветра особенно близок ему. В стихотворении «Ветер» он отождествляется с самим поэтом.
Это депрессивное состояние томления и рождает его духовный и творческий порыв к «светлой» Безбрежности. Стремясь к ней (или к Ней?) он как бы хочет разомкнуть свое больное малое «Я», его душа хочет «расшириться», слиться с пространством. Рацио, создающее конфликт с окружающим, социумом, побеждается душой, иррациональным, эмоционально-интуитивным восприятием мира и себя.
Пейзажные стихотворения 1895 г. также наполнены импрессионистическими зрительными деталями, звуками, эмоциональными оттенками. Таково, например, стихотворение «Камыши», в котором также возникает изобразительная и музыкальная игра впечатлениями:
Полночной порою в болотной глуши Чуть слышно, бесшумно шуршат камыши. О чём они шепчут? О чём говорят? Зачем огоньки между ними горят? Мелькают, мигают – и снова их нет. И снова забрезжил блуждающий свет.За импрессионистической игрой и вроде бы «риторическими вопросами» скрывается философское беспокойство, напоминающее пушкинское: «Что ты значишь, скучный шёпот? / Укоризна, или ропот / Мной утраченного дня? / От меня чего ты хочешь?» («Стихи, сочинённые ночью во время бессонницы»). Мир природы переживается поэтом не только эстетически, но и мистически. Позже символы стихий станут в его поэзии концептуальными.
Третья поэтическая книга «Тишина» формирует тенденцию к самоутверждению. В ней чувствуются ницшеанские мотивы. Бальмонт подчеркивал, что «философ “Заратустры” не был властителем дум», хотя поэт и испытал «его могучее влияние». Пафос самоутверждения, вероятно, был связан и с освобождением от «петербургской» среды, «северного неба». Осенью 1896 г. поэт женился на Е.А. Андреевой и вместе с ней уехал за границу. Любовь и новые впечатления обогатили его поэтический мир. Кроме Оксфорда (с курсом лекций) Бальмонт с женой посетили Францию, Испанию, Голландию, Италию. Особенно плодотворным оказалось влияние Испании с её жарким климатом, страстными характерами и героическим прошлым. Испанская тема не однажды появляется в его творчестве.
Усиливается волевая сила и в природно-стихийных стихотворениях. В отличие от романтически «томящейся» интонации в стихотворении 1894 г. «Ветер», стихотворение «Я вольный ветер…» 1897 г. передаёт новые состояния души. По-прежнему сохраняется «лелеющая», убаюкивающая нежность, но появляется и неукротимая мятежная энергия:
В любви неверный, расту циклоном, Взметаю тучи, взрываю море, Промчусь в равнинах печальным стоном — И гром проснется в немом просторе.Лирический герой стихотворения, увлечённый переменчивой игрой своих внутренних стихий, находит в этом непрестанное «счастье» и свободу: «Но, снова лёгкий, всегда счастливый…». Таким Бальмонт подошёл к новому этапу своего творчества.
В предисловии к программной книге «Горящие здания» (1900) поэт писал: «В предшествующих своих книгах (…) я показал, что может сделать с русским стихом поэт, любящий музыку. В них есть ритмы и перезвоны благозвучий, найденные впервые. Но этого недостаточно. Это только часть творчества. Пусть же возникнет новое».
Этим «новым» стало прославление Вселенной, её стихий Огня, Воды, Земли, Воздуха. «Нежные» слова и «колыбельные» напевы сменяют «кинжальные слова» («Кинжальные слова», 1899). Поэт восклицает: «Я хочу порвать лазурь / Успокоенных мечтаний. / Я хочу горящих зданий, / Я хочу кричащих бурь!». Мотив света, символ Солнца, Огня определил семантику книг «Будем как Солнце» (1903) и «Только любовь. Семицветник» (1903). В стихотворении «Будем как солнце! Забудем о том…» (1899) он спрашивает и призывает современника: «Счастлив ли ты? Будь же счастливее вдвое, / Будь воплощеньем внезапной мечты! / Только не медлить в недвижном покое». Первые строки книги «Будем как Солнце» – «Я в этот мир пришёл, чтобы видеть солнце…» – стали манифестом целого поколения.
Мир Красоты, переливы света поэт находил и в изгибах поэтического ритма и слова, второй составляющей своего нового мира. Это позволило ему с дерзостью заявить свое поэтическое первенство: «Я – изысканность русской медлительной речи, / Предо мною другие поэты – предтечи…».
Страстность лирического «Я», импрессионистическая утончённость, символическая многозначность и глубина, уникальная гибкость и звуковое богатство поэтической речи, музыкальность стиха сделали Бальмонта одним из реформаторов и зачинателей новой русской поэзии, завершающей «классический» XIX век и открывающей пламенное XX столетие.
Литература
Русская литература XX в. 1890–1910 / Под. ред. С.А. Венгерова. М., 2004.
К. Бальмонт и мировая культура. Шуя, 1994.
А. Ханзен-Лёве. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Ранний символизм. СПб., 1999.
В.Я. Брюсов (1873–1924)
Валерий Яковлевич Брюсов родился в московской купеческой семье. Дед Брюсова был крепостным из Костромской губернии, освободился от крепостного права, выкупившись у помещика, разбогател, торгуя в Москве. Поэт всю жизнь прожил затем на 1-й Мещанской. Эта генетическая целеустремлённость и сила будут определять и творческую биографию Брюсова. Отец поэта был разносторонне развитым человеком. Занимался самообразованием, слушал лекции в Петровской сельскохозяйственной академии, пробовал писать стихи и прозу, идеологически был близок к революционным кружкам 1860-х гг. Дед по материнской линии А.Я. Бакулин, также торговец, был известен и как поэт-баснописец; входил в Суриковский кружок. Живя у дочери, он обучал внука основам стихосложения. По воспоминаниям Брюсова, для Бакулина «существовало лишь три великих русских поэта: Державин, Пушкин, Крылов; четвёртым дед считал самого себя». Семейные черты характера, по-русски цельного и упорного, определили уникальность творческой судьбы самого Брюсова. В начале своего литературного пути он решил стать «вождём» нового литературного направления и стал им.
Первоначальное образование Валерий Яковлевич получил дома. В 1885–1889 гг. учился в гимназии Ф.И. Креймана. В 1884 г. в детском журнале «Задушевное слово» было опубликовано его «Письмо в редакцию». Участвует в гимназических рукописных журналах, помещая там рассказы приключенческого характера. Стихи начал писать с восьми лет, с 1881 г. По собственному признанию, с июня 1890-го по апрель 1891 г. им написано до 2000 стихов. В 1890–1893 гг. учится в гимназии Л.И. Поливанова. В это время увлекается философией Спинозы, позже идеями Лейбница. В 1892 г. Брюсов прочитал в «Вестнике Европы» статью З. Венгеровой о французских символистах, которая произвела на него огромное впечатление, открыв целый мир новых образов, мыслей и планов. В это время он переживает первую влюблённость и опыт утраты. В 1893 г. его избранница Е.А. Краскова умерла. Ей посвящены многие стихи этого периода.
В доме Красновых Брюсов стал участником спиритических сеансов. Более увлечённый своей начинающейся страстью, поэт тем не менее очень заинтересованно отнёсся к сверхчувственным силам. В дневнике 1893 г. он записывает: «Талант, даже гений, честно дадут только медленный успех, если дадут его. Это мало! Мне мало. Надо выбрать иное». Этим «иным», «путеводной звездой в тумане», становятся «декадентство и спиритизм». За этими двумя явлениями он видит будущее: «Что ни говорить, ложны ли они, смешны ли, но они идут вперёд, развиваются, и будущее будет принадлежать им, особенно если они найдут достойного вождя. А этим вождём буду я! Да, я!». Увлечённый своими желаниями, 20-летний Брюсов соединяет в одном переживании влечение к женщине, «новую», декадентскую поэзию и спиритические опыты, магические силы. Думая о возлюбленной, он страстно восклицает: «Мы покорим мир».
Спиритизм обогатил молодого поэта не столько мистическим опытом (по-купечески рационально, скептически мыслящий в реальные медиумические эффекты он почти не верил), сколько психологическими приемами управления чужим сознанием и общим вниманием. На формирование понятие «декадентство» во многом повлиял его опыт посещения медиумических собраний.
В 1893 г. Брюсов пишет прозаический отрывок «Поэт наших дней», а затем повесть «Декадент», где спиритические сеансы воспринимаются как попытка создать свой собственный мир. Любопытно, что герой-рассказчик, в котором угадываются черты автора, страдает от взятой на себя роли «гения»: «Теперь мне ясно, что я не гениальный человек и всё, чем я отличаюсь от людей толпы, каждый из них мог бы сам развить в себе». В 1895 г. он делает наброски к роману «Декаденты», где обобщается представление о настроениях и психологии этой новой группы людей и обозначаются различные формы «освобождения» от условностей, в том числе наркотики, экзальтированная сексуальность и др.
На этом фоне спиритизм воспринимается им как форма создания иной реальности, построенной вопреки рациональной логике, в которой проявляется люциферически свободная воля и разум. В сентябре 1900 г. Брюсов записывает в дневнике, что «усердно» посещает «спиритические среды», где получает «некоторое влияние» и с удовольствием отмечает то, что его «боятся». Образ «мага» в судьбе и творчестве Брюсова получил важное эстетическое значение. Им определялась та власть, которую он распространял на людей, ищущих новые пути в духовном становлении и художественном творчестве. В ней выражалась его творящая воля, свобода фантазии, сила интеллекта. Делая их самодовлеющими, поэт и сформировал свой тип лирического героя и собственную литературную судьбу.
В 1893 г. Брюсов становится студентом историко-филологического факультета Московского университета. Сначала он учится на отделении классической филологии (античность станет неотъемлемой частью его художественного сознания), затем на историческом отделении (история, переживаемая символически, будет проецироваться в современность и будущее). В 1899 г. поэт оканчивает университет с дипломом 1-й степени.
В 1894–1895 гг., осуществляя свой «декадентско-спиритический» замысел 1893 г., Брюсов издаёт три сборника «Русские символисты» . В сборники входили по преимуществу стихи самого поэта, выступавшего под различными псевдонимами, и отредактированные им стихи спирита АЛ. Миропольского (псевдоним А.А. Ланга), а также нескольких малоизвестных литераторов. Первоначальные планы привлечь петербургских декадентов А.М. Добролюбова и Вл. В. Гиппиуса не осуществились.
Сборники стали первой литературной декларацией символизма как нового течения в России. Брюсов объявлял о намерении создать школу символической поэзии. В предисловии к первому сборнику он заявлял, что его задачи состояли в том, чтобы «выразить тонкие, едва уловимые настроения», «рядом сопоставленных образов как бы загипнотизировать читателя». Символизм он понимал как «поэзию оттенков#-, по существу, отождествляя символизм и импрессионизм. Однако на практике эти «оттенки» были не отражением впечатлений от реальности, а произволом художника. Почти в духе раннего футуризма молодой поэт стремится эпатировать читателя. Экзотические образы связаны иррационально. Ассоциативный стиль, сформированный импрессионизмом, приобретал в художественном мышлении Брюсова причудливые формы.
В скандально знаменитом стихотворении 1895 г. «Творчество» возникает именно такал художественная система. Образы не «отражают» действительность и не «выражают» внутренний мир поэта, а живут собственной жизнью. В произведении изображается ночная (вечерняя) комната, наполненная игрой теней и цветов – фиолетового и лазоревого. Листья домашних пальм-латаний бросают тени от света из окна, падая на блестящую, как эмаль, изразцовую печь. Отсюда новый образ: «Фиолетовые руки / На эмалевой стене / Полусонно чертят звуки / В звонкозвучной тишине». Возможно, эти «фиолетовые руки» – тени от листьев пальмы, а возможно, образ возник под влиянием «спиритических» впечатлений, где также упоминаются прикосновения невидимых рук и даже некие незримые для глаза «ласки» (дневниковые записи «Спиритические сеансы 1893», в особенности раздел «Мой первый транс»). Да и сами тавтологические повторы похожи на невнятный спиритический лепет медиумов или, напротив, заклинания вызывателя духов. Отсюда такие обороты, как «несозданные создания», «звонко-звучная тишина», «с лаской ластятся». Этой же медиумической игрой воображения объясняется и вызвавший столько насмешек образ (см., например, пародию Вл. Соловьёва, где высмеивается «двойная» луна):
Всходит месяц обнажённый При лазоревой луне… Звуки реют полусонно, Звуки ластятся ко мне.Конечно, можно объяснить это раздвоение тем, что луна – это фонарь за окном, но тогда всё иррационально очаровательное, «гипнотическое» становится лишь причудливой аллегорией в духе эстетики барокко. В тексте же получается, что луна и месяц – это разные объекты, к тому же различающиеся полом, отсюда и такая почти «эротическая» подробность как месяц «обнажённый».
Образы живут самостоятельно, и в этом заключается сущность модернизма, который не стремится к жизнеподобию, а творит свою действительность – реальность искусства. Ведь и названо стихотворение «Творчество». В нём передаётся сам процесс воображения, воплощения мира в самоценные образы. Композиционно текст обрамлён строфами, где вначале упоминается «тень несозданных созданий», а в финале появляются «тайны созданных созданий», т. е. художественный итог «прислушивания» к наполненной неуловимым содержанием «звонкозвучной тишине».
Как развёрнутая метафора строится образный мир другого знаменитого стихотворения «Ночью» (1895), в котором Москва отождествляется с самкой страуса:
Дремлет Москва, словно самка спящего страуса, Грязные крылья по тёмной почве раскинуты, Кругло-тяжёлые веки безжизненно сдвинуты, Тянется шея – беззвучная черная Яуза.Здесь Брюсов предпринимает эксперименты и с ритмом, вводя в стих дополнительные ударные слоги, разбивая строку на ритмические отрезки.
А вот ещё один экзотический пример стихотворения со сверх-длинной строкой, с обозначенной строфической цезурой. Это стихотворение 1895 г. «Тени». Строчка как бы не умещается на странице:
Сладострастные тени на тёмной постели окружили, легли, притаились, манят, Наклоняются груди, сгибаются спины, веет жгучий, тягучий, глухой аромат. (…) Наблюдаю в мерцаньи колен изваянья, беломраморность бёдер, оттенки волос… А дымящее пламя взвивается в вихре и сливает тела в разноцветный хаос.Подобная эротическая игра также эпатировала публику, но была дозволена символизму. Или такой эротический пассаж из стихотворения «Предчувствие» (1894), открывающего «первобытный» цикл «Полдень Явы»: «Идем: я здесь! Мы будем наслаждаться, – / Играть, блуждать, в венках из орхидей, / Тела сплетать, как пара жадных змей!». Со времён «легкой поэзии» такие поэтические призывы были забыты и стали казаться безнравственными.
Брюсов изначально понимал символизм как абсолютизированное художество, заявляя независимость творца от чего-либо. Он стремился создать новый образный «язык» поэзии. В дневнике за 1893 г. Брюсов пояснял свою позицию: «Что, если бы я вздумал на гомеровском языке писать трактат по спектральному анализу? У меня не хватило бы слов и выражений. То же, если я вздумаю на языке Пушкина выразить ощущения Fin de siécle!» (франц. конца века, с эсхатологическим оттенком. – М.Я.).
Эпатажный характер имел и знаменитый моностих 1894 г. из третьего выпуска «Русских символистов»: «О, закрой свои бледные ноги».
Резкая критика и насмешки не пугали «вождя» новой поэтической школы. В сознании Брюсова-символиста на всю оставшуюся творческую жизнь закрепляется образ сильной личности, независимого художника, волевым нажимом создающего мир красоты.
В 1895–1896 гг. поэт издаёт и свои собственные (а не «коллективные») книги: «Chefs d’oeuvre» (франц. «Шедевры») и «Me eum esse» (лат. «Это – я»), В «Шедеврах» Брюсов играет подчёркнутым эгоцентризмом, вызывающе затрагивает эротические мотивы, разрабатывает экзотические образы и сюжеты, впервые обращается к урбанистической теме. Книгу «Шедевры» поэт называет сборником своих «несимволических стихотворений», однако по-прежнему с дерзостью заявляет, что адресована она не современникам: «Не современникам и даже не человечеству завещаю я эту книгу, а вечности и искусству». Публикация стала новым скандалом, причём, как вспоминает поэт, против него восстали даже те, кто «торопили» его напечатать эту книгу. Прежде всего, его упрекали в самоупоённом выпячивании своего «Я». Отвечая на критику в стихотворении «По поводу Chefs d’oeuvre» (1896), он допускает, что, возможно, книга была «ошибкой», но оценить её «правду» может лишь он один. Одиночество непонятого художника сближается с одиночеством пророка, возвещающего новую истину: «Правду их образов, тайно великих / Я прозреваю один».
Возможно поэтому в книге «Это – я» преобладают более сдержанные, камерные настроения, по преимуществу окрашенные пессимистически. Однако название-символ и здесь служило именно самоутверждению. Не случайно эту лексику и интонации подхватит затем футурист Маяковский (например, его первый сборник назван «Я»).
Мотив творчества становится для Брюсова определяющим в эти годы. Так, цикл «Juvenalia» (лат. «Юношеское»), собранный из ранних стихотворений для первого тома «Полного собрания сочинений и переводов» (1913), открывался «Сонетом к форме» (1895). В нём подчёркивается важность творческой формы, способной сохранить красоту для вечности:
Так образы изменчивых фантазий, Бегущие, как в небе облака, Окаменев, живут потом века В отточенной и завершённой фразе.Прославление художественной силы звучит и в стихотворении «Юному поэту» (1896). Это манифест и самого Брюсова, уже осознающего себя «мэтром» – «мастером-учителем». Поэт с магической властью заповедует:
Юноша бледный со взором горящим, Ныне даю я тебе три завета: Первый прими: не живи настоящим, Только грядущее – область поэта. Помни второй: никому не сочувствуй, Сам же себя полюби беспредельно. Третий храни: поклоняйся искусству, Только ему, безраздельно, бесцельно.Характерно, что закрепившееся за Брюсовым определение «мэтр» – «мастер» перекликается с оккультным, масонским званием «мастер ложи». Для него тема творчества не была частной, одной из лирических тем, в духе хрестоматийной пушкинской «темы поэта и поэзии», а выражала суть его многотемного художественного мира. Навеянный ницшеанским сверхчеловеком культ сильной личности, героя мифологии или истории, был выражением его собственного творческого «Я», синтезировался в фигуре Поэта.
Философско-эстетические взгляды конца 90-х гг. раскрываются в брошюре «Об искусстве» (1899). Брюсов приходит к убеждению о правомерности существования в мире множества истин, которые могут противоречить друг другу, но в этом многообразии для него и заключается источник жизненной и творческой силы, пафос его антропоцентрического художества.
В 1900 г. в издательстве «Скорпион» выходит книга «Tertia vigilia» (лат. «Третья стража»), объединившая стихотворения 1897–1900 гг. Она ознаменовала отход от декадентского эгоцентризма и расширение образно-тематических направлений. В поэтический мир активно входят история, мифология, современность. В цикле «Любимцы веков» возникают образы сильных, «творческих» в широком смысле личностей – «Ассаргадон» (1897), «Халдейский пастух» (1898), «Жрец Изиды» (1900), «Александр Великий» (1899), «Скифы» (1899) и др. Во всех этих произведениях образ лирического «Я» высвечивается через аналогию с героем древности.
Обозначается в книге тяготение к поэзии самоутверждающейся мысли. Эстетическое кредо автора – самоценное творчество, не зависимое ни от каких внешних факторов. Художник предстает самовластным хозяином во всем, что касается его мира. Лейтмотив и образная система сборника формируется стихотворением 1899 г. «Я». Поэт формулирует свой творческий символ веры:
И странно полюбил я мглу противоречий И жадно стал искать сплетений роковых. Мне сладки все мечты, мне дороги все речи. И всем богам я посвящаю стих.Это движение к многообразию мира определило семантику его следующей книги. Она вышла в 1903 г. и объединила произведения 1900–1903 гг. «Urbi et Orbi» (лат.) именуется пасхальное послание Папы Римского, преемника престола святого Петра. К «Граду и миру» обращается со своим благословляющим, творящим словом Поэт. Книга получила программное значение для всей поэзии начала XX в.
В произведении по-новому, символически разрабатывается городская тема, воспринятая поэтами-символистами второй волны – Блоком, Белым, Волошиным. Брюсов вводит мотив всепоглощающей страсти, развивает жанр исторической баллады, даёт образцы медитативной поэзии. При этом пёстрое многообразие мира организуется новым чеканно-монументальным, высоким стилем, властными ораторскими интонациями, выражающими его поэтическое «Я». Вместо туманной неопределенности появляются классические, «пушкинские» ясность и стройность, реализующие созидательную силу поэта
В предисловии к сборнику 1903 г. Брюсов формулирует своеобразную эстетическую философию, модель мира через самобытную жанровую природу своих поэтических книг. Он утверждает, что книга стихов должна быть «замкнутым целым, объединённым единою мыслью». Образная система произведения становится уникальным многоединством, созданным творящей волей художника.
В XX в. Брюсов прошёл через все этапы эволюции созданной им «школы», никогда не теряя своего авторитета. Поэт живо реагировал на вызовы бурной истории нового столетия. После Октябрьской революции активно сотрудничал с новой властью, даже стал членом коммунистической партии; вёл огромную культурную работу. В этой, казалось бы, «переменчивости» мировоззрения поэта-символ иста он всегда оставался собой – человеком-творцом, служителем слова.
Литература
Русская литература XX в. 1890–1910 / Под ред. С.А. Венгерова.
Богомолов Н.А. Русская литература начала XX в. и оккультизм. М., 2000.
Сивоволов Б.М. Брюсов и передовая русская литература его времени. М., 1985.
Шаповалов М.А. Валерий Брюсов. М., 1992.
А. Ханзен-Лёве. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Ранний символизм. СПб., 1999.
Мировое значение русской классики XIX века
В XIX в., особенно начиная с эпохи романтизма, русско-зарубежные литературные связи как важнейший аспект диалога культур обрели новый характер, углубились и расширились. Эти связи включают в себя поездки русских писателей в Европу и западных в Россию, переписку писателей, их прямые контакты, восприятие, рецепцию зарубежной литературы в России и русской на Западе, типологические схождения и взаимные влияния писателей друг на друга, художественные переводы, критические отзывы. Русская литература активно включилась в мировой литературный процесс.
Опыт литературного развития Европы в начале XIX столетия позволил Гёте, а также В.Г. Белинскому сформулировать концепцию всемирной литературы. Белинский писал, что помимо «частных историй» отдельных народов и национальных культур, есть ещё «история всемирной литературы, предмет которой – развитие человечества в сфере искусства и литературы». Речь идет не о «летописи фактов», а об установлении их живой внутренней связи. Гёте говорил о «вступлении в эпоху мировой литературы».
Оценивая динамику и своеобразие русско-зарубежных связей в XIX в., правомерно выделить два этапа, учитывая, конечно, условность такого рода хронологии. Первый этап (1800—1860-е гг.) – время, когда в России активно, в разных сферах осваивается литературный опыт Запада. Русские писатели ещё лишь начинают приобретать известность за рубежом. Второй этап (1870–1900 гг.) – время, когда Запад открывает русскую классику, прежде всего И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого и А. П. Чехова.
Справедливо мнение Достоевского, писавшего в июньском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г.: «Я утверждаю и повторяю, что всякий европейский поэт, мыслитель, филантроп, кроме земли своей, из всего мира, наиболее и наироднее бывает понят и принят всегда в России». С начала 1800-х гг. русские писатели всё чаще выезжают за границу. Вслед за Н.М. Карамзиным там побывали В.А. Жуковский, Ф.И. Тютчев, Н.В. Гоголь, В.Г. Белинский, Л.Н. Толстой, Н.А. Некрасов, подолгу жили И.О. Тургенев, А. И. Герцен.
В 1802 г. Карамзин организует журнал «Вестник Европы», имевший немалое значение для общественной и культурной жизни страны. Журнал улавливал и отражал те ранние романтические импульсы, которые всё решительнее сказывались в западноевропейских литературах.
Многообразные аспекты русско-зарубежных литературных отношений широко и полно отразились в творчестве А. С. Пушкина. Литературные интересы и пристрастия Пушкина, человека энциклопедически образованного, исключительно широки. Начиная с лицейских лет и до конца жизни Пушкина античность занимала важное место в его культурном мире. Его лицейские стихи буквально пропитаны образами античной мифологии, в них же упоминаются и любимые античные поэты: Тибулл, Гораций, Катулл, Ювенал («Городок», 1815). Но с особой теплотой Пушкин пишет об Анакреонте, близком ему своим жизнелюбием.
Среди любимых Пушкиным греческих поэтов был, конечно же, и Гомер. Пушкин высоко отзывался о работе Н.И. Гнедича, переводчика «Илиады», обращаясь к переводчику со словами: «С Гомером долго ты беседовал один».
Вообще тема «русский Гомер» многогранна. Освоение гомеровского эпоса началось в России с М.В. Ломоносова. С восторгом отзывался Гоголь о переводе Жуковским «Одиссеи» (1847). Жуковский полагал перевод своим наиглавнейшим созданием, памятью о себе отечеству. Критики сравнивали поэму Гоголя «Мёртвые души» по её масштабу с «Илиадой».
Пушкин хорошо знал древнеримскую литературу, многие произведения читал ь подлиннике. Пребывание Пушкина в южной ссылке, в частности в Бессарабии, позволило ему по-новому прочувствовать и судьбу Овидия, и природу его творчества: ведь недалеко от тех мест, где жил Пушкин, томился в изгнании автор «Метаморфоз». В 1821 г. Овидий стал для Пушкина поистине «властителем дум». Исследователи правомерно выделяют «овидиев цикл» стихов Пушкина («Из письма к Гнедичу («В стране, где Юлией венчанный…»)», «Чаадаеву («В стране, где я забыл тревоги прежних лет…»)», «К Овидию» и др.). В последнем из этих стихотворений – «К Овидию» – Пушкин высказывает глубокий взгляд на судьбу римского поэта: «Как часто, увлечён унылых струн игрою, / Я сердцем следовал, Овидий, за тобою!». В одном из автографов стихотворения читаем: «Не славой – участью я равен был тебе». Образ Овидия возникает в поэме Пушкина «Цыганы», в которой устами старика-цыгана изложено бытовавшее в Бессарабии предание о поэте: «Имел он песен дивный дар / И голос, шуму вод подобный…». Пушкинский Евгений Онегин увлекался «наукой» «страсти нежной, которую воспел Назон…». Любовь к Овидию, пронесённая через всю жизнь, характеризует и собственный творческий гений Пушкина.
Наряду с «певцом любви» Овидием, Пушкину был близок и Катулл с его светлой, жизнерадостной тональностью. Он сделал вольный перевод его стихотворения «Виночерпию»: «Пьяной горечью Фалерна…»
В сфере художественного внимания Пушкина находилось также творчество замечательного римского историка Тацита, которого он называл «бичом тиранов», «великим сатирическим писателем».
Среди латинских поэтов Пушкина привлекал Гораций (Фет называл его «Римским Пушкиным»). Он импонировал Пушкину своим «литым», классически ясным стихом, своей сатирой, «тонкой, легкой, весёлой». Пушкин сделал ряд переводов из Горация, в основном вольных (например, оды «К Меценату»). Оригинальным образом пересоздан текст Горация, его 30-й оды «К Мельпомене», в стихотворении Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». В пушкинском шедевре – блеск, экспрессия, глубоко личная интонация, иногда скрытая полемика с Горацием. И конечно же, свободолюбивый пафос, отсутствующий у Горация.
К середине 1820-х относится увлечение Пушкина Шекспиром, изучение его драматургии, начатое в Одессе и продолженное в Михайловском. Его отзывы о Шекспире неизбежно восторженны: «…Но до чего изумителен Шекспир! Не могу прийти в себя!» – пишет он к Н.Н. Раевскому-сыну в июле 1825 г. из Михайловского. А в набросках предисловия к трагедии «Борис Годунов» Пушкин отмечает: «Шекспиру подражал я в его вольном и широком изображении характеров, в небрежном и простом составлении типов…». Написанная вскоре после «Бориса Годунова» поэма «Граф Нулин» (1825) также навеяна чтением Шекспира.
Сравнивая принципы изображения человеческих характеров в драматургии классицизма и у Шекспира, Пушкин в одной из заметок отмечает: «Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока; но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков. У Мольера Скупой скуп – и только; у Шекспира Шейлок скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен». В типологии «вечных образов» скупцов (Эвклион у Плавта, Шейлок у Шекспира, Гарпагон у Мольера, Гобсек и Гранде у Бальзака) есть и замечательные, многогранные фигуры, созданные русской литературой («скупой рыцарь» – барон Филипп Пушкина, Плюшкин Гоголя, Иудушка Головлёв Салтыкова-Щедрина).
Необычайно щедра история «русского Байрона», его переводов, подражаний, критического освоения. Байронизм как литературное настроение имел сильный отзвук в России, особенно среди поэтов пушкинской эпохи (Кюхельбекер, Батюшков, Веневитинов, Дельвиг, Козлов и др.). Байронизм решительно сказался и у молодого Лермонтова, который, при всём своем увлечении английским поэтом, его личностью и судьбой, писал: «Нет, я не Байрон, я другой, / Ещё неведомый избранник, / Как он гонимый миром странник, / Но только с русскою душой». По мере развития таланта Лермонтова байроновские мотивы и образы приобретают у него всё более оригинальную, самобытную интерпретацию.
Поколения исследователей привлекала тема «Байрон и Пушкин»; последний в пору южной ссылки «с ума сходил по Байрону». Типология романтических героев, особенности сюжетосложения, стилистика восточных поэм Байрона в разной мере отзывается в «южных» поэмах Пушкина. Это он прямо признаёт, говоря о байроновском влиянии в «Бахчисарайском фонтане». По мере своего развития Пушкин постепенно отходит от субъективно-индивидуалистической концепции, лежащей в основе байронического героя; старик цыган в поэме «Цыганы» осуждает Алеко: «Ты для себя лишь хочешь воли».
В заметке «О трагедиях Байрона» (1827) Пушкин уже писал, что автор «Чайльд-Гарольда» «…бросил односторонний взгляд на мир и природу человечества… постиг, создал и описал единый характер (именно свой)…». Всё это не помешало Пушкину высказать глубокое уважение к Байрону, человеку и поэту, в знаменитом стихотворении «К морю». Кончина Байрона вызвала в России целую волну поэтических откликов (Козлов, Веневитинов, Вяземский, Кюхельбекер, Рылеев и др.).
«Проход» Пушкина через байроновскую фазу определялся усилением его связей с народной жизнью, но Байрон не ушёл из его поля зрения. Пушкин берёт к «Полтаве» эпиграф из Байрона и ссылается на его поэму «Мазепа»; называет Онегина «москвичом в Гарольдовом плаще»; он сближает свой роман в стихах с «Беппо» и «Дон Жуаном» Байрона.
Знакомство с В. Скоттом, «шотландским чародеем», а также и с историческими хрониками Шекспира способствовало выработке у Пушкина его философии истории, пониманию роли личности и народа в жизни общества. Исследователи отмечают плодотворное усвоение Пушкиным опыта Вальтера Скотта при создании «Капитанской дочки». В основе сюжета «маленькой трагедии» Пушкина «Пир во время чумы» – поэма англичанина Джона Вильсона «Город чумы» (1816).
Плодотворную роль в творчестве Пушкина сыграла французская литература и, шире, культура, которую он отлично знал с «младых ногтей». Он отлично владел французским языком, в том числе письменным. Он так писал о французской литературе: «Изо всех литератур она имела самое большое влияние на нашу».
Вопросы её истории, тонкие, ставшие хрестоматийными суждения о ней рассеяны в ряде пушкинских статей, рецензий и заметок («О французской словесности», «О г-же Сталь и о г. А. Муханове», «Об Андрее Шенье», «Об Альфреде Мюссе», «О ничтожестве литературы русской» и др.), а также в стихах, начиная с ранних, лицейских («Городок», «Батюшкову» и др.). В статье «О ничтожестве литературы русской», давая сжатый очерк развития французской литературы, Пушкин выделяет эпохи XVII и XVIII вв., классицизма и Просвещения как особо плодотворные и богатые блистательными талантами. Это Буало-Депрео («Французских рифмачей суровый судия»), «Корнеля гений величавый», «мудрец простосердечный Ванюша Лафонтен», «великан» Мольер, певец «влюблённых женщин и царей» Расин.
В итоге, по мысли Пушкина, «в начале 18-го столетия французская литература обладала Европою. Она должна была иметь на Россию долгое и решительное влияние». Вместе с тем, Пушкин явно не одобряет направленность просветительской философии «противу господствующей религии, вечного источника поэзии у всех народов…»
Но центральной фигурой остается для него Вольтер, «поэт в поэтах первый», «великан сей эпохи», воздействие которого было «неимоверно». Пушкин испытал известное влияние Вольтера в некоторых ранних произведениях («Руслан и Людмила», «Гавриилиада»). Он называл «Орлеанскую девственницу» «катехизисом остроумия». Правда, со временем, к 1830-м гт. его отношение к Вольтеру стало более критическим, он называл его гений «разрушительным».
Автор «Евгения Онегина» любил Бомарше, который известным образом стимулировал его интерес к театру (послание «К вельможе»). Пушкин разделял критический политический пафос его комедий: «Бомарше влечёт на сцену, раздевает донага и терзает всё, что считается неприкосновенным». Интересный образ Бомарше возникает в «маленькой трагедии» Пушкина «Моцарт и Сальери».
Его глубоко взволновала трагическая судьба французского поэта Андре Шенье, казнённого в период французской революции («Андрей Шенье», 1825). Пушкин осуждает революционный террор Робеспьера («…Убийцу с палачами / Избрали мы в цари»),
Пушкин ценил французскую элегию (Парни), внимательно следил за современными ему писателями Франции (Ж. де Сталь, Шатобриан, Ламартин, Гюго, Сент Бёв, А. де Виньи и др.). Пушкин отмечал высокие достоинства романа Стендаля «Красное и чёрное», называл Шатобриана художником огромного таланта, «первым из французских писателей», отмечая, однако, и слабые стороны его переводческой работы (статья «О Мильтоне и переводе “Потерянного рая” Шатобрианом»); Пушкин полагал, что «Адольф» Б. Констана принадлежит к числу тех романов, «в которых отразился век / И современный человек / Изображён довольно верно…».
В отличие от английской и французской литература Германии играла меньшую роль в творчестве Пушкина Среди своих современников он высоко ценил Гофмана. Но особым уважением окружено в письмах и статьях, особенно со второй половины 1820-х гг., имя Гете как величайшего поэта, воплощения «объективного» начала. Наиболее значительный отклик на трагедию Гёте – «Сцена из Фауста» (1825) Пушкина, написанная ещё до завершения второй части великого шедевра. Пушкин предложил свое оригинальное видение фаустовской темы, усилив мрачность, бесцельность исканий главного героя.
Интереснейшую страницу русско-польских связей составляют непростые творческие взаимоотношения Пушкина и Мицкевича. Личное знакомство двух величайших поэтов – русского и польского – состоялось в октябре 1826 г., а в мае 1828 г. Мицкевич присутствовал на чтении Пушкиным «Бориса Годунова», после которого польский поэт заметил, что Пушкин будет «Шекспиром, если позволит судьба». Их встречи продолжались до мая 1829 г., когда Мицкевичу было разрешено выехать за границу. В 1828 г. Пушкин перевёл начало поэмы Мицкевича «Конрад Валленрод» («Сто лет минуло, как тевтон…»), а в 1833 г. его баллады «Три Будрыса» (у Пушкина «Будрыс и его сыновья») и «Дозор» (у Пушкина «Воевода»). Образ польского поэта отразился в стихотворении Пушкина «В прохладе сладостной фонтанов» (1828) и в некоторых других произведениях.
Мицкевич горячо солидаризировался с польским восстанием 1830–1831 гг. Пушкин же, напротив, осудил те силы на Западе, которые поддержали Польшу, ответив им в стихотворениях «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». Это определило в дальнейшем резкие расхождения политических позиций Пушкина и Мицкевича. Вместе с тем Мицкевич видел в России близких ему людей, противостоящих официальной власти, декабристов (стихотворение «Русским друзьям»). Полемикой с Мицкевичем, утверждением исторической роли Петра была одушевлена поэма Пушкина «Медный всадник». В стихотворении «Он между нами жил…» (1834) Пушкин тепло вспоминает о годах дружбы с Мицкевичем, говорившим о грядущем братстве народов. Но «…наш мирный гость нам стал врагом – и ядом / Стихи свои, в угоду черни буйной / Он напояет…». Мицкевич, однако, уже после гибели Пушкина, в лекции о славянских литературах, прочитанной во Франции, говорил, что голос Пушкина «…открыл новую эру в русской истории».
В России были популярны также западноевропейские поэты радикально-демократической ориентации, особенно Беранже и Генрих Гейне. «Беранже есть царь французской поэзии, самое торжественное и свободное её направление», – писал Белинский. Социальную направленность Беранже акцентировали Герцен, Добролюбов, Чернышевский. Среди переводчиков Беранже были те, кто составляли цвет русской поэзии, в частности, И. Дмитриев, А. Григорьев, Л. Мей, А. Фет; среди них были и поэты «некрасовской» школы – М. Михайлов и В. Курочкин.
Не будет преувеличением сказать, что как поэт Генрих Гейне нашел в России свою вторую родину. Если в радикальных кругах он воспринимался как «барабанщик» революционного действия, то для широкого читателя оставался прежде всего певцом природы и проникновенным лириком.
Сильным увлечением Белинского был Купер, популярность которого в России 1830—1840-е гт. была, пожалуй, выше, чем у него на родине. Белинский сравнивал Купера с Шекспиром, называл Купера и Вальтера Скотта «двумя великими исполинами-художниками», отмечал мощный эпический размах, широкую картину действительности, наполненную поэзией и верностью жизни в цикле о Кожаном Чулке. Во время посещения Лермонтова, арестованного за дуэль с Э. Барантом, в Ордонансгаузе в апреле 1840 г. Белинский беседовал с ним, в частности, о Купере. Его приятно порадовало совпадение взглядов на Купера, когда Лермонтов во время этой беседы заметил, что «…Купер выше Вальтер Скотта, что в его романах больше глубины и больше художественной целости» (письмо Белинского к В.П. Боткину от 16–21 апреля 1840 г.).
Среди кумиров русской публики была и Жорж Санд, особенно популярная в 30—40-е гг. Белинский, один из её горячих пропагандистов, писал о Ж. Санд в патетическом стиле, имея в виду роман «Мопра»: «Сколько глубоких практических идей о личном человека, сколько светлых откровений благородной, нежной, женственной души». Он назвал писательницу «гениальной». С этой оценкой солидаризировался Салтыков-Щедрин. Герцену принадлежит проницательный отзыв о романе «Орас», в котором писательница создаёт окрашенный иронией образ мниморомантического, глубоко эгоистического по своей сути персонажа. В 1850—1860-е гг. популярность Ж. Санд заметно снижается; к этому времени писательница уже прошла пик творческой активности.
Писатели Запада по-своему включались в литературный процесс в России. Здесь были и подражания, и влияния, и сходство, носившее типологический характер. Молодой Лермонтов зависел от драматургии Шиллера, пережил увлечение Гюго и Байроном, В.Ф. Одоевского называли «русским Гофманом». Очевидные параллели возникают между Гофманом и Гоголем, особенна в использовании фантастики и гротеска.
А. Бестужев подражал Вальтеру Скотту в исторических новеллах, в использовании «местного колорита». Пушкин отзывался о Вальтере Скотте как о «пище ума», романы которого стали «картиной общества». Он изучал Скотта в процессе подготовительной работы над «Капитанской дочкой».
Процессы становления классического реализма на Западе также заинтересованно обсуждались русской критикой. Рост Диккенса-художника – огромного таланта, который становится «все свежее и могучее», – Белинский с радостью находит в романе «Домби и сын»: «Такого богатства фантазии на изобретение резко, глубоко, верно нарисованных типов я и не подозревал не только в Диккенсе, но и вообще в человеческой природе». Белинский считал этот роман «чудом». Добролюбов полагал, что личный опыт помог Диккенсу «понять народную жизнь», «перечувствовать, пережить» её. Критический пафос творчества Диккенса вызывал горячее одобрение у Чернышевского. Диккенс был среди любимых авторов Л.Н. Толстого и Достоевского. Однако далеко не все оценки представителей радикально-демократической критики были справедливы. Белинский, например, негативно оценивал Бальзака. Эволюция Теккерея после «Ярмарки тщеславия», его отход от резко критической позиции в романе «Ньюкомы» вызвал, в сущности, негативную реакцию Чернышевского, которая была явно нацелена против видного критика А.В. Дружинина; последний приветствовал у Теккерея утверждение общечеловеческих, религиозно-нравственных ценностей, «широкий шаг от отрицания к созиданию». Спор Чернышевского и Дружинина о «Ньюкомах» приобретал, таким образом, принципиальный характер.
Популярности западной литературы в России, обогащению русско-зарубежных контактов способствовала деятельность российских переводчиков, достигшая высокого мастерства. Ещё в XVIII, но особенно в XIX в. сложилась русская школа художественного перевода – свидетельство огромного уважения к достижениям словесного искусства других народов и его творческого освоения. В России переводами занимались не литераторы ремесленного уровня, а писатели «первого ряда»: Пупнсин, Жуковский, Лермонтов, Тютчев, Фет, Бальмонт, Брюсов, Блок, Анненский, Бунин, Сологуб, Пастернак, Заболоцкий, Ахматова, Цветаева и многие другие.
В первой половине XIX в. русская литература была сравнительно слабо известна на Западе. При жизни Пушкина, Лермонтова, Жуковского, Гоголя они не были по достоинству оценены на Западе, но первые ласточки признания стали уже появляться. Еще в XVIII в. Дидро составил для себя «Летопись русских. Специальные разделы по русской литературе содержались в четвёртом и пятом томах «Истории России» (1782) французского учёного П.Ш. Левека.
В Германии первым журналом, освещавшим духовную и литературную жизнь в России, были «Русские заметки», издававшиеся И.Г. Рихтером. Заметным явлением стал выход двухтомной антологии «Образцы произведений русских поэтов» (1821–1823), подготовленной английским публицистом и переводчиком Джоном Баурингом. В числе первых пропагандистов русской литературы в Англии, автором статей о Пушкине был Томас Шоу (1813–1862), переводчик Пушкина, Лермонтова, Гоголя.
В Германии заметным явлением стал труд Г. Кёнига «Литературные картины России» (1837). Первым же, кто заявил о мировом значении русской литературы, был немецкий критик, публицист и историк Фарнгаен фон Энзе (1785–1858), в своем труде «Сочинения Александра Пушкина», выпущенном сначала на немецком языке и тут же напечатанном в переводе в Санкт-Петербурге в 1838 г., вскоре после гибели поэта. В 1843 г. выходец из России Вильгельм Вольфзон издал книгу избранных переводов с русского, начиная со «Слова о полку Игореве», образцов фольклора до Ломоносова и Державина.
Первое упоминание о Лермонтове на Западе относится к 1840 г. Через год, ещё при жизни поэта, критик А. Эрман писал, что Лермонтов – «наиболее обещающее явление русской поэзии».
Знаменательно, что именно во Франции, имевшей глубокие «многообразные культурные связи с Россией», появился писатель, знаток и пропагандист русской литературы. Им стал Проспер Мериме (1803–1870), тонкий художник слова, драматург, новеллист, искусствовед, критик, переводчик. В конце 30-х гг. он обратился к изучению русского языка, начал выказывать всё возрастающий интерес к славянским культурам, был близок с С.А. Соболевским, библиофилом, другом Пушкина, а также с И.С. Тургеневым. Наряду с языком Мериме изучал русскую историю, литературу, фольклор. Он был в числе первых глубоких интерпретаторов и восторженных почитателей Пушкина на Западе (статья «Александр Пушкин», 1868). Интерес Мериме к русской литературе и истории углубился после личного знакомства с Тургеневым (в 1857 г.); он редактировал переводы Тургенева, публиковавшиеся во Франции, написал предисловие к роману «Отцы и дети». Мериме также оставил исторические труды об эпохе самозванцев, Степане Разине и Богдане Хмельницком. И.С. Тургенев приводит высказывание Мериме: «Ваша поэзия ищет, прежде всего, правды, а красота являет потом сама собой».
С заметным опозданием (по сравнению с Пушкиным и Лермонтовым) началось на Западе с конца 1830-х гг. и приобретает уже более широкий характер в 1840-е гг. освоение Гоголя. На первых порах, однако, Гоголь зачастую воспринимался лишь как бытописатель, ироничный знаток провинциальных нравов. Мериме, например, скептически относился к юмору и сатире Гоголя. К тому же ранние переводы автора «Ревизора» не всегда передавали самобытность языковой и стилевой гоголевской манеры.
Интерес к русской литературе на Западе соединялся с углубившимися представлениями о России, её истории. Первые труды о России были написаны ещё Мильтоном, Дефо, Вольтером. В «Робинзоне Крузо» герой путешествовал по Сибири. Русская тема, связанная с изгнанием Наполеона из России, присутствует в сатирической поэме Байрона «Видение Суда».
Качественно новый этап русско – зарубежных связей начался в последней трети XIX столетия, в 1870—1880-е гг., когда обозначился своеобразный «бум» переводов русских авторов, прежде всего Толстого и Достоевского, а также Тургенева. Их романы были встречены со всё возрастающим вниманием и собратьями по перу, и широкими читателями. И дело, конечно, не только в появлении на Западе первых серьёзных исследований и статей о русской литературе, авторами которых были такие критики, как Мельхиор де Вопоэ, Георг Брандес, писатели Мопассан, Генри Джеймс и др. Главное в том, что открытие того «национального образа мира», той новой проблематики, философии и стилистики, которые аккумулировала русская литература, отвечали внутренней духовной и эстетической потребности западного общества. На исходе столетия в литературах Запада давали себя знать кризисные явления и одновременно настойчивые усилия нащупать новые пути словесного искусства.
С двумя такими разными гениями, как Толстой и Достоевский, в литературу влился поток самой жизни, ворвались новые герои, духовно активные, мыслящие. Сама форма русского романа не сразу была принята на Западе, где укоренились упорядоченные его параметры (у Гёте, Бальзака, Флобера, Диккенса). Но то, что поначалу казалось хаотичным, беспорядочным, уже виделось в истинном значении как «архитектоническая целесообразность осмыслением» (Г.М. Фридлендер). Изумление сменилось восхищением по поводу новаторского прорыва в искусстве, осуществлённого русскими.
Русские классики, оказавшие столь мощное влияние на писателей Запада, в свою очередь, использовали их опыт. Произведения Тургенева насыщены многочисленными шекспировскими реминисценциями. Тургеневу же принадлежит одна из самых глубоких работ о Шекспире и Сервантесе «Гамлет и Дон-Кихот». Внимательно проштудировав все 20 томов Руссо, Толстой писал: «Я больше чем восхищался им, – я боготворил его». В своей батальной прозе Толстой опирался на Стендаля, который в описании битвы при Ватерлоо (в «Пармской обители») впервые развенчал ложную военную героику. Толстого восхищал гуманистический пафос романов Диккенса и Гюго.
В течение всей творческой жизни Достоевского его духовным спутником был Шиллер с его гуманистическим пафосом, страстностью в утверждении нравственных ценностей. Другим кумиром Достоевского был автор «Дон Кихота», «великого произведения всемирной литературы», книги, которая даётся человечеству «по одной в несколько сот лет». Образ рыцаря Печального Образа вдохновлял Достоевского, по его словам, в период работы над романом «Идиот».
Чехов-драматург опирался на достижения Ибсена и Гауптмана. Как мастер малой, новеллистической формы он высоко ценил Мопассана, который учился у Флобера и Тургенева: они словно передавали эстафету мастерства друг другу.
С русской литературой на Запад пришло большое искусство. При всём своем национальном своеобразии оно было исполнено общечеловеческим пафосом, выдвижением тех глубинных проблем, которые заботят любого человека, и не только тех, кого относят к «верхам», но и к «низам». Русская литература словно аккумулировала опыт литературы мировой, писателей от Данте и Шекспира до Бальзака и Золя, которые в России считались «своими».
По словам С. Цвейга, Диккенс или его немецкий современник Готфрид Келлер «заманивают читателя в свой мир мягким, мелодичным голосом, в дружеской беседе они вводят его в события, они возбуждают лишь любопытство, фантазию». Русские же, такие как Достоевский, «будоражат всю душу». «Я считаю русскую литературу XIX в. самой гуманной и в то же время самой важной, – писал немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии Генрих Бёлль. – При всем различии, даже полярности художественной методологии Толстого и Достоевского, они оказывали “совмещённое воздействие” на современную литературу. Они шли в глубь жизни: Толстой один за другим “снимал покровы”, Достоевский проникал в тайники души».
Самые особенности российской действительности определяли многие значимые черты её литературы. Известная английская писательница Вирджиния Вульф пишет о чёткой структурированности английского общества, его разделении на низшие, средние и высшие классы, при этом каждый из них обладает своими традициями, укладом, моралью, даже языком. Английский роман принужден признавать эти барьеры, а потому склонен скорее к сатирическому исследованию общества, чем к симпатии, пониманию отдельного индивида. Отсюда признание власти денег, корыстных, материальных интересов, управляющих поведением личности. В то же время многие герои Толстого и Достоевского имеют иную нравственно-духовную мотивацию своего поведения.
Томас Манн признаётся: при написании «Будденброков» на него повлияли Тургенев и Толстой, при этом уточняет: «Речь идет не о подражании…. Под воздействием Толстого-мастера могут возникнуть произведения как по духу, так и по форме весьма между собой несхожие и, что весьма существенно, отличные от произведений самого Толстого».
Восприятие русской словесности в Европе и США. её роль и значение за рубежом диктовались своеобразием историко-литературного контекста, национальными традициями в каждой конкретной стране.
Вторая половина XIX в. – пора дальнейшего углубления и расширения франко-русских литературных отношений. Долгие годы проживший в Париже Тургенев выполнял роль своеобразного полпреда русской литературы и культуры во Франции и, шире, в Европе. Творческие и личные контакты соединяли его с писателями, являвшими цвет французской литературы, – с Мериме, Жорж Санд, Флобером, братьями Гонкурами, Золя, Мопассаном. Событием принципиальной историко-литературной значимости стал выход в 1886 г. книги Мельхиора де Вогюэ «Русский роман», вызвавшей немалый резонанс и стимулировавшей дополнительный интерес к русским классикам. В 1870—1880-е гг. начались их интенсивные переводы на французский язык. Это касалось прежде всего Тургенева, Достоевского и Толстого. Показательно суждение Флобера – «мученика стиля», безукоризненного мастера – о «Войне и мире» Толстого из его писем Тургеневу (январь 1880 г.): «Это перворазрядная вещь! Какой художник! И какой психолог!.. У меня были возгласы восхищения во время чтения…».
Когда в 1860-е Гг. Э. Золя вошёл в большую литературу как романист и теоретик натурализма, критики ополчились на него. Среди тех, кто поддержал его в эту нелёгкую пору, был Тургенев. Он рекомендовал Золя редактору журнала «Вестник Европы» М.М. Стасюлевичу, и там, начиная с 1875 г., Золя публикует свои статьи.
Золя не оставил без внимания и опыт Толстого-баталиста, когда в романе «Разгром» дегероизировал войну и одновременно воздал дань восхищения мужеству простых людей, способных на подвиги и самопожертвование (образы Оноре, Вейса). Близкой к толстовской была эстетика Золя, в основе которой лежал тезис: «Заботиться только об истине».
Натуралистические идеи Золя, в свою очередь, нашли отзвук в русской литературе, прежде всего в творчестве П.Д. Боборыкина, который читал лекции о «новом французском романе» и переписывался с автором «Нана». Однако некоторые крайности натурализма, в частности, физиологиям, вызвали негативную оценку Салтыкова-Щедрина (в книге «За рубежом»), О популярности Золя в России, романы которого заинтересованно обсуждались литературной общественностью, свидетельствует реплика Треплева в чеховской «Чайке»: «Мило, талантливо… но…после Толстого или Зола, не захочешь читать Тригорина».
Гражданская позиция Золя, его мужественное участие в деле Дрейфуса нашли живое понимание у русской демократической общественности. В письме Суворину Чехов писал, что от выступления Золя словно «свежим ветром повеяло» и дало надежду, что «есть ещё на земле справедливость».
Наряду с Флобером, сыгравшим счастливую роль в творческом становлении Мопассана, весьма плодотворным было и влияние Тургенева, с которым автор «Пышки» был лично знаком. Мопассану импонировала тургеневская стилистика, тонкая и лиричная. Мопассана, остроумно писавшего о пошлости, продажности, эгоизме, о живучести мещанско-собственнической стихии, привлекал в Тургеневе гуманистический пафос, вера в добрые, светлые начала, проявлявшиеся в простых людях, тружениках, нередко выказывавших великодушие и щедрость. Мопассан посвятил Тургеневу новеллистический сборник «Заведение Те лье» (1881) как «дань глубокой признательности и великого восхищения». В некрологе на смерть Тургенева (1883) Мопассан нашел достойные слова: «Не было души, более открытой, более тонкой и более проникновенной, не было таланта, более пленительного, не было сердца, более честного и более благородного».
По мировоззрению и поэтике Мопассан был далёк от Л. Толстого, который внимательно следил за писательской эволюцией Мопассана. Он назвал «Жизнь» «превосходным романом, едва ли не лучшим французским романом после «Miserables» (т. е. «Отверженных» В. Гюго). Однако, исходя из своей морально-этической доктрины, Толстой полагал, что роман «Милый друг» загромождён «грязными подробностями». Правда, он солидаризировался с «негодованием автора перед благоденствием и успехом чувственного животного…делающего карьеру и достигающего положения в свете».
Во время недолгого пребывания в России в 1913 г. А. Франс записал: «Что касается русской мысли, такой свежей и такой глубокой, такой отзывчивой и такой поэтичной по самой своей природе, – то я уже давно проникся ею, восторгаюсь ею и люблю её». Эти качества он находил у Тургенева, который служил подтверждением тезиса Франса: «Нет деятельности более великой, чем издание прекрасной книги».
В своих критических работах Франс постоянно обращался к Л. Толстому. В свою очередь, Толстой проявлял интерес к Франсу, который пленил его своим «Кренкбилем». Отзывы Франса о Толстом отмечены не только восхищением русским гением, но и одновременно проникновением в его художественное мировидение. В 1908 г., на просьбу юбилейного комитета, созданного к 80-летию со дня рождения автора «Войны и мира» и «Анны Карениной», Франс отозвался статьёй «Лев Толстой». В ней он, в частности, писал: «Создатель эпических полотен, Толстой – наш общий учитель во всём, что касается отношения внешних проявлений характеров и скрытых движений души…»
Л. Толстой был духовным спутником Ромена Роллана едва ли не на протяжении всей жизни: Роллан состоял в переписке с русским гением, написал о нём биографическую книгу; имя русского писателя присутствует в его публицистике, дневниках, мемуарах.
Прочитанный молодым Ролланом трактат Толстого «Так что же нам делать?», одушевлённый бескомпромиссной критикой общества, построенного на угнетении одних людей другими, ошеломил Роллана. И студент Нормальной школы решается отправить письмо яснополянскому мудрецу с целым рядом вопросов, главенствующим среди которых был вопрос «Как жить?». Легко представить себе радостное потрясение Роллана, когда в один из вечеров в октябре 1887 г. в его скромную мансарду пришло письмо объемом в 17 страниц от самого графа Толстого! Письмо, начинающееся словами «Дорогой брат», написанное по-французски собственноручно гениальным русским писателем, затратившим на его написание три дня, стало волнующим переживанием для Роллана. Под влиянием Толстого Роллан стал задумываться над «прогнившей цивилизацией эксплуататоров». Не все взгляды Толстого, его морально-этические установки импонировали Роллану. Но его воодушевил толстовский трактат «Что такое искусство?» и прежде всего тезис, согласно которому искусство и литература призваны нравственно воздействовать на общество, возвышать и облагораживать души людские.
Наряду с Тургеневым, Толстым, Чеховым во Франции был исключительно популярен и Достоевский, который питал неизменный интерес к французским писателям, прежде всего к Бальзаку, Жорж Санд и Гюго. Автор «Отверженных» был ему близок своим гуманизмом, горячей приверженностью к проблемам добра и зла, состраданием к «париям общества», жаждой «восстановить погибшего человека».
Влияние Достоевского, провозгласившего «религию духа», во Франции, да и на Западе в целом, было столь глубоким, что его в 1890-е гг. даже называли «русским Ницше», а его Ивана Карамазова – «русским Фаустом». Достоевский (наряду со Стендалем и Бальзаком) был художником, оказавшим влияние на Поля Бурже, проявлявшего особое внимание к исследованию человеческой души. Это сказалось в его лучшем романе «Ученик» с его антипозитивистской тенденцией.
Достоевский сыграл свою роль в развитии Андре Жида, «последнего классика и первого модерниста», лауреата Нобелевской премии по литературе (1947), посвятившего русскому писателю пространное эссе (1923). А. Жид у Достоевского заимствовал и взял на вооружение принцип «доминирующего самосознания героя».
Повлиял Достоевский и на философию и литературу экзистенциализма, в частности, на творчество Альбера Камю, лауреата Нобелевской премии по литературе (1957), автора программного эссе «Достоевский и самоубийство». Камю считал Достоевского среди предтеч экзистенциализма, а одного из персонажей «Бесов» (Кириллова) он интерпретирует как «человека абсурда», для которого добровольный уход из жизни – единственный способ освободиться от алогизма и бессмысленности окружающего его социума.
Камю, при всем своеобразии эстетической и философской позиции, близок к Достоевскому трагическим видением человеческого удела в жестоком мире, равно как и в трактовке «бунта» в разных его проявлениях (философский труд «Бунтующий человек», 1951). Mepco («Посторонний»), подобно Раскольникову, совершает убийство, правда, совершенно бессмысленное, как человек, абсолютно «чужой» среди себе подобных и полностью «отключённый» от каких-либо нравственных обязательств.
Если в первой половине XIX в. кумирами русской писательской публики были Байрон, Вальтер Скотт, то во второй половине XIX в., в свою очередь, русские классики становятся своеобразным ориентиром для многих английских мастеров слова. Если в период господства «великих викторианцев» русскую литературу знали плохо, то начиная с 1860-х гг. ситуация меняется, а затем с каждым годом, вместе с переводами Тургенева, Толстого, Достоевского интерес к русской словесности неумолимо растёт. Переводчиком и настоящим пропагандистом русской литературы становится Уильям Ролъстон. Активную работу вели также переводчики Констанс Таршт и Лео Винер (выходец из России, отец основателя кибернетики Норберта Винера). В 1883 г. создаётся англо-русское литературное общество; выходят исследования учёного-слависта У. Морфилда «Литература славянских народов» (1883), а также критика и переводчика М. Бэринга «Вехи русской литературы» (1910). Известный английский критик Мэтью Арнольд в статье о Толстом (1887) свидетельствует: «Русский роман приобрёл ныне широкую известность, и он заслужил её». И далее: «…если новые произведения окажутся на уровне этой популярности и даже увеличат её, то всем нам придётся изучать русский язык».
Английский драматург Бернард Шоу относил Толстого к властителям дум, к тем, кто «возглавляет» Европу. В 1903 г. Шоу послал в Ясную Поляну свою пьесу «Человек и сверхчеловек», которую он сопроводил обширным предисловием. Отношение же Толстого к Шоу было сложным. Он отдавал должное его оригинальному таланту и юмору. Но в письме посетовал на то, что Шоу прибегая к шутливой тональности, недостаточно серьёзен в суждениях о таком вопросе, как назначение человеческой жизни. Вообще творчество Шоу – свидетельство также плодотворного усвоения опыта русской классики. Например, его пьеса «Дом, где разбиваются сердца» снабжена подзаголовком «Фантазия в русском стиле на английские темы». Как и обычно, Шоу сопроводил пьесу, отмеченную широким социально-философс ким звучанием, пространным предисловием, не утаив «русский след», в ней скрытый.
Для Шоу Чехов – «один из величайших среди великих русских поэтов и драматургов». Заметим, что после шекспировского «Гамлета» чеховская «Чайка» занимает второе место в репертуаре театров мира по количеству постановок.
Значим был и опыт Чехова-новеллиста, в частности для такого мастера «малого жанра», как Кэтрин Мэнсфилд, которая постоянно упоминает русского писателя в дневниках и письмах. С Чеховым Мэнсфилд сближает мягкий юмор, лиризм, наблюдательность, умение разглядеть характерное, психологически значимое в повседневном, бытовом, неброском.
Глубокие творческие и духовные узы связывали с русской литературой Джона Голсуорси. Он декларировал свои литературные пристрастия, когда писал: «…Люди, именами которых мы клянёмся, – Толстой, Тургенев, Чехов, Флобер, Франс, – знали одну великую истину: они изображали тело и то скупо, но лишь для того, чтобы лучше показать душу».
Гуманизм и реализм Голсуорси был созвучен самому духу русской литературы. В статье «Русский и англичанин» (1916), написанной в разгар Первой мировой войны, Голсуорси подчёркивал: «Русский роман… явился главным живительным началом современной литературы…»
Усвоение Голсуорси опыта Толстого реализовалось в двух аспектах. С одной стороны, автор «Саги о Форсайтах» опирался на решительное неприятие всех форм специфически английского лицемерия. Эта традиция подкреплялась примером Толстого, смело срывавшего «все и всяческие маски». С другой стороны, Голсуорси развил искусство психологической характеристики, психологического анализа в духе эстетики XX в., со всей многосложностью внутреннего мира героев. А Л. Толстой был в этом плане безупречным мастером.
Русская литература, её уроки находятся в поле зрения многих крупнейших английских писателей XX столетия, например, Вирджинии Вульфу прозаика и критика, признанного мастера «психологической прозы». В статье «Русская точка зрения» она пишет о той особой роли, которую играет у русских классиков, например у Чехова, понятие «душа». Особым качеством она отмечена у Достоевского, романы которого – «бурлящие водовороты, водяные смерчи, свистящие, кипящие, засасывающие нас. Душа – вот то вещество, из которого они целиком и полностью состоят». Толстой – художник иного эстетического плана: «жизнь – главная для Толстого, как душа – для Достоевского».
Сомерсет Моэм, выдающийся прозаик, драматург, критик в статье о «Братьях Карамазовых» Достоевского полагает: роман не лишён некоторых художественных недостатков, но тем не менее это величайшее произведение мировой литературы. «Философскую проповедь» Л. Толстого, исполненную антимилитаристского пафоса, разделял выдающийся английский романист Томас Гарди. Влияние «Войны и мира» сказалось в стихотворной эпопее Гарди «Династы», посвящённой эпохе наполеоновских войн; в третьей части имеются выразительные сцены, описывающие крушение французского нашествия на Россию в 1812 г.
Герберт Уэллс написал предисловие к тому сочинений Л. Толстого, включавшего роман «Воскресение». Еще в 1908 г. Уэллс послал несколько своих книг в Ясную Поляну. В сопроводительном письме говорилось: «На мой взгляд, Ваши “Война и мир” и “Воскресение” – самые замечательные, самые всеобъемлющие романы, какие мне когда-либо доводилось прочитать». Толстой созвучен Уэллсу духом реформаторства, пафосом проповедничества, просветительства.
Замечательна роль русской классики в литературном развитии Германии и Австрии. Генрих Манн восклицал: «…Но как читался Достоевский, как читался Толстой? Они читались с трепетом». Русский роман «от Пушкина до Горького» воспринимался как «урок»: «Ничто не ушло под землю, ничто не осталось не услышанным. Их книги объединяли всех».
Трудно найти такого немецкоязычного мастера слова, входящего в литературную элиту, который оказался бы равнодушным к русскому опыту. Самый «немецкий» среди писателей Германии на рубеже XIX–XX вв. – Томас Манн – был связан с литературой русской, отдал дань глубокого восхищения Пушкину. Гоголю, Тургеневу, Гончарову. Но особенно значимы были для него три имени: Достоевский, Толстой, Чехов. К их урокам он постоянно обращался. Значение Толстого, по Т. Манну, не только в том, что ему подражают, видят в нём некий художественный образец. Толстой – великий художник, стимулирующий других на творческие дерзания; он подобен мифологическому Антею, обретающему мощь в соприкосновении с землёй.
Незадолго до кончины Томас Манн написал эссе «Слово о Чехове» (1952). Он завершил свою работу словами «смутной надежды» на то, что «правда в весёлом обличье способна воздействовать на души ободряюще и подготовить мир к лучшей, более разумно устроенной жизни». Томас Манн не раз признавался в любви «ко всему русскому», а чтение нашей классики относил к «величайшим духовным переживаниям».
Не менее значим, чем Л. Толстой, был для Томаса Манна Достоевский. В его литературно-критических работах возникают две равновеликие и во многом контрастные пары: Гете и Толстой, с одной стороны, Шиллер и Достоевский, с другой. Первая олицетворяла «природу», вторая – «дух».
Не прошёл мимо уроков русской литературы другой выдающийся немецкий писатель, прозаик, критик, драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе (1912) Герхард Гауптман, одна из наиболее выразительных фигур западноевропейской «новой драмы». Для Гауптмана были значимы традиции русской классики. «Толстой множественными нитями проникает в нашу эпоху», – писал Г. Гауптман. Незадолго до смерти (1946) Гауптман свидетельствовал, что его «литературные корни уходят в Толстого…». Касаясь своего драматургического первенца, принёсшего ему славу, пьесы «Перед восходом солнца» (1889), Гауптман говорил, что эта пьеса была «одухотворена “Властью тьмы”». В свою очередь, Толстой, знакомый с драматургией Гауптмана, особенно выделял пьесу «Ткачи», посвящённую массовому протесту рабочих в Силезии; он называл её «превосходной».
Судьбоносной для выдающегося австрийского поэта Райнера Марии Рильке стала встреча с Россией, её культурой и литературой. Весной 1899 г. молодой литератор, автор нескольких стихотворных сборников, посетил Россию. Он был принят в Ясной Поляне Л.Н. Толстым, что произвело на Рильке неизгладимое впечатление. Он также познакомился с художниками И. Репиным и Л. Пастернаком (отцом поэта Бориса Пастернака, с которым его позднее свяжут теплые творческие отношения). Первая поездка, хотя и кратковременная, убедила Рильке в необходимости повторно отправиться в Россию, которая, по его выражению, «вошла в душу». Новой поездке предшествовала основательная подготовка: изучение русского языка, фольклора, истории. Он вторично путешествовал по России с мая по август 1900 г. Наряду с Толстым, кумиром Рильке был и Достоевский. В ранние годы он делает в дневнике запись о прочитанных «Бедных людях», ибо не знает «ни одной книги, которую можно было бы поставить рядом с нею». Среди «великих примеров» имя Достоевского у него соседствует с именем Иисуса Христа.
Вообще правомерно говорить о «школе Достоевского» в немецкоязычной литературе, что определялось общечеловеческим пафосом его творчества, выходом за рамки культурных приоритетов своего времени. Герман Гессе, классик XX в., лауреат Нобелевской премии по литературе (1962), посвятил Достоевскому пять статей, начиная с 1915 г.
Увлечённо писал о Достоевском и Стефан Цвейг, считавший, что «каждая из великих наций должна быть представлена в лице её величайших романов». Таков Достоевский, герои которого – «настоящие русские люди переходной эпохи, с хаосом ощущений в душе…»
Философия и поэтика Достоевского оказали влияние на мировидение и методологию Франца Кафки, который, как явствует из его дневников и переписки, основательно штудировал книги русского писателя.
Опыт Достоевского плодотворно осваивали и другие немецкие писатели: Г. Гауптман, Ф. Верфель, Я. Вассерман, Б. Келлерман. Художественная методология Достоевского с её внутренней напряжённостью, сгущением красок, акцентировкой «идей» была близка стилистике немецкого экспрессионизма, влиятельного художественного течения в 1910—1920-е гг.
Значительна роль выдающегося датского критика и публициста Георга Брандеса в ознакомлении скандинавской общественности с русской литературной классикой. Это соответствовало его просветительской миссии: «Вызвать поэзию к новой жизни, к новой деятельности, открыть дверь извне и впустить в замкнутый скандинавский мир больше света и воздуха». В 1887 г. Брандес посетил Россию, где читал лекции по литературе на французском языке. Итогом этой поездки стала его книга «Россия. Наблюдения и размышления» (1888), включающая, в частности, сжатый обзор литературного процесса от Ломоносова до Л. Толстого.
Поклонником русской литературы (Тургенева, Толстого и особенно Достоевского) был и Кнут Гамсун, выдающийся норвежский художник слова, человек драматической судьбы, лауреат Нобелевской премии по литературе (1920). Поборник психологизма в литературе, не принимавший писателей, приверженных модному «социологизму», Гамсун исходил из того, что «современный человек» требует новых приёмов изображения: он «нервен», вовлечён в бурный поток жизни, «противоречив и непоследователен». Отсюда проистекает задача дойти до «тайников» его души, высветить её «иррациональную сущность».
В идейных и эстетических исканиях выдающегося шведского драматурга, прозаика, критика Августа Стриндберга важную роль сыграли Достоевский, Тургенев, но всего отчётливее Л. Толстой. Последний привлекал Стриндберга прежде всего своими социальными и религиозно-философскими трактатами. Стриндберг называл себя «учеником» Толстого, отмечал ту нравственную поддержку, которую он обрёл в сочинениях Толстого, что помогло ему преодолеть острый духовный кризис.
Архитектором «новой драмы», важнейшего течения в искусстве на рубеже XIX–XX вв. был великий норвежец Генрик Ибсен. Его новаторская «драма идей», но прежде всего его художественная манера, с акцентом на подтексте и символике, была, в известной мере, созвучна стилистике Чехова, принимавшего его не без оговорок. Пьесы Ибсена – важная страница истории МХТ, Малого и других ведущих театров России. Трагизм Ибсена – плод резких, конфликтных, экстремальных ситуаций. Чехов мягче, он обнаруживает трагизм в, казалось бы, бессобытийной, обыденной повседневности. По замечанию О.Л. Книппер-Чеховой, игравшей в пьесах обоих драматургов, Ибсен «уважает и любит человека, но совсем не так, как любит его Чехов». В пьесах Ибсена отчётливо выражено тенденциозное начало, а у Чехова – начало общечеловеческое. По словам известного американского режиссера Гарольда Клермена, Ибсен вызывает «восхищение», а Чехов – «любовь».
Начиная с 1870—1880-х гг., произведения русских классиков, в первую очередь Тургенева, Достоевского и особенно Толстого, обрели популярность не только в Европе, но и в США.
Успех этих писателей был столь впечатляющим, что стали говорить о «русской экспансии». Критик Дж. Киркленд так характеризовал художественную атмосферу в стране: «Эти русские романы знаменуют собой новую эру в литературе». Среди ранних интерпретаторов и пропагандистов Тургенева в США был Генри Джеймс, один из наиболее «европеизированных» американских литераторов, который встречался в Париже с Тургеневым и состоял с ним в переписке. Для Джеймса Тургенев был истинным мастером слова и безупречным знатоком жизни. Критики полагают, что «Дейзи Миллер», самая знаменитая из повестей Г. Джеймса, могла быть навеяна чтением тургеневской «Аси». Опыт Тургенева содействовал Джеймсу в его теоретической разработке проблем романного жанра, актуальных для американской литературы на исходе века.
Интерес Джеймса к русской литературе разделял его друг и соотечественник Уильям Дин Хоуэлле, критик, публицист, романист, авторитетный литератор, которого называли «деканом американской литературы». В это время в Америке получила хождение афористическая фраза: «Генри Джеймс отправился в Европу и стал читать Тургенева, а Хоуэлле остался дома и начал читать Генри Джеймса». От увлечения Тургеневым он переключился на Л. Толстого и стал его горячим поклонником, посвятив автору «Войны и мира» около трёх десятков публикаций – статей, обзоров, рецензий. Русский гений был для него примером реалиста и правдоискателя. Толстой укреплял Хоуэллса в убеж дении, что высокое искусство призвано защищать нравственные ценности, служить идеалам человечества.
Пример Л. Толстого был значимым и для американских писателей-натуралистов (X. Гарленд, С. Крейн, Ф. Норрис), поборников суровой жизненной правды в литературе в противовес «украшательству» и «книжности» сторонников «традиции утончённости». Толстой был среди тех кумиров Драйзера (наряду с Бальзаком, Золя, Ницше), которые стимулировали его литературные импульсы. В мемуарной книге Драйзера «Заря» мы читаем красноречивое признание: «Я снова усиленно занялся чтением. Дороже всех мне был тогда Толстой…»
В пору работы над «главной книгой» – «Американской трагедией» (1925) – для Драйзера были особенно значимы психологические прозрения Достоевского. Стало общим местом в критике отзываться об этом его романе, как о «Преступлении и наказании» в специфическом американском варианте. В годы войны, солидаризируясь с «новой Россией» в её отпоре нацизму, ратуя за скорейшее открытие второго фронта, Драйзер высказывал восхищение русской культурой, давшей миру несравненные творения Чехова, Достоевского, Толстого, Мусоргского.
И для новых поколений американских художников слова русская классика сохраняет свою значимость. Психологические открытия Достоевского остаются бесценными для писателей «южной школы» и прежде всего для У. Фолкнера. Его нередко называют «Достоевским XX века».
Самые лестные высказывания в адрес русских классиков, из которых особенно часто упоминается Толстой, мы находим едва ли не у любого значительного американского писателя: это Томас Вулф, Джон Стейнбек, Роберт Пенн Уоррен и др. Эрнест Хемингуэй после увлечения Тургеневым в 1920-е гг., в пору «красного десятилетия» – 30-е гг., насыщенные острыми социально-политическими катаклизмами, обретает нового кумира, Л. Толстого. Имя Толстого постоянно встречается в его интервью и письмах в пору работы над «лирическим эпосом», романом «По ком звонит колокол» (1940), посвящённом гражданской войне в Испании. В свою известную антологию «Люди на войне» (1942) Хемингуэй включил фрагменты из «Войны и мира», сопроводив их комментарием: «Я не знаю никого, кто писал бы о войне лучше Толстого… Я люблю “Войну и мир” за удивительные, глубокие и правдивые изображения войны и народа…».
Русские классики были тем фактором, который содействовал формированию эстетики и поэтики так называемой «новой прозы», в частности, в области новеллистики. Шервуд Андерсон, один из «отцов» «новой прозы», писал своему русскому переводчику Петру Охрименко: «До тех пор, пока я не нашёл ваших русских прозаиков, ваших Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова, я никогда не читал прозы, которая бы меня удовлетворяла».
Как один из основоположников «новой драмы», Чехов внёс очевидный вклад в формирование американской драматургии XX в. Лилиан Хеллман, одна из ведущих американских драматургов минувшего столетия, художник гражданского темперамента, в своей пьесе «Осенний сад» (1951) (её ставили во МХАТе) предложила оригинальную художественную перекличку с чеховским «Вишнёвым садом». В 1955 г. она выпустила в Нью-Йорке «Избранные письма» Чехова, сопроводив их предисловием и комментариями.
В свою очередь, произведения американских писателей находили благодарный отклик в России. Как уже говорилось выше, ещё в 1830-х гг. горячим пропагандистом Купера выступал Белинский. Об американских аболиционистах тепло отзывался Л.Н. Толстой. Н.А. Некрасов, редактор «Современника», рассылал своим подписчикам в качестве приложения перевод романа Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома». Блестящий перевод «Песни о Гайавате», выполненный еще до революции лауреатом Нобелевской премии по литературе (1933) И. Буниным, сделался, благодаря высоким художественным достоинствам поистине фактом русской поэзии. Роль первооткрывателя новеллистики Эдгара По в России принадлежит Достоевскому, опубликовавшему в журнале «Век» три его рассказа В 1905 г. вышло пятитомное собрание сочинений По в переводе К. Бальмонта. Рецензируя его, Блок отмечает, что произведения Э. По «созданы как будто в наше время». Вступив в своеобразное творческое соперничество с Бальмонтом, Брюсов, поборник иных принципов переводческого искусства, в 1924 г. выпустил поэтический однотомник По в своих переводах.
Уолт Уитмен был еще далёк от достойного признания у себя на родине, когда в 1872 г. И.С. Тургенев, называвший его «удивительным поэтом», перевёл его стихотворение «Бейте, бейте, барабаны!». Л. Толстой начиная с 1880-х гг. и до конца жизни проявляет заинтересованное внимание к Уитмену. Когда в 1892 г. Уитмен скончался, его некролог назывался «Американский Толстой». Неоценимый вклад в изучение, перевод и пропаганду Уитмена внёс К.И. Чуковский.
Джек Лондон ещё при жизни обрёл в России свою вторую родину. Им увлекался Маяковский. Когда в 1918 г. вышел немой фильм «Не для денег родившийся», сделанный по мотивам романа «Мартин Иден», Маяковский сыграл в нём главную роль – поэта с «говорящей» фамилией: Иван Нов.
С первых шагов в литературе М. Твен нашёл в России благодарных заинтересованных читателей: ещё при жизни писателя трижды выходили его собрания сочинений. В 1906 г. в Нью-Йорке произошла его встреча с Горьким.
Русско-американские литературные связи богаты и плодотворны. Это объясняется многими факторами (историческими, социальными, этнографическими), в том числе взаимной симпатией народов двух стран. В знаменитом «Письме к русскому» (1881) Уитмен выразил заветную мечту о том, чтобы «поэмы и поэты стали интернациональны и объединили свои страны, какие… есть на земле, теснее, чем любые договоры и дипломатия». «…Я буду счастлив, – добавлял Уитмен, – что меня услышат, что со мной войдут в эмоциональный контакт великие народы России».
Литература
Алексеев М.П. Русская классическая литература и ее мировое значение // «Русская литература». 1976. № 1.
Алексеев М.П. Русская культура и романский мир. Л., 1985.
Алексеев М.П. Пушкин и мировая литература. Л., 1987.
Алексеев М.П. Русско-английские связи (XVIII в. – первая половина XIX в.). Литературное наследство, Т. 93. М., 1982.
Ботникова А.Б. Э.Т.А. Гофман и русская литература (Первая половина XIX в.). Воронеж,1977.
Гиленсон Б А. История литературы США. М., 2003.
Елистратова А. А. Гоголь и проблемы западноевропейского романа. М, 1972.
Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. Л., 1978.
Жирмунский В.М. Гете в русской литературе. Л., 1982.
История русской переводной литературы / Отв. ред. Ю.Д. Левин. СПб., 1995–1996. Т. 1.
Катарский И.М. Диккенс в России. М., 1966.
Кулешов В И. Литературные связи России и Западной Европы в XIX веке. М., 1977.
Левин Ю.Д. Шекспир и русская литература XIX в. Л., 1988.
Нартов К.М., Лекомцева Н.В. Взаимосвязи отечественной и зарубежной литератур в школьном курсе: Книга для учителя. М., 2003.
Николюкин А.Н. Литературные связи России и США. М., 1981.
Сохряков Ю.И. Русские имена в литературном процессе США XX в. М., 1969.
Старицына З.А. Беранже в России. М., 1969.
Л.Н. Толстой и зарубежный мир. «Литературное наследство». Т. 75, кн. 1–2. М., 1965.
Фридлендер Г.М. Достоевский и мировая литература. М., 1981. Эпоха романтизма. Из истории международных связей русской литературы / Отв. ред. М.П. Алексеев. Л., 1975.
Дополнительная литература
Пыпин А.Н. История русской литературы. СПб., 1898.
Веселовский А.Н. О методах и задачах истории литературы как науки / Историческая поэтика. М., 1989.
Сакулин П. Н. Русская литература после Пушкина: Лекции. М., 1912.
История русской литературы XIX в. / Под ред. Д.Н. Овсянико-Куликовского. М., 1915–1917.
История всемирной литературы: В 9 т. М., 1983–1994.
История русской литературы: В 10 т. М.; Л., 1941–1956.
История русской литературы: В 4 т. Л., 1981–1982.
Айхенвальд А.Ю. Силуэты русских писателей: В 2 т. М., 1998.
Бабаев Э.Г. Из истории русского романа XIX века.
Время и судьбы русских писателей. М., 1981.
Баевский B.C. История русской поэзии 1730–1980: Компендиум. М., 1996.
Беседы В.Д. Дувакина с М. М. Бахтиным. М., 1996.
Гинзбург Л.Я. О лирике.
Городецкий Б.П. Русские лирики.
Ермаков И.Д. Психоанализ русской литературы. М., 1999.
Корнилов В.Н. Покуда над стихами плачут: Книга о русской лирике. М., 1997
Коровин В.Н. Русская поэзия XIX в. М., 1997.
Кулешов В.И. История русской литературы XIX в. М., 1997.
Куприянова Е.Н., Макогоненко Г.П. Национальное своеобразие русской литературы.
Лакшин В.Я. Пять великих имён. М., 1988.
Лихачёв Д.С. Литература – реальность – литература.
Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. СПб., 1997.
Основин В.В. Русская драматургия второй половины XIX в. М., 1980.
Маймип Е.А. Русская философская поэзия. М., 1979.
Манн Ю.В. Динамика русского романтизма. М., 1995.
Набоков В.В. Лекции по русской литературе. М., 1996.
Недзвецкий В.А. От Пушкина к Чехову. М., 1997.
Русская литература XIX в. и христианство / Под ред. В.И. Кулешова. М., 1997.
Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. Т. 1–4. М., 1992–1999.
Русские поэты XIX в. Хрестоматия. М., 2004.
Скафтымов А.П. Нравственные искания русских писателей. М., 1972.
Страницы истории русской литературы. М., 1971.
Тамарченко Н.Д. Русский классический роман XIX в. Проблемы поэтики и типологии жанра. М., 1997.

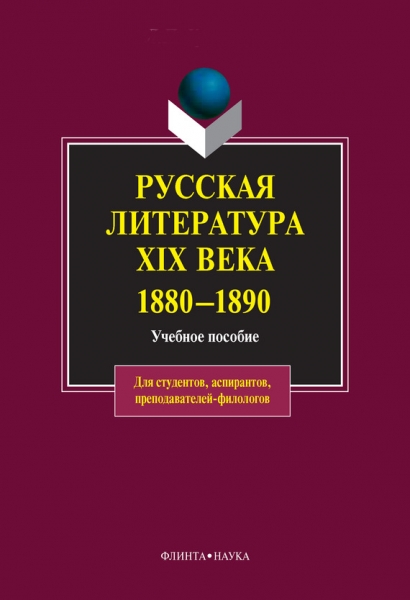




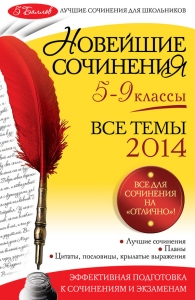

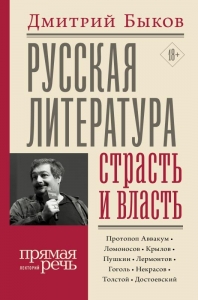
Комментарии к книге «Русская литература XIX века. 1880-1890: учебное пособие», Коллектив авторов
Всего 0 комментариев