Карен Армстронг Святой Павел. Апостол, которого мы любим ненавидеть
Переводчик Глеб Ястребов
Редактор Наталья Нарциссова
Руководитель проекта И. Серёгина
Корректоры М. Савина, С. Чупахина
Компьютерная верстка А. Фоминов
Дизайн обложки Ю. Буга
© Karen Armstrong, 2015
This edition made possible under a license arrangement originating with Amazon Publishing
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2016
Армстронг К.
Святой Павел. Апостол, которого мы любим ненавидеть / Карен Армстронг; Пер. с англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2016.
ISBN 978-5-9614-4366-0
Все права защищены. Произведение предназначено исключительно для частного использования. Никакая часть электронного экземпляра данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для публичного или коллективного использования без письменного разрешения владельца авторских прав. За нарушение авторских прав законодательством предусмотрена выплата компенсации правообладателя в размере до 5 млн. рублей (ст. 49 ЗОАП), а также уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет (ст. 146 УК РФ).
* * *
Посвящается Дженни Уэймен
Введение
Около 30 года н. э., когда Иерусалим праздновал Пасху, Понтий Пилат, римский префект Иудеи, приказал распять одного крестьянина из галилейской деревушки Назарет. Пасхальные дни всегда были непростым временем в Святом городе, где римлян недолюбливали. Пилат с первосвященником Каиафой, видимо, заранее договорились расправиться с любым потенциальным возмутителем спокойствия, а потому их внимание не могло не привлечь произошедшее за неделю до Пасхи событие – приезд в город Иисуса из Назарета. Он прибыл, восседая на осле, что напоминало пророчества Захарии, и его с восторгом приветствовали толпы, восклицая: «Освободи нас, Сын Давида!» Не притязал ли он на то, чтобы стать долгожданным Мессией, потомком великого царя Давида, который должен избавить Израиль от чужеземного гнета? И будто этого мало, Иисус немедленно направился в Храм и перевернул столы менял, обвинив их в том, что они превратили святое место в разбойничье логово. Когда его пригвоздили к кресту, «поставили над головой его надпись, означающую вину его: сей есть Иисус, царь Иудейский»{1}.
Иисус родился в правление императора Августа (31 г. до н. э. – 14 г. н. э.). Август принес мир в уставшую от войн страну, победив соперников из числа римских военачальников и объявив себя единственным властелином империи. Этот мир казался едва ли не чудом, ниспосланным свыше, и в отдаленных уголках державы Августа восславили как «сына Бога» и «спасителя». Однако «римский мир» безжалостно насаждался армией, эффективнейшей машиной убийств в истории: на малейшее сопротивление она отвечала массовой резней. Мощным средством устрашения служила казнь через распятие, орудие государственного террора. Так наказывали рабов, опасных преступников и бунтовщиков. Публичная демонстрация жертвы, искалеченное тело которой висело на перекрестке или в театре, зачастую становясь добычей стервятников и диких зверей, доказывала безжалостную мощь Рима{2}. Лет за 30 до смерти Иисуса, подавив восстание, вспыхнувшее после кончины Ирода Великого, сирийский наместник Квинтилий Вар распял за стенами Иерусалима 2000 мятежников{3}. Через 40 лет после смерти Иисуса, в последние дни осады Иерусалима римлянами (70 г. н. э.), тех, кто пытался бежать из обреченного города, – человек по 500 в день – избивали, пытали и распинали. Очевидец, еврейский историк Иосиф Флавий, описал эти страшные события: «Воины же в своем ожесточении и ненависти ради насмешки пригвождали пойманных в самых различных позах, а численность их была такова, что не хватало уже ни места для крестов, ни крестов для тел»{4}.
Среди прочего в распятии ужасало то, что жертва не получала достойного погребения, – бесчестье, в античном мире невыносимое, какого мы сейчас и представить не можем. Обычно тело жертвы оставляли на растерзание воронам. В Иудее, если удавалось убедить солдат захоронить тело сразу после смерти (по еврейскому закону), его обычно бросали в мелкую могилу, откуда его выкапывали дикие голодные псы, рыскавшие в поисках падали. Однако последователи Иисуса едва ли не с самого начала были убеждены, что их Учителя похоронили подобающим образом. А впоследствии четыре евангелиста придумали сложное объяснение, как приверженцы получили на это разрешение у римских властей{5}. Это был важный момент в ранней христианской традиции{6}.
Мученическая смерть Иисуса будет иметь ключевое значение для религиозной и политической концепции Савла из Тарса, первого известного нам христианского автора. Его римское имя – Павел. Мы, люди Запада, сознательно исключили религию из политической жизни и стали считать веру исключительно частным делом. Однако это произошло лишь в XVIII в., и такой подход был бы непонятен Иисусу и Павлу. Вопреки расхожему мнению, действия Иисуса в Храме не были призывом к более благочестивому отправлению веры. Переворачивая столы менял, он ссылался на иудейских пророков: те сурово обличали людей формального благочестия, которые были безразличны к положению бедных, слабых и угнетенных. На протяжении почти 500 лет Иудея находилась под властью разных империй, и Храм, самое святое место еврейского мира, стал орудием имперского владычества. С 63 г. до н. э. Иудеей правили римляне совместно с высшим духовенством: последнее взымало с населения налоги и хранило деньги в храмовых пределах. Со временем такой коллаборационизм подорвал доверие людей настолько, что крестьяне стали отказываться платить храмовую подать{7}. Некоторым иудеям до такой степени претило разложение самых священных институций, что они удалились от общества и создали поселение сектантов в Кумране, на берегу Мертвого моря. Они верили, что вскоре Бог уничтожит Храм и вместо него создаст новое святилище, чистое и нерукотворное. Поэтому Иисус был не единственным, кто считал Храм «вертепом разбойников». А обличительная акция, которая, по всей видимости, и стоила ему жизни, была воспринята властями как угроза политическому порядку.
Иисус проповедовал в Галилее, области на севере современного государства Израиль, население которой сильно пострадало от власти римлян. Назарет находился всего лишь в нескольких километрах от города Сепфориса, стертого с лица земли римскими легионами при подавлении бунтов после смерти Ирода. Ирод Антипа, шестой сын Ирода Великого, правил Галилеей, будучи полностью зависимым от Рима, и собирал средства на свои многочисленные строительные проекты, взимая высокие налоги. Податями облагались зерно, скот, заработки. В общей сложности крестьяне отдавали от 50 до 66 процентов того, что производили. Невыплата налогов каралась конфискацией земли, что увеличивало наделы знати, а также банкиров и чиновников, стекавшихся в Галилею в поисках наживы{8}. Если повезет, крестьяне, потерявшие землю, которой владели поколения их предков, оставались трудиться на ней по найму. Другие подавались в разбойники или нанимались на черную работу. Возможно, последнее произошло и с плотником Иосифом, отцом Иисуса.
Приблизительно в 28 г. н. э. толпы народа стали стекаться из Иудеи, Иерусалима и окрестностей к Иордану, чтобы послушать пламенную проповедь Иоанна Крестителя. Облаченный в одежду из грубого верблюжьего волоса, что напоминало одеяние пророка Илии, Иоанн призывал людей совершить омовение (крещение) в знак покаяния и тем самым ускорить наступление Царства Божьего, которое вскоре придет на смену нечестивым владыкам века сего. Его речи не были исключительно религиозными. Когда креститься пришли представители высшего духовенства со своими слугами, Иоанн назвал их «порождениями ехидниными» и заявил, что происхождение от Авраама не спасет их в День Суда{9}. В Израиле ритуальное погружение в воду издавна символизировало не только нравственное очищение, но и выбор в пользу социальной справедливости. В VIII в. до н. э. пророк Исаия говорил от лица Бога иерусалимским вождям: «Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову»{10}.
Кумраниты совершали частые омовения не только как очистительный ритуал, но и в знак готовности «справедливо относиться к людям… всегда ненавидеть несправедливых и бороться вместе с праведными»{11}. Однако Иоанн предложил крещение не только избранным, но и простым людям. Когда бедняки, отягощенные долгами, спрашивали его, что им делать, он призывал их делиться тем немногим, что у них было, с теми, кто жил еще хуже: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же»{12}.
Среди тех, кого крестил Иоанн, был Иисус. По преданию, когда он выходил из воды, на него сошел Святой Дух и небесный голос возвестил: «Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!»{13} Впоследствии приверженцы Иисуса будут верить, что и они в крещении становятся детьми Божьими и членами общины, в которой все равны. На заре этого движения Духу Божьему придавали огромное значение. Конечно, мыслился он не как отдельное божество: иудеи называли так присутствие и действие Всевышнего в человеческой жизни. Когда около 29 г. Иоанн был схвачен по приказу Антипы, Иисус возвратился в Галилею «в силе Духа»{14} и начал проповедовать. Вокруг него, как и вокруг Иоанна, собирались толпы, чтобы услышать удивительную весть: «Царствие Божие уже пришло»{15}. Заметим: не «придет в отдаленном будущем». Уже сейчас Дух – активное присутствие Бога – проявлял себя в чудесах исцеления, совершаемых Иисусом.
Куда бы ни взглянул Иисус, он видел людей, доведенных до крайности, униженных и подавленных. «Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря»{16}. Греческие глаголы, выбранные евангелистом, имеют не только эмоциональную, но и политическую коннотацию: речь идет о жертвах имперского владычества{17}. Это были люди голодные, больные и психологически подавленные, измученные тяжким трудом, антисанитарией, перенаселенностью, бременем долгов и постоянным страхом, что было характерно для народных масс в древней аграрной экономике{18}. Притчи Иисуса описывают общество, в котором между богатыми и бедными пролегает неодолимая пропасть; люди отчаянно нуждаются в ссудах, живут под гнетом долгов и становятся жертвой бессовестных землевладельцев; они лишаются земли и вынуждены искать поденную работу{19}.
Узнать, каким был Иисус как историческая личность, почти невозможно. Павел, самый ранний из известных нам христианских авторов, писал свои послания всего лишь через 20 лет после распятия, но и он не сообщил почти ничего о земной жизни Христа. Четыре канонических Евангелия появились значительно позже: Евангелие от Марка – в конце 60-х гг., Евангелия от Матфея и Луки – в 80–90-е гг., а Евангелие от Иоанна – около 100 г. На всех евангелистов глубоко повлияла Иудейская война (66–73), которая привела к разрушению Иерусалима и Храма. Живя в один из самых страшных периодов истории еврейского народа – настолько страшных, что он казался Концом света, – они пытались осмыслить происходившее массовое истребление, страдания и лишения. А в процессе осмысления могли внести в свои Евангелия элемент апокалиптического пророчества, которого, возможно, и не было в учении Иисуса.
Исследователи отмечают, что Матфей и Лука взяли за основу своих повествований не только Евангелие от Марка, но и еще один текст, который цитировали почти слово в слово. Этот утерянный ныне документ в науке обозначается литерой Q (от немецкого слова quelle – «источник»). Сложно сказать, когда он был написан. Поскольку в нем не упоминается об Иудейской войне, он, очевидно, возник в Галилее до 66 г. А быть может, его записали уже в 50-е гг., примерно в то же время, когда свои послания диктовал писцу Павел. В отличие от канонических Евангелий, Q почти ничего не говорит о жизни Иисуса, это антология его высказываний. Таким образом, благодаря источнику Q мы можем больше узнать о том, что говорил Иисус бедствующим жителям Галилеи.
В центре этого Протоевангелия стоит Царство Божье{20}. Но это не огненный апокалипсис, ниспосылаемый на землю свыше, а, по сути, революция в человеческих взаимоотношениях. Если люди создадут другое общество, которое будет в большей степени следовать божественным установлениям иудейского Закона, они ускорят миг, когда Всевышний вмешается в историю и изменит положение дел. В Царстве единственным владыкой будет Бог: не станет ни кесаря, ни прокуратора, ни Ирода. Но, чтобы сделать Царство реальностью в тех труднейших условиях, в которых они существовали, люди должны были жить так, словно оно уже наступило{21}. В отличие от иродианской Галилеи, в Царстве Божьем привилегии должны будут распространяться не только на элиту, ведь оно открыто для всех и каждого, особенно же для обездоленного и нищего (птохос), угнетенного нынешней властью{22}. Нельзя звать на праздник лишь богатых соседей, объяснял Иисус человеку, пригласившему его в гости: «Когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых и слепых». Созывать их надо «по улицам и переулкам города», «по дорогам и изгородям»{23}. С точки зрения политики эта весть потрясала основы: в Царстве первые будут последними, а последние станут первыми{24}.
Согласно учению Иисуса, люди в нем должны будут возлюбить даже своих врагов, поддерживая их и морально, и материально. И если римляне отвечали на агрессию жестокостью, ученикам Иисуса подобало следовать золотому правилу: «Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому, просящему у тебя, давай и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними»{25}.
«Отче наш» есть молитва о Царстве, и читали ее люди, которые могли надеяться лишь на то, что на сегодняшний день им хватит пропитания, которые боялись задолжать, попасть под суд и лишиться своего скромного земельного надела:
Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный подавай нам на каждый день; и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему{26}.В учении Иисуса не было ничего нового. Древние законы Израиля заповедовали такую же взаимовыручку и взаимопомощь. Согласно ранним установлениям Пятикнижия (Закона Моисеева), знать не имела права присваивать себе чужие земли: земля всегда должна была оставаться во владении рода. Ссуды нуждающимся израильтянам должны были быть беспроцентными, а договорное рабство ограничивалось. Уязвимым членам общества – сиротам, вдовам и чужеземцам – необходимо было оказывать помощь{27}. Под конец каждого семилетия нужно было прощать долги и отпускать рабов на волю. Богатым израильтянам следовало быть щедрыми с бедняками и давать им достаточно средств на их нужды{28}.
Иисус посылал учеников – рыбаков, земледельцев и всеми презираемых мытарей – претворять эту программу в жизнь в галилейских деревнях. По сути, это была практическая декларация независимости. У его последователей отпадала нужда наниматься в подневольные работники и трудиться ради чужого обогащения: они могли выйти из этой системы и создать альтернативную экономику, выживая благодаря умению делиться{29}. Американский ученый Джон Доминик Кроссан полагает, что эти наставления Иисуса миссионерам составляли суть раннего христианства. Иисус объяснял: придя в деревню, постучитесь в дверь и пожелайте мира хозяевам; если встретят гостеприимством, оставайтесь в доме и трудитесь вместе с ними. «Ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои… Если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им: „Приблизилось к вам Царство Божие“»{30}.
Если человек из сострадания примет нуждающегося странника, если с этим странником поделится пищей собрат, а тот даст что-то в ответ – вот уже и Царство. Крестьян, объясняет Кроссан, терзали две взаимосвязанные заботы: «Смогу ли я сегодня поесть?» И «вдруг я заболею и впаду в долги?» В системе Иисуса, если у одного человека есть еда, она доступна всем. Да и о больных всегда найдется, кому позаботиться. Такая взаимозависимость и взаимоподдержка были и Путем спасения, и Путем выживания{31}.
И это не социальная программа под видом религии: до начала Нового времени у людей просто не было понятия «секулярности» в современном смысле слова. Все великие духовные традиции учили, что между нами и просветлением стоят себялюбие и эгоизм и практическая забота о каждом человеке (а не только о близких и представителях своего класса) есть критерий подлинной духовности. Героически делясь последним имуществом, сдерживая гнев и мстительность, из последних сил служа ближним, ученики Иисуса (а впоследствии и Павла) систематически низвергали с трона свое «я» и возводили на трон – в центр мира – других людей. Это жертвенное состояние сознания сродни тому, что другие искали и ищут в йоге: ведь и цель последней – избавить мышление и поведение от зацикленности на своем «я», этой одержимости собственной персоной, которая мешает быть людьми и закрывает от нас Трансцендентное (называют ли его Брахманом, Дао, Нирваной или Богом).
Иисус понимал, что у кого-то это учение вызовет отторжение, кто-то сочтет его крамолой. Он предупреждал учеников, что оно приведет к распрям и даже расколет семьи{32}. В римской Палестине тот, кто хотел следовать за Иисусом, должен был приготовиться к мучительной смерти на кресте{33}. Его учение было трудно принять: не каждый готов возлюбить врагов своих, забывать при необходимости о семейных нуждах и предоставлять мертвым погребать своих мертвецов{34}. Более поздние отрывки из источника Q показывают, что посланцы Иисуса сталкивались с неприятием и враждой, особенно со стороны тех, кто боялся нового учения или зависел от иродианской системы{35}. Когда Иисус пришел в Иерусалим, чтобы возвестить Царство и обличить вымогательство и несправедливость высшего духовенства, его казнили как инакомыслящего.
Распятие могло бы положить конец движению Иисуса. Однако некоторые из ближайших учеников – по-видимому, бежавшие после его ареста из Иерусалима в Галилею – пережили удивительные видения. Согласно этим видениям, искалеченное и окровавленное тело Учителя возродилось к новой жизни; Иисус был оправдан Богом и воссел одесную престола Божьего на высоте. Из этого ученики сделали вывод: Господь указал на Иисуса как на Мессию, «помазанного» потомка Давида, который установит Царство Божие и положит начало справедливому владычеству. Первым «увидел» воскресшего Иисуса Симон, также называвшийся Петром или Кифой («Камнем»). Затем Иисус «явился» группе учеников, впоследствии известных как Двенадцать апостолов, а еще позже – толпе из 500 последователей. Напоследок же – своему брату Иакову{36}. Поразительные видения «сопровождались» снисхождением Духа Святого, который давал этим испуганным людям силы говорить открыто, изрекать вдохновенные пророчества и совершать чудеса исцеления. Они были убеждены, что наступает новый век, предсказанный пророком Иоилем:
Изолью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни изолью от Духа Моего{37}.В прошлом пророками обычно становились аристократы, связанные с царским двором. Теперь же Духом были влекомы самые простые люди: рыбаки и плотники, крестьяне и ремесленники. Для современников воскресение не было мифическим событием далекого прошлого: «свидетелями» вознесения Иисуса оказались сотни людей.
В древние времена еврейское понятие «машиах» (Мессия) применялось к любому человеку – царю, священнику или пророку, – помазанному маслом в знак божественного избрания для выполнения какой-либо миссии. Но, когда над Израилем стали господствовать чужеземные империи, оно было переосмыслено. В народе возникло упование на приход иного царя: потомка Давида, справедливого и понимающего, который вернет Израилю былое величие. Согласно псалмам Соломона, Помазанник освободит еврейский народ, разоблачит продажных чиновников, изгонит из страны чужеземных грешников и воцарится в Иерусалиме, который снова станет святым городом, привлекающим народы «со всех концов земли»{38}. Этот текст был написан в Иерусалиме в I в. до н. э., но его перевели на греческий язык и читали в еврейской диаспоре, также жившей под властью Рима и надеявшейся на приход Мессии (Христос по-гречески). В этом уже была потенциальная крамола, а уж какой крамолой стало течение, считавшее Христом человека, которого казнил римский наместник!
Источник Q не упоминает ни о смерти, ни о воскресении Иисуса. Быть может, тем, кто создал этот текст, было тяжело думать о распятии, а о явлениях Воскресшего они не знали (или не верили в них). Они продолжали свое дело, но, похоже, сгинули в хаосе Иудейской войны. Однако для Двенадцати апостолов смерть Иисуса была тем, о чем невозможно молчать, ведь в ней заключалась спасительная сила. В иудаизме считалось, что мученик умирает за «грехи» Израиля: не за проступки отдельных людей, а за прегрешение народа, который нарушил заповеди Божьи, не справился с возложенной на него ответственностью и тем самым навлек на себя наказание свыше, политическую катастрофу. Готовность умереть за принципы делала мученика образцом для подражания. Таким образом, мученическая смерть Иисуса подталкивала людей к действию и вдохновляла на попытки ускорить наступление Царства.
Видения перевернули жизнь Двенадцати. Они оставили Галилею и вернулись в Иерусалим, где, согласно пророкам, Мессия должен был положить начало новой эпохе{39}. В перенаселенных трущобах нижнего города Двенадцать проповедовали, сообщая эту благую весть торговцам и поденщикам, носильщикам и мясникам, красильщикам и погонщикам ослов – «потерянным овцам Дома Израилева»{40}. В городской среде, довольно чуждой для этих бывших крестьян, они пытались создать альтернативные общины, которые Иисус организовал в деревнях Галилеи:
У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса; и великая милость была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду{41}.
Двенадцать также начали проповедовать говорившим на греческом иммигрантам из диаспоры, которые приехали в Иерусалим, чтобы жить в большем согласии с правилами иудаизма. Одним из представителей этой диаспоры был Павел (согласно Луке, уроженец Тарса Киликийского). Поначалу он враждебно относился к движению Иисуса, но затем с ним что-то произошло и он стал возвещать благовестие не только потерянным овцам дома Израилева, но и языческим народам.
Свою первую книгу о Павле («Первый христианин») я опубликовала в 1983 г., в самом начале карьеры. Книга сопровождала шестисерийный телефильм, в котором я изложила свой подход. Начиная этот проект, я полагала, что для меня он станет возможностью показать, насколько отрицательно Павел повлиял на христианство, исказив учение Иисуса о любви к ближнему. Павел – это апостол, которого многие любят ненавидеть: его воспринимают как женоненавистника, врага евреев и иудаизма, сторонника рабства и авторитаризма. Но, взявшись за изучение его текстов в контексте I в., я быстро поняла, что дело обстоит иначе. Более того, пройдя в ходе съемок шаг за шагом по его пути, я не только ощутила глубокое уважение к нему, но и почувствовала, насколько близок мне этот трудный, яркий и ранимый человек.
Почти сразу выяснилось, что не все послания, подписанные его именем в Новом Завете, принадлежат его перу. Ученые полагают, что лишь семь из них аутентичны: Первое послание к Фессалоникийцам, Послание к Галатам, Первое и Второе послания к Коринфянам, Послание к Филиппийцам, Послание к Филимону и Послание к Римлянам. Остальные тексты – Послание к Колоссянам, Послание к Ефесянам, Второе послание к Фессалоникийцам, Первое и Второе послания к Тимофею и Послание к Титу – были написаны от лица Павла уже после его смерти, а некоторые из них даже во II в. В науке они получили название девтеропаулинистских. Это не подделки в современном понимании: в Античности сплошь и рядом писали под именем какого-нибудь уважаемого мудреца или философа. Эти посмертные послания пытались укротить Павла и сделать его радикальное учение более приемлемым для греко-римского мира. Именно поздние авторы заявили, что женщины должны слушаться мужей, а рабы – господ. Именно они придали символический смысл Павлову обличению «владык века сего»: дескать, это не правящая аристократия Римской империи, а бесовские силы.
Любопытно, что некоторым феминисткам такой поворот не по душе: они горят желанием возложить на Павла вину за многовековую христианскую женофобию. Однако для ученого иррационально закрывать глаза на убедительные доводы в пользу позднего и псевдонимного характера этих текстов. Неужели ненавидеть Павла важнее, чем оценить его труды по справедливости? Между тем, как продемонстрировали недавние исследования, Павел настолько радикально подходил ко многим вопросам, что и поныне чрезвычайно актуален.
Во-первых, как показали Ричард Хорсли, Дитер Георги, Нил Эллиотт и многие другие ученые, Павел, подобно Иисусу, неуклонно обличал несправедливость Римской империи. До Нового времени все цивилизации без исключения основывались на излишке аграрной продукции: ее насильно изымали у крестьян, заставляя их жить впроголодь. Таким образом, около 90 процентов населения были обречены на рабский труд и удовлетворение нужд небольшого привилегированного класса и его прислужников. Между тем, как отмечают социологи и историки, без этой чудовищной несправедливости человеческий вид мог бы остаться на самом примитивном уровне. Ведь привилегированный класс означал наличие людей с досугом, необходимым для развития искусства и науки. Как ни парадоксально, выяснилось, что Римская империя – оптимальный способ обеспечить мирное сосуществование, поскольку она пресекла бесконечные войны мелких аристократий за пахотные земли. До Нового времени, когда социальные волнения, наносившие урон урожаю, подчас вызывали гибель тысяч людей, существовал сильный страх перед анархией. Неслучайно большинство жителей с облегчением восприняли воцарение императора Августа. И все же в каждой культуре должны быть такие люди, как Иисус и Павел, которые возвышают голос протеста против системной несправедливости. Думаю, в наши дни Павел разнес бы в пух и прах наш мировой рынок с его сильнейшим дисбалансом богатства и власти.
Во-вторых, Павел всю жизнь боролся за уничтожение национальных, классовых и гендерных предрассудков, которые продолжают разъединять общество даже в XXI в. После откровения на дороге в Дамаск он понял, что важные для него законы, разделяющие иудеев и язычников, отменены Богом. И, подобно Иисусу, уверовал: в Царстве Божьем все люди имеют право участвовать в трапезе за одним столом. В нашем секуляризованном мире ритуальная чистота утратила прежнюю роль. Однако расизм и классовые разделения поныне присутствуют даже в странах «свободного мира». Опять-таки Павел вослед Иисусу категорически отвергал подобные предрассудки. Иисус нарушал устои и социальные границы: общался с изгоями, ел с «грешниками», прикасался к людям ритуально нечистым и к инфекционным больным.
И у Павла можно многому поучиться. В книге «Первый христианин» я опиралась на Деяния Апостолов, по преданию, написанные Лукой, автором третьего Евангелия. Но ученые уже не считают Деяния надежным историческим материалом. Конечно, Лука знал некоторые достоверные предания, но ко времени, когда он писал свои труды (начало II в.), много воды утекло: он не всегда понимал источники. Кроме того, у него были иные задачи, чем у Павла. Еврейское восстание против Рима, повлекшее за собой трагическую гибель Иерусалима и Храма, осталось в прошлом. И Лука хотел показать, что движение Иисуса не разделяло распространенной среди иудеев враждебности к Риму. Неслучайно в его повествовании римские чиновники благожелательно и уважительно реагируют на Павла, а местные иудейские общины то и дело изгоняют апостола из городов, в которые он пришел проповедовать. Как мы увидим, Павел смотрел на вещи совсем иначе.
Поэтому в этой книге я буду опираться главным образом на семь подлинных посланий Павла. Многие вопросы остаются без ответа: скажем, Павел подчеркивал, что он холост, но был ли он когда-либо женат? Этого мы никогда не узнаем. Совсем ничего не известно о его детстве и образовании, почти ничего – о пяти случаях, когда его били в синагогах плетью, о трех кораблекрушениях (включая то, когда он сутки провел в волнах открытого моря), о нападении на него разбойников и о том, как его побили камнями{42}. Мы толком не знаем, как и когда он умер: легенды на сей счет сложились в последующие десятилетия. Однако в своих посланиях он оживает для нас. Они – удивительное свидетельство страсти, которая влекла этого человека, желавшего изменить мир.
Примечание. Называть раннее христианство отдельной религиозной традицией не вполне корректно. Почти до середины II в. движение последователей Иисуса считали одним из направлений иудаизма. Да они и сами воспринимали себя именно так. Даже называться христианами они стали лишь в конце I в., а слово «христианство» встречается в Новом Завете лишь трижды{43}. Я также старалась не называть ранние общины Иисусова движения «церквями»: в воображении сразу возникают церковные шпили и скамьи, молитвенники и иерархические структуры, которых во времена Павла не существовало. Вместо этого я предпочитаю использовать греческое слово экклесиа (впоследствии его стали переводить как «церковь»): подобно слову «синагога», оно относится к собранию народа, общине, конгрегации.
1. Дамаск
Возможно, рассказ Луки о сошествии Духа Святого в еврейский праздник Пятидесятницы исторически недостоверен, но он хорошо передает бурный характер раннего христианского движения{44}. Согласно Деяниям, Двенадцать апостолов и члены семьи Иисуса собрались для молитвы в одном из иерусалимских домов. Внезапно они услышали шум, словно от ураганного ветра; появились языки пламени и опустились на каждого из них. Исполненные Духа, они заговорили на разных языках и поспешили обратиться со словом к толпе еврейских паломников, съехавшихся в Иерусалим со всех концов империи, и каждый слышал это обращение на своем родном языке. Поведение апостолов было столь необычным, что кто-то принял их за пьяных. Однако Петр разуверил скептиков: эти люди не пьяны, а исполнены Духа Святого. Именно так пророк Иоиль описывал Последние дни, а начало им положил Иисус, человек, о котором Израилю возвестили чудеса и знамения. И все же, сообщил Петр своей огромной еврейской аудитории, его, «по определенному замыслу и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Но Бог воскресил Иисуса для славной жизни в горнем мире, тем самым исполнив пророчество Давида, данное в псалме, который начинается словами: «Сказал Господь господину моему: „Сиди одесную Меня, доколе не положу врагов Твоих в подножие ног твоих“»{45}. Отныне Израиль должен признать распятого Иисуса Господом и Мессией, и, если народ покается, крестится и отделит себя от «рода сего развращенного», на него также снизойдет Святой Дух и он разделит с Иисусом победу{46}.
В одночасье Иисус, земной человек, преобразился навеки. Узрев его стоящим одесную Бога, ученики взялись за изучение Писания: как такое могло случиться? Очень быстро их внимание привлек псалом 110, который Петр и процитировал толпе. В древнем Израиле этот псалом пели в ходе коронации в Храме: новопомазанный царь, потомок Давида, обретал почти божественный статус и становился членом Божественного совета небесных существ. Согласно другому псалму, в ходе коронации царь усыновлялся Яхве: «Ты сын Мой, Я ныне родил тебя»{47}. Ученики также вспомнили, что Иисус иногда называл себя «сыном человеческим». Эта фраза отсылала к псалму 8, где чудеса творения наводят псалмопевца на вопрос: почему Бог увенчал скромного «сына человеческого» столь великой честью? Именно такой чести, как теперь убедились ученики, удостоился Иисус:
Не много Ты умалил его пред Ангелами: славой и честью увенчал его; поставил его владыкой над делами рук Твоих; все положил под ноги его{48}.Кроме того, эти слова – «сын человеческий» – напоминали и видение пророка Даниила, который увидел таинственную фигуру, подобную «сыну человеческому», которая придет на помощь Израилю на облаках небесных. «И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему»{49}. Отныне ученики были убеждены: Иисус, сын человеческий, скоро вернется, возьмет власть над миром в свои руки и одержит победу над угнетателями Израиля. Удивительно быстро Иисус Мессия (Христос) был назван «Господом» (греч. кириос), «сыном человеческим» и «сыном Божьим». Уже все новозаветные авторы употребляют эти слова без всяких сомнений{50}.
Судя по рассказу о Пятидесятнице, благовестие имело особую притягательность для грекоязычных евреев из диаспоры. Многие из них присоединились к общине учеников Иисуса. В I в. Иерусалим был космополитическим городом. Со всего света стекались в него благочестивые иудеи, чтобы совершать поклонение в Храме, хотя они также стремились создавать свои синагоги, где могли молиться по-гречески, а не по-еврейски и не по-арамейски, как жители Иудеи{51}. Некоторые из них были приверженцами иудаисмос – иудейства. Это слово часто переводят как иудаизм, но во времена римского владычества оно имело вполне конкретное значение. Уважая древность и высокую нравственность израильской религии, императоры предоставили еврейским общинам в греко-римских городах определенную степень автономии. Однако местная элита, страдавшая от утраты своей независимости, относилась к этому с недовольством. Поэтому среди горожан подчас возникали антииудейские настроения. В противовес у некоторых грекоязычных евреев диаспоры сформировалось воинственное сознание, которое они и называли иудейством: вызывающее утверждение отеческой традиции вкупе с решимостью держаться еврейской самобытности и предотвращать политические угрозы общине (ценой насилия, если необходимо). Находились и желающие с оружием в руках отстаивать честь Израиля и склонять соплеменников к соблюдению Торы. В Иерусалиме этих еврейских ригористов привлекала иудейская секта фарисеев, следовавшая Торе весьма педантично. Фарисеи хотели жить так, как жили священники, служившие Божьему присутствию в Храме, а потому особое внимание уделяли священническим кодексам ритуальной чистоты и пищевым запретам, делавшим Израиль «святым» (евр. кадош), т. е. «отделенным» (подобно самому Богу) и обособленным от языческого мира.
Однако другим грекоязычным евреям жизнь в Святом городе приносила разочарование. В диаспоре многие из них полюбили эллинистическую культуру. Поэтому они подчеркивали универсальность еврейского монотеизма: Единый Бог есть Отец всех народов и может почитаться под разными именами. Некоторые также верили, что не одни лишь евреи обладают Торой: отеческие законы греков и римлян на свой лад также выражают волю Единого Бога. Этим либеральным евреям были ближе этические представления пророков, где упор делался на добрые дела и филантропию, а не на ритуальную чистоту и пищевые запреты. В мире фарисейства им было душно и тесно. Возможно, вызывало неприязнь и желание выкачать побольше денег из паломников, съезжавшихся в Святой Город{52}. Поэтому, услышав проповедь Двенадцати об Иисусе, они заинтересовались его учением. Ведь он, как рассказывали, ругал фарисеев: «Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей и нерадите о суде и любви Божией: сие надлежало делать и того не оставлять»{53}. Должен был нравиться им и рассказ об изгнании Иисусом менял из Храма. Ведь Иисус процитировал слова Исаии об универсальном значении веры: «Дом Мой домом молитвы наречется для всех народов»{54}.
Примкнув к движению Иисуса, эти грекоязычные евреи продолжали молиться в своих синагогах. Однако, как сообщает Лука, отношения между арамеоязычными и грекоязычными членами движения осложнились. Согласно Деяниям, разногласия начались из-за распределения еды. Двенадцать апостолов назначили для этой цели семь грекоязычных дьяконов, чтобы самим иметь возможность больше времени посвящать молитве и проповеди{55}. Но рассказ Луки полон противоречий, и ясно, что обязанности дьяконов не сводились к распределению провизии. Одним из них был Стефан, харизматичный проповедник и чудотворец, другой из семи, Филипп, стоял во главе миссий в нееврейские области Самарии и Газы{56}. Читая повествование Луки между строк, можно предположить, что эти дьяконы составляли верхушку отдельной «эллинистической» конгрегации в движении Иисуса, которая уже проповедовала в языческом мире.
У Луки получается, что незначительный спор из-за еды стремительно перерос в расправу над Стефаном. Некоторые иудеи диаспоры, приверженные иудейству, пришли в ярость от либеральной проповеди Стефана и привели его к первосвященнику. Они желали остановить его любой ценой: «Этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон. Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назорей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей»{57}.
Лука утверждает, что эти обвинения были сфабрикованы и подкреплены лжесвидетельством. Однако он сам вкладывает в уста Стефана проповедь, которая завершается решительным отвержением храмового культа! Как мы сказали, этот вопрос был яблоком раздора. Взгляды Стефана отчасти разделялись кумранитами и крестьянами, отказывавшимися платить подати. Согласно Евангелиям, Иисус также предрек гибель Храма{58}. Когда Стефан воскликнул: «Вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога», – обвинители в ярости побросали плащи у ног юноши по имени Савл, вывели Стефана из города и побили камнями. Рассказ об этой трагической истории Лука завершает фразой: «Савл же одобрял убиение его»{59}.
Павел появляется на сцене года через два после казни Иисуса: в 32 или 33 г. н. э. О его предыдущей жизни нам почти ничего не известно. По словам Луки, он был родом из Тарса; родители привезли его в Иерусалим мальчиком. Сам Павел гордо говорил о своем безупречном еврейском происхождении: «Обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности – гонитель Церкви Божьей, по правде законной – непорочный»{60}.
В XVI в. Мартин Лютер заявит, что Павел мучился из-за своей неспособности «творить положенные по закону дела», но никаких признаков этого в Павловых посланиях не видно. Напротив, он с уверенностью говорит, что был образцовым иудеем и соблюдал Тору «непорочно».
О деятельности фарисеев до Иудейской войны мы знаем очень мало. Судя по всему, это было пестрое движение, объединявшее людей разных взглядов. И хотя впоследствии фарисеи заложили основы талмудического иудаизма, у нас нет оснований предполагать, что Павел разделял идеи, разработанные раввинами после Иудейской войны.
Возможно, Павел посещал грекоязычную еврейскую школу в Иерусалиме. Он отлично говорил по-гречески, Священное Писание изучал в греческом переводе, а также освоил искусство риторики. Однако его воспитание не было сугубо религиозным. Со II в. до н. э. фарисеи активно участвовали в политике и были готовы умирать, а подчас и убивать за свои взгляды. По-видимому, в начале I в. некоторые из них весьма агрессивно проповедовали иудейство и наказывали инакомыслящих вроде Стефана, чтобы сплотить евреев в условиях римской оккупации{61}.
Павел давал понять, что в прошлом был очень ревностным фарисеем: «…и преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий»{62}.
Если одни евреи, страдая от политических кризисов, вызванных римской оккупацией, и непомерно высоких налогов, обращались к харизматичным учителям вроде Иоанна Крестителя или участвовали в других формах ненасильственного протеста, то другие объясняли бедствия наказанием свыше за несоблюдение Торы. А потому, заключали они, надо не бороться с римлянами, ставя еврейскую общину под угрозу, а посвятить себя тщательному следованию заповедям, веря, что Бог вознаградит за это. Лишь так можно ускорить наступление мессианского века, когда Бог восстановит честь своего народа{63}. По-видимому, в этом русле мыслил и Павел: похоже, он был признанным вождем фарисеев и вполне мог учить евреев диаспоры, живших в Иерусалиме, противиться усвоению греко-римских обычаев и избегать любой антиримской деятельности, чреватой кровавым возмездием. Библейским героем этих фарисейских ригористов был священник Финеес. Во время скитаний по пустыне израильтяне стали почитать местных богов, и в наказание Яхве наслал на них эпидемию, от которой погибли 24 000 человек. Однако Финеес отвратил гнев Божий от народа, убив одного из грешников с его мадианитянской женой, и прославился как ревнитель Закона Божьего{64}. Возможно, именно этим Павел вдохновлялся, преследуя общину приверженцев Иисуса.
При этом он, похоже, не имел ничего против Двенадцати апостолов и иудейских последователей Иисуса, которые хранили верность отеческим традициям. Согласно Деяниям, они не отвергали веру, как Стефан, а ежедневно молились в Храме{65}. Более того, почтенный фарисей Гамалиил, по взглядам более либеральный, чем Павел, посоветовал Синедриону оставить христиан в покое: если это порождено человеческим умом, а не вдохновлено свыше, то само и иссякнет, подобно другим протестным движениям{66}.
Но «эллинисты» – ученики Иисуса покушались на все, чем дорожил Павел. К тому же он опасался, что почитание человека, недавно казненного римскими властями, ставит под угрозу всю еврейскую общину. Сам Павел не был лично знаком с Иисусом, но он бы ужаснулся, узнав, что тот осквернил Храм и считал заповеди Бога неравноценными по важности. В глазах такого убежденного фарисея, как Павел, еврей, не соблюдавший все заповеди без исключения, представлял опасность для всего народа: ведь Бог мог наказать за неверность так же сурово, как наказал древних израильтян во времена Моисея.
Но больше всего Павла возмущало учение о распятом Мессии{67}. Разве может осужденный преступник вернуть Израилю величие и свободу? Это же глупость, нечто несусветное. Тора предельно ясно говорит, что такой человек несет в себе скверну: «Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом повешенный, и не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел»{68}.
Да, ученики Иисуса говорили, что Иисус был похоронен в день казни. Однако Павел прекрасно знал, что большинству римских солдат нет дела до переживаний евреев, а потому они вполне могли оставить тело Иисуса на кресте на поживу стервятникам. Даже если Иисус был невиновен, он осквернял Землю Израилеву{69}. Вообразить, что его оскверненные останки были преображены, что Бог воскресил Иисуса и посадил его по правую руку от себя, было чудовищно, немыслимо и кощунственно. Такое учение – оскорбление достоинства Бога и его народа, лишь задерживающее долгожданный приход Мессии. А потому, думал Павел, секту нужно искоренить.
В побиении камнями Стефана Павел играл лишь пассивную роль. Однако, когда эллинисты продолжили распространять свои кощунственные идеи, он стал действовать агрессивнее: «…входил в дома и, влача мужчин и женщин, отдавал в темницу»{70}. Он не стеснялся использовать грубую силу и впоследствии напоминал своим последователям: «Я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее»{71}. Возможно, одних его жертв приговаривали к 39 ударам плетью в синагоге, других били или даже линчевали, подобно Стефану. В итоге грекоязычная община учеников Иисуса в Иерусалиме была уничтожена. Лука рассказывает: «В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме; и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии»{72}.
Тогда как говорящие на арамейском общины, сосредоточенные вокруг Двенадцати, остались невредимы, изгнанные эллинисты отправились в странствие и дошли «до Финикии, и Кипра, и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме иудеев»{73}.
Некоторые эллинисты развернули свою деятельность в синагогах Дамаска. Согласно Деяниям, Павел узнал об этом и, «еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа», выпросил у первосвященника разрешение арестовывать их и привозить в Иерусалим для наказания{74}. Однако крайне сомнительно, что первосвященник вмешивался в дела общин диаспоры. Скорее, Павла отправили в Дамаск особо ревностные фарисеи, желая обезопасить еврейскую общину в очень непростой ситуации{75}. Лет через 30, в начале иудейского восстания против Рима, всех дамасских евреев схватят по огульному обвинению в подстрекательстве к мятежу, сгонят в гимнасий, и за какой-нибудь час они будут убиты. Учение о том, что человек, претендовавший на мессианство и казненный римским наместником, воскрес и вскоре вернется и разделается со своими врагами, было чревато опасностями для всей общины{76}. Павел решил предотвратить грядущие бедствия, но по дороге в Дамаск с ним произошло нечто неожиданное{77}.
Как рассказывает Лука, когда Павел находился уже недалеко от города, внезапно его ослепил яркий свет с небес. Павел упал с лошади на землю и услышал голос, вопрошающий: «Савл, Савл! Что ты гонишь меня?» «Кто ты?» – спросил Павел. Голос ответил: «Я Иисус, которого ты гонишь», – и повелел Павлу идти в Дамаск, и «сказано будет тебе, что тебе надобно делать»{78}.
Лука отобразил самый главный аспект обращения Павла: внезапно тот осознал всю противоречивость своего положения. Впоследствии он попытается объяснить дилемму, с которой столкнулся в свою бытность несгибаемым фанатиком: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю»{79}. Павел всеми силами старался ускорить приход Мессии, это и было то «доброе», которое он пытался делать. Однако для него настал момент истины: он понял, что ученики Иисуса правы и гонения на их общину лишь препятствуют наступлению мессианской эпохи. Больше того, насильственные действия, которые он совершал, нарушали основные заповеди Торы: любовь к Богу и любовь к ближнему. В своем неумеренном радении о букве Закона он забыл строгое повеление Божье: «Не убий». Впоследствии он напишет в связи с этим такие строки: «По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего». Он восклицает: «Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти? Благодарю Бога моего…»{80} Открыв ему, что Иисус, замученный и оскверненный, обрел славу и воссел одесную Всевышнего, Бог тем самым избавил Павла от мучительного противоречия, и последующую жизнь тот провел, осмысляя посетившее его озарение. Оно было ошеломляющим, потому что оторвало Павла от всего, что прежде составляло содержание его существования, но в то же время и освобождающим.
В одном отношении Лука рассказывает о происшествии по дороге в Дамаск несколько иначе, чем Павел. В Деяниях он описывает случившееся как видение, используя иные слова, нежели те, которыми описывал встречи воскресшего Христа с учениками в Евангелии. Эти более ранние события Лука считал объективными физическими явлениями: Иисус ходил, разговаривал и ел, как и до распятия. А видение Павла носило совсем иной характер. Более того, Лука подчеркивает, что Павел не видел Иисуса (будучи ослеплен светом, он лишь слышал голос)! Одним словом, Лука не считает Павла очевидцем Воскресения в том смысле, в каком ими были Двенадцать апостолов. Но для самого Павла главным в пережитом было именно то, что он действительно видел Господа: Иисус явился к нему так же, как ранее явился Двенадцати{81}. Вокруг этого небесспорного утверждения нередко возникали дискуссии. Для Павла апостол – это человек, который видел воскресшего Христа. «Не апостол ли я? – вопрошал он. – Не видел ли я Господа?»{82} В послании к общине, основанной им в Коринфе, Павел рассказывает о том, что уже стало главным преданием в движении Иисуса, перечисляя, как после Пасхи Воскресший явился сначала Петру, потом Двенадцати ученикам, потом 500 с лишним братьям, потом Иакову, «а после всех явился и мне, как некоему извергу»{83}. При этом случившееся с ним не было обращением в обычном смысле слова: ведь Павел не переходил в другую религию. Он всю жизнь считал себя иудеем и в свете этого рассматривал и свое дамасское откровение: он был призван так, как некогда Исаия, и, подобно Иеремии, он был избран еще во чреве матери{84}.
Согласно Деяниям, Иисус являлся ученикам в течение 40 дней, после чего телесно вознесся на небеса. Видение Павла имело место после Вознесения, а значит, качественно отличалось от видений Двенадцати{85}. Однако Лука взялся за перо спустя десятилетия после случая под Дамаском. А когда Павел диктовал свои письма в 50-х гг., рассказы о встречах Иисуса с Двенадцатью апостолами еще не стали частью традиции. Павел ничего не знал о сорокадневном периоде и не воспринимал Вознесение как отдельный эпизод. В тот ранний период Воскресение и Вознесение сливались в единое целое: Бог воскресил Иисуса и немедленно переместил его тело в небесный мир. Так понимал ситуацию и Марк, первый евангелист, который писал свое Евангелие в конце 60-х гг. Согласно Евангелию от Марка, по окончании субботы и на третий день после распятия женщины отправились помазать тело Иисуса, но нашли гробницу пустой. «Он воскрес, – сообщил им ангел, – его здесь нет», – и женщины «побежали от гроба; их объял трепет и ужас». Заканчивается описание Марка загадочно: «…и никому ничего не сказали, потому что боялись»{86}.
Павел был мистиком. И это первый известный нам еврейский мистик, который рассказал о своем опыте. Ранний иудейский мистицизм далек от полной безмятежности практики йогов: визионер совершал восхождение к престолу Божьему сквозь небеса, а затем возвращался в человеческий мир с грозной вестью о грядущем божественном суде{87}. Как раз такое небесное путешествие Павел упоминает в другом письме к коринфянам, и есть гипотеза, что он имеет в виду все то же происшествие по дороге в Дамаск{88}. Однако у этой гипотезы есть критики. Они отмечают, что о своем восхождении до третьего неба Павел пишет осторожно, туманно и неопределенно, а о дамасской встрече с Иисусом в Послании к Галатам – прямо и открыто. А значит, речь идет о разных событиях{89}. Еврейские мистики, совершавшие экстатические путешествия, стимулировали видения долгой подготовкой: постились, часами сидели в специальной позе – голова между коленями и возносили хвалы Создателю{90}. Однако никакой подготовки к дамасскому видению не было. Оно совершилось внезапно и неожиданно.
Американский ученый Алан Сигал помогает нам понять, как первые последователи Иисуса осмысляли видения воскресшего Христа{91}. Физическое вознесение Иисуса имело свои прецеденты: считалось, что Адам, Енох, Моисей и Илия телесно были перенесены на небо; мистики видели, как они восседают там на золотых престолах. Когда пророк Иезекииль был в 597 г. до н. э. уведен в Вавилон, ему открылось видение Яхве, которое оставило глубокий след в мировосприятии иудеев. Он увидел, как Бог Израилев покидает Святую Землю, направляясь вместе с изгнанниками в военной колеснице, влекомой четырьмя странными животными. Высоко над их головами находилось нечто, не вписывающееся в обычные категории: «А над сводом, который над головами их, было подобие престола по виду как бы из камня сапфира; а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем». Оно было окружено огненным сиянием и светом, «такое было видение подобия славы Господней»{92}. Бога увидеть невозможно – это не в силах человеческих, – но можно узреть «славу» Божию: отблеск божественного присутствия, адаптированный к возможностям человеческого восприятия. В израильской традиции эта фигура, напоминавшая человека, иногда ассоциировалась с ангелом, который вел народ Израилев по пустыне в Землю Обетованную. «Слушай гласа его, – предупреждал тогда Бог, – ибо имя Мое в нем»{93}. Этот набор образов помог Павлу и Двенадцати апостолам понять пасхальное событие. Он также объясняет, почему их трактовка того, что произошло с Иисусом, столь широко и быстро была принята многими евреями в самом начале движения Иисуса.
В вознесшемся теле Иисуса, пребывающем на небесном троне, ученики увидели славу Бога: «Мы видели славу Его, славу как Единородного от Отца»{94}. В одном из посланий Павел цитирует очень ранний гимн, который ассоциировал воскресшего Иисуса Христа с «именем» и «славой» Всевышнего. Распятый Мессия дал человеку удивительную возможность хотя бы отчасти увидеть Бога. Но величие он обрел, «уничижив себя», сделав себя ничем, добровольно пойдя на смерть на кресте: «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы … всякий язык исповедал, что Господь [Кириос] Иисус Христос в славу Бога Отца»{95}.
Свою встречу с Иисусом под Дамаском Павел называет не видением, а «откровением» (апокалюпсисом){96}. Греческое слово апокалюпсис означает «раскрытие, проявление». Словно с реальности, которая все время была тут, но мы не видели ее, сорвали завесу. С глаз Павла будто спала пелена, и это дало ему совершенно новое понимание сущности Бога. Для Павла-фарисея Бог был абсолютно чист, свободен от всякой скверны. Подобно священнику, стоящему в присутствии Божьем в Храме, фарисей очищал себя, если имел физическое соприкосновение с трупом: ведь Бог, который есть сама жизнь, не может иметь ничего общего со смертным тлением. Но, когда Павел увидел, что Бог взял униженное и поруганное тело Иисуса и вознес его на небесные высоты, он понял: у Бога иная шкала ценностей. Этот подход предполагал начало нового отношения к людям. Человеку, казненному римским правосудием, Бог сказал: «Сиди одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих». Он воскресил труп, который Тора считала скверной и даже объектом проклятья, сказав: «Ты сын Мой, Я ныне родил тебя». А значит, старые правила больше не работали. Отныне кто пребывал высоко, а кто низко? Кто был близок к Богу, а кто далек от него?
Описывая дамасский инцидент своим ученикам в Галатии, Павел сказал: Бог «благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам»{97}. Увидев оскверненное тело Иисуса по правую руку от Бога, Павел понял, в чем заключается его миссия. Ранее он уехал в Святую Землю, поскольку считал, что языческий мир погряз в нечистоте. Вообще евреи часто считали другие народы нечистыми и аморальными. Но, воскресив Иисуса, Бог показал, что не придерживается этих земных мерок, но пребывает на стороне тех, кого правила и законы мира сего презирают и умаляют. У Бога нет любимчиков. И настало время принести языческим народам знание о Едином Боге.
2. Антиохия
О последующих 15 годах жизни Павла не известно почти ничего. Лука упоминает о них вскользь, да и сам Павел описывает в самых общих очертаниях (быть может, потому, что этот период завершился трагически и воспоминания были болезненны). Сразу после рассказа о видении под Дамаском он пишет: «Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию…»{98}
В этом послании Павел всячески подчеркивает свою независимость от Двенадцати и иерусалимской общины. Он всегда настаивал на том, что его миссия была поручена ему самим Христом и потому он не нуждался в одобрении иерусалимских лидеров движения. Судя по настойчивости, с которой он об этом говорит, его желание дистанцироваться от Двенадцати многими воспринималось как странное и даже подозрительное. Однако у Павла были веские основания полагать, что в Святом городе ему не обрадуются. Последователи Иисуса почти наверняка отнеслись бы к его внезапному обращению с недоверием, а бывшие собратья-фарисеи могли подвергнуть его репрессиям за «отступничество». Поэтому он немедленно отправился в языческий мир исполнять свою миссию.
Но почему именно Аравия, а не Пальмира или города Финикии? Для такого выбора были веские причины. Набатейское царство в землях юга Палестины (на территории современной Иордании и северо-запада Саудовской Аравии) было самым могущественным соседом Израиля. К моменту появления там Павла (33/34 г.), оно стяжало немалые богатства, контролируя торговые пути между Южной Аравией и Персидским заливом, по которым пряности, золото, жемчуг, редкие лекарства и другие предметы роскоши попадали в Средиземноморье. При царе Арете IV город Пéтра с его домами, выстроенными из красного песчаника, стал настоящим чудом. А поскольку в этом царстве жило много евреев, Павел, скорее всего, проповедовал в синагогах крупных набатейских городов «богобоязненным» язычникам: людям, которые восхищались иудейской верой, посещали богослужения, слушали Писание, но не прошли через долгий и трудный процесс полного обращения. Политические и экономические связи с Иудеей были налажены; арабы считались потомками Измаила, старшего сына Авраама от его рабыни Агари{99}. Таким образом, это были родственные племена, причем арабы, со своей стороны, считали себя членами Авраамова рода и делали сыновьям обрезание. Пророки Исаия и Иеремия предрекали, что в конце времен Набатея станет одним из народов, которые поклонятся Яхве в Иерусалиме{100}. Поэтому Павел вполне мог считать Аравию подходящим местом для начала миссии{101}.
Он ничего не рассказывает о своей деятельности там, и мы можем лишь строить догадки на сей счет. Должно быть, он немало времени проводил в размышлениях и молитве – дамасский опыт нуждался в осмыслении, и это подталкивает к предположениям насчет того, как именно повлияло на него пребывание в Аравии. Всю последующую жизнь Павел обеспечивал себя, работая руками{102}. Он, если основываться на словах Луки, занимался «деланием палаток» и был кожевником{103}. Впоследствии Мишна посоветует изучающим Тору совмещать штудии с овладением ремеслом. Поэтому многие исследователи предполагают, что Павел выучился этому занятию параллельно с учебой у Гамалиила, о которой упоминает Лука{104}. Однако о такой раввинской практике стало известно только в середине II в. А избранное Павлом ремесло было особенно востребовано именно в Аравии, где местных бедуинов называли «жителями палаток». И если Павел действительно учился ему в Аравии, он владел искусством разрезать кожу и сшивать куски так, чтобы полотно было водонепроницаемым, и каждый день проводил целые часы на скамье, склонясь над работой, так что его руки постепенно загрубели и покрылись мозолями, и это сказалось на почерке: буквы стали крупными{105}.
Ремесло позволяло Павлу сохранять экономическую независимость, а то и обеспечивало кров над головой{106}. Также оно сопутствовало его миссионерской деятельности. На многих полотнах великих живописцев мы видим, как Павел проповедует толпам в прекрасных колоннадах и величественных лекториях, но более правдоподобна иная картина: Павел ведет свой рассказ в мастерской. Изготовление палаток было тихим занятием, и Павел вполне мог сочетать его с беседой об Иисусе и Царстве с покупателями и другими ремесленниками. Вообще же мастерские зачастую располагались на агоре (рыночной площади) или в задней части магазина. У Павла не было времени на публичные лекции: почти все время съедала работа. «…Вы помните, братия, – написал он фессалоникийцам, – труд наш и изнурение: ночью и днем работая…»{107} Обычно ремесленник вставал до рассвета, чтобы по максимуму использовать светлое время суток. За исключением субботы, Павел трудился дни напролет, и, если ученики хотели повидать его, они должны были приходить к нему в мастерскую.
Немногие из апостолов обеспечивали себя, работая, и некоторые из противников Павла считали, что, примкнув к низшим слоям общества, он скомпрометировал Слово Божье. Однако после Дамаска Павел хотел преодолеть сословные границы. В отличие от многих учеников Иисуса, он изначально принадлежал к социальной элите и мог позволить себе недоступную простым людям роскошь полностью посвятить себя учебе. Во всех обществах до Нового времени высшие классы отличались от остальной части населения возможностью жить, не работая{108}. Историк культуры Торстейн Веблен объясняет, что в таких обществах «труд ассоциируется… со слабостью и подчинением». Для «благородного и свободнорожденного человека» работа была не только «постыдна … но и нравственно невозможна»{109}. Зачастую на ремесленников смотрели с презрением. И наверное, для Павла это было особенно тяжело: он привык к иному обращению. Однако, сознательно отказавшись от прежнего образа жизни и солидаризировавшись с простыми людьми, он практиковал каждодневный кеносис, или «самоуничижение», сродни тому, на которое пошел Иисус, когда «уничижил Себя Самого, приняв образ раба»{110}. Более того, Павел говорил, что, избрав физический труд, он по сути поработил себя{111}. Ведь это была тяжелая жизнь. По словам Павла, он и его работники проводили время «в трудах, в бдениях»{112} и терпели «голод, и жажду, и наготу и побои», «как сор для мира, как прах, всеми попираемый доныне»{113}.
Жизнь в Аравии могла также заставить Павла вновь задуматься о роли Авраама, что впоследствии отразилось в его толковании христианского учения{114}. Многие евреи считали, что гора Синай (где Бог дал Моисею Тору) находится на юге Набатеи. На Павла произвело глубокое впечатление то, что Синай расположен неподалеку от Хегры, второго по величине города Набатеи: возможно, Хегра была названа в честь Агари, Авраамовой наложницы. Отсюда у Павла возникла ассоциация Агари с Торой, а ее положение рабыни стало для него символом уз Закона Моисеева, от которых, как он считал, его освободил Христос{115}. Оглядываясь на свое прошлое ревностного фарисея, Павел считал, что находился в то время в рабстве у того, что он называл «грехом». Однако он не ставил знака равенства между Законом и грехом, нет, он настаивал на том, что Тора – «доброе», но при неукоснительном следовании заповедям раньше он был «пленником закона греховного, находящегося в членах моих»{116}. Он был рабом греха, ибо не мог делать то, что в глубине души считал правильным{117}.
Для Павла грех – это дьявольская сила, перед которой мы фактически беззащитны. Сегодня можно связать такое понятие «греха» с инстинктами, которые генерируются в гипоталамусе и унаследованы нами от предков-рептилий. Они помогли нашему виду сохраниться, заставляя нас бежать от опасности, бороться за территорию и статус, присваивать доступные ресурсы и производить потомство. В них «я» стоит на первом месте. Этим автоматическим, непосредственным и могущественным реакциям, пронизывающим всю нашу деятельность, включая религиозные верования, чрезвычайно сложно сопротивляться. Свое былое радение о Законе Павел считал пороком, ибо оно диктовалось эгоистическим шовинизмом, толкавшим его на то, чтобы нападать, преследовать и даже убивать еврейских собратьев во имя чести и достоинства своего народа.
Однако, если Агарь символизировала прошлое «я», ее муж, Авраам, знаменовал путь вперед. Согласно книге Бытия, Авраам некогда обошел всю землю, обещанную его потомкам{118}. Теперь, оказавшись в Аравии, Павел шел по следам Авраама. Было о чем задуматься! Задолго до дарования Торы Моисею на горе Синай Бог назвал Авраама праведным за его веру (пистис){119}. Еще до обрезания Авраама Бог обещал, что через него будут благословлены все народы на Земле{120}. Размышляя о своей миссии по обращению язычников, Павел действительно мог воспринимать Авраама как ключевую фигуру. Тот не был рожден иудеем, но стал родоначальником всего еврейского народа. А значит, в каком-то смысле был и иудеем, и язычником. Подобно Аврааму, Павел получил от Бога указание оставить прежний образ жизни и отправиться в чужие земли, он также был призван основать новую семью, в которую войдут и иудеи, и язычники{121}. Павел мог знать, что еще Иоанн Креститель призывал евреев не полагаться на происхождение от Авраама{122} и что сам Иисус предсказывал: когда установится Царство, язычники придут издалека и сядут за один стол с Авраамом, Исааком и Иаковом{123}. Все это предвосхищало проповедь Павла в языческом мире, через которую суждено было исполниться обещаниям, данным Богом Аврааму.
Однако Павел оказался в Аравии не в лучший момент. В 34 г. Ирод Антипа вторгся на территорию Набатеи и основал к югу от Мертвого моря израильский анклав. Но царь Арета неожиданно атаковал иродианских наемников и уничтожил их. Антипа же впоследствии впал в немилость в Риме и был сослан в галльский город Лугдун (нынешний Лион). Многие евреи усмотрели в этом возмездие свыше за казнь Иоанна Крестителя, а ученики Иисуса – еще и предзнаменование скорого прихода Царства. По-видимому, в результате политических передряг Павлу пришлось вернуться в Дамаск, где его радикальная проповедь привлекла внимание царя Ареты, ставшего отныне ставленником Рима в регионе. Павел был вынужден бежать, спасая свою жизнь. Друзья помогли ему выбраться из города, спустив по городской стене в корзине{124}.
Оказавшись в безопасности, Павел провел две недели в Иерусалиме, став гостем Петра. Он не афишировал (а может, и скрывал) свой приезд, ибо мог опасаться мести со стороны бывших жертв и бывших соратников. Поэтому вел себя очень тихо: «Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня»{125}. В то время Петр еще оставался бесспорным лидером иерусалимской общины, но Иаков, возможно, возглавлял консервативное крыло Иисусова движения, которое более ревностно соблюдало Тору. Интересно было бы узнать, о чем они разговаривали. Без сомнения, Петру было что рассказать об Иисусе, а Павел мог поделиться своими размышлениями о роли Авраама. Как единственный мыслитель в движении Павел мог очень страстно проповедовать свои идеи и сильно повлиять на Петра, который впоследствии разделил некоторые из них{126}.
Через две недели Павел уехал в диаспору и не возвращался в Иерусалим 14 лет. Он попал в Киликию, но о его миссии в этих краях ничего не известно{127}. Возможно, он продолжал, по примеру Авраама, обходить Землю Обетованную: следовал вдоль Средиземноморского побережья, затем в районе Таврских гор повернул к востоку и достиг реки Евфрат{128}. Согласно еврейской топографии, по ту сторону Таврских гор находилась территория, после потопа отведенная Иафету, младшему сыну Ноя. Однажды Павел посетит эту чужеземную страну, но пока он предпочел остаться в землях Сима, старшего сына Ноя и предка семитских народов{129}. Возможно, в Киликии он основал некоторые общины, но прямых указаний на это нет. Затем, приблизительно в 40 г., его пригласили в Антиохию, третий по величине город Восточной империи.
Согласно Деяниям, в Антиохии христианское движение делало большие успехи: проповедь эллинистов, изгнанных из Иерусалима, привлекла массу «богобоязненных» язычников, коих в этом городе было множество{130}. В отличие от Рима и Иерусалима, Антиохия не имела еврейского квартала: общины были разбросаны по всему городу. Антиохийцы живо интересовались религией, многих тянуло к иудаизму, и, приходя на собрания паствы Мессии, они чувствовали себя там как дома. В их местной традиции присутствовало «пребывание в Боге»» (энтеос), поэтому им нравились шумные и восторженные собрания последователей Иисуса, где под воздействием Духа «говорили языками», наблюдали видения, впадали в экстаз и изрекали пророчества. Кроме того, новообращенные ощущали: после крещения их воспринимают как полноправных членов общин, а не как людей второго сорта, какими они оставались в обычных синагогах.
Когда новости об этих обращениях достигли Иерусалима, Двенадцать апостолов были заинтригованы, но сочли уместным проявить осторожность. Петр и сам крестил «богобоязненных», не требуя от них обрезания, но не в таких огромных количествах. Не очередной ли это знак близости Царства? Предсказывали же пророки, что в последние дни язычники со всего мира наконец признают Бога Израилева. Но насколько истинна вера этих сирийцев? Не осквернена ли она прежними идолопоклонническими обычаями? И когда они пророчествуют и говорят языками, действительно ли их ведет Дух или сказывается связь с местными богами? Насколько евреям допустимо жить и молиться вместе с необрезанными язычниками? О каких совместных трапезах между язычниками и благочестивыми иудеями можно говорить, если язычники не соблюдают пищевых запретов? Чтобы разобраться в ситуации, Двенадцать отрядили в Антиохию Варнаву: кипрский еврей, владевший арамейским и греческим языками, он принадлежал обоим мирам{131}. Как представитель диаспоры он знал, что смешанные общины евреев и язычников за пределами Иудеи не редкость. Более того, синагоги диаспоры часто просили «богобоязненных» язычников не становиться полными прозелитами, ибо слишком большое число новообращенных встревожило бы римские власти{132}. Но, прибыв в Антиохию, Варнава, видимо, понял: верующим из язычников необходимо более тщательно изучить еврейское Священное Писание и идеальной кандидатурой на роль учителя был бы Павел, образованный фарисей. Поэтому, сообщает Лука, Варнава «пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию»{133}.
И снова Павел появился на сцене в непростой и даже опасный момент. Годом раньше император Калигула, объявивший себя по восшествии на престол богом, повелел водрузить свою статую в иерусалимском Храме. Для этого в Палестину был послан Петроний, наместник Антиохии. Однако, прибыв в порт Птолемаиды, он увидел, что на равнине возле города собрались тысячи еврейских крестьян и горожан: все они протестовали против императорского указа и заявили, что, если в Храм внесут идола, не будут собирать урожай. А это, сообщил Петроний императору, чревато невыплатой ежегодной подати. Возникла тупиковая ситуация, вызвавшая большое недовольство в Антиохии, где Калигула был очень популярен. В этом городе умер Германик, отец Калигулы, любимый в народе. И когда в 37 г. Антиохия сильно пострадала от землетрясения, Калигула финансировал ее восстановление. Соответственно, после известий о конфликте Петрония с евреями в городе начались волнения: многие синагоги были разрушены и многие представители диаспоры погибли. Через год после прибытия Павла в Антиохию Калигула был убит, и тут восстали евреи Александрии и Антиохии. Новый император Клавдий (правил в 41–54 гг.) подавил мятежи, но подтвердил традиционные права евреев, и шаткий мир был восстановлен.
По сообщению Луки, именно в Антиохии учеников Иисуса прозвали «христианами»{134}. Возможно, в ходе волнений после гибели Калигулы имперские чиновники Антиохии стали называть евреев, почитавших Мессию, которого распял Пилат, христианами, чтобы отличить их от иродиан – евреев, связывавших грядущее благополучие Израиля с Иродом Агриппой, новым царем Иудеи и ставленником Рима{135}. Таким образом, христиане уже могли восприниматься как потенциальные диссиденты.
Без сомнения, Павел не мог не возмущаться притязаниями Калигулы на божественность. И его беспокоил культ императора в Антиохии: жители приносили жертвы Юлию Цезарю и богине Роме еще со времен Августа, а император Тиберий (правил в 14–37 гг.) претендовал на божественные почести для себя и своего брата Друза. Однако, по-видимому, Павел советовал христианам не участвовать в волнениях, последовавших за смертью Калигулы. Он всегда говорил ученикам, что они должны «жить тихо», пока Мессия не вернется и не установит свое Царство. А это, как он надеялся, должно было произойти еще на его веку{136}.
Прибыв в Антиохию, он целый год трудился с Варнавой над созданием прочной общины. В Антиохии, в отличие от Иерусалима, оба они считались полноправными апостолами, не уступающими Двенадцати: Варнава – поскольку был членом движения с самого начала, а Павел – из-за откровения под Дамаском{137}. В Антиохии Павел не вводил новшества, но сохранял порядки, введенные Двенадцатью на заре движения. Крещение осталось обрядом инициации. В этом экспериментальном сообществе иудеев и язычников крещальный возглас, которым приветствовали каждого нового члена по выходе из купели, обретал особой смысл: «Больше нет ни иудея, ни язычника; ни раба, ни свободного; ни мужского пола, ни женского!»{138}
Эту позицию, возможно, разделял и сам Иисус. Эллинисты же, пришедшие в Антиохию с благовестием, давно подчеркивали универсализм, присущий иудейскому монотеизму. В диаспоре вопрос об обрезании обращенных язычников был менее животрепещущим, чем на еврейской родине{139}.
Павел также перенял у Двенадцати традицию вечери Господней; его описание этого события в точности соответствует Евангелию от Марка, древнейшему из известных нам Евангелий{140}. Это была настоящая трапеза, и участники ее ели вволю, но это было также и «поминовение»: хлеб и вино освящались, как во время последней трапезы Иисуса с Двенадцатью, – и таким образом вечеря ритуально воспроизводила смерть Христа. Однако, поскольку поклонение было сосредоточено уже не на Торе, а на Мессии, это, как и восторженные проявления Святого Духа, шло вразрез с иудейским обычаем{141}. Все лидеры движения в Антиохии, включая Павла, были не только учителями, но и пророками{142}. Обдумывая ситуации в общинах, они постились и молились, подобно другим еврейским мистикам, – возможно, поместив голову между коленей, – и ждали наития свыше{143}. Дух проявлялся в даре языков, вдохновенных речах и исцелениях. Это показывало, что божественная сила, возможная благодаря прославлению Иисуса, активно действует в мире{144}.
Антиохийская община направляла миссии на Кипр, в Памфилию и Южную Галатию. Участвовал ли в них Павел, неизвестно. Рассказ Луки о так называемом «первом апостольском путешествии» Павла во многом похож на легенду и исторически недостоверен{145}. Сообщение о том, как Сергий Павел, проконсул Кипра, воспринял Слово Божье, очень уж резко контрастирует с упоминанием местных еврейских общин, которые «исполнились зависти и, противореча и злословя, сопротивлялись», – эта предвзятость отражает постоянное стремление Луки отделить христианское движение от иудаизма{146}. Но в то же время эти рассказы дают представление о силе той проповеди, которую несли с собой неизвестные миссионеры по мере того, как движение постепенно распространялось из Антиохии на окружающие регионы{147}.
Если горизонты антиохийской общины расширялись, иерусалимская община, руководимая Двенадцатью, все больше погружалась в местные заботы: в Земле Израильской объявился новый Мессия{148}. В 41 г. Калигула провозгласил Ирода Агриппу, воспитанного при дворе императора в Риме, царем земель в верховьях Иордана. Это был первый случай после Ирода Великого, когда иудей получил царский титул. По пути на восток его радостно приветствовали александрийские евреи, а когда он прибыл в Иерусалим, его мессианство было подтверждено новыми милостями со стороны императора: Калигула даровал ему Галилею и Перею, которыми некогда правил его дядя Антипа. Чуть позже Клавдий в благодарность за поддержку после убийства Калигулы добавил к его владениям Иудею и Самарию. В результате Агриппа стал царем всей Земли Израильской и важнейшим ставленником Рима в этом регионе.
Агриппа любил свой народ и стремился завоевать популярность, участвуя в храмовом культе. Впоследствии в Мишне раввины вспомнят, как эмоционально читал он Тору под конец праздника Кущей. Дойдя до Моисеева описания того, каким должен быть праведный царь, – этот текст, как считалось, относился к Мессии – Агриппа прослезился и запнулся на словах: «Из среды братьев твоих поставь над собою царя; не можешь поставить над собою иноземца, который не брат тебе»{149}. Как мог он, Агриппа, чьи предки происходили из Идумеи, называться царем Израиля? Но из толпы крикнули: «Не бойся, Агриппа, ты брат наш!»{150}
Однако для последователей Иисуса Агриппа был ложным Мессией, и потому он начал гонения на их лидеров. Сначала он обезглавил Иакова, брата Иоанна, который был вторым человеком в общине после Петра{151}. Затем, как рассказывает Лука, увидев, что иерусалимская знать одобрила казнь Иакова, Агриппа арестовал Петра{152}. Судя по всему, для него было крайне важно, как отреагируют на его действия, и он стремился добиться расположения высшего духовенства, которое давно раздражал и сам Иисус, и его последователи{153}. Но Петр, сообщает Лука, чудесным образом спасся из тюрьмы и бежал из города{154}. Впоследствии он вернется в Иерусалим, но пока ему пришлось оставить руководство общиной, и после этого происшествия мы больше не слышим о Двенадцати апостолах: возможно, им всем пришлось отправиться в изгнание.
Новым главой иерусалимской общины стал Иаков, брат Иисуса, которому удалось укрепить ее положение в городе. Известный как цадик (праведник), он глубоко почитал Храм. Христианский историк Егесипп (ок. 110 – ок. 180) описывает, как он ходил по городу в льняных одеждах, словно священник, и совершал в храмовых пределах особую церемонию, напоминавшую обряды Йом-Киппура. «Его находили стоящим на коленях и молящимся о прощении всего народа; колени его стали мозолистыми, словно у верблюда»{155}.
Возможно, подобно кумранскому Учителю праведности, Иаков стремился создать альтернативное духовенство, которое должно было прийти на смену священникам-аристократам, потворствовавшим имперским властям и позволявшим Агриппе осквернять священные пределы своими претензиями на мессианство{156}.
В конце концов Агриппа зашел слишком далеко и утратил благосклонность Рима. Во время же своего последнего приезда в Кесарию он вышел к народу, одетый в роскошный плащ, отделанный серебром. Его появление вызвало такое восхищение, что толпа ахнула: «Это голос Бога, а не человека!» Но тут, рассказывает Лука, ангел Господень поразил его за высокомерие, и Агриппа скоропостижно скончался{157}.
Его сын Агриппа II был еще несовершеннолетним, и этими землями вновь стали править римские прокураторы. Восстановление прямого римского владычества было серьезным ударом, и Иаков мог прийти к выводу, что Царство Божие наступит, только когда Израиль очистится. Он мог также неукоснительным соблюдением Торы, что было популярно среди многих иудейских последователей Иисуса, желать сблизиться с фарисеями, которые возглавляли сопротивление Риму. Ведь как бы ни относились первые христиане к Иисусу, Тора, освященная многовековой традицией, обладала незыблемым авторитетом и мистической силой{158}. Следование традиционным предписаниям, таким как обрезание и соблюдение пищевых запретов, считалось важным не только потому, что евреи желали держаться особняком от других народов: скорее, это символизировало священное служение Израиля Богу в повседневной жизни так же, как в религиозной. В I в. иудеи помнили, что именно благодаря этой отдельной «святой» (кадош) жизни их предки сохранили национальную идентичность в долгие годы вавилонского плена. Они четко знали, что за священные законы погибали Маккавеи, сражавшиеся против селевкидского царя Антиоха Епифана (правил в 175–164 гг. до н. э.), который запретил обрезание и соблюдение субботы. И также они знали, что Антиоха поддерживали евреи-отступники, полагавшее, что обрезание более не имеет значения. Восстание Маккавеев (в 168–143 гг. до н. э.) избавило иудеев от Селевкидов, и многие верили: тщательно соблюдая Тору, еврейский народ сможет вновь спастись от имперского владычества. Особенно ревностно отстаивали традицию язычники, полностью обратившиеся в иудаизм и совершившие болезненный ритуал обрезания. Ведь соблюдение законов избавило их от положения изгоев, и они резко негативно воспринимали любые попытки умалить значимость этих установлений. Прозелиты, примкнувшие к движению Иисуса, принесли такие настроения с собой в общину. Они были убеждены, что лишь строгое следование религиозным предписаниям ускорит возвращение Мессии.
Именно такие люди, видимо, были среди прибывших в Антиохию из Иудеи в конце 40-х гг. Как рассказывает Лука, они «учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись»{159}. У приехавших нашлись сторонники в Антиохии, но Павел с Варнавой дали им решительный отпор. К этому моменту Павел уже не один год жил и работал с язычниками и был убежден: преображение, связанное с жизнью «во Христе», не имеет отношения к установлениям Торы. Павел не отвергал Тору и по-прежнему считал, что этические заповеди могут послужить ценным нравственным ориентиром для человечества. Однако, по его мнению, со смертью и воскресением Мессии мир изменился: Тора утратила былое значение{160}. Снова и снова он убеждался: новообращенные из язычников, которые никогда не соблюдали Закон, обретают дары Духа в той же мере, что и ученики Иисуса из иудеев. Однако некоторые иудеи-христиане считали его отступником. Возможно, они поддерживали обращение язычников, но настаивали: если те хотят войти в общину Мессии, то должны стать иудеями в полном смысле слова. Эти верующие относились к смешанным, состоящим из иудеев и язычников, общинам Павла с большим сомнением: разве могут иудеи жить, есть и вступать в брак с язычниками, не нарушая основные заповеди Торы и не изменяя многовековой отеческой традиции?
В своих посланиях Павел не упоминает о приезде этих критически настроенных иудеев в Антиохию. И ничто не указывает на то, что они были посланы лидерами иерусалимской общины: Лука и Павел ясно дают понять, что воззрения подобных консерваторов отличались от взглядов Иакова, Петра и Иоанна – «столпов» движения в Иудее. Возможно, они приехали из диаспоры, чтобы самостоятельно изучить обстановку и убедить Иакова: несмотря на положительные отзывы Варнавы, такие вольности не совместимы с иудаизмом и отсрочивают возвращение Мессии и наступление Царства.
Лука сообщает, что Павел и Варнава вели ожесточенные споры с этими приезжими, и в результате руководители антиохийской общины поручили Павлу и Варнаве возглавить делегацию в Иерусалим: пусть «столпы» выскажут свое мнение…
Делегация прибыла в город в конце 48 или начале 49 г.{161} О последующей встрече у нас есть два разных отчета. Возможно, Лука не вполне уяснил ситуацию: у него получается, что антиохийцы искали одобрения «столпов». Однако Павел, единственный известный нам очевидец, настаивает в Послании к Галатам, что это была встреча равных: участники совместно искали разумное решение проблемы, чреватой расколом движения. Лука с его постоянным желанием утвердить авторитет Двенадцати описывает встречу в Иерусалиме как официальный церковный собор, в ходе которого произносились торжественные речи. Под конец, сообщает он, Иаков вынес авторитетное заключение, которое историки называют «Апостольским декретом». У Павла описана несколько иная картина: он и его спутники просто побеседовали со «столпами»: Иаковом, Кифой и Иоанном{162}. Павел начал разговор с того, что рассказал об успехах языческой миссии в надежде убедить «столпов»: то, что происходит в Антиохии, находится в полном соответствии с идеалами движения Иисуса{163}.
К несчастью, сообщает Павел, их общению мешали: «вкравшимся лжебратиям, скрытно приходившим подсмотреть за нашею свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе…»{164} Павел и Варнава привели в Иерусалим Тита, одного из греческих обращенных: пусть «столпы» увидят, что верующие из язычников ведомы тем же духом, что и иудейские ученики Иисуса. Конечно, Павел понимал, что присутствие Тита заострит проблемы. И ожидания его не обманули: ригористы потребовали немедленного обрезания Тита. Однако доводы Павла были столь убедительны, а духовность Тита была столь подлинной, что «столпы» не стали навязывать обрезание. Павел подчеркивает: «Они не возложили на меня ничего более, напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо Содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников… подали мне и Варнаве руку общения…»{165}
Павел, Варнава и «столпы» пожали друг другу руки и заключили соглашение, в котором было два пункта. Во-первых, миссионерская деятельность Петра среди иудеев и Павла среди язычников были признаны равно значимыми. От язычников не требовалось совершать обрезание и соблюдать иудейские обычаи{166}. Во-вторых, общины диаспоры должны были «помнить нищих». Относительно последнего Павел замечает: «…что и старался я исполнять в точности»{167}.
В последующие годы второе условие обретет для Павла новый смысл, хотя первоначально могло лишь напоминать о важности служения бедным и обездоленным, чему учил и Иисус{168}. Однако оно могло иметь и другое значение. Еще со времен Маккавеев те евреи, кто считал себя подлинными иудеями – скрывающимися, угнетаемыми и гонимыми, остатком последнего времени, – именовали себя «неимущими» (евр. эвйоним){169}. Так говорили о себе и кумраниты, и Иисусова община в Иерусалиме. Соответственно, слово «неимущие» было синонимом слов «добродетельные» и «праведные», и Иаков Праведный, постоянно молившийся за грешников Израиля, выражал глубоко иудейское благоговение перед «эвйоним», которые жили в сердце Святого Города{170}. Таким образом «столпы» могли просить верующих диаспоры помнить о том, какую важную роль играли нищие и неимущие в разворачивающейся эсхатологической драме: им предстояло быть в Иерусалиме и встретить Мессию, когда он вернется. И Павел легко откликнулся на просьбу: считая Иерусалим историческим центром движения, он пообещал донести это до новообращенных язычников.
Однако проблема обрезания и тщательного соблюдения Торы не ушла с повестки дня. Иерусалимская встреча закончилась для Павла хорошо, но рассказ его наполнен горечью и попытками оправдаться. Возможно, его противники оказали давление на Иакова, и тяжелые споры продолжились после ухода антиохийцев из города. Вскоре Иаков решил-таки возложить на языческих последователей Иисуса дополнительные обязательства. Возможно, это дополнение отражено в «Апостольском декрете», который цитирует Лука. Иаков известил всех языческих членов движения: «…угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого: воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда»{171}.
Это решение вполне могло быть компромиссным, призванным умиротворить консервативных верующих, однако у него был существенный недостаток: оно было основано на установлениях Книги Левит, где эти пищевые запреты предписывались не только израильтянам, но и «пришельцам» (герим), живущим среди них{172}. А это открывало лазейку для критиков Павла: если языческие последователи Иисуса проходят по категории «пришельцев», их нельзя считать детьми Авраама. И если евреи будут вкушать вечерю Господню с необрезанными язычниками, не соблюдающими Тору, они и сами нарушат Закон.
Конфликт достиг кульминации в Антиохии. Туда пришел Петр, и, по рассказам Павла, поначалу участвовал в общих трапезах с языческими верующими, но после прихода посланцев Иакова устранился, опасаясь обрезанных. Пример оказался заразителен, и в итоге Павел остался единственным иудеем в антиохийской общине, сидящим за одним столом со своими языческими братьями и сестрами. Как он с горечью напишет галатам, «даже Варнава был увлечен их лицемерием». Это был самый болезненный разрыв в его жизни, и, быть может, неслучайно он впоследствии не любил вспоминать антиохийскую эпопею.
При всей общине Павел гневно упрекнул Петра в измене принципам. Его позиция была такова: когда он, Павел, допускает язычников к вечере Господней, он не делает ничего нового. Это соответствует «истине евангельской», подтвержденной недавно в Иерусалиме. Сам Иисус учил, что мессианский пир открыт для всех. Иаков же изменил правила и предал крещальное утверждение: «Нет уже Иудея, ни язычника!»{173}
Павел страстно верил: Царство не придет до тех пор, пока язычники – исполненные Святого Духа – не будут молиться вместе со своими иудейскими братьями и сестрами на свой лад{174}. Ведь сказал Бог пророку Исаие: «Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу: „Господь совсем отделил меня от Своего народа“… Я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы… ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов»{175}.
Именно эти слова процитировал Иисус, изгоняя менял из Храма. Да, обновление Израиля, столь дорогое сердцу Иакова, важно. Однако Иаков забыл слова Всевышнего: «…мало того, что ты будешь рабом Моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось до концов земли»{176}.
Вскоре после конфликта в Антиохии произошло разделение. Опечаленный, оскорбленный, с ощущением, что его миссия не удалась, Павел порвал с Варнавой. Вместе с Силой, одним из пророков антиохийской общины, он отправился с миссией к «концам земли». Теперь он был уверен, что только он сохранил верность Слову Божью, однако его иудейские соратники считали, что это их предали: им казалось, что он изменил соглашению, достигнутому в Иерусалиме. С тех пор многие верующие будут относиться к Павлу с подозрением. Критики будут отрицать, что он вправе называться апостолом, упрекать его в отступничестве, высмеивать его богословские взгляды и даже манеру проповедовать. Все это ускорит кончину Павла.
3. Земля Иафета
Доселе Павел проповедовал язычникам на территории, которую евреи считали владениями Сима[1], и шел легендарным путем Авраама по Земле Обетованной. Теперь же он решил отправиться за Таврские горы и принести Слово Божие в земли Иафета, прародителя греков, македонян, фригийцев и анатолийцев. Иаков и его сторонники полагали, что Павел отвернулся от иудаизма, однако сам Павел никогда не забывал о своем происхождении. На пути в чужие земли его сопровождал Сила, арамеоязычный еврей из Иудеи, чье присутствие служило символическим напоминанием об исторических корнях движения. В Листре к ним присоединился молодой человек по имени Тимофей, сын еврейки и грека. Поскольку по Закону он был евреем, Павел, как рассказывает Лука, сделал ему перед началом путешествия обрезание «ради иудеев, находившихся в тех местах»{177}. Сложно сказать, насколько эта информация достоверна. Лука пытается показать, что, невзирая на спор в Антиохии, Павел стремился продемонстрировать свое уважение к миссии Петра среди иудеев. Впоследствии некоторые иудейские верующие обвиняли Павла в том, что он учит евреев диаспоры отступничеству от Моисея, «говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям»{178}. Однако Лука считает такие обвинения поклепом.
В Листре Павел и его спутники не проповедовали: там уже побывали прежде миссионеры из Антиохии. Павел принципиально не проповедовал на территориях других апостолов – любезность, которой его оппоненты ему не оказывали. В науке нет единого мнения относительно того, куда отправились путники от Таврских гор. В своих посланиях Павел не пишет об этом. Есть мнение, что они пошли на северо-запад к Эгейскому морю. Однако более вероятен другой вариант: они отправились к северу, в нагорные деревни Галатии. Здесь места были и вовсе незнакомые: в отличие от Киликии и Сирии, еврейские общины можно было перечесть по пальцам, и иудеи редко совершали далекие путешествия в эту дикую часть Малой Азии. Возможно, Павел и не планировал тут миссионерствовать – согласно Деяниям, Дух повелел им не проповедовать в Азии{179}, – но заболел и не смог идти дальше. Впоследствии он напомнит галатийским ученикам, с какой добротой они его приняли: «Хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как Ангела Божия, как Христа Иисуса»{180}.
Посылая учеников в галилейские селения, Иисус учил: если они стучатся в дверь с просьбой о гостеприимстве и на эту просьбу отвечают – Царство Божие уже наступает. Впервые оказавшись в чужих ему землях Иафета, Павел на собственном опыте узнал, как это бывает.
Сложно сказать, чему он учил язычников. В своих посланиях он затрагивает преимущественно вопросы тех или иных конкретных общин, поэтому о его устной проповеди сведения весьма скудны. Похоже, слушатели не всегда его понимали. Коммуникацию осложняло то обстоятельство, что теперь Павел общался с людьми, у которых были совершенно иные культурные предпосылки и ожидания. И все же ему удалось блестяще адаптировать ключевые идеи благовестия к традициям и занятиям слушателей. По ходу дела образ Иисуса менялся, обретая в каждом регионе новые черты. Вообще чем глубже Павел погружался в языческий мир, тем дальше становился его Христос от исторического Иисуса, жизнь которого интересовала Павла не в первую очередь. Намного важнее для него были его смерть и воскресение – события космического масштаба, изменившие историю и судьбы всех народов, независимо от верований и этнического происхождения. Своим ученикам Павел обещал: если они будут повторять кеносис Иисуса, то переживут духовное воскресение, а с ним обретут новую свободу{181}. Мессия, учил он галатов, «отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего»{182}.
Свое дамасское видение Павел воспринимал как освобождение от разрушительной и вызывающей рознь власти «греха». И именно свобода было темой его проповеди среди галатов, которые очень отличались от галилейских иудеев, слушавших учение Иисуса. Они были индоевропейским народом – галлами, чей язык был близок к валлийскому и гаэльскому. В начале III в. до н. э. они переселились из Европы на территорию на северо-западе современной Турции{183}. Будучи воинами, они становились наемниками, пока, наконец, не перешли к оседлому образу жизни. Их земледельческие общины управлялись выборными собраниями, а на шумных пирах они вспоминали подвиги древних героев, похожих на те, что описаны в англосаксонской эпической поэме «Беовульф». Они почитали суровую и справедливую Богиню-Мать, иногда отождествляя ее с высокой горой. В ее главных культовых центрах молодые люди подчас кастрировали себя в ходе оргиастических ритуалов. Что же общего могли иметь эти дикие кельты с Иисусом и его иудейскими последователями?
Однако Павел быстро понял: подобно жителям Иудеи и Галилеи, галаты были завоеваны Римом недавно и еще не смирились с этим. Рим захватил этот регион в 25 г. до н. э., и он стал провинцией Галатия, управляемой римским префектом и его военным гарнизоном. Как и в Галилее, галаты вынуждены были наблюдать, как на их землях появляются огромные сельскохозяйственные наделы, принадлежащие всегда отсутствующим землевладельцам. Зерно, выращенное на этих участках, питало экономику Рима. Постепенно была романизирована и культура галатов, а в пантеон проникли греко-римские боги. От галатов требовалось участие в культе императора: это было знаком верноподданичества. Излишки сельскохозяйственной продукции насильно отбирала в пользу Рима местная знать. Бывшие воины, как и большинство жителей аграрных государств, влачили жалкое и полуголодное существование, завися от сборщиков податей и надсмотрщиков. Отважный и героический народ теперь жил единственно ради того, чтобы обеспечивать налоговые поступления – бесперебойный поток зерна в имперскую столицу. Как и в Галилее и Иудее, невыплата подати была чревата серьезными последствиями: люди все больше запутывались в долгах, а в итоге были вынуждены либо продавать родовую землю, либо поручаться отдавать часть будущих урожаев. Все это было уже знакомо Павлу, когда примерно в конце 49 г. он появился в Галатии. Судя по более позднему Посланию к Галатам, он призывал их отвергнуть рабские привычки и дух покорности, а также греко-римскую религию поработителей, поддерживавшую имперское устройство: «Стойте в свободе… и не подвергайтесь опять игу рабства»{184}.
Представления Павла о Христе уходили корнями в иудейскую апокалиптическую традицию, которая развилась в Израиле после Маккавейских войн. Селевкидский царь Антиох Епифан попытался искоренить иудейство, и в ответ книжники, мистики и поэты разработали мистическую духовность сопротивления имперской культуре{185}. Небесные путешествия и видения космической катастрофы, практиковавшиеся мистиками, не были только лишь фантазиями: они содержали резкую критику имперских амбиций. Более того, они укрепляли в визионерах уверенность в том, что час свободы настанет, если они будут усиленно молиться о поражении угнетателей и избавлении Израиля. Они почитали мучеников, сложивших голову за священные традиции, и верили: эти мученики либо восстанут вместе со всеми во время всеобщего воскресения, либо будут вознесены Богом на небеса.
Фарисей Павел также был визионером, но в его дамасском откровении было два важных отличия от традиционной эсхатологии. Во-первых, Павел был убежден, что смертью Иисуса Бог уже вмешался в ход истории, а с воскресения Иисуса началось всеобщее воскресение. А во-вторых, Господь спасет не только Израиль, но и все человечество. Так исполнится древнее обетование, согласно которому в Аврааме благословятся все племена земные.
Когда примерно через четыре года после проповеди в этих краях Павел писал Послание к Галатам, он исходил из того, что его адресаты знают историю Авраама, а значит, он говорил о ней в проповедях{186}. Однако он также использовал язык имперской пропаганды, только переворачивал все вверх ногами. Наиболее впечатляющим было использование слова эуангелион, что значит «благовестие»: радостную весть о спасении человеческого рода от греха Бог возвестил миру, когда воскресил Иисуса и сделал его Мессией{187}. При этом по всей империи в надписях, на монетах и во время публичных церемоний возвещалось иное благовестие: Август, «спаситель» (сотэр), установил «мир [эйрене] и безопасность [асфалейа]». Но торчащие повсюду кресты с телами мятежников, изуродованными и растерзанными стервятниками, не давали забыть, что римский мир держится на жестокости и насилии. «Благовестие» Павла сделало распятого Спасителя символом скорого освобождения от «настоящего лукавого века».
Впоследствии Павел будет вспоминать случаи неожиданных исцелений, изгнания нечистой силы и говорения языками, которые начались в Галатии, когда он принес туда благую весть{188}. Святой дух давал галатам смелость следовать идеалам свободы{189}. Павел всегда будет помнить, какая страстная убежденность звучала в их восклицании после крещения, когда «Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: „Авва, Отче!“». Греческий глагол крадзейн («кричать») предполагает бурное и непосредственное проявление радости. Из крещальных вод люди выходили с убеждением, что отныне они не рабы, но сыны и наследники обетования, данного Богом Аврааму{190}.
В то время, когда Павел находился в Галатии, римская культура начинала проникать в сельские районы Малой Азии. Подобно любым колонизированным народам, крестьяне Галатии переживали тягостную утрату идентичности, которая сопутствует насильственной аккультурации{191}. Римляне верили, что боги поставили их править миром и нести цивилизацию варварским народам, с которыми, однако, невозможно общаться на равных. Такая двойственность был одним из стереотипов древнего мира. Другим его проявлением было представление иудеев о моральной ущербности «народов» (гойим), сыгравшее столь деструктивную роль в Антиохии. Поэтому учение Павла о том, что презиравшиеся «народы» должны обрести полное равенство с иудеями, бросало вызов фундаментальным социальным нормам{192}. Однако, наблюдая за процессом романизации, некоторые галаты стали положительно смотреть на присоединение к Израилю, к народу, имевшему свой статус в империи: это позволило бы им дистанцироваться от Рима. Они не поняли, что Павел настаивал на более радикальных переменах{193}. Впоследствии он напомнит им в своем послании, что Крест упраздняет старые национальные, социальные и культурные барьеры, отличавшие нынешний злой век: «…все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе»{194}.
Чтобы Царство Божие стало реальностью, это должно было не оставаться на уровне эмоций, а получить трезвое и практическое воплощение в повседневной жизни. Галатам следовало освободиться от низкопоклонства и национальных предрассудков, создав альтернативное сообщество, основанное на равенстве. Такое сообщество и воплощало бы собой то, что Павел считал жизнью «во Христе». Он назовет эти общины «собраниями» (экклесиа) как некий вызов официальным экклесиям местной знати, правившей провинциями от лица Рима. Также это слово могло напоминать галатам о выборных деревенских собраниях, которые руководили их общинами до прихода римлян и несли ответственность за благополучие всех соплеменников. Иисус пытался сделать Царство Божие реальностью, создавая общины, основанные на взаимной поддержке и психологически, духовно, а отчасти и экономически независимые от Римской империи. И Павел также призывал галатов создавать систему, которая ценила людей одинаково и объединяла их, а не делила на классы. Он увещевал их: «Весь Закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя»{195}. Галаты должны были преодолеть низменные страсти, разделявшие их. Это «вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть»{196}. «Закон Христов» есть закон жертвенной любви. Если экклесии местных аристократов похвалялись своим превосходством, то экклесии Мессии брали за образец кеносис Иисуса: «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело… ибо каждый понесет свое бремя»{197}.
Мы не знаем ни того, как долго Павел, Сила и Тимофей оставались в Галатии, ни того – несмотря на драматичное повествование Луки{198}, – почему далее они решили отправиться в Македонию и прибыли в 50 г. в Филиппы. Для Павла это снова был совершенно другой мир. Город, основанный в 356 г. до н. э. македонским царем Филиппом, был центром золотодобычи, которая позволяла финансировать военные кампании сына Филиппа Александра Македонского. Ко временам Павла золотые рудники давно истощились, но Филиппы превратились в главный римский аванпост на Эгнатиевой дороге, соединявшей Рим с восточными провинциями. В 42 г. до н. э. к западу от города войска Марка Антония и Октавиана (будущего императора Августа) разбили коалицию Брута и Кассия. После этого Филиппы стали римской колонией. Здесь селились и получали наделы армейские ветераны. После битвы при Акции (31 г. до н. э.), сделавшей Октавиана единовластным правителем империи, прибыли новые ветераны. Таким образом, это был романизированный и многонациональный город. При этом раскопки показывают, что в то время, когда туда прибыл Павел, Филиппы с их крохотной городской территорией площадью всего в четверть квадратной мили были простым административным центром. Основная часть населения жила в окрестных деревнях и селениях. Правом занимать политические должности обладали только римские колонисты, освобожденные также от уплаты налогов. Они взимали излишки сельскохозяйственной продукции с деревень и земельных наделов, собирали ренту и заставляли крестьян-должников выплачивать долги{199}.
В Филиппах Павел столкнулся с особенно ярко выраженной формой обожествления римского императора. Как раз во время его проповеди в Македонии Клавдий, поначалу строго запретивший возводить храмы в свою честь, начал продвигать свой культ в провинциях и, подобно Августу, принял титул «спасителя мира». Некоторые ученые полагали, что культ императора – явление «сугубо светское», политическая стратегия без «религиозного» содержания, которая использовалась римским государством и местной знатью в своих целях{200}. Но во времена Павла религия и политическая жизнь переплетались столь тесно, что невозможно было сказать, где начинается одно и заканчивается другое. Последователи Иисуса были не единственными, кто нес «благую весть» о начале новой эпохи. Поэт Вергилий восклицал:
Сызнова ныне времен зачинается строй величавый, Дева грядет к нам опять, грядет Сатурново царство…{201}В Приене на побережье нынешней Турции одна из надписей объявляла, что день рождения «наибожественнейшего Цезаря [Августа]» ознаменовал начало новой эпохи и нового календаря. Этот день «…мы справедливо можем считать равным началу всего… ведь Цезарь восстановил порядок, когда все распадалось и превращалось в хаос, и дал новый облик всему миру…»
Более того, Цезарь «превысил надежды тех, кто возвещал благие вести [евангелие]»{202}. По всей империи в храмах, на монетах и в надписях прославляли каждого последующего императора как «сына бога», «явленного бога», «господина» и «спасителя мира»{203}.
В древнем мире такие заявления вызывали больше доверия, чем вызвали бы в наши дни, поскольку человека и бога не разделяла онтологическая пропасть: люди часто становились богами и наоборот. Как показывают исследования, жертвоприношения «гению» (божественному духу) императора были не пустыми обрядами, а способом покоренных народов осмыслить вторжение Рима в свою жизнь и его власть над миром, опираясь на знакомые образы и представления о царстве{204}. Дав покой и безопасность землям, опустошенным бесконечными войнами, Август, казалось, совершил божественное деяние, так же как Олимпийские боги утверждали порядок в космосе. Отметим, что этот культ не был навязан римским сенатом: его с восторгом развивала местная знать. Ее представители стремились перещеголять друг друга в строительстве храмов и святилищ в честь действующего императора и создании надписей, прославляющих его достижения. Так поступали и богатые вольноотпущенники, которые использовали культ для обретения признания и статуса. В эллинистическом обществе знатью владела филотимия – стремление к общественному признанию, которого она добивалась, принося в дар городу здания, святилища и надписи. Поддерживая культ императора, можно было приобрести благосклонность Рима, и аристократы старались превзойти друг друга в ревностном служении ему. В провинциях имперские церемонии пронизывали все стороны общественной жизни, захватывая публичное пространство, как в современных западных странах это происходит со всем, что связано с Рождеством.
Представители знати не только оплачивали жертвоприношения, но и становились жрецами культа императора, что было признаком самого высокого статуса. Культ распространился столь широко, что к концу правления Августа воздавать «божественные почести» кому-либо, кроме него, стало политически нежелательно{205}. При этом в землях Иафета императора почитали намного более ревностно, чем в Сирии и Киликии, и Павла это должно было угнетать – не только из-за его религиозных чувств, но и из-за соответствующих политических и социальных последствий. В свое время Македония и Ахея были завоеваны Римом, но, в отличие от Иудеи и Галатии, эти провинции он усмирил настолько, что необходимости в военном присутствии не было и столица могла положиться только на лояльность местного правящего класса. Культ императора стал скрепой, которая объединяла огромную империю в верности Риму, поддерживаемой сетью покровительственных связей{206}.
Став единоличным правителем империи, Август призвал вернуться к традиционным римским ценностям, особенно к приверженности семье и стране. Он подавал себя гражданам Рима как отец и заступник, проявляя свои отеческие качества в ходе массовых актов благотворительности. А в ответ ожидал от подданных верности (пистис). В провинциях местная знать также изображала императора миротворцем, чье владычество благословлено богами, а значит, покоренные народы должны только радоваться тому, что их покорили. Однако Павел быстро осознал структурно обусловленную несправедливость римской системы с ее социальной пропастью между правящим классом и простым народом. Богачи и бедняки по-разному одевались, по-разному питались и разговаривали чуть ли не на разных языках. Изо дня в день массы должны были выказывать почтение перед вышестоящими путем многочисленных стилизованных ритуалов. А стоящие повсюду кресты напоминали, что случится с человеком, который перейдет черту и разоблачит жестокую сущность этой системы.
Филиппы были римской колонией и следовали обычаям Рима и Италии, и потому культ императора мог быть в этом городе особенно силен. Спустя годы в письме к филиппийской общине Павел процитирует гимн Христу, в котором описаны кеносис Иисуса и последующее прославление его Богом. Если учесть, что воздавать «божественные почести» кому-либо, кроме императора, было небезопасно, пение этого гимна могло иметь тяжкие последствия{207}. В гимне ясно говорилось, что, в отличие от императора, который искал «равенства с богом», Иисус к этому не стремился. А на небеса он попал исключительно по воле Божьей: так Всевышний вознаградил его за смиренную готовность принять смерть на римском кресте.
Обращенные Павлом в Филиппах, конечно, относились к беднейшим общественным классам и были ущемлены в правах по сравнению с римскими гражданами. Однако Павел призывал их к фактической независимости от имперской системы. Пусть Филиппы остаются римской колонией, зато экклесиа станет «колонией небесной». В колонии культура метрополии преобладает над местной, а значит, они – граждане Царства небесного, оно – их истинное государство (политеума), и их «спаситель» не Клавдий, а Иисус Мессия{208}. И они могут сделать это реальностью, создав общину, основанную на взаимной поддержке. Надо лишь не утверждать свое «я», как это делает знать, а подражать кеносису Иисуса. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других»{209}. Так они могли сохранять твердость под гнетом притеснений со стороны властей «среди строптивого и развращенного рода» и сиять, «как светила в мире»{210}.
Эти социальные связи укреплялись за счет того, что в движении Иисуса появились первые признаки организации. Павел создавал сеть «сотрудников», чтобы они помогали ему сплачивать удаленные друг от друга общины. В Филиппах его соратниками были Климент и Эпафродит и две женщины: Синтихия и Эводия. Судя по всему, в Павловых общинах женщины становились лидерами не реже, чем мужчины, поскольку «во Христе» торжествует не только классовое и национальное, но и гендерное равенство. В своем послании к филиппийской общине Павел нарушил греко-римские условности, сознательно обратив внимание на этих женщин и упомянув о них как о «подвизавшихся в благовествовании вместе со мною»{211}. Филиппийцы стали самыми верными учениками Павла: когда он покидал город, они решили, что из своих скудных ресурсов будут поддерживать его миссию{212}.
Возможно, именно радикальное учение Павла повлекло за собой изгнание его из города. Впоследствии он напишет, что он и его спутники перенесли в Филиппах страдания и унижения. Однако это его не остановило: он продолжил свою проповедь и все дальше углублялся в мир, находящийся под господством Рима, пока, наконец, не пришел в Фессалоники. С 146 г. до н. э. этот город был столицей провинции Македония, и культ императора был в нем силен. Фессалоникийская знать прославляла римских патронов наряду с их богами в надписях и публичных речах, а также на праздниках{213}. В I в. до н. э. к местному пантеону была добавлена богиня Рома, имевшая своих жрецов, и выстроен храм Августу. В это же время на городской монете Зевса сменил Юлий Цезарь. И хотя напрямую в Фессалониках Август не именовался «сыном Бога», но подразумевалось, что – как приемный сын Юлия Цезаря – он является диви филиус, сыном божественного Юлия{214}.
Павел поведал фессалоникийцам о новом «господе» (кириос), «сыне Божьем» (тэу хюйос) и «спасителе» (сотэр). В городе почитались и другие боги-избавители, в частности Кабир, кузнец, убитый своими братьями, который однажды вернется и поможет бедным и нуждающимся. Однако знать включила Кабира в свои ритуалы, а потому Павел мог представить Иисуса как подлинного Спасителя{215}. И он надолго запомнит восторг, с которым фессалоникийцы приняли благовестие. Слухи об этом миссионерском успехе разойдутся широко. «Во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога… – напишет он фессалоникийцам впоследствии, – и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес сына его…»{216}
Здесь Павел также основал экклесию, ставшую прямым вызовом городскому собранию знати, поскольку в нее входили представители городских низов{217}. Павел просил общину уважать ее лидеров, «столь тяжело трудящихся» у них, а не правящий класс{218}. Экклесию должны отличать не социальное неравенство, а солидарность и взаимная поддержка{219}. Сам Павел работал плечом к плечу с другими ремесленниками в мастерской, где и проповедовал. Впоследствии он вспомнит «труд и изнурение» этих дней: работу «ночью и днем… чтобы не отяготить» никого, и это очень отличается от описанного Лукой участия Павла в общественных дебатах в синагоге Фессалоник{220}.
Но и здесь Павел столкнулся с враждой и потом будет вспоминать, как он, Сила и Тимофей открыто и бесстрашно проповедовали, несмотря на сильное сопротивление. Он предупреждал фессалоникийцев, что им тоже придется страдать за благовестие{221}. Клавдий недавно изгнал из Рима иудеев, возможно, членов Иисусова движения (по свидетельству Светония, причиной были «волнения из-за Христа»). Однако Павел не любил публичные акции. Фессалоникийцам надлежало мирно ожидать возвращения Иисуса, «жить тихо, делать свое дело… благоприлично перед внешними»{222}. Да, они были детьми света, противостоящими силам тьмы. Однако сражаться им подобало только духовным оружием, «облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения»{223}.
Вскоре Павлу пришлось спешно покинуть Фессалоники. Лука, по своему обыкновению, возложил вину за это на местную еврейскую общину, которая якобы пожаловалась местным властям, что Павел и Сила переворачивают мир вверх дном своим учением: «Все они поступают против повелений кесаря, почитая другого царем – Иисуса»{224}. Возможно, здесь Лука намекает на радикальный подтекст Павлова учения. Как бы то ни было, несмотря на неудачу, Павел отправился дальше на запад.
Из его писем мы узнаем, что он некоторое время провел один в Афинах, отослав Тимофея в Фессалоники проведать оставленную общину. Широко известен рассказ Луки о пребывании Павла в Афинах. Он описал, как Павел выступил в Ареопаге, подобно греческому философу, обосновав существование Единого Бога, который «недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живем и движемся и существуем»{225}. Однако греческая мудрость не занимала Павла. Скорее всего, Лука описывает то, что он сам сказал бы на месте Павла, если бы ему представился случай выступить в Афинах. Но к его времени это были дела давно минувших золотых дней. И нет никаких свидетельств того, что Павлу удалось обратить кого-либо в Афинах или основать там общину.
Его больше интересовали новые города империи, и осенью 50 г. он пришел в Коринф, самый процветающий город Ахеи. В 146 г. до н. э. этот античный полис не сдался Риму, был полностью уничтожен и больше 100 лет пролежал в руинах как свидетельство того, что бывает с оказывающими сопротивление империи. В 44 г. до н. э. Юлий Цезарь восстановил Коринф и заселил его вольноотпущенниками. При Августе город стал столицей провинции Ахея с проконсулом во главе, а к моменту визита Павла – четвертым по значению городом империи. Расположенный на перешейке между Северной и Южной Грецией, он был богатым торговым узлом с многонациональным сообществом вольноотпущенников из Италии, Греции, Сирии, Египта и Иудеи. Правили им амбициозные выходцы из низов. Эти новоявленные аристократы желали забыть о своем происхождении и вдоволь наслаждаться теми возможностями, которые открывало перед ними богатство города. Однако Павлу бросилась в глаза разница между зажиточными кварталами и бедными переселенными районами ремесленников, где жил он и его ученики. В Коринфе Павел еще отчетливее осознал насильственность римской системы, где в руках местного правящего класса были и связи с Римом, и все ресурсы – богатство, власть и престиж. Единственным путем наверх было обретение богатого патрона – здесь, в Коринфе, или в Риме.
Как и культ императора, система патроната призвана была скреплять Римскую империю. Патрон набирал клиентов[2], чтобы укрепить статус среди людей своего круга. Клиентам он обещал помощь, но гарантии не было: мог и отказать или сказать, что поможет позже. В результате клиенты оставались в постоянной зависимости от него и пребывали в тревожном ожидании. И поскольку большинство бедняков зависели от богатых семей, эта система стала средством социального контроля, основанном на неравенстве. Как написал один историк, «неспособность нескольких сотен человек удовлетворить потребности сотен тысяч человек, неумение устранить нищету, голод и долги – и даже использование этих обстоятельств к своей выгоде – отражают не столько неэффективность патроната, сколько предпосылки его расцвета»{226}.
Однако местная знать и сама была зависима от патроната могущественных лиц в имперской столице. Эти римские патроны проявляли свою лояльность (пистис) к провинциям, помогая тамошним «друзьям». В свою очередь, «друзья» вознаграждались за лояльность Риму. Римские наместники в провинциях также зависели от патроната «друзей» в столице и правили, создавая политическую поддержку на местах и сеть клиентуры среди местной знати. Все они стремились превзойти друг друга в лояльности императору и восторженном участии в его культе. Эта дружба не была равной: соглашаясь быть клиентом, человек уже признавал свое подчиненное положение. Вольноотпущенники и аристократы рангом пониже соперничали друг с другом, выстраивая собственные сети клиентов среди низших классов. Как объяснял римский сенатор и историк Тацит, «хорошие» люди города отличались верностью и лояльностью видным семьям, а «плохие» не участвовали в системе патроната, поскольку не могли ничего предложить богатым или сознательно избегали унизительного подчинения{227}.
В этом смысле Павел был в Коринфе среди «плохих»: последовательно отказывался принимать финансовую помощь от местных патронов. Вместо этого он продолжал заниматься ремеслом, остановившись у еврейской пары, Акилы и Прискиллы, которые также делали палатки. Они были из тех иудеев, которых изгнал из Рима Клавдий, и стали верными друзьями и соратниками Павла{228}. В Коринфе он продолжал свою миссию в их мастерской, проповедуя во время работы. И вновь благовестию сопутствовало сошествие Духа: новообращенные пророчествовали, говорили на языках и исцеляли больных{229}. Из ремесленников и торговцев, которые собирались вокруг Павлова рабочего места, образовывались маленькие общины. Именно бедняки опять стали теми, кто воспринял благую весть. Как сказал Павел коринфянам, Бог «избрал незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее… чтобы упразднить значащее»{230}. Казнив Мессию, власть имущие обрекли себя на погибель. Отныне Мессия воцарился одесную Бога и вот-вот «упразднит всякое начальство и всякую власть и силу»{231}. Центральное место в Павловой проповеди коринфянам занимал Крест. Всевышний воскресил Иисуса, обесславленного преступника, и тем самым проявил пистис к презренным мира сего. Если культ императора обожествлял власть и богатство, Крест явил совершенно новый набор божественных ценностей.
Павел поделился с коринфянами метафорой тела Христова – идеей, бросавшей вызов официальной имперской идеологии, где тело выступало как микрокосм и государства, и космоса{232}. Кесарь был главой государства. Он олицетворял земное царство и был представителем небесных богов. Но в теле Мессии такой иерархии нет. Павел описал структуру, в которой все взаимосвязано: все органы без исключения зависят друг от друга, причем голова не лучше других частей тела. Эту важную политическую концепцию Павел сопроводил несколько рискованным юмором, какой часто используют ораторы, чтобы растормошить аудиторию:
Члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем попечения; и неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены{233}.
Павел пробыл в Коринфе около полутора лет, но весной 52 г. пришли тревожные вести из Фессалоник. Судя по всему, фессалоникийская община подверглась гонениям, хотя, как Павел с радостью узнал от Тимофея, сохранила в испытании верность и стойкость. И все же руководители общины были смущены: Павел обещал, что все они увидят второе пришествие Господа, но некоторые члены общины умерли (возможно, погибли в ходе гонений). Разделят ли они триумф с Мессией? В ответ на недоуменное вопрошание Павел в своем первом из дошедших до нас посланий решительно сказал «да».
Жизнь в языческом мире напитала воображение Павла римской символикой: эта символика пронизывала атмосферу, в которой он, его обращенные и сотрудники мыслили и чувствовали. Имперская пропаганда превозносила «мир» (эйрене) и «безопасность» (асфалейа), которые Рим принес народам. Однако Павел внушал фессалоникийцам: это лишь иллюзия, и она развеется с явлением Мессии: «Когда будут говорить: „мир и безопасность“, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут»{234}.
Рассказывая о славном явлении Христа, Павел не стал использовать стандартные образы иудейской апокалиптики, а обратился к терминологии, необычной для Иисусова движения: описал возвращение Иисуса как официальный приезд императора или царя в провинциальный город:
Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе…{235}
В этом послании несколько раз встречается слово парусиа («прибытие»), которое в те времена часто обозначало приезд императора{236}. Как только чиновники узнавали о приближении императора к городу, отдавался приказ трубить в трубы. Затем многочисленная делегация выходила из ворот и устремлялась к императору для ритуальной апантэсис («встречи»){237}. У Павла Клавдия заменил Иисус, подлинный Кириос, а делегацию горожан – Павловы новообращенные, которые отныне понимались не как слабый и угнетенный сброд, а как привилегированные граждане города. Они вознесутся в воздух для встречи с Господом и вместе с ним сойдут на землю. Если можно так выразиться, в лице Иисуса, своего представителя, Бог покидает небесную сферу и присоединяется к обычным людям{238}.
Летом 52 г. Павел покинул Коринф и отплыл в Эфес. Если, как утверждает Лука, Юний Галлион был назначен проконсулом Ахеи во время пребывания Павла в Коринфе, то это должно было привести к усилению римского владычества в городе, и потому Павел стал персоной нон грата{239}. Акила и Прискилла отправились вместе с ним и поселились в Эфесе. На два с половиной года Эфес стал домом Павла. Там к нему присоединился Тит, старый друг из Антиохии, который проповедовал в окрестных землях. На короткое время в Эфес попал и Аполлос, красноречивый и харизматичный александрийский иудей, с которым у Павла возникнет масса хлопот{240}. Начиналась новая беспокойная глава его жизни…
4. Оппозиция
Проблемы начались с неприятных новостей из Галатии: по-видимому, кто-то из обращенных Павлом встретил иудейских членов христианского движения, которые утверждали, что он учит неправильно. По их мнению, Павел не имел права называть этих новообращенных детьми Авраама: они должны заслужить эту привилегию, сделав обрезание и соблюдая Закон Моисеев. Павел пришел в ужас: опять проблема, остро вставшая в Антиохии, поставила его миссию под угрозу. Он всегда считал, что язычникам, верным Мессии, необязательно соблюдать Тору, поскольку и без нее они получили благодать Святого Духа. Для евреев Тора имеет ценность, а галатов только отвлекает; навязывать галатам иудейский образ жизни так же глупо, как и требовать, чтобы евреи усвоили древние галатийские обычаи – устраивали шумные пирушки, подобно арийским воинам, и чтили павших героев{241}. Он написал галатийской общине письмо, в резких выражениях призвав ее членов образумиться. Разве не объявили они после крещения, что старые национальные, классовые и гендерные барьеры не существуют в созданной ими общине Христа? Необходимо любой ценой сохранить свободу, которая принесла им столь великую радость.
Но кем же были галатийские смутьяны? «Непрошеными гостями» вроде тех, что мешали переговорам Павла со «столпами» в Иерусалиме? Или «посланниками Иакова» вроде тех, что вызвали брожение умов в Антиохии? Такие версии звучали часто. Однако более вероятно другое: это были не пришельцы из Иудеи, а местные верующие, обращенные иудейскими миссионерами Иисусова движения и не разделявшие взглядов Павла. Подобно Иакову, они считали: для обновления Израиля, которое ускорит возвращение Мессии, необходима верность Торе. А поскольку некоторые галаты могли предпочитать присоединение к Израилю аккультурации в римский этос, им было неприятно слышать, что их статус не определен и они не принадлежат ни к тем, ни к другим. Римское право освобождало иудеев от необходимости участвовать в культе императора, поскольку в иерусалимском Храме официально приносились жертвы за кесаря. Галаты полагали, что, присоединившись к Израилю, получат право на это исключение. Но если они были не вполне иудеями, то отказ участвовать в культе императора грозил им неприятностями и даже гонениями. А участие в этом культе для них было невозможно, коль скоро они отвергли язычество{242}. Поэтому некоторые галаты решили стать полными прозелитами и уже начали процесс обращения в иудаизм. Однако Павел категорично заявил, что в этом нет необходимости{243}.
Этот случай показывает, что на заре христианства голос Павла был лишь одним из многих. Позже идеи, которые он проводил, стали нормой, и потому его протест против обрезания и следования иудейским законам кажется нам естественным. Иначе, как мы полагаем, христианство осталось бы малочисленной иудейской сектой: немногие язычники захотели бы подвергнуться опасной операции обрезания! В галатийских оппонентах Павла нам видятся агрессивные «иудействующие», ограниченные тем, что христиане называют «законничеством» – позицией, серьезно омрачившей отношения между христианством и иудаизмом. На самом же деле бескомпромиссное отношение Павла к этому вопросу не было типичным. Как фарисей Павел верил, что обрезание обязывает человека соблюдать всю Тору целиком, включая множество устных законодательных постановлений, впоследствии закрепленных в Мишне{244}. Однако далеко не все иудеи думали так же. В дальнейшем раввины постановят, что обрезание необязательно для спасения, ибо «праведники среди язычников имеют долю в жизни будущего века»{245}. Насколько мы знаем, другие иудейские проповедники христианства не разделяли жесткой позиции Павла. За вычетом его посланий, все остальные новозаветные тексты были написаны для иудейских общин, причем эти общины включали язычников, не затронутых влиянием Павловых идей. Многие язычники находили иудейские заповеди необременительными и даже манящими, привлекательными{246}.
Противники Павла в Галатии считали, что героическая смерть и воскресение Иисуса вдохновили духовное движение обновления в Израиле. Они подчеркивали неразрывную связь этого события с прошлым. Павел же смотрел на вещи иначе: с Крестом в мир пришло нечто принципиально иное{247}. Воскресив Иисуса – преступника, осужденного по законам Рима, – Бог оправдал того, кого Тора считала скверной. Иудейский Закон говорил, что «проклят всяк, висящий на древе». Приняв эту позорную смерть, Иисус осквернил себя. Но Бог оправдал его, вознеся на небесные высоты, снял с него вину и тем самым отменил законы Рима и представления Торы о чистом и нечистом. В результате язычники, доселе ритуально нечистые, также могли теперь стать наследниками обетований, данных Аврааму, и не покоряться для этого иудейскому Закону.
В отличие от своих оппонентов, Павел акцентировал новизну благовестия, а не его связь со старым и тем самым посягал на одну из фундаментальных ценностей своей эпохи. В античном мире новизна не ценилась так, как сегодня. Современная экономика дает нам невиданные прежде возможности для перемен. А экономика аграрная не могла выйти за определенные границы и обеспечить постоянное воспроизведение инфраструктуры, которое для нас естественно. Цивилизация воспринималась как нечто хрупкое, и люди предпочитали доверять традициям, выдержавшим испытание временем. Римляне уважали иудаизм за древность, а новые религиозные формы считали суеверием, опасным своим непочтением к отеческой традиции. И вместо того, чтобы воодушевиться идеями Павла, многие галаты должны были всерьез обеспокоиться, узнав, что большинство иудеев воспринимают их взгляды как неблагочестивые и порывающие с прошлым.
Павел отлично отдавал себе в этом отчет. Он знал, что просит галатов подвергнуть сомнению подходы и принципы, которые казались высеченными в камне. Поэтому его послание написано в жанре диатрибы. Риторика – искусство убеждать – играла существенную роль в греко-римском образовании: юношей учили писать и говорить так, чтобы повлиять на аудиторию и склонить ее к определенному роду действий. Диатриба заставляла аудиторию ставить под сомнение фундаментальные предпосылки. Кроме того, важно понимать: такие тексты, как Павловы послания, не читались про себя. Их читали вслух, стараясь добиться нужного эффекта с помощью жестов, мимики и наглядного представления. Таким образом, чтение послания по сути превращалось в театральное представление{248}. Когда Павел проповедовал галатам о смерти на кресте, он вполне мог живописать ужасы этого события, показывая им изображение распятого Христа или даже встав возле реального креста и указывая на истерзанное тело человека, распятого властями в одной из местных деревень. Поэтому в своем послании он упрекает их: «О, несмысленные Галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый?»{249}
Современному читателю резкий тон Павла в этом послании кажется грубым и оскорбительным. Однако в I в. даже необразованные слушатели сочли бы, что это в порядке вещей. Перед нами литературная форма, для которой обычны преувеличения, насмешки и даже оскорбления. Нападая в своей диатрибе на иудейский Закон, Павел не объявляет иудаизм ложной религией и не опирается на собственный опыт. Как мы уже видели, в свою бытность фарисеем Павел не испытывал проблем с соблюдением Торы: более того, полагал, что достиг больших успехов на данном поприще. Его письма не содержат правила на все случаи жизни, а адресованы конкретным проблемам в конкретных общинах. И уж, конечно, не содержат они установлений для будущих поколений христиан, поскольку Павел ожидал, что еще застанет Второе пришествие Христа. В послании он касается именно той ситуации, в которой оказались галаты, и говорит о том, что лучше всего для них, а не для человечества в целом. Точно так же не пытается он в этом послании и очернить иудеев. Он просто спорит с иудейскими оппонентами, которые, по его мнению, не радеют об интересах галатов.
Начинает он, как мы уже сказали, с автобиографических ноток: рассказывает о дамасском откровении, отношениях с Петром и Иаковом, встрече в Иерусалиме и печальном размежевании в Антиохии. Он пытается объяснить галатам: случившееся неудивительно, поскольку он сталкивался с этой проблемой дважды – когда «лжебратья» вмешивались в его переговоры со «столпами» и когда посланники Иакова пришли в Антиохию. Он подчеркивает, что на встрече в Иерусалиме Иаков и Петр одобрили решение не навязывать язычникам Тору, потому что истинность веры Тита убедила их в том, что язычникам могут быть «отпущены грехи» благодаря их вере в Иисуса Мессию и для этого им не надо совершать обрезание и соблюдать ритуальные заповеди Торы{250}. Но позже Иаков и Петр отступились от этого соглашения.
До ХХ в. выражение пистис Иэсу Христу часто переводили на английский язык как «веру (или верность) Иисуса Христа». Предполагалось, что речь не просто о вере простых смертных, а о «доверии» к Богу, которое проявил Иисус, добровольно пойдя на смерть. Бог же вознаградил эту веру, установив с людьми новые отношения, дав им возможность спастись от греха и несправедливости прежнего порядка, так что все люди, независимо от социального статуса и этнической принадлежности, смогли стать Божьими детьми. Однако со времени публикации в 1901 г. Американской стандартной версии (American Standard Version) Библии это выражение стали переводить как «вера в Иисуса Христа», что подразумевает веру каждого отдельного христианина в божественность Иисуса и его подвиг искупления{251}.
Далее Павел говорит, что Тора дана не навеки, а временно. Свою мысль он иллюстрирует, уподобляя еврейский народ наследнику крупного состояния: пока мальчик не вырос, он имеет не больше свободы в действиях, чем раб; свободу же и передаваемые по наследству привилегии обретает лишь по достижении совершеннолетия. Так было и с евреями, объясняет Павел галатам. Но затем «Бог послал Сына Своего… чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление»{252}. Для таких евреев, как он сам, Закон был «педагогом» – рабом, который сопровождал детей в школу, следил, чтобы они не баловались и чтобы с ними ничего не случилось, пока он не приведет их к учителю, который и начнет учить их по-настоящему. «Итак Закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою; по пришествии же веры, мы уже не под руководством детоводителя»{253}. Благодаря вере, которую Иисус выказал на кресте, пишет Павел галатам, «все вы сыны Божии в единении с Иисусом Христом». Отныне иудеи и язычники находятся в одинаковом положении, ибо прежние барьеры и категории более не существуют{254}.
Немецкий ученый Дитер Георги приводит, однако, доводы в пользу того, что Павел говорил в этом послании не просто о Торе, но о Законе в целом. В диаспоре универсализм некоторых эллинистов привел их, как и некоторых греческих философов, к тому, что они рассматривали праотеческие законы разных народов как разные отражения воли Божьей. Соответственно, они считали, что Израиль был не единственным, кто располагал Законом Божьим; каждый народ развивал собственную версию вечного закона, существующего в разуме Божьем. Греки и римляне, несомненно, считали, что их законы тоже даны им Богом, так же как считали иудеи, но после Дамаска у Павла развился более критический взгляд на закон. Императоры утверждали, что римский закон несет «справедливость» (дикайосюнэ). Но этот закон приговорил Иисуса к смерти! Когда Павел слышал слово дикайосюнэ, он понимал его в свете Ветхого Завета (известного ему по греческому переводу){255}. Для пророков справедливость означала социальное равенство. Пророки обличали правителей, которые обращались с нищими, вдовами и чужеземцами высокомерно и без уважения. Между тем, как показал опыт Павловых странствий, в этом смысле римский закон был далек от справедливости: он принес благо лишь знати и поработил подавляющее большинство населения.
В своем Послании к Фессалоникийцам Павел говорил о солидарности Бога с теми, до кого не было дела римскому праву. Поставив Иисуса одесную себя, Всевышний показал, что находится на стороне жертв угнетения. В Послании к Галатам Павел развивает эту тему: Иисус добровольно пошел под суд и проявил солидарность с самыми презренными из людей. Никакая форма юриспруденции не в состоянии достичь социального единства, демократии и равенства, расхваливаемых эллинистической идеологией. Идеалы идеалами, а на практике закон всегда порабощал, унижал и разрушал. Правовые системы мира сего отделяли римлян от варваров, а евреев от язычников, возвышали мужчин над женщинами и создавали знать, которая эксплуатировала рабов. В Антиохии строгое соблюдение закона означало, что евреи и язычники не могут есть за одним столом. Крещальный возглас гласил: «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского!» Но чтобы он стал социальной реальностью, требовался фундаментальный пересмотр идеи власти и божественного{256}.
Не успел Павел отправить письмо в Галатию, как пришло известие о серьезных проблемах в Коринфе. В Эфес прибыла делегация «домашних Хлоиных» (возможно, это были члены домашней общины Хлои в Коринфе) и сообщила, что коринфская экклесиа разделилась на несколько недружественных друг другу группировок. Александрийский еврей Аполлос – возможно, Павел познакомился с ним в Эфесе – учил «духовной» форме благовестия, позволявшей обрести «мудрость» и возвыситься над простыми смертными. Похоже, что в Коринфе побывал и Петр, который проповедовал иначе, чем Павел, а поскольку он лично знал Иисуса, у него нашлись свои последователи. И наконец, преуспевающие коринфяне пытались усилить свои социальные позиции в городе, выступая в качестве патронов по отношению к домашним общинам и обеспечивая пищу для Вечери Господней. Эгалитарное благовестие Павла было им не близко: они вовлекали движение в патронажную сеть, основанную на неравенстве. Соперничая друг с другом за власть и престиж, патроны и их клиенты начинали рассматривать дары Духа как символы статуса{257}.
Кем же был Аполлос и что он проповедовал? Согласно Деяниям, он, «горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоанново»{258}. Иоанн Креститель играл важную роль в Источнике Q, древнейшем Евангелии, возможно записанном приблизительно в то же время. Рассказы об Иоанне и Иисусе Аполлос мог услышать во время паломничества в Иерусалим. Его внимание могло привлечь и предание о крещении Иисуса, когда на того сошел Дух и божественный голос возвестил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение»{259}. Павел полагал, что Иисус стал сыном Божьим только после воскресения из мертвых, – Аполлос же со своими последователями относил это событие к крещению{260}. Как узнать, кто прав? Аполлос верил, что после крещения ученики Иисуса также становились возлюбленными «сынами Божьими», т. е. совершенными человеческими существами, в которых было Божие благоволение{261}. Аполлос учил, что человек состоит из плоти (саркс), души (психе) и духа (пнэума), которые постоянно враждуют друг с другом{262}. Но после крещения в христианах начинает господствовать Дух, проявляя себя дарами пророчества, исцеления и «говорения языками». Последователи Аполлоса в Коринфе, пнэуматикой («духовные»), верили, что Царство уже пришло и что они уже обрели бессмертие. Они не ждали Второго пришествия, поскольку высшее состояние было ими уже достигнуто, что доказывали видения, откровения и пророчества{263}. Фактически они выступали «духовной аристократией».
Аполлос находился под влиянием иудейской традиции премудрости, как ее представлял иудейский мыслитель Филон Александрийский. Она основывалась на почитании Софии, «Божественной Мудрости», олицетворенной мудрости, эманации Бога{264}. Эта идея позволяла евреям, униженным имперским владычеством, снова обрести чувство собственного достоинства: они претендовали на более высокую мудрость, чем их властители{265}. Благодаря Аполлосу угнетенные труженики Коринфа увлеклись схожими идеями: они верили, что как люди совершенные могут отныне претендовать на благородное происхождение, земную честь и особый социальный статус, не растлевая себя этими мирскими благами{266}.
Такое учение кружило головы ремесленникам, рабам и лавочникам, открывая перед ними удивительные возможности. Коль скоро высшее духовное знание достигнуто, пнэуматикой не считали себя связанными правилами и условностями, обязательными для «человека бездуховного»{267}. Они уже достигли свободы сыновей Божьих и могли сказать: «Все мне позволительно»{268}. Верующие, которые желали подняться по социальной лестнице, могли спокойно посещать общественные жертвоприношения и пиры (иначе социальный подъем был невозможен) и вкушать плоть жертвенных животных: ведь они знали, что божеств, почитаемых в этих ритуалах, не существует{269}. Благодаря Духу они обрели полный контроль над своими телами. Поэтому женщины оставляли мужей и делали выбор в пользу свободы целибата, а некоторые «духовные» верующие даже заключали кровосмесительные (но социально выгодные) браки и обращались к проституткам{270}. Иные же агрессивно отстаивали свои интересы, подавая иски на собратьев по Иисусову движению в языческие суды{271}.
Надо ли говорить, что в глазах Павла все это было отвратительно. В длинном письме он отвечает на вопросы, заданные ему «домашними Хлоиными», используя аргументы, которые уже выдвигал в Послании к Галатам, но идя в них на шаг дальше. Он начинает с того, что напоминает коринфянам: во время своего пребывания в их городе его проповеди фокусировались на распятом Христе. А как ведут себя пнэуматикой? В иудейской традиции Софию описывали как «чистое зеркало действия Божия и образ благости Его». Она «все обновляет», «прекраснее солнца и превосходнее сонма звезд», «быстро распространяется от одного конца до другого и все устрояет на пользу»{272}. Однако Павел сокрушает этот изящный миф о чистоте, силе, доброте и красоте, напоминая о страшной реальности Креста. Когда Бог воскресил казненного преступника и вознес его одесную себя, он «обратил мудрость мира сего в безумие»{273}. Если иудеи считали проповедование распятого Христа «соблазном», а греки – «безумием», Христос распятый стал новым откровением о подлинном смысле силы и мудрости Божьей{274}. Традиционные представления о божественном были перевернуты.
В такой ситуации нет места для человеческой гордости и основы для нелепых притязаний «духовных». Павел безжалостно ставит их на место: «Не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных». Когда члены общины Мессии признали Иисуса богооткровением миру, они возвестили премудрость, которую мир не мог понять. Если бы римляне поняли ее, то «не распяли бы Господа славы»{275}. Крест ниспроверг все формы власти, господства и могущества, показав, что Божественное проявляется не в силе, а в немощи.
Затем Павел начинает отвечать на вопросы, поставленные людьми, которые приехали от Хлои. В каждом случае он отталкивается от значимости общины. Жизнь «во Христе» – это не сугубо частное дело. Павел всегда настаивал на том, что она достигается, когда люди ставят интересы ближних превыше собственных и живут в любви. Подлинные ученики Иисуса не мнят себя духовной аристократией, а следуют кеносису Иисуса. Как было сказано в гимне Христу, Иисус достиг славы, уничижив себя и приняв смерть на кресте. Именно в этом послании Павел развивает образ тела Христова: общины многонациональной, основанной на взаимозависимости ее членов и чуждой мирским ценностям. Павлу было тяжело слышать о группах, которые разрывают это «тело» на части: «У вас говорят: "я Павлов"; "я Аполлосов"; "я Кифин"; "а я Христов". Разве разделился Христос?»{276}
Вера в Христа – это не частная затея, а опыт совместной жизни. Поэтому Павел страстно выступает против индивидуализма, который проповедуют «духовные» верующие. Он просит коринфян уделить особое внимание единству и целостности экклесии. Немыслимо, чтобы члены общины Мессии подавали иски друг против друга{277}. Верующие, заявляющие, что они вольны пользоваться услугами проституток, оскверняют духовную сущность общины: «Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы?»{278} И человек, который женился на собственной мачехе (с целью упрочить узы со знатью), также оскверняет всю общину – так от закваски скисает все тесто{279}. Женщины, которые оставляют мужей, и неженатые мужчины, отказывающиеся брать жен, напрашиваются на неприятности, если учесть знаменитое коринфское распутство{280}. Могут ли они поручиться, что обуздают свои желания? Павел твердо заявляет: «Не я повелеваю, а Господь: жене не разводиться с мужем; если же разведется, то должна оставаться безбрачной, или примириться с мужем своим, – и мужу не оставлять жены своей»{281}.
По-видимому, мода на целибат, введенная Аполлосом, особенно импонировала женщинам: само Небо послало им возможность вырваться из череды навязываемых браков – не успеет один муж умереть, как новоиспеченную вдову выдают за следующего. Феминистские теологи ругают Павла: как можно было запрещать женщинам освобождаться от мужского диктата и необходимости рожать детей?{282} И действительно, Павел мог не вполне понимать положение коринфянок. Однако его главной задачей, когда он писал это послание, было остановить процесс отворачивания людей от общины, когда они делали выбор в пользу индивидуального восприятия Бога. Павел не выдумывал заповеди, рассчитанные на тысячелетия: веря в скорое Второе пришествие, он ужаснулся бы такой перспективе. Он решал конкретную проблему, возникшую в Коринфе летом 53 г. Далее в своем письме он четко скажет о равных правах мужчин и женщин в браке: «Муж, оказывай жене должное благорасположение; подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена»{283}.
Павел довольно прохладно относился к браку. Он считал, что мир, каким мы его знаем, подходит к концу. А значит, разумнее не отягощать себя ответственностью брака. Однако он подчеркивал, что это его личная точка зрения, а не правило веры, которому нужно следовать всегда{284}.
В этом послании есть два отрывка, которые часто цитируются в доказательство того, что Павел был заклятым женоненавистником, и наиболее известный из них – запрет женщинам говорить на публике:
Жены ваши в собраниях да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и Закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают дома у мужей своих; ибо неприлично жене говорить в собрании{285}.
А как же Павлово учение о том, что «во Христе» должно быть полное гендерное равенство? Здесь возникает настолько вопиющее противоречие, что некоторые ученые считают этот отрывок поздней вставкой: переписчики решили согласовать текст Павла с греко-римскими нормами. Ведь Павловы послания с усердием переписывались после его смерти; они дошли до нас в 779 рукописях, датируемых III–XVI вв.{286} Проблема разночтений существует: иногда переписчики добавляли в текст собственные идеи. И есть серьезные основания полагать, что перед нами один из таких случаев{287}. Во-первых, этот отрывок идет вразрез с тем, что чуть раньше Павел наделял мужчин и женщин равными правами и обязанностями. Во-вторых, уж кому-кому, а Павлу меньше других было свойственно ссылаться на авторитет Закона. В-третьих, в древнейших рукописях (а самые ранние относятся уже к III в.) эта фраза иногда идет в другом месте. И в-четвертых, здесь она выбивается из контекста, буквально на середине предложения прерывая рассуждения о духовных дарах, которые затем столь же внезапно возобновляются. Если ее убрать, текст будет более цельным.
Второй отрывок, на который ссылаются, чтобы доказать женоненавистничество Павла, представляет собой длинное и путаное рассуждение о том, что женщины должны покрывать голову, когда молятся или проповедуют на общинных собраниях{288}. Кстати, отметим: здесь Павел ничуть не возражает против публичных женских выступлений! Но опять-таки обсуждаемый отрывок прерывает ход мыслей. В предыдущей главе Павел говорил о поведении членов общины на регулярных трапезах и призывал коринфян во имя единства терпимо относиться к пищевым правилам друг друга. Затем ни с того ни с сего, без всякой связи с контекстом, следует обсуждение женских головных уборов, после чего возобновляется тема общинных трапез, на сей раз в связи с вечерей Господней. Акцент на мужскую власть в спорном отрывке плохо вяжется с Павловой теорией (и практикой!) гендерного равенства, а риторика (с отсылкой к традиционным «обычаям») чужда Павлу и больше напоминает девтеропаулинистские Послания к Титу и Тимофею, написанные во II в.{289}
Однако американский ученый Стивен Паттерсон считает, что здесь нет поздней вставки. В конце концов, автор не требует, чтобы женщины носили хиджаб, как мусульманки. Речь идет, по-видимому, о мужских и женских прическах. По мнению Паттерсона, коринфяне доводили крещальный возглас («нет мужеского пола, ни женского!») до крайности. Мужчины отращивали волосы, а женщины распускали их вместо того, чтобы носить, как было принято, убранными в прическу. В результате все члены общины щеголяли длинными ниспадающими локонами, и мужчин от женщин было не отличить. Павел, считает Паттерсон, не имел на сей счет богословских возражений, но считал неверным размывание гендерных различий, поскольку Бог при сотворении мира установил иначе{290}. В те времена женщины, странствовавшие с философами-стоиками, стриглись коротко и носили мужскую одежду, чтобы избежать домогательств на дорогах. Павлова позиция могла состоять в следующем: женщинам нет необходимости выглядеть во время проповеди и молитвы как мужчины, словно именно мужчина – образчик человеческого существа. Пусть лучше будут самими собой{291}.
После спорного отрывка Павел призывает к гармонии во время вечери Господней. Судя по всему, богатые патроны, которые оплачивали еду и предоставляли место встречи, приходили рано, вдоволь ели и пили. И ничего не оставляли рабам и ремесленникам, которые из-за работы не могли явиться раньше{292}. Автор новозаветного послания, приписанного Иакову, брату Иисуса, дает понять, что могло происходить, если община привлекала внимание богатого патрона. Он описывает, как богач и бедняк одновременно приходят на вечерю Господню. Прекрасно одетому богачу немедленно предлагают удобное место, а бедняку говорят: «Стань там или садись здесь, у ног моих». Автор потрясен: разве не бедняков избрал Бог, чтобы даровать им Царство? А тут бедняка унижают, богатым патронам же и угнетателям воздают честь{293}.
У Павла была точно такая же реакция, когда он узнал о том, что происходит в Коринфе. «Или пренебрегаете общину Божию и унижаете неимущих?» – грозно спрашивает он. Верующие приносили еду с собой, и в результате у одних было с избытком, а у других ничего. Вместо единства получалось размежевание по группам. Поэтому Павел призывает коринфян помнить, что вечеря Господня совершается в память о смерти Господа и с упованием на его возвращение. Она напоминает о распятии и кеносисе Мессии, а значит, такое поведение совершенно неуместно. Человек «ест и пьет осуждение себе», если «не распознает Тело»{294}. Здесь Павел имеет в виду не отрицание пресуществления и реального присутствия Христа в Евхаристии. В этом послании «тело» – всегда община. Те, кто не признают, что община сакральна, а Мессия присутствует во всех ее членах, не признают самого Господа.
В противовес претензиям пнэуматикой себя Павел описывает как прямую противоположность духовной аристократии. Если они считали себя мудрыми, сильными и могущественными, он пришел в Коринф, претерпев унижения и тяготы в Македонии: «Был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете»{295}. Во всех своих посланиях коринфянам Павел подчеркивает слабость, смирение и беззащитность распятого Мессии. Не надо пытаться произвести впечатление «умствованиями мудрецов» или похвальбой духовными достижениями{296}. «Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом»{297}.
Отвечая тем, кто ел идоложертвенное, Павел советует им не гордиться силой своих убеждений, а уважать веру более «немощных» членов общины, считавших такое поведение ошибочным. Да, в богословском плане пнэуматикой правы: поскольку идолов не существует, эту пищу вполне можно есть. Однако это не дает «сильным» права рисоваться своими продвинутыми и прогрессивными взглядами, огорчая братьев и сестер во Христе{298}. Если бы они подражали кеносису Иисуса, то не занимались бы подобным самоутверждением. Павел приводит в пример себя: у него есть моральное право принимать в ходе миссии финансовую поддержку. Однако он предпочитает сам зарабатывать деньги физическим трудом, чтобы не отягощать людей{299}.
Тот же принцип распространялся на хвастливую демонстрацию даров Духа. «Духовные» верующие считали, что способность говорить языками доказывает их более высокий статус. Однако они были неправы, полагая, что уже достигли совершенства. Ведь до Второго пришествия все эти дары – знание (гносис), пророчество, языки – лишь «частичные» предвкушения грядущего. Полное освобождение от бренности и тленности еще не достигнуто, но предстоит в будущем. В одном из поздних писем Павел даже скажет, что экстатическая и бессвязная глоссолалия – знак скорее слабости, чем силы: «Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными»{300}. Однако в любом случае все эти дары бесполезны, если не сопровождаются любовью: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий»{301}.
Дар языков, чудеса, подвиги, откровения, духовное знание и даже героическое мученичество бесполезны, если им не сопутствует агапе – жертвенная верность общине. И эта «любовь» не есть лишь теплое отношение: она должна выражаться в практических действиях, которые созидают и укрепляют общину. Вот почему Павел считал пророчество более значимым даром, чем языки. Когда человек «говорит языками», окружающие его не понимают. Пророчество же напрямую адресовано их сердцам. Стало быть, «кто говорит на незнакомом языке, тот созидает себя; а кто пророчествует, тот созидает общину Мессии»{302}.
Под конец послания Павел обличил пнэуматикой и за то, что они считают себя уже обретшими бессмертие и отрицают воскресение мертвых{303}. Полагать, что ты достиг совершенства, очень опасно. У таких людей возникает иллюзия, будто им все позволено: пользоваться услугами проституток, вступать в инцестные связи, пренебрегать бедняками на вечере Господней. Такое некритичное отношение к себе ведет к нравственному банкротству и сводит веру к самолюбованию. Более того, оно полностью искажает смысл смерти Иисуса. Чтобы спустить «духовных» верующих с небес на землю, Павел напоминает: Иисусово движение не есть упоительный поиск экстаза и необычных состояний сознания. Оно укоренено в исторических событиях: Иисус умер страшной смертью и был вознесен одесную Всевышнего. Павел перечисляет людей, видевших воскресшего Христа: Петр, Двенадцать, 500 с лишним братьев, Иаков и он сам. Смерть Иисуса изменила ход истории, но процесс еще не достиг завершения. Лишь при втором пришествии Иисуса «мы все изменимся» и смерть будет «поглощена победой»{304}. Тогда, и только тогда Христос установит Царство и «упразднит всякое начальство и всякую власть и силу»{305}.
Напоследок Павел говорит о деле, которое будет занимать его до самого конца. Он понимал, что его экклесии уязвимы. Их легко было сбить с пути, и они нуждались в более твердом понимании ключевых принципов движения Иисуса. А эти принципы первоначально были связаны с созданием общин, основанных на взаимной поддержке, как альтернативы имперскому угнетению. Они должны были спуститься с небес на землю, чтобы верующие не уходили в индивидуальные духовные грезы, а осознали свою связь друг с другом и выразили ее на практике. Необходимо было напомнить им об исторических корнях движения и тем самым пресечь легкомысленные духовные авантюры. Поэтому Павел объявил сбор пожертвований в пользу иерусалимской общины. Ведь еще на встрече в Иерусалиме он обещал «столпам», что будет «помнить нищих». Сбор средств облегчит тяготы бедняков, покажет Иакову, что миссия приносит обильные плоды, а также не позволит общинам самого Павла забыть о приоритетах.
Павел начал собирать деньги еще в Галатии. Галатийские ученики вняли письму и оставили затею с обращением в иудаизм. Каждую неделю после воскресного собрания все члены экклесии должны были вносить посильные средства: кто монету, кто безделушку, кто ювелирное изделие, кто фамильную ценность. Постепенно накопились бы немалые запасы, которые со временем надлежало перевезти в Иерусалим. Это еженедельное напоминание о Святом Городе, месте смерти и воскресения Мессии, должно было помочь галатам выработать новые и независимые взаимоотношения с Израилем. Павел понимал его не как подать в пользу более важной конгрегации, а как «дар» (харис) одной мессианской общины другой, равной ей по статусу{306}.
В своем письме Павел дает коринфянам те же наставления, что и галатам{307}. Быть может, он надеялся, что этот практический проект выведет коринфян из сосредоточенности на самих себе и склонит их к агапе, заботе о благополучии ближних. Кроме того, пожертвования не давали бы членам общины забыть, что их вера основана на историческом событии и что они связаны братскими узами с другими общинами{308}. Таким образом коринфяне вырвались бы из патронажной сети, в которую впутались. В отличие от системы, в которой бедняки зависят от подачек богачей, каждый вносит свой вклад в пожертвования. Все участвуют на равных. В противовес налоговой системе империи, где богатство изымается у провинций и стекается в столицу, здесь предполагался свободный дар одних народов другим{309}. Когда же в следующий раз он будет в Коринфе, говорит Павел, то даст письма тем, кто повезет пожертвования в Иудею. Таким образом, он явно предполагал, что к его приезду сбор будет завершен. Однако вскоре события вновь приняли неожиданный поворот, и пожертвования стали новым предметом споров в Коринфе.
5. Сбор пожертвований
Послание Павла к коринфянам возымело действие. Тимофей сообщил, что призвал «духовных» к порядку и община готова собирать пожертвования. При этом коринфяне хотели поддерживать в ходе сбора тесную связь с Павлом и с нетерпением ждали его прибытия. Поначалу он собирался отправиться в Коринф после следующей поездки в Македонию, возможно, осенью 53 г., и перезимовать там{310}. Однако дела удержали его в Малой Азии, и вместо себя он послал Тита. Последний был радушно встречен, но коринфские ученики были глубоко обижены. Возможно, эта обида спровоцировала следующий кризис в их общине{311}.
Летом 54 г. Павел узнал, что в Коринфе объявилась новая группа миссионеров и резко раскритиковала его учение. Но если на «духовных» верующих повлияла еврейско-эллинистическая литература Мудрости, новые проповедники вдохновлялись миссионерской теологией некоторых евреев диаспоры, ожидавших обращения всего человечества в иудаизм. Они полагали, что Израиль встанет во главе нового и справедливого мирового порядка; это будет демократия, но не в смысле правления глупых и порочных масс, о которых новые миссионеры были невысокого мнения. Миром будут править люди, воплощающие добродетели еврейского народа. Новые миссионеры придавали особое значение «божественным мужам» (тэйой антропой), воплощавшим подлинные иудейские ценности, таким как Моисей, Илия и Мессия, – они могли служить образцом и стимулом к правильным действиям{312}.
И если Иисуса новые миссионеры считали одной из таких божественных фигур, то себя – носителями аналогичных великих достоинств. Отказ Павла принимать финансовую помощь и решение работать как обычный человек они поняли по-своему: Павел признает, что его учение не имеет особой ценности. И уж точно его нельзя считать «божественным мужем». Они даже обвинили Павла в том, что своим сбором пожертвований он вымогает деньги у бедняков. Рисуясь своими духовными достижениями, пришельцы внесли в Иисусово движение аристократический стиль руководства, попиравший все эгалитарные идеалы Павла. Услышав об этом, Павел написал коринфянам еще одно послание, пообещав посетить их в ближайшем будущем.
Об этом новом движении мы знаем из документа, известного как Второе послание к Коринфянам. На самом деле это не единое послание, а пять писем Павла плюс отрывок неизвестного происхождения. (Тексты расположены не в хронологической последовательности.) В этих письмах Павел не называет имен новых оппонентов, но, поскольку эти ловкие манипуляторы были высокого мнения о себе, иронически именует их «высшими апостолами». Он видит в них проходимцев, лжеапостолов, живущих напоказ, а не посланников Христа{313}. Они афишировали свое иудейское происхождение, называя себя «евреями», «израильтянами» и «семенем Авраамовым»{314} и доказывали свои глубокие познания в иудаизме путем сложных и изощренных аллегорических толкований Библии, а свой богоподобный статус – необычными экстазами и чудесами. Если Павел утверждал, что смерть Иисуса знаменует разрыв с прошлым, «высшие апостолы» придали своему учению соблазнительное очарование старины. Они также могли показывать письма с рекомендациями, чтобы доказать, что являются подлинными представителями христианского движения, и уничижительно отмечали, что Павел подобных писем не представил.
«Высшие апостолы» полностью усвоили конкурентный этос эллинистического мира, который восхищался необычным, удивительным и сверхчеловеческим{315}. Свободная рыночная экономика и политическая идеология греко-римского мира подпитывались яростным и амбициозным стремлением к признанию и восхищению. Это была культура чудес: надписи, стихи и речи славили удивительные дела. Миссионерская теология «высших апостолов» была также иудейской вариацией на тему имперской идеи всеобщего примирения, восходящей к Александру Македонскому. По словам Плутарха, Александр видел в себе объединителя и примирителя, и «…если бы божество, пославшее в наш мир душу Александра, не отозвало ее вскоре, то единый закон управлял бы всеми людьми и они взирали бы на единую справедливость как на общий свет»{316}.
Верноподданные граждане Рима считали императоров продолжателями дела Александра. Отводившая эту роль народу Израилеву еврейская миссионерская теология, как и еврейская традиция Мудрости, представляла собой идеологическую стратегию, путем которой покоренный народ пытался хотя бы отчасти вернуть себе достоинство и уважение. В Коринфе высшие апостолы ссылались на удивительные чудеса Иисуса и собственные свершения в доказательство той могущественной силы, которая однажды покорит весь мир «единому Закону» и «единой цели» иудейского владычества.
Ранее в противовес учению Аполлоса и «духовных» верующих Павел уже подчеркивал свою уязвимость и немощь. Еще больше он акцентировался на этом, когда бросил вызов спеси высших апостолов. Летом 54 г. Павел продиктовал письмо, ставшее его первой попыткой оспорить их теории{317}. Прежде всего он описывает себя и своих сотрудников не как героев-завоевателей, а как пленников в триумфальном шествии Христа{318}. Им нет нужды показывать коринфянам «одобрительные письма», поскольку сами коринфяне – живое свидетельство, письмо, навечно написанное в сердце Павла. Неуместно и хвастливое низкопоклонство перед еврейскими традициями: место письменной Торы занял Дух, живое присутствие Бога. Читая эти рассуждения, мы должны помнить: перед нами письмо, написанное с учетом конкретных обстоятельств, и не огульное осуждение иудаизма, а критика одной из его интерпретаций, основанной на агрессивном мистицизме и эксплуатации идеи исключительности.
Павел напоминает читателям, что на горе Синай Моисей пребывал в присутствии Господа, а когда сходил вниз со скрижалями Письменного Закона в руках, его лицо излучало такое неземное сияние, что пораженные израильтяне «боялись подойти к нему». И так происходило всякий раз, когда Моисей передавал народу заповеди Господни: «И видели сыны Израилевы, что сияет лицо Моисеево». Заканчивая речь, Моисей защищал людей от этих мощных потоков света, закрывая лицо покрывалом{319}. Павел дает такую интерпретацию: сияние, сопутствовавшее дарованию Ветхого Завета, было столь ослепительным, что люди в страхе и изумлении держались на расстоянии. Поэтому откровение (апокалюпсис) Торы вполне можно назвать и сокрытием. И до сего дня, замечает Павел, когда Закон читается вслух, покрывало лежит на сердце слушателя, – проясняется же смысл только в свете аллегорического толкования. А ныне Дух Божий снял это покрывало и напрямую общается со всеми. Вместо магических атрибутов власти, перед которыми можно было лишь покорно склонить голову, явилась свобода детей Божьих{320}. Иисус Мессия не стоял на одиноком пьедестале, грозный и недоступный для людей: этот «божественный муж» был одно со своими последователями и позволил им приобщиться к своей божественной славе. «Мы же все… видим, как в зеркале, славу Господню и преображаемся в тот же образ от славы в славу…»{321}
По мнению Павла, «высшие апостолы» забыли о распятии Иисуса. Позорный факт распятия сделал благовестие неприемлемым для тех, чей ум ослеплен пышностью и великолепием кесаря, «бога века сего». Подлинные апостолы Иисуса были не сверхчеловеками, но теми, кто наблюдал его немощь в смерти на кресте. Они испытывали тяготы, гонения и преследования: «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем»{322}. Поэтому именно Павел и его спутники, а не «высшие апостолы» – подлинные представители Христа{323}. Они не бахвалятся блестящими достижениями, а могут предъявить лишь «великое терпение в бедах, нуждах и тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бессонных ночах, в голоде»{324}. «Дайте нам место в вашем сердце, – просит Павел общину в конце письма, – мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти». Что бы ни случилось, в его сердце для коринфской экклесии всегда есть место{325}.
Нам остается лишь воображать драматические жесты человека, который зачитывал послание Павла в Коринфе: как он с помощью пантомимы изображал надевание и снятие покрывала, трепет и страх толпы. Реакция коринфян на письмо была доброжелательной, но последующий приезд Павла в Коринф осенью 54 г. обернулся провалом. Привыкшие к красноречию «высших апостолов» коринфяне пришли к выводу, что Павел смотрится бледновато: «В посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна»{326}. Похоже, Павла оскорбили и пристыдили перед всей общиной, и ему пришлось стоять перед судом, обвинившем его в финансовом обмане. Его упрекнули в том, что он бахвалился дамасским поручением и запугивал общину. В Эфес Павел вернулся подавленным и униженным: неужели все труды пошли прахом?
Многие люди отреагировали бы на подобные обвинения очень резко. Однако Павел верил, что подлинная сила кроется в немощи. Обливаясь слезами и пребывая в смятении и тревоге, он диктует писцу новое («слезное») письмо{327}. Считая, что ему нечего терять, он выставляет себя эдакой потешной фигурой: составляет «речь неразумного», одну из форм риторической диатрибы, которая с помощью юмора пытается изменить настрой читателей и дать им серьезно задуматься над смыслом и последствиями текущей ситуации. «Не почти кто-нибудь меня неразумным, – начинает он, – а если не так, то примите меня, хотя как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться». Впрочем, похоже, в «неразумных» не он один: коринфяне и сами хороши, раз позволили запугать и унизить себя каким-то шарлатанам, да еще и довольны этим: «Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо!»{328}
Он и сам мог бы расхаживать с важным видом, подобно «высшим апостолам». В конце концов, чем он хуже? Если уж бахвалиться, он тоже еврей, израильтянин и семя Авраама, а Мессии послужил еще больше, чем они. Но дальше, все еще говоря, как «неразумный», он начинает перечислять не свои многочисленные достижения, а беды и неудачи: «От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного; три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение… много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе»{329}.
Вот чем должен хвалиться ученик Христа! Свою пародийную похвальбу он заканчивает рассказом об унизительном и бесславном побеге из Дамаска, когда друзья спустили его в корзине из окна по стене{330}.
Переходя к теме духовных свершений, Павел также не пытается повергнуть аудиторию в изумление. Историю о своем удивительном мистическом путешествии на небеса он рассказывает, как «неразумный», запинаясь и спотыкаясь. В его интонациях звучит не горделивая уверенность, свойственная его противникам, а неуверенность. Было ли это в теле или вне тела? Он понятия не имеет. Достиг ли он высших небес? Неизвестно. Но под конец Павел намекает на неуместность похвальбы подобными переживаниями. Пока он был в этом состоянии, он «слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Остается хвалиться своей немощью, и это будет не глупая похвальба, а правдивая{331}. Чтобы Павел не гордился чрезмерно явленными ему откровениями, как «высшие апостолы», Бог дал ему «жало в плоть». Павел не объясняет, что это: искушение или физическая болезнь. Он лишь повторяет слова, которые сказал ему Господь: «Сила Моя совершается в немощи». На том и основана позиция Павла: «Ибо когда я немощен, тогда силен»{332}.
Вскоре после отправки «слезного письма» Павла постигли новые беды. Последние годы правления Клавдия были омрачены придворными интригами. В октябре 54 г. Клавдий был отравлен женой, а императором стал Нерон, его 17-летний приемный сын. Воцарение Нерона было встречено с радостью и облегчением, и культ императора активно возродился по всей империи. Однако у Рима возникли проблемы: парфяне угрожали восточным границам, да и в Иудее было неспокойно. Нужны были козлы отпущения, и Марк Юний Силан, проконсул Азии, был убит доверенными лицами Нерона по подозрению в измене, а в ходе поиска врагов в Эфесе был схвачен Павел. Лука, со своим вечным римолюбием, не пожелал признать, что Павла сочли врагом империи, и на сей счет ничего не сообщил. Написал лишь, что Павлова миссия в Эфесе оборвалась после беспорядков в храме Артемиды, когда серебряных дел мастера, изготовители фигурок богини, обвинили его в том, что, подрывая ее культ, он лишает их заработка{333}.
Над Павлом нависла угроза казни, и он был близок к отчаянию. Позже он напишет: «Бремя было настолько тяжелое и невыносимое, что мы не надеялись остаться в живых»{334}. Однако недели шли, и настроение улучшалось. Его друзья-филиппийцы организовали финансовый сбор и отправили в Эфес Эпафродита, чтобы он подкупил тюремщиков и обеспечил Павлу нормальное питание и обращение. Павел также констатировал, что благодаря его аресту благовестие стало шире обсуждаться даже дворцовой стражей и члены Иисусова движения «начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать слово Божие». Правда, нашлись и такие, кто проповедовал «по зависти и соперничеству», чтобы причинить Павлу боль. Но что с того? Как бы то ни было, благовестие распространялось. Благодаря в своем письме филиппийцев за дары, Павел пишет, что обрел внутреннее равновесие и уверен: «Я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью»{335}.
Проявленная филиппийцами щедрость заставила его взглянуть на сбор пожертвований для Иерусалима в новом свете. «Высшие апостолы» показали ему, что эгоизм и амбиции в движении не менее опасны, чем несправедливость имперских властей. В письме к филиппийцам он цитирует гимн Христу, увещевая читателей избегать этих качеств и подражать кеносису Мессии в повседневной жизни. Он благодарит за подарок, но насчет материальной стороны дела высказывается сдержанно до бестактности, подчеркивая, что в такой помощи не нуждается: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть»{336}. А вот отношение их его очень порадовало. Филиппийцы усвоили этику взаимопомощи, столь важную для миссии Иисуса в Галилее. Их дар был проявлением агапе. Но он был и актом поклонения, «благовонным курением, жертвой приятной, благоугодной Богу». И в ответ Бог обязательно ниспошлет свою милость{337}. Этот взгляд повлияет на все будущие размышления Павла о пожертвовании{338}.
Павел освободился из заточения весной или летом 55 г. Мы не знаем, почему и как это случилось. Позже он напишет, что Прискилла и Акила рисковали ради него жизнью. Может, ему помогли бежать? Как бы то ни было, Павел почел за лучшее не оставаться в Эфесе и немедленно отправился в Троаду, где надеялся проповедовать Евангелие{339}. Но ему не давала покоя мысль о коринфянах. Убедило ли их «слезное письмо», посланное до ареста? Тит уже отплыл в Коринф, чтобы выяснить ситуацию, и Павел отправился в Македонию, чтобы там встретиться с ним. Однако и в Македонии он нашел вместо покоя «со стороны – нападения, внутри – страхи»{340}. Судя по всему, снова встал вопрос об обрезании: некоторые из македонских верующих всерьез думали о полном обращении в иудаизм. Тогда он написал филиппийцам новое послание с просьбой не слушать тех, кто попытается навязать им обрезание{341}.
Тревоги Павла развеял Тит, пришедший с радостным известием: его ли усилиями или по инициативе самих коринфян «высшие апостолы» повергнуты и местная община горит желанием помириться с Павлом. В примирительном послании{342} Павел рассказывает, как обрадовался, узнав, что коринфяне мечтают увидеть его и ревностно встали на его защиту{343}. Значит, его письмо тронуло их! Они встретили Тита «со страхом и трепетом», готовые исполнить любую просьбу{344}. В итоге, заключает Павел, вся эта история сделала их еще сильнее: «Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения… какую ревность, какое взыскание! По всему вы показали себя чистыми в этом деле»{345}.
Вскоре после этих внезапных событий Павел написал коринфянам, что и в Македонии дела налаживаются. Среди испытаний македонцы «преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия». Они готовы внести свою лепту в пожертвования, «причем сверх сил – я свидетель»{346}. Павел просит коринфян возобновить сбор. Начало было хорошим, и теперь они так изобилуют «верой и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам», что пусть в избытке будет и щедрость{347}. Радость, которую Павел нередко испытывал в те дни, была не просто хорошим настроением: его сердце грело единение верующих – знак Духа, возвещающий о начале нового мира{348}. Сбор пожертвований на время прекратился, но теперь возобновился с новой силой{349}.
Чтобы организовать сбор средств, Тит отправился в Коринф с двумя спутниками, имен которых мы не знаем, хотя один из них был глубоко уважаем в движении. Поскольку речь шла о крупных суммах, Павел настоял на том, чтобы сбор курировали люди с незапятнанной репутацией{350}.
Но теперь Павел задумался о приеме, который ждал его в Иерусалиме. Как отреагируют Иаков и консервативные верующие на проявленную щедрость? Убедит ли она их в том, что новообращенными из язычников руководит Дух Божий? В очередном письме, включенном в коринфский корпус, но написанном общинам Ахеи{351}, Павел описал пожертвование как проявление тела Христова: оно объединяет движение и показывает, что верующие поддерживают друг друга. После долгих и тяжелых конфликтов это единение есть дар Божий, а дар верующих «нищим» (эвйоним) станет жертвой Богу, подобно жертвоприношениям храмовым.
Отныне Павел был убежден, что сбор пожертвований ускорит наступление Царства. А потому решил доставить деньги как можно скорее. Согласно пророчествам Исаии, в последние дни язычники стекутся в Святой Город, неся богатые дары со всех концов света. Казалось, пророк обращается непосредственно к Иакову и его общине эвйоним:
Возведи очи твои и посмотри вокруг: все они собираются, идут к тебе… Тогда увидишь, и возрадуешься, и затрепещет и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе{352}.Однако эти пожертвования не означали, что Иерусалим возглавляет движение, и не были актом патронажа, когда состоятельная община протягивает руку помощи «нищим» в знак своего превосходства. Таким разделениям нет места в общине Мессии. В письме к коринфянам Павел подчеркивает: «Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность [исотес]. Ныне ваш избыток в восполнение их недостатка; а после их избыток в восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность…»{353}
Доселе Павел не пользовался в своих письмах словом исотес, но вся его миссия была проникнута эгалитарным духом. У людей Христа все общее. Такова альтернативная экономика, основанная на взаимовыручке и взаимопомощи в сообществе равных.
Зиму 55/56 г. Павел провел в Греции. Свою деятельность в восточных провинциях он считал законченной. Эта уверенность поразительна. Как мог он вообразить, что всего за несколько лет ему удалось заложить фундамент мировой религии? Павел не был глуп. Мы увидим, что он испытывал серьезные опасения по поводу депутации в Иерусалим, трезво оценивая все связанные с этой миссией сложности. Но, конечно, он не считал возможным подходить к делу лишь прагматически. Он был уверен, что через внезапное восстановление гармонии и через сами пожертвования действует Бог. Возможно, именно эта уверенность и погубила его. Убежденный в том, что благовестие должно достигнуть «концов земли», согласно пророчествам Исаии, Павел мечтал отправиться с проповедью на запад, в Испанию, где высятся Геркулесовы столбы, обрамляя вход в океан, омывающий сушу. По его расчетам, плацдармом для нового этапа миссии должен был стать Рим. Поэтому зимой он написал послание к общине имперской столицы.
Послание к Римлянам считается шедевром Павла, окончательно оформляющим его теологию. Однако, подобно другим письмам Павла, оно говорит не столько о вероучении, сколько о социальном императиве. Но в одном отношении Послание к Римлянам стоит особняком: оно адресовано общине, с которой Павел не был знаком лично{354}. Мы не знаем, кто принес христианство в Рим; исторических подтверждений того, что римская община была основана Петром, нет.
Со времен Лютера Послание к Римлянам воспринималось как окончательное утверждение новаторской Павловой доктрины оправдания верой. Однако современные ученые показали, что интерпретация Лютера далека от того, о чем думал Павел, и, не занимая центрального места в его размышлениях, эта тема затрагивается в его посланиях к галатам и римлянам «с очень конкретными и специфическими задачами – защитить право обращенных язычников считаться полноправными наследниками обетований, данных Израилю»{355}. Ученые отходят и от некогда распространенной предпосылки, что оппонентами Павла всегда были либо иудеи, либо следующие предписаниям иудаизма иудеи-христиане{356}. Как мы уже видели, Павел мыслил шире и, в частности, с политико-религиозных позиций обличал «владык века сего». Эта тема обрела особую остроту в письме, адресованном ученикам Мессии в имперской столице.
Как всегда, в начале послания Павел представляется читателям и приветствует их, но на сей раз пишет стилем изящным. Его тон высокопарен и даже напыщен, когда он называет себя посланником Иисуса, царского потомка Давида, миссия которого охватывает весь мир. Римские читатели должны были заметить, что он использует термины официальной имперской пропаганды, уже знакомые и нам: благовестие Божие, «которое Бог прежде обещал через пророков Своих, в святых писаниях, о Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашем, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере [пистис] все народы»{357}.
В официальной имперской теологии титулы «сын Бога» и «господин» обычно относились к императору, а слово «благовестие» – к его достижениям. Говоря об Иисусе в этих категориях, Павел призывает римскую общину к верности подлинному владыке мира. Таким образом, ее члены должны были вступить с ним в своего рода «заговор», признав, что неведомо для властей предержащих в мире свершилась важнейшая перемена: Бог оправдал распятого Мессию{358}.
Когда Павел говорит о своей апостольской задаче «покорять вере все народы», он имеет в виду не столько веру, сколько верность. В официальной имперской теологии кесарь олицетворял пистис Рима: верность Рима договорным обязательствам и власти закона, справедливость, уверенность, правдивость и правоту. Это слово часто встречалось на монетах и надписях{359}. Но применительно к обычным людям оно обозначало верность подданных императору. Как и в предыдущих письмах, Павел ставит все с ног на голову. Его «благовестие» возвещает «силу Божию ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину, поскольку в нем открывается правда [дикайосюнэ] Божия от веры в веру»{360}.
Затем Павел обличает «нечестие и неправду» людей, которые отказываются признать всеприсутствие Бога в мире и для которых нет ничего святого{361}. Он порицает их идолопоклонство, разврат, «лукавство, корыстолюбие и злобу». Самовлюбленность заставляет их считать центром мироздания себя, а не Бога, и потому они полны зависти, предательства, тщеславия, спеси и надменности. В этом отрывке часто видят обычное для иудеев разоблачение греховности языческого мира. Да и сам Павел признает, что в синагогах такие речи не редкость. Но ведь не только иудеи критиковали нравы своего времени! Римские писатели и политики разного толка соглашались, что римская цивилизация переживает упадок и они живут в нечестивый век{362}. Гораций сетовал:
Чего не портит пагубный бег времен? Отцы, что были хуже, чем деды, – нас Негодней вырастили; наше Будет потомство еще порочней{363}.Эти опасения порождали всплеск надежд всякий раз, когда воцарялся новый император: вдруг ситуация изменится к лучшему?{364}
В таком широком контексте и обличал Павел зло. Говоря о людях, полных «распрей, обмана и злонравия», сплетниках, которые злы, наглы, высокомерны и хвастливы, он мог иметь в виду и иудейских высших апостолов{365}. А порицая сексуальные извращения – говорить о пороках двора и интригах некоторых аристократок. Разве не был Клавдий убит собственной женой? Даже императоров с их пресловутой божественностью, хранителей римской пистис и стражей римского закона, не обошла стороной всеобщая испорченность. Иудеи и язычники равно заявляли о своей вере в закон, упорядочивающий общество и представляющий волю Бога, однако все без исключения нарушали этот закон. В этой мрачной диатрибе выражены размышления Павла о роли закона, причем, как и в Послании к Галатам, он имеет в виду не только Тору, но и закон вообще. Невзирая на обещания, закону не удалось спасти человечество от разрушающей социальной несправедливости, классового, национального и социального разделения, морального и политического разложения{366}.
Далее Павел прибегает к риторическому приему, обращаясь к воображаемому иудею – члену римской общины, который при виде этого списка грехов принял его за обычное обличение язычников иудеями и самодовольно ощутил собственную праведность. Павел пресекает подобные мысли в зародыше: «Неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же»{367}.
Может ли хоть один человек, иудей или язычник, в глубине души считать себя непричастным тем порокам, которые перечислил Павел? А ведь «не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут»{368}. У Бога нет любимчиков. Павел уверен: всякий человек, который считает себя выше других, потерял связь с реальностью, поскольку Бог есть Бог всех людей, равно иудеев и язычников{369}. В этом риторическом обращении к иудею Павел использует еврейский шовинизм как пример опоры на привилегии и статус{370}. «Все согрешили… Где же то, чем бы хвалиться?»{371} Иудеи, осуждающие язычников; еврейские ученики Иисуса, принижающие и порочащие языческих членов экклесии; римские граждане, считающие иудеев существами низшего сорта; знать, полагающая себя вправе помыкать простолюдинами, – все они подвергнутся Божьему суду, когда Бог положит конец веку сему.
Как писал Павел галатам, закон делит людей по классовому, национальному, половому признаку, причем считает их неравноценными: иудеи превозносятся над греками (и наоборот), римляне – над варварами, вольноотпущенники – над рабами, мужчины – над женщинами. Закон (как его понимает Павел) отражает не только волю Божию, но и коллективную волю общества. Более того, требования Закона вызывают у людей острое чувство своей неполноценности, ущербности и слабости, страха перед публичным позором{372}. «Законом познается грех», – объясняет Павел{373}. Когда он говорит о собственном грехе, то всегда вспоминает, как преследовал учеников Иисуса. А вместе с обращением пришло осознание: «Доброго, которого хочу, не делаю». Ревностное послушание Закону не только не ускорило явления Мессии, но и замедлило его. Но беда не в самом Законе, а во внутреннем грехе{374}. Вопреки мнению Лютера, Павел не сетует здесь на свою принципиальную неспособность соблюдать Закон. Он считает, что преследовать общину Мессии его заставлял «грех» эгоизма, желание утвердить себя за счет других людей. При таком подходе Закон становится средством получения почестей для себя и своей группы{375}. Но искать привилегий и отличия подобным образом значит притязать на богоподобие и отрицать самую сущность Закона.
Павел не раз видел опасность такого рода шовинизма в ходе своего миссионерского служения. Так, в Антиохии, из-за посланников Иакова еврейские ученики Павла посчитали ниже своего достоинства участвовать в одних трапезах с языческими братьями и сестрами. Галаты ощущали себя неполноценными в сравнении с «настоящими» иудеями. И в Коринфе «духовные» верующие и «высшие апостолы» искали ложно понятое престижа.
Павел на собственном опыте понимал, насколько это может быть соблазнительно. Вот почему он настаивал на том, что лучшим способом искоренения «греха» является ежедневный кеносис, проявляющийся на практике в сообществе, основанном на взаимной поддержке, где все равны.
В посланиях коринфянам Павел называл «греховное» отношение «похвальбой» (каухэсис). Обращаясь к гипотетическому иудею, полагавшему, что Тора дала ему незыблемое превосходство над язычниками, он говорит:
Хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из Закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в Законе образец ведения и истины{376}.
Однако и римские язычники ощущали свою добродетельность, когда видели, как человека осуждают, предают позору и казнят по законам Рима за малейшее прегрешение. Дух «похвальбы» приводил к «делам закона», т. е. социальной дифференциации, агрессивному соперничеству, жадности, конфликтам и разобщенности{377}.
Грех пришел в этот мир из-за эгоистичной самонадеянности Адама, который отказался признавать ограничения: по наущению змея он возжелал стать «как бог», чем принес миру великие несчастья{378}. В своем письме к филиппийцам Павел высказал мысль, что с Мессией возникло новое человечество: ведь Иисус, в отличие от кесарей, не стремился быть равным с Богом, но «уничижил себя», отказавшись от подобных амбиций, шовинизма, поглощенности собой. Отказавшись от всяких привилегий, он принял смерть на кресте. Галатам Павел показал Мессию, добровольно подвергшего себя страданиям, на которые его обрек закон, ради солидарности с жертвами этого закона, возвышающего одних людей и унижающего других. Коринфянам Павел проповедовал коллективную, совместную природу спасения: ведь все верующие формируют тело Христово. Теперь же римской общине Павел описывал Иисуса как царя, который, что удивительно, примкнул к бунтарям, преступившим закон:
Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками{379}.
Христос, которому по праву принадлежал носимый императорами титул «сын Божий», перевернул привычные для политического мира устои. Он стал диаметральной противоположностью кесарю, именовавшему себя «первым среди равных» (примус интер парес). Воскресение Иисуса положило конец одностороннему пониманию пистис как навязываемой лояльности поданных своим владыкам. Кириос Иисус избрал немощь вместо привилегий, и солидарность, основанную на равенстве, вместо гордыни и насилия. Поэтому ученики Мессии освобождены Духом, который не есть «дух рабства» и страха, но Дух, ведущий «в свободу славы детей Божиих»{380}. Однако Павел предостерегает римлян от ошибок коринфских «духовных» верующих, которые полагали себя достигшими совершенства. До самого Второго пришествия люди будут страдать и умирать, хотя должны быть уверены в окончательной победе{381}.
Однако под конец послания Павел добавляет наставления, которые с виду не вяжутся со сказанным ранее. Этот бесстрашный противник империи внезапно заявляет:
Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божьему установлению… Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро… И потому надобно повиноваться…{382}
На первый взгляд это кардинально противоречит взглядам Павла. Поэтому некоторые ученые подозревают здесь позднюю вставку{383}. Однако есть и другая версия: отрывок надо читать в контексте Павловой веры в скорое возвращение Христа, который будет судить имперский мир. До той поры римская власть попущена Богом, однако сроки ее истекают: она подойдет к концу, когда Христос низвергнет власть имущих с престолов{384}.
Павел никогда не подстрекал к бунтам. Фессалоникийцам он советовал жить тихо и заниматься своим делом. Нельзя провоцировать власти на массовые репрессии по отношению к ученикам Мессии, поскольку это замедлит наступление Царства. В Риме еще были живы воспоминания о том, как при Клавдии изгнали некоторых членов Иисусова движения. Собираясь проповедовать на Западе, Павел хотел опереться на римскую общину и не желал ставить ее под удар{385}.
Другие ученые говорят, что Павел цитирует еврейский текст, относящийся ко временам римской республики до возникновения империи. Ссылаясь на устаревший закон, он таким образом призывает к децентрализации и подрывает идеологию, которая мыслила государство и кесаря единым целым{386}.
Как бы то ни было, для Павла важно, чтобы этика и политика были пронизаны духом агапе: «Люби ближнего твоего как самого себя», «Любовь не делает ближнему зла; итак, любовь есть исполнение закона»{387}. В своем истолковании этой заповеди Иисус учил своих последователей, что любить следует даже врагов и гонителей: ведь Бог посылает солнце и дождь равно праведникам и нечестивцам{388}. И Павел, как и всегда, призывает к взаимной любви и единению. Сеющим рознь с их упоением собственным превосходством нет места в общине Мессии.
Затем Павел предупреждает римлян, как и ранее коринфян, что сильные должны уважать мнение «немощных». Он уже предостерегал иудейских членов общин от свойственной им тенденции смотреть на язычников свысока, но, судя по всему, среди языческих членов римской общины стал проявляться шовинизм по отношению к иудеям – они отвергли Мессию, а значит, навсегда утратили милость Божью{389}. Возможно, именно это вдохновило Павла на пламенную защиту иудеев в нескольких главах письма (Рим 9–11), где он решительно отождествляет себя со своим народом. Их положение, говорит он, есть «великая печаль и непрестанное мучение» его сердцу:
Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, т. е. израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования; их и отцы, и от них Христос по плоти{390}.
Павел не верит, что Бог навсегда отверг свой народ. Более того, он усматривает в отвержении Мессии высший промысел: поскольку евреи «споткнулись», язычники обрели спасение. Ожесточение Израиля продлится, «пока не войдет полное число язычников; и так весь Израиль спасется»{391}.
А между тем языческие члены экклесии не должны осуждать еврейских собратьев, которые соблюдают пищевые запреты Торы. Быть может, даже после обращения некоторые римские граждане считали евреев подчиненным народом и воспринимали их древние обычаи как варварские. Как мы уже знаем, Павел не считал пищевые запреты существенными, но закон любви исключал для него шовинизм: в семье Мессии все люди – слуги Божьи:
Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну… Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь{392}.
Павел положил многие годы на то, чтобы привести язычников к Богу во исполнение Священного писания. Теперь он делится с римлянами своими планами относительно западной миссии и сообщает, что надеется посетить их по пути в Испанию. Это дает ему повод заговорить о сборе пожертвований, акцентирующем единство евреев и язычников в общине Мессии:
Македония и Ахея решили собрать деньги для бедных среди народа Божьего в Иерусалиме. Решили, да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовных богатствах, то должны помочь им в материальных нуждах{393}.
Ранее Павел обещал «столпам», что будет помнить и поддерживать иерусалимских «нищих» в их эсхатологической задаче подготовки к возвращению Иисуса в Святой Город. Однако после долгой миссии среди язычников он стал считать, что иерусалимская община напрасно считает себя исключительной. Римлянам он описывает сбор пожертвований как инициативу языческих общин и обмен дарами.
Свое письмо Павел, возможно, доверил Фиве, главе экклесии в Кенхреях (восточном порте Коринфа), которая собиралась совершить деловую поездку в Рим{394}. Затем он занялся организацией большой делегации в Иерусалим, чтобы она отбыла весной 56 г. и поспела в Святой Город к празднику Шавуот (Пятидесятницы). При этом Павла одолевали смешанные чувства. С одной стороны, он был уверен, что с экспедицией все получится. Невзирая на трения, оставшиеся между ним и Иаковом после антиохийского спора, он не мог вообразить, чтобы иерусалимская община отказалась принять добрый дар языческих верующих. Его общины прошли сквозь горнило испытаний и, по мнению Павла, обрели собственный вес. Делегация набиралась большая: по данным Луки, людей было столь много, что путешествовать и жить вместе не получалось{395}. Пусть в Иерусалиме увидят, какую силу обрело Иисусово движение в диаспоре благодаря усилиям Павла! Тем более его новообращенные уже не уходили в эгоистически-индивидуалистическую религиозность, а все больше осознавали себя частью всемирной общины. Пожертвования доказывали их твердое намерение трудиться рука об руку, как равные, с иерусалимскими «нищими» ради прихода Царства{396}.
С другой стороны, Павла мучило беспокойство, которым он поделился с римской общиной: «Умоляю вас… подвизаться со мной в молитвах за меня Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее и чтобы служение мое для Иерусалима было принято народом Божьим»{397}.
Он понимал: при виде того, как большая процессия чужеземцев несет дары на Сион, еврейские верующие вспомнят пророчества Исаии о паломничестве в Святой Город в последние времена, когда «богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе»{398}. В Послании к Римлянам Павел ссылается на весть Исаии о будущем обращении язычников к Богу Израилеву: «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: „Воцарился Бог твой!“»{399}
Но Павел также знал, что это пророчество начинается с обетования Господнего Иерусалиму: «Облекись в силу твою, Сион!.. ибо уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый»{400}. Между тем он собирался привести в Иерусалим целую толпу необрезанных и не соблюдающих Тору язычников, да еще в один из самых священных для иудеев дней в году…
Павел отлично понимал, что ставит предсказанный эсхатологический сценарий с ног на голову{401}. Пообещав «столпам» под конец иерусалимской встречи, что не забудет «нищих», он обеспечил языческой миссии один статус с миссией Петра к евреям. Однако теперь он пришел к мысли, что его миссия важнее. В своем письме к римлянам Павел признается языческим членам общины, что гордится возложенным на него поручением принести благую весть язычникам: «Вам говорю, язычникам, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в соплеменниках моих и не спасу ли некоторых из них?»{402}
Посланники, с которыми он собирался в Иерусалим, не вели на Сион рассеянные еврейские общины (что соответствовало бы предсказаниям пророков). И у них не было планов поселиться на Сионе, соблюдая еврейский Закон. Они хотели прийти и снова уйти, чтобы нести благовестие по всему миру. Иерусалим больше не мыслился как центр движения, и Павловы язычники не кротко несли дары в Храм (как предрекал Исаия), а поддерживали финансами слабую еврейскую секту, члены которой именовали себя «нищими». Павел отлично отдавал себе отчет в том, что такая депутация запросто могла всколыхнуть зависть и недовольство среди его еврейских собратьев. И все-таки, несмотря ни на что, он надеялся, что при виде такого зрелища единоплеменники осознают свои ошибки…
Лука даже не упоминает о сборе пожертвований, и к его рассказу в Деяниях, как обычно, следует относиться с осторожностью. Однако нет оснований сомневаться в том, что он верно описал путешествие в целом. Лука сообщает, что Павел и некоторые делегаты провели Пасху в Филиппах, проплыли вдоль побережья Азии, миновали Финикию и, наконец, добрались до Кесарии, после чего проделали остаток пути по суше. Но едва ли встреча Павла с Иаковом была такой сердечной, как описывает Лука. Согласно Деяниям, Иаков и старейшины встретили прибывших радушно: «Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. Они же, выслушав, прославили Бога…»{403} Между тем Павел был очень известным человеком в движении, и его деятельность была для Иакова и его общины далеко не новостью. Потому куда вероятнее иная реакция: они не возблагодарили Бога за приезд Павла, а ощутили, что оказались в крайне неприятном положении{404}.
После гонений, развязанных Иродом Агриппой, Иаков стяжал своим благочестием и усердным соблюдением Торы уважение большинства благочестивых жителей Святого Города. И тем самым обеспечил безопасность Иисусову движению в Иерусалиме. Но тут на него, как снег на голову, свалилось множество язычников, считающих себя наследниками обетований Аврааму! Это не могло не спровоцировать широкое недовольство среди еврейского населения, и основной мишенью должны были стать эвйоним. Мало того, Павел, сам того не желая, прибыл в крайне неудачный момент. Семью неделями ранее некий пророк из Египта «…собрал около 30 тысяч простаков и провел их пустынной местностью к Масличной горе, откуда намеревался силой войти в Иерусалим, подавить римский гарнизон и захватить верховную власть»{405}. Нечего и говорить, что римляне отреагировали очень жестко. Однако египтянин спасся бегством и до сих оставался на свободе. Поэтому римляне были настороже, особенно во время земледельческого праздника Седмиц, в ходе которого праздновали владычество Господне над Землей Израилевой. Этот праздник напоминал, что и земля, и ее плоды принадлежат Господу, а не Риму.
Похоже, что грандиозная затея Павла обернулась грандиозным провалом, но Лука либо не знал о ней, либо умолчал о произошедшем. Павловы взгляды были отлично известны в Иерусалиме; некоторые фарисейские зелоты, ранее поддерживавшие его гонения на Иисусово движение, все еще считали его отступником и предателем, а изобилие языческих спутников подтверждало их худшие подозрения. Принимать пожертвования безоговорочно для Иакова было небезопасно. Однако и отказаться не получалось. Отказ был бы плевком в лицо и навсегда расколол бы Иисусово движение. Из рассказа Луки мы можем понять, каким было компромиссное решение. Согласно Деяниям, Иаков убедил Павла заплатить за сложные недельные обряды очищения, которые должны были пройти в Храме четыре благочестивых еврейских общинника, а также самому очиститься с ними на третий и седьмой день. Это показало бы всем, что Павел не враг Торы{406}. Тогда Иаков мог потихоньку, не афишируя это, принять пожертвования.
Но, как рассказывает Лука, когда Павел вошел в Храм для совершения обрядов, началась потасовка и Павла чуть не убили. Римляне приняли его за пропавшего «египтянина» и отвели в крепость{407}. В итоге он оказался в тюрьме в Кесарии и, если верить Луке, его дело стало предметом разборок между римским прокуратором Феликсом и первосвященником Ананией, друг с другом не ладившими. В итоге Павла как римского гражданина экстрадировали в столицу на суд имперского трибунала.
У Луки схваченный Павел произносит множество красивых речей: перед еврейскими молящимися в Храме, перед Феликсом и его преемником Фестом, перед Синедрионом, а также Иродом Агриппой Вторым. И всякий раз эти речи встречают одобрение и уважение. Лука описывает Павлово путешествие в Рим как захватывающее приключение, и будто бы вся римская община вышла встречать его на Аппиеву дорогу. Под занавес Лука сообщает, что в течение двух лет Павел жил в Риме, открыто и беспрепятственно возвещая Царство Божие{408}. Всегда желая показать, что Павел был послушным слугой империи, Лука не мог заставить себя рассказать правду. А может, и не знал, что случилось с его героем.
Похоже, что на самом деле Павла заставили замолчать. Ничто не указывает на то, что после рокового визита в Иерусалим он основал хоть одну общину. Если он и писал какие-то письма, они не сохранились. Никто не знает, как и когда он умер. Климент, епископ Римский, в своем произведении, написанном около 96 г., не упоминает о заключении Павла в имперской столице, но сообщает, что Павел завершил миссию в Испании: «Будучи проповедником на Востоке и Западе, он приобрел благородную славу за свою веру. Научив весь мир правде и дойдя до границ Запада, он мученически засвидетельствовал истину перед правителями. Так он переселился из мира и перешел в место святое»{409}.
Живший в IV в. церковный историк Евсевий, епископ Кесарийский, полагал, что Павла обезглавили, а Петра распяли в Риме в ходе гонений на христиан при Нероне в 64 г. Он писал: «Рассказ этот подтверждается именами Петра и Павла, уцелевшими на кладбищах этого города»{410}.
В качестве дополнительного подтверждения Евсевий цитирует авторитетов II в.: римского клирика по имени Гай и коринфского епископа Дионисия. Однако в интонациях Евсевия сквозит неуверенность, словно он сам ощущает незначительность и слабость фактуры. По-видимому, реальность была проще и страшнее.
Как предполагает Джон Доминик Кроссан, ученики могли не знать, что случилось с Иисусом после его ареста и их бегства в безопасную Галилею. Едва ли, несмотря на утверждения Евангелий, для решения судьбы малоизвестного пророка из Назарета стали собирать особую сессию Синедриона ночью, да еще на крупный праздник. И едва ли Пилат, впоследствии отозванный в Рим из-за своей опрометчивой жестокости, стал предпринимать героические попытки спасти его. Евангельские рассказы о распятии наполнены цитатами из псалмов скорби: судя по всему, ученики искали в Писании (которое, как они верили, предсказывает судьбу Мессии) ключи к разгадке. «В детальных рассказах о Страстях мы находим не воспоминания об истории, а придание пророчествам исторического смысла», – пишет Кроссан{411}.
Да, Иисуса распяли: об этом свидетельствуют Иосиф Флавий и Тацит. Однако в Римской империи распятие было событием заурядным и непримечательным. «Я очень сомневаюсь, что иудейским стражникам и римским солдатам пришлось много согласовывать судьбу Иисуса с начальством, – заключает Кроссан. – Повторюсь, нам просто трудно осознать будничность той жестокости, с какой он, видимо, был схвачен и казнен»{412}.
Также и Павел мог попросту сгинуть в римской темнице. И в наше время мало ли мы видим, как могущественный режим сметает с пути мелких противников, мешающих ему! Наличие разных версий кончины Павла указывает на то, что после ареста он пропал: стал, подобно Иисусу, жертвой «будничной жестокости». А возможностей умереть безвестной, жалкой и унизительной смертью в римской темнице было множество. Под конец Павел мог поддаться и отчаянию. Ведь он не достиг концов земли и не стал свидетелем Парусии. Его пожертвования были отвергнуты, а в движении назрел раскол. А что бы ощутил Павел, если бы узнал, как церковь, которую он помог создать, истолкует его учение?
Посмертие
Для языческих церквей потеря Павла стала страшным ударом. Такие надежды возлагались на сбор пожертвований, и вдруг – трагическая неудача. Верующие ощутили себя потерянными и брошенными на произвол судьбы. Павел был не только их главной связью с Иерусалимом: он связывал их друг с другом. Единство экклесий, столь важное для Павла, оказалось под угрозой. Для них было унижением узнать, как обошлась с их даром иерусалимская община.
Связь экклесий с Иерусалимом стала еще тоньше с началом еврейского восстания против Рима и разрушением Храма, имевшего столь важное значение для Иакова и его общины. В результате этой катастрофы претерпел изменения и сам иудаизм. Из храмовой религии раввины сделали религию книги, постепенно создав новые писания – Мишну, Иерусалимский и Вавилонский Талмуды, – которые займут место Храма и станут средоточием божественного. В процессе этой великой трансформации Иисусово движение в иудаизме постепенно пойдет на убыль: ведь Иисус не явился снова, а то, что мы сейчас называем христианством, стало верой преимущественно язычников.
С конца XIX в. многие ученые приводят доводы в пользу того, что Послания к Колоссянам и к Ефесянам были написаны от имени Павла после его смерти. Их стиль сильно отличается от стиля Павла, непосредственного и лаконичного, да и по содержанию они отражают более позднее время. Острые дискуссии о допуске язычников в общину остались позади. И если в несомненных Павловых посланиях словом экклесиа чаще называется та или иная местная община, здесь так именуется движение в целом. Возникла «церковь» в нашем понимании, и возникло церковное богословие. И эти письма рассматривают уже не частные проблемы общин, а более широкие вопросы. Возможно, они были написаны в конце I в. учениками Павла, которые избрали псевдонимный жанр, ибо верили, что в столь сложный период для решения проблем необходим апостольский авторитет.
С исчезновением Павла стало понятно, что Второе пришествие свершится не так скоро, как все думали. И если Павел призывал своих последователей держаться подальше от неверующих, поскольку мир, каким мы его знаем, подходит к концу, теперь они все больше понимали: впереди долгий период сосуществования со всем остальным обществом. Но как не утратить при этом своей идентичности? Авторы пытаются адаптировать идеи Павла (в частности, его попытку сплотить общины путем сбора пожертвований) к новой обстановке. И таким образом, Послания к Колоссянам и к Ефесянам развивают Павлово богословие в новом направлении.
Обоим авторам присуще острое восприятие церкви как единого целого. Собственно, они и изобрели экклезиологию. Они используют образ тела Христова, созданный Павлом, но с одним существенным отличием. У Павла он имел антиимперской подтекст: в противовес пониманию императора как главы общества, Павел разработал плюралистический идеал общины, которая основана на взаимозависимости, а «слабейшие» органы пользуются даже большим почетом, чем голова. Послания к Колоссянам и Ефесянам делают Христа главой тела, пытаясь при этом сохранить некоторые ключевые идеи Павла. Например, в первом из них читаем о Христе: «Он есть глава тела Церкви; он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство»{413}.
Автор Послания к Ефесянам во вполне Павловом духе призывает читателей духовно возрастать, ориентируясь на Христа: «…дабы мы … истинной любовью все возвращали в Того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви»{414}.
Налицо попытка сохранить Павлов акцент на любви, важности созидания общины и взаимозависимости ее членов. Но начинает возникать иерархия: Христос отождествляется уже не с телом в целом и со всеми в экклесии, но только с головой.
В этой концепции Христос остается альтернативой кесарю, но после ужасов иудейской войны с Римом Павлову критику «владык века сего» решили не продолжать. Христос описан как победитель космических, а не земных сил. Вместо того чтобы фокусироваться на скором Втором пришествии, когда Христос вернется на землю и сокрушит имперское правление, авторы настаивают на том, что Иисус уже одержал эту победу, но на небесах. Некогда решая проблемы, созданные «духовными» верующими в Коринфе, Павел подчеркивал, что Царство еще не пришло. Но эти авторы говорят, что ученики Христа уже живут качественно иной жизнью. Автор Послания к Колоссянам пишет: «Он избавил нас от власти тьмы и ввел в Царство возлюбленного сына своего», т. е. в область света{415}. «В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению Совершающего все по изволению воли своей», – читаем в Послании к Ефесянам. Отныне Христос воцарился «превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем»{416}. Политическая концепция Павла как бы перенесена в другой мир и другое временное измерение.
Эти тексты показывают начало изменения Павловой традиции. Желая приспособить богословие Павла к новым обстоятельствам, авторы потихоньку меняют его. Это особенно очевидно в указаниях о христианском домохозяйстве. На смену утопическому эгалитаризму Павла пришла иерархическая концепция, согласно которой жены должны слушаться мужей, а дети – родителей. Звучит и такая заповедь: «Рабы, во всем повинуйтесь земным господам вашим»{417}. Стилистика и лексика этих пассажей вполне созвучны культуре своего времени: патриархальность, чуждая Павлу, уже проникла в языческие экклесии. Крещальный возглас («нет мужеского пола, ни женского!») теряется в рассуждениях об иерархическом теле Христовом:
Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви. Христос есть спаситель этого тела; но как Церковь повинуется Христу, так и жены должны повиноваться своим мужьям во всем{418}.
Эти стандартные инструкции отражают возникшую потребность сосуществования с греко-римским обществом. Второе пришествие оказалось отложено на неопределенный срок, и Павлов радикализм требовалось смягчить: иначе движение не выжило бы. Эти указания напоминают домашние кодексы, которым придавали большое значение греко-римские философы, историки и еврейско-эллинистические авторы, полагая, что упорядоченность семьи важна для нормального функционирования общества{419}. Описанное здесь патриархальное домохозяйство не выдумано Павлом или авторами девтеропаулинистских посланий: оно отражает греко-римские нормы. Авторы лишь попытались наполнить их Павловыми идеалами любви и служения: в центре внимания находится верность человека Христу, а не государству (как в эллинистических домашних кодексах){420}.
Радикализм Павла был утопичен. Он был возможен лишь до тех пор, пока все верили, что Христос вернется в ближайшем будущем и установит новый мировой порядок. Павлово представление о том, что закон ведет к несправедливости и разделяет, перекликается с нашей вечной неудовлетворенностью цивилизацией и стойкой верой в необходимость равного сосуществования. Быть может, эта вера возникла в тысячелетия, когда мы занимались охотой и собирательством в маленьких эгалитарных общинах. За какие-то 5000 лет мы не вполне адаптировались к цивилизации, неизбежно неэгалитарной и неспособной выжить без драконовских законов.
Но вот парадокс: описывая, как Христос низложит земные власти, Павел фактически уподобил это событие победам императора:
А затем конец, когда он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится – смерть, потому что «все покорил под ноги его»{421}.
Авторы Посланий к Колоссянам и к Ефесянам сохранили эти образы, но перенесли их на космический уровень. А когда случилось немыслимое и в 312 г. Константин стал первым христианским императором Рима, такая риторика пригодилась, чтобы обосновать его мировое владычество.
Авторы Посланий к Колоссянам и к Ефесянам старались сохранить голос и авторитет Павла. Но для большинства христиан древней Церкви он был загадочной фигурой. Когда автор Второго Послания Петра описывает общинам диаспоры окончательное пришествие Господа, он призывает их быть терпеливыми, как «возлюбленный брат наш Павел» «написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные, к собственной своей погибели, извращают, как и прочие Писания»{422}.
Немецкий ученый Эрнст Кеземанн однажды заметил, что уже в первые годы после своей смерти Павел стал «большей частью непонятен»{423}. Он мало повлиял на тех богословов II в., которых принято называть «мужами апостольскими». Игнатий Антиохийский упоминает о нем лишь шесть раз, причем ясно, что понимает он Павла в лучшем случае поверхностно. Поликарп, епископ Смирнский, признает, что ни он, ни кто-либо другой не способен понять мудрость блаженного и славного Павла{424}. Раннехристианский апологет Юстин Мученик нигде не упоминает Павла, а Феофил, епископ Антиохийский, ссылается на идеи Послания к Римлянам о повиновении государству, но не называет Павла по имени.
Парадоксальным образом раннехристианские мыслители, активно обратившиеся к Павлову наследию, впоследствии были сочтены еретиками. Маркион, образованный и богатый судовладелец из Синопа, крупного черноморского порта, считал Павла единственным апостолом, сохранившим верность учению Иисуса. Его реформистское движение распространилось столь быстро, что к моменту его смерти в 160 г. «маркионитство» угрожало затмить собой «официальную» церковь. Маркион составил Евангелие, взяв за основу Евангелие от Луки и Павловы послания, которым придал статус Священного Писания. Его «Новый Завет» предполагал отрицание Еврейской Библии, отвергнутой как Ветхий Завет, который, по его мнению, проповедовал не Бога Иисуса, а иного Бога. По учению Маркиона, ветхозаветный Бог-Творец, даритель Закона, обещавший спасение только евреям, отличался жестокостью и мстительностью, тогда как Бог Иисуса милостив ко всем и несет любовь.
До нас не дошло ни одно сочинение Маркиона: остались лишь фрагменты в цитатах его противников. Судя по всему, Маркион не отвергал Тору огульно, но с одобрением цитировал ее заповеди о любви к Богу и ближнему. Однако его представление об Иисусе как о принципиально новом откровении было не созвучно Павловой трактовке Иисуса как венца еврейской истории. Маркионовы общины отличались аскетизмом и даже некоторым пуританством. Если Павел в своих рекомендациях безбрачия был осторожен, последователи Маркиона довели эти советы до крайности и практиковали строгий целибат; при крещении все отрицали заповедь «плодиться и размножаться», данную Богом-Творцом{425}, а к удовольствиям, получаемым от еды и питья, относились с таким презрением, что даже на вечере Господней употребляли вместо вина воду. Однако Маркион понял эгалитаризм Павла и его заботу о нищих и обездоленных. И его церковь была первой, которая вослед Павлу ввела женское служение: в его общинах женщинам разрешали исцелять и учить; женщин рукополагали в епископы и пресвитеры. Маркион также разделял Павлово понимание взаимосвязи между свободой и спасением.
Чтобы опровергнуть это учение, противникам Маркиона пришлось тщательно изучать написанное Павлом. Среди этих противников могли быть авторы так называемых Пастырских посланий (Первого и Второго Посланий к Тимофею и Послания к Титу), созданных от имени Павла, по-видимому, в начале II в. в Риме или Эфесе, но приписанных ему лишь в конце II в. По стилю и содержанию они значительно сильнее отличаются от подлинных Павловых посланий, чем Послания к Колоссянам и к Ефесянам. Они содержат многие слова и выражения, которых не было в подлинных посланиях Павла. Там не упоминается Парусиа и не говорится о жизни «во Христе», греческая пистис понимается не как «верность», а как «христианская вера»{426}, а Иисуса не называют «Сыном Божьим». «Пастырскими» эти послания назвали потому, что они содержат наставления для христианских лидеров, которые к этому времени уже формировали иерархию, не свойственную общинам Павла: эта иерархия включала епископов, пресвитеров и дьяконов.
Пастырские послания отражают полемику с маркионитством{427}. В уста Павла вложен призыв: «О, Тимофей! Храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословий лжеименного знания»{428}, под которым явно подразумевается знаменитый трактат Маркиона «Антитезы».
Этот же текст обличает и «запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением»{429}. Авторы явно не одобряли женское служение в Маркионовых общинах. С их точки зрения, женщинам лучше зарабатывать спасение, рожая детей и слушаясь мужа: «Жена да учится в безмолвии, со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева; и не Адам прельщен; но жена, прельстившись, впала в преступление»{430}.
Авторов Пастырских посланий явно беспокоила проблема гностицизма. Среди кодексов, найденных в районе египетского селения Наг-Хаммади в 1940-х гг., мы находим тексты и Евангелия верующих, которые пытались обрести спасение путем особого эзотерического «знания». Гностицизм распространился по Италии и восточным провинциям во II в. и, подобно маркионитству, глубоко тревожил людей вроде епископа Иринея Лионского, который считал гностиков «еретиками», отступниками от евангельского учения и раскольниками. Согласно гностическому мифу, который впоследствии найдет отражение в еврейской и исламской мистике, кризис внутри Божества привел к рождению Демиурга, создателя низшего злого мира плоти и греха. В ходе этого первоначального события некоторые божественные искры попали в небольшое число людей, формирующих духовную элиту (пнэуматикой), остальные же люди (психикой) лишены Духа и духовного видения. Впрочем, спасения можно достичь через Христа, который сошел на землю, соединился с человеком Иисусом и достиг освобождающего знания (гносиса) о подлинном происхождении и участи людей.
Валентин, самый влиятельный из гностических учителей II в., больше всего вдохновлялся Павлом{431}. Разве Павел не обозначил в Первом Послании к Коринфянам разницу между «духовными», «душевными» и «плотскими» людьми? А гимн Христу в его Послании к Филиппийцам великолепно описывает сошествие Искупителя на землю. Павел полагал, что бездуховное «я» лишено благости, и восклицал с горечью: «Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти?!» Говорил Павел и о том, что ему «все позволительно», подразумевая право пнэуматикой вкушать идоложертвенное и не связывать себя мелочными установлениями основной церкви…
Разумеется, это было неверное истолкование учения Павла, ведь в своем письме к коринфянам он не одобрял взгляды коринфских пнэуматикой, а высмеивал их. Но такая участь часто постигала его наследие. Авторы Посланий к Колоссянам и к Ефесянам сочли необходимым отказаться от Павлова эгалитаризма и политического протеста против имперской тирании. Пастырские послания внесли в христианство женоненавистничество, в котором спустя столетия обвинили Павла. Учение Августина о первородном грехе, основанное на прочтении Павла в латинском переводе, было глубоко чуждо Павловой мысли, как и знаменитое учение Лютера об оправдании верой. Павел, никогда не отрицавший свою принадлежность к иудеям, был сочтен антисемитом. А Маркион и гностики, считавшие Павла значительной фигурой, внедрили в христианское мировоззрение настороженное отношение к иудаизму и Ветхому Завету, впоследствии обернувшееся роковыми последствиями.
Павла винили в идеях, которых он никогда не проповедовал, а некоторые из его великих духовных прозрений были забыты. Его страстная забота о бедняках начисто упускается из виду христианскими сторонниками «теологии благополучия». Его решимость искоренять национальные и культурные предрассудки, разделяющие людей; его отказ от всех форм «похвальбы» как от ложного чувства собственного превосходства; его глубокое недоверие к эгоистически-индивидуалистической духовности, которая превращает веру в ублажение своего «я», – все это не стало частью христианского мировоззрения. Что сказал бы Павел, увидев, как римские папы заняли место императоров после падения Римской империи в западных провинциях?
Многим людям, крепким в вере, полезно почитать, как Павел урезонивает «сильных», подавляющих «немощных» своей несокрушимой уверенностью. А серьезнее всего мы должны отнестись к следующей мысли Павла: ни одна добродетель не имеет значения, доколе не сочетается с любовью. При этом любовь – не только теплое чувство в сердце: она должна каждодневно выражаться в практических делах и жертвенной заботе об окружающих.
Сноски
1
Сим – библейский персонаж, старший сын Ноя (имел двух братьев – Хама и Иафета). Считается прародителем упоминаемых в Библии семитских народов. – Прим. ред.
(обратно)2
Клиенты – люди, искавшие покровительства богатых граждан Древнего Рима и находившиеся в зависимости от них. В клиенты попадали те, кто не имел гражданских прав. Лицо, оказавшее покровительство, называлось «патроном». – Прим. ред.
(обратно)(обратно)Комментарии
1
Мф 27:37. [Далее Библия обычно цитируется по Синодальному переводу. В отдельных местах внесены изменения, отражающие понимание текста К. Армстронг. – Прим. пер.]
(обратно)2
Martin Hengel, Crucifixion in the Ancient World and the Folly of the Message of the Cross, trans. John Bowden (London: SCM Press; Philadelphia: Fortress Press, 1977), 76.
(обратно)3
Иосиф Флавий. Иудейская война 2:75; Иудейские древности 17:205. См.: Flavius Josephus, The Jewish War, trans. G. A. Williamson (Harmondsworth, UK: Penguin, repr. 1967); The Antiquities of the Jews, trans. William Whiston (Marston Gate, Amazon.co.uk. Ltd., n. d).
(обратно)4
Иосиф Флавий. Иудейская война 5:449–51. [Здесь и далее, за исключением оговоренных случаев, цит. по изд.: Иосиф Флавий. Иудейская война. Пер. М. Финкельберг (кн. I–VI), А. Вдовиченко (кн. VII); под ред. А. Ковельмана. – М.: Мосты культуры / Иерусалим: Гешарим, 2008. – Прим. пер.]
(обратно)5
John Dominic Crossan, Jesus: A Revolutionary Biography (San Francisco: Harper, 1995), 172–78.
(обратно)6
1 Кор 15:4.
(обратно)7
Richard A. Horsley, Jesus and the Spiral of Violence: Popular Jewish Resistance in Roman Palestine (San Francisco: Harper & Row, 1987), 286–89; Seán Freyne, Galilee, from Alexander the Great to Hadrian, 323 BCE to 135 CE: A Study of Second Temple Judaism (Wilmington, DE: M. Glazier; Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1980), 283–86.
(обратно)8
Иосиф Флавий. Иудейские древности 19:36–38; Richard A. Horsley, «The Historical Context of Q,» in Richard A. Horsley with Jonathan A. Draper, Whoever Hears You Hears Me: Prophets, Performance, and Tradition in Q (Harrisburg, PA: Trinity Press International, 1999), 58.
(обратно)9
Мф 3:7–10; Лк 3:7–10.
(обратно)10
Ис 1:15–17.
(обратно)11
Иосиф Флавий. Иудейская война 2:142–44. [Пер. И. Д. Амусина. Цит. по изд.: И. Д. Амусин. Тексты Кумрана. Вып. 1. – М.: Наука, 1971. – Прим. пер.]
(обратно)12
Лк 3:11.
(обратно)13
Лк 3:21–22.
(обратно)14
Лк 4:14.
(обратно)15
Мк 1:14–15.
(обратно)16
Мф 9:36.
(обратно)17
Warren Carter, «Construction of Violence and Identities in Matthew's Gospel,» in Shelly Matthews and E. Leigh Gibson, eds., Violence in the New Testament (New York: T. & T. Clark, 2005), 93–94.
(обратно)18
John Pairman Brown, «Techniques of Imperial Control: The Background of the Gospel Event,» in Norman Gottwald, ed., The Bible of Liberation: Political and Social Hermeneutics (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1983), 357–77; Warren Carter, Matthew and the Margins: A Sociopolitical and Religious Reading (Sheffield, UK: Sheffield Academic Press, 2000), 17–29, 36–43, 123–27, 196–98.
(обратно)19
A. N. Sherwin-White, Roman Society and Roman Law in the New Testament (Oxford: Clarendon Press, 1963), 139; Мф 18:22–33, 20:1–15; Лк 16:1–13; Мк 12:1–9.
(обратно)20
Horsley, Jesus and the Spiral, 167–68.
(обратно)21
A. E. Harvey, Strenuous Commands: The Ethic of Jesus (London: SCM Press; Philadelphia: Trinity Press International, 1990), 162, 209.
(обратно)22
Лк 6:20–21; ср. ст. 24–25.
(обратно)23
Лк 14:21, 23.
(обратно)24
Мф 20:16.
(обратно)25
Лк 6:29–31.
(обратно)26
Лк 11:2–4.
(обратно)27
Лев 25:23–28, 35–55; Втор 24:19–22; Norman Gottwald, The Hebrew Bible in Its Social World and in Ours (Atlanta, GA: Scholars Press, 1993), 162.
(обратно)28
Втор 15.
(обратно)29
Richard A. Horsley and Neil Asher Silberman, The Message and the Kingdom: How Jesus and Paul Ignited a Revolution and Transformed the Ancient World (Minneapolis, MN: Fortress Press, 1997), 56–57.
(обратно)30
Лк 10:2–9. С этим учением был знаком апостол Павел: 1 Кор 10:27.
(обратно)31
John Dominic Crossan, The Historical Jesus: The Life of a Mediterranean Jewish Peasant (San Francisco: Harper, 1991), 341–44.
(обратно)32
Лк 12:51–53.
(обратно)33
Лк 14:27.
(обратно)34
Лк 9:60; 14:26.
(обратно)35
Мф 11:18–19; Лк 7:33–34.
(обратно)36
1 Кор 15:4–7.
(обратно)37
Иоиль 2:28–29.
(обратно)38
Псалмы Соломона 17:31–37; см. Horsley and Silberman, The Message and the Kingdom, 15.
(обратно)39
Horsley and Silberman, The Message and the Kingdom, 100–103.
(обратно)40
Мф 15:24.
(обратно)41
Деян 4:32–35.
(обратно)42
2 Кор 11:24–25.
(обратно)43
Деян 11:26; 26:28 (в устах Ирода Агриппы II); 1 Петр 4:16 (ок. 100 г.).
(обратно)44
Деян 2.
(обратно)45
Пс 109:1.
(обратно)46
Деян 2:13–28.
(обратно)47
Пс 2:7.
(обратно)48
Пс 8:5–6.
(обратно)49
Дан 7:13–14.
(обратно)50
Martin Hengel, «Christology and New Testament Chronology: A Problem in the History of Earliest Christianity» and « 'Christos' in Paul,» in Between Jesus and Paul: Studies in the Earliest History of Christianity, trans. John Bowden (Philadelphia: Fortress Press, 1983).
(обратно)51
Hengel, «Between Jesus and Paul: The 'Hellenists, ' the 'Seven' and Stephen (Acts 6:1–15; 7:54–8:3),» in Between Jesus and Paul.
(обратно)52
Там же, 28–29.
(обратно)53
Лк 11:42.
(обратно)54
Мк 11:17; Ис 56:7; Martin Hengel, The Pre-Christian Paul, trans. John Bowden (Philadelphia: Trinity Press International, 1991), 81–83.
(обратно)55
Деян 6:1–5.
(обратно)56
Деян 8:4–6.
(обратно)57
Деян 6:13–14.
(обратно)58
Мк 13:1–2.
(обратно)59
Деян 7:56–8:1.
(обратно)60
Флп 3:5–6.
(обратно)61
Hengel, Pre-Christian Paul, 19–60.
(обратно)62
Гал 1:14.
(обратно)63
Richard A. Horsley, «Introduction,» in Richard A. Horsley, ed., Paul and Empire: Religion and Power in Roman Imperial Society (Harrisburg, PA: Trinity Press International, 1997), 206.
(обратно)64
Числ 25.
(обратно)65
Деян 2:46.
(обратно)66
Деян 5:34–39.
(обратно)67
1 Кор 1:22–25.
(обратно)68
Втор 21:22–23.
(обратно)69
Гал 3:13.
(обратно)70
Деян 8:3.
(обратно)71
Гал 1:13.
(обратно)72
Деян 8:1. Курсив мой.
(обратно)73
Деян 11:19.
(обратно)74
Деян 9:1–2.
(обратно)75
Hengel, Pre-Christian Paul, 76–77.
(обратно)76
Paula Fredriksen, «Judaism, the Circumcision of Gentiles, and Apocalyptic Hope: Another Look at Galatians 1 and 2,» Journal of Theological Studies 42, no. 2 (Oct. 1991): 532–64.
(обратно)77
John Knox, Chapters in a Life of Paul, rev. ed. (Macon, GA: Mercer University Press, 1987), 95–106; Arthur J. Dewey et al., trans., The Authentic Letters of Paul: A New Reading of Paul's Rhetoric and Meaning (Salem, OR: Polebridge Press, 2010), 149–150; Horsley and Silberman, The Message and the Kingdom, 122–26; Krister Stendahl, Paul among Jews and Gentiles (Philadelphia: Fortress Press, 1976); Martin Hengel and Anna Maria Schwemer, Paul between Damascus and Antioch: The Unknown Years, trans. John Bowden (London: SCM Press, 1997), 39–42; Dieter Georgi, Theocracy in Paul's Praxis and Theology, trans. David E. Green (Minneapolis, MN: Fortress Press, 1991), 18–25.
(обратно)78
Деян 9:3–6, 22:5–16, 26:10–18.
(обратно)79
Рим 7:19; Robert Jewett, «Romans,» in James D. G. Dunn, ed., The Cambridge Companion to St Paul (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003), 97–98.
(обратно)80
Рим 7:22–25.
(обратно)81
1 Кор 9:1.
(обратно)82
Там же.
(обратно)83
1 Кор 15:8.
(обратно)84
Гал 1:15; ср. Ис 49:1, 6; Иер 1:5.
(обратно)85
Лк 24; Деян 1:3–11.
(обратно)86
Мк 16:6, 8. Описание явлений Воскресшего, которое содержится в Мк 16:9–20, основано на поздних рукописях. Переписчики сделали это добавление, чтобы согласовать Евангелие от Марка с преданием об этих явлениях.
(обратно)87
Alan F. Segal, Paul the Convert: The Apostolate and Apostasy of Saul the Pharisee (New Haven, CT, and London: Yale University Press, 1990), 38–39.
(обратно)88
2 Кор 12:2–4, 7.
(обратно)89
Knox, Chapters, 101–103.
(обратно)90
Louis Jacobs, The Jewish Mystics (London: Kyle Cathie, 1990), 23
(обратно)91
Segal, Paul the Convert, 39–64.
(обратно)92
Иез 1:26, 28; 2:1.
(обратно)93
Исх 23:20–21. Курсив мой.
(обратно)94
Ин 1:14.
(обратно)95
Флп 2:6–11.
(обратно)96
Гал 1:16.
(обратно)97
Гал 1:15–16.; см. перевод в: Segal, Paul the Convert, 13.
(обратно)98
Гал 1:16–17.
(обратно)99
Быт 16:3–16; 21:8–21.
(обратно)100
Ис 60:7; Иер 12:15–17.
(обратно)101
Horsley and Silberman, The Message and the Kingdom, 124–25; Hengel and Schwemer, Paul between Damascus and Antioch, 109–11.
(обратно)102
1 Кор 4:12.
(обратно)103
Деян 18:3.
(обратно)104
М. Авот 2:2. Об учебе Павла у Гамалиила упоминает лишь Лука (Деян 22:3). У самого Павла об этом не сказано ни слова.
(обратно)105
Ср.: Гал 6:11. Относительно ремесленных занятий Павла см. отличную монографию: Ronald F. Hock, The Social Context of Paul's Ministry: Tentmaking and Apostleship (Minneapolis, MN: Fortress Press, 2007).
(обратно)106
Деян 18:3, 11.
(обратно)107
1 Фес 2:9.
(обратно)108
John Kautsky, The Politics of Aristocratic Empires, with a new introduction by the author (New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 1997), 178.
(обратно)109
Thorstein Veblen, The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions (Boston: Houghton Mifflin, 1973), 41, 45.
(обратно)110
Флп 2:7.
(обратно)111
1 Кор 9:19.
(обратно)112
2 Кор 6:5.
(обратно)113
1 Кор 4:11–13.
(обратно)114
Гал 3:6–9.
(обратно)115
Гал 4:22–24.
(обратно)116
Рим 7:7, 13, 23.
(обратно)117
Рим 7:14–15.
(обратно)118
Апокриф Книги Бытия 21:15–19.
(обратно)119
Рим 4.
(обратно)120
Рим 12:3; 15:6; ср. Рим 4:1–25.
(обратно)121
Рим 3:29–31.
(обратно)122
Лк 3:8 (Q).
(обратно)123
Лк 13:28 (Q).
(обратно)124
2 Кор 11:32–33; Деян 9:25.
(обратно)125
Гал 1:28, 23.
(обратно)126
Деян 10:1–11:18.
(обратно)127
Гал 1:21.
(обратно)128
Апокриф Книги Бытия 21:15–19; Hengel and Schwemer, Paul between Damascus and Antioch, 174–77.
(обратно)129
Книга Юбилеев 8:12.
(обратно)130
Деян 11:20–21; Hengel and Schwemer, Paul between Damascus and Antioch, 189–91.
(обратно)131
Деян 11:22–24; 13:1.
(обратно)132
Segal, Paul the Convert, 86–87.
(обратно)133
Деян 11:25.
(обратно)134
Деян 11:26.
(обратно)135
Hengel and Schwemer, Paul between Damascus and Antioch, 226.
(обратно)136
1 Фес 4:11; Рим 13:1–3.
(обратно)137
Климент Александрийский (ок. 150 – ок. 215) в конце II в. считал Варнаву одним из 72 учеников Иисуса, посланных с миссией в галилейские селения (Строматы 2.20.112; ср. Hengel and Schwemer, Paul between Damascus and Antioch, 218).
(обратно)138
Ср. Гал 3:28 (адаптировано).
(обратно)139
Гал 2:3, 7–5; Hengel and Schwemer, Paul between Damascus and Antioch, 292–93; Georgi, Theocracy, 13.
(обратно)140
1 Кор 11:23–32; Мк 14:22–25.
(обратно)141
Hengel and Schwemer, Paul between Damascus and Antioch, 288–90.
(обратно)142
Деян 13:1.
(обратно)143
Деян 13:3.
(обратно)144
Hengel and Schwemer, Paul between Damascus and Antioch, 233–36.
(обратно)145
Деян 13:4–12; ср. Исх 7:8–12; 3 Цар 18:20–40.
(обратно)146
Деян 13:12, 45.
(обратно)147
Horsley and Silberman, The Message and the Kingdom, 130–31.
(обратно)148
Там же, 131–39.
(обратно)149
Втор 17:14–15.
(обратно)150
М. Сота 7:8.
(обратно)151
Мк 3:17; Лк 6:14. В древнейшем списке Двенадцати имя Иакова идет сразу после имени Петра и до имени его брата Иоанна. Это может означать, что в общине он играл вторую по значимости роль.
(обратно)152
Деян 12:1–2.
(обратно)153
Деян 4:6.
(обратно)154
Деян 12:17.
(обратно)155
Цит. по: Евсевий Кесарийский. Церковная история 2.23.4. [Здесь и далее цит. по изд.: Евсевий Памфил. Церковная история. – М.: Издание Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1993. – Прим. пер.]
(обратно)156
Robert Eisenman, James, the Brother of Jesus: Recovering the True History of Early Christianity (London: Faber and Faber, 1997), 353–54.
(обратно)157
Деян 12:21–23.
(обратно)158
Segal, Paul the Convert, 190–94, 204–23.
(обратно)159
Деян 15:1.
(обратно)160
Гал 3:23–24.
(обратно)161
Деян 15:2.
(обратно)162
Гал 2:2.
(обратно)163
Там же.
(обратно)164
Гал 2:4.
(обратно)165
Гал 2:7–8. Курсив мой.
(обратно)166
Гал 2:9б.
(обратно)167
Гал 2:10.
(обратно)168
Horsley and Silberman, The Message and the Kingdom, 142.
(обратно)169
Georgi, Theocracy, 34–41.
(обратно)170
Eisenman, James, the Brother of Jesus, 226–27.
(обратно)171
Деян 15:28–29.
(обратно)172
Лев 17:5–11.
(обратно)173
Гал 3:28.
(обратно)174
Horsley and Silberman, The Message and the Kingdom, 143–44.
(обратно)175
Ис 56:3, 7.
(обратно)176
Ис 49:6.
(обратно)177
Деян 16:1–3.
(обратно)178
Деян 21:21; Segal, Paul the Convert, 218–19.
(обратно)179
Деян 16:6.
(обратно)180
Гал 4:13–14.
(обратно)181
Horsley and Silberman, The Message and the Kingdom, 158–61.
(обратно)182
Гал 1:3–4.
(обратно)183
Horsley and Silberman, The Message and the Kingdom, 149–52; Dewey et al., trans., Authentic Letters of Paul, 37.
(обратно)184
Гал 5:1.
(обратно)185
Robert Jewett, «Response: Exegetical Support from Romans and Other Letters,» in Richard A. Horsley, ed., Paul and Politics: Ekklesia, Israel, Imperium, Interpretation (Harrisburg, PA: Trinity Press International, 2000), 93.
(обратно)186
Гал 3:6–10.
(обратно)187
Гал 1:6 и далее.
(обратно)188
Гал 3:2–5; Knox, Chapters, 115.
(обратно)189
Гал 5:18.
(обратно)190
Гал 4:6–7; Horsley and Silberman, The Message and the Kingdom, 150.
(обратно)191
Neil Elliott, «Paul and the Politics of Empire: Problems and Prospects,» in Horsley, ed., Paul and Politics, 34.
(обратно)192
Dewey et al., trans., Authentic Letters, 14.
(обратно)193
Elliott, «Paul and the Politics of Empire,» in Horsley, ed., Paul and Politics, 34.
(обратно)194
Гал 3:27–28.
(обратно)195
Гал 5:13–14.
(обратно)196
Гал 5:20–21.
(обратно)197
Гал 6:3–5.
(обратно)198
Деян 16:6–10.
(обратно)199
Dewey et al., trans., Authentic Letters, 165; Erik M. Heen, «Phil 2:6–11 and Resistance to Local Timocratic Rule: Isa Theo and the Cult of the Emperor in the East,» in Richard A. Horsley, ed., Paul and the Roman Imperial Order (Harrisburg, PA: Trinity Press International, 2004), 134–35; Horsley and Silberman, The Message and the Kingdom, 152–54.
(обратно)200
Martin P. Nilsson, Greek Piety, trans. Herbert J. Rose (Oxford: Clarendon Press, 1948), 178; Glen W. Bowersock, Augustus and the Greek World (Oxford: Clarendon Press, 1965), 112.
(обратно)201
Вергилий. Буколики. 4.5–6. Пер. С. Шервинского. См. Virgil, The Eclogues: The Georgics, trans. C. Day Lewis (Oxford: Oxford University Press, 1999). [Цит. по изд.: Публий Вергилий Марон. Буколики. Георгики. Энеида. – М.: Художественная литература, 1971. – Прим. пер.]
(обратно)202
Corpus Inscriptionum Graecorum 39576, translated in John D. Crossan and Jonathan L. Reed, In Search of Paul: How Jesus's Apostle Opposed Rome's Empire with God's Kingdom (San Francisco: HarperSanFrancisco, 2004), 239–40.
(обратно)203
Crossan and Reed, In Search of Paul, 235–36.
(обратно)204
S. R. F. Price, Rituals and Power: The Roman Imperial Cult in Asia Minor (Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1984); Paul Zanker, The Power of Images in the Age of Augustus (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1988).
(обратно)205
Price, Rituals and Power, 49.
(обратно)206
Horsley, introduction to «The Gospel of Imperial Salvation,» in Horsley, ed., Paul and Empire, 11–13.
(обратно)207
Heen, «Phil 2:6–11,» in Horsley, ed., Paul and the Roman Imperial Order.
(обратно)208
Флп 3:20; относительно перевода в Knox, Chapters, 114–15.
(обратно)209
Флп 2:3–4.
(обратно)210
Флп 2:15.
(обратно)211
Флп 4:3.
(обратно)212
Флп 4:15.
(обратно)213
Holland L. Hendrix, «Thessalonicans Honor Romans» (ThD thesis, Harvard Divinity School, 1984), 253, 336; Karl P. Donfried, «The Imperial Cults of Thessalonica and Political Conflict in 1 Thessalonians,» in Horsley, ed., Paul and Empire, 217–19.
(обратно)214
Hendrix, «Thessalonicans Honor Romans,» 170.
(обратно)215
Dewey et al., trans., Authentic Letters, 27; Horsley and Silberman, The Message and the Kingdom, 155–56.
(обратно)216
1 Фес 1:9–10.
(обратно)217
Ср. 2 Кор 8:2–4.
(обратно)218
1 Фес 5:12.
(обратно)219
1 Фес 5:14–15.
(обратно)220
1 Фес 2:9; Деян 17.
(обратно)221
1 Фес 2:2; 3:4.
(обратно)222
1 Фес 4:11–12.
(обратно)223
1 Фес 5:5, 8.
(обратно)224
Деян 17:6–7.
(обратно)225
Деян 17:27–28.
(обратно)226
Andrew Wallace-Hadrill, «Patronage in Roman Society: From Republic to Empire,» in Andrew Wallace-Hadrill, ed., Patronage in Ancient Society (London and New York: Routledge, 1989), 73.
(обратно)227
Tacitus, The Histories, 1.4, ed. D. S. Levene; trans., W. H. Fyfe (Oxford: Oxford University Press, 2008), 4; John K. Chow, Patronage and Power: A Study of Social Networks in Corinth (Sheffield, UK: JSOT Press, 1992); Horsley, introduction to «Patronage, Priesthoods, and Power,» in Horsley, ed., Paul and Empire; Peter Garnsey and Richard Saller, «Patronal Power Relations,» in Horsley, ed., Paul and Empire; Richard Gordon, «The Veil of Power,» in Horsley, ed., Paul and Empire.
(обратно)228
Деян 18:2–3.
(обратно)229
1 Кор 2:4.
(обратно)230
1 Кор 1:26–28.
(обратно)231
1 Кор 15:24.
(обратно)232
Georgi, Theocracy, 60–61.
(обратно)233
1 Кор 12:22–26
(обратно)234
1 Фес 5:3.
(обратно)235
1 Фес 4:16–17.
(обратно)236
1 Фес 2:19; 3:13; 4:15.
(обратно)237
1 Фес 4:17.
(обратно)238
Donfried, «Imperial Cults,» in Horsley, ed., Paul and Empire; Helmut Koester, «Imperial Ideology and Paul's Eschatology in 1 Thessalonians,» in Horsley, ed., Paul and Empire; Abraham Smith, « 'Unmasking the Powers': Toward a Postcolonial Analysis of 1 Thessalonians,» in Horsley, ed., Paul and the Roman Imperial Order; Georgi, Theocracy, 25–27.
(обратно)239
Деян 18:12. Не все ученые согласны, что назначение Галлиона произошло во время пребывания Павла.
(обратно)240
Деян 18:24.
(обратно)241
Horsley and Silberman, The Message and the Kingdom, 169–70.
(обратно)242
Гал 4:8–10.
(обратно)243
Гал 1:6, 3:1–4, 5:1–12, 6:12–13; Mark D. Nanos, The Irony of Galatians: Paul's Letter in First-Century Context (Minneapolis, MN: Fortress Press, 2002), 193–99; Mark D. Nanos, «Inter– and Intra-Jewish Political Context of Paul's Letter to the Galatians,» in Horsley, ed., Paul and Politics, 146–56.
(обратно)244
Гал 5:4.
(обратно)245
Санхедрин 13:2; Alan F. Segal, «Response: Some Aspects of Conversion and Identity Formation in the Christian Community of Paul's Time,» in Horsley, ed., Paul and Politics, 187–88.
(обратно)246
Krister Stendhal, Paul among the Jews and Gentiles (Philadelphia: Fortress Press, 1976), 69–71.
(обратно)247
Dewey et al., trans., Authentic Letters, 42–47.
(обратно)248
Там же, 159–60.
(обратно)249
Гал 3:1.
(обратно)250
Гал 2:16; 3:13.
(обратно)251
Dewey et al., trans., Authentic Letters, 65–66; Georgi, Theocracy, 36.
(обратно)252
Гал 4:1–5.
(обратно)253
Гал 3:24–25.
(обратно)254
Гал 3:26–28.
(обратно)255
Dieter Georgi, «God Turned Upside Down,» in Horsley, ed., Paul and Empire, 159–60.
(обратно)256
Georgi, Theocracy, 33–52.
(обратно)257
Horsley and Silberman, The Message and the Kingdom, 171–75; Chow, Patronage and Power; Dewey et al., trans., Authentic Gospel, 73–75.
(обратно)258
Деян 18:25.
(обратно)259
Мф 3:17; Лк 3:22; Patterson, Lost Way, 218–22.
(обратно)260
Рим 1:4.
(обратно)261
1 Кор 4:8–9.
(обратно)262
1 Кор 3:1–4.
(обратно)263
1 Кор 12:1, 8; 14:2, 7–9.
(обратно)264
Richard A. Horsley, «Rhetoric and Empire – and 1 Corinthians,» in Horsley, ed., Paul and Politics, 85–90.
(обратно)265
Там же, 87–89; Прем Сол 6:1, 5.
(обратно)266
1 Кор 1:26.
(обратно)267
1 Кор 2:13, 15.
(обратно)268
1 Кор 6:12; 10:23.
(обратно)269
1 Кор 8:4–6.
(обратно)270
1 Кор 5:1–5; 6:15–17.
(обратно)271
1 Кор 6:1–3.
(обратно)272
Прем Сол 7:26–27, 29; 8:1.
(обратно)273
1 Кор 1:20.
(обратно)274
1 Кор 1:22–24.
(обратно)275
1 Кор 2:7–8.
(обратно)276
1 Кор 1:12–13.
(обратно)277
1 Кор 6:1–3.
(обратно)278
1 Кор 6:15.
(обратно)279
1 Кор 5:1–7.
(обратно)280
1 Кор 7:1–2.
(обратно)281
1 Кор 7:10–11.
(обратно)282
Elizabeth Schüssler Fiorenza, «Rhetorical Situation and Historical Reconstruction in 1 Corinthians,» New Testament Studies 33 (1987): 386–403; Cynthia Briggs Kittredge, Community and Authority: The Rhetoric of Obedience in the Pauline Tradition (Harrisburg, PA: Trinity Press International, 1998).
(обратно)283
1 Кор 7:3–4.
(обратно)284
1 Кор 7:25–40.
(обратно)285
1 Кор 14:34–35.
(обратно)286
Kurt Aland and Barbara Aland, The Text of the New Testament, trans. Erroll F. Rhodes (Grand Rapids, MI: W. B. Eerdmans; Leiden: E. J. Brill, 1987), 78–81.
(обратно)287
Dewey et al., trans., Authentic Letters, 112; Robert Jewett, «The Sexual Liberation of the Apostle Paul,» Journal of the American Academy of Religion 47 (1979): 132.
(обратно)288
1 Кор 11:2–16.
(обратно)289
Dewey et al., trans., Authentic Letters, 110–11; Horsley, «Rhetoric and Empire,» in Horsley, ed., Paul and Politics, 88.
(обратно)290
1 Кор 11:11–12.
(обратно)291
Patterson, Lost Way, 227–38.
(обратно)292
1 Кор 11:21–22.
(обратно)293
Иак 2:1–7.
(обратно)294
1 Кор 11:27, 29.
(обратно)295
1 Кор 2:3.
(обратно)296
1 Кор 2:4–5; 3:20–21.
(обратно)297
1 Кор 3:18–19.
(обратно)298
1 Кор 8:9–11.
(обратно)299
1 Кор 9; Stendahl, Paul, 60.
(обратно)300
Рим 8:16, 23–26.
(обратно)301
1 Кор 13:1.
(обратно)302
1 Кор 14:4; Stendahl, Paul, 110–14.
(обратно)303
1 Кор 15:12.
(обратно)304
1 Кор 15:51–55.
(обратно)305
1 Кор 15:24.
(обратно)306
Dieter Georgi, Remembering the Poor: The History of Paul's Collection for Jerusalem (Nashville, TN: Abingdon Press, 1992), 53–54.
(обратно)307
1 Кор 16:2.
(обратно)308
Georgi, Remembering the Poor, 49–53.
(обратно)309
Horsley and Silberman, The Message and the Kingdom, 176–78.
(обратно)310
1 Кор 16:5–7.
(обратно)311
2 Кор 1:13–22.
(обратно)312
Dieter Georgi, The Opponents of Paul in Second Corinthians: A Study of Religious Propaganda in Late Antiquity (Edinburgh: T. & T. Clark, 1987 [1986]), 227–28, 368–89.
(обратно)313
2 Кор 11:5, 13.
(обратно)314
2 Кор 11:22.
(обратно)315
Georgi, Theocracy, 62–70.
(обратно)316
Плутарх. О судьбе и доблести Александра. 8. Пер. Я. Боровского. [Цит. по изд.: Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Трактаты и диалоги. – М.: Рипол классик, 1998. – Прим. пер.]
(обратно)317
Это письмо содержится в 2 Кор 2:14–6:13, 7:2–4. Отрывок 6:14–7:1 представляет собой позднюю вставку и не принадлежит перу Павла.
(обратно)318
2 Кор 2:14.
(обратно)319
Исх 34:29–35.
(обратно)320
2 Кор 3:16–17.
(обратно)321
2 Кор 3:18.
(обратно)322
2 Кор 4:10.
(обратно)323
2 Кор 4:14, 16–18.
(обратно)324
2 Кор 6:4–5, 9–11.
(обратно)325
2 Кор 7:2–3.
(обратно)326
2 Кор 10:10.
(обратно)327
Оно содержится в 2 Кор 10–13.
(обратно)328
2 Кор 11:16–21.
(обратно)329
2 Кор 11:24–27.
(обратно)330
2 Кор 11:32–33.
(обратно)331
2 Кор 12:1–6.
(обратно)332
2 Кор 12:7–10.
(обратно)333
Деян 19:23–27.
(обратно)334
2 Кор 1:8.
(обратно)335
Флп 1:12–30.
(обратно)336
Флп 4:11.
(обратно)337
Флп 4:18.
(обратно)338
Georgi, Remembering the Poor, 63–67.
(обратно)339
2 Кор 2:12.
(обратно)340
2 Кор 7:5.
(обратно)341
Флп 3:2–10. Новозаветное Послание к Филиппийцам составлено из нескольких (возможно, трех) различных писем. Поэтому сложно сказать, когда именно произошел данный инцидент.
(обратно)342
2 Кор 1:1–2:13; 7:5–16.
(обратно)343
2 Кор 7:7.
(обратно)344
2 Кор 7:15.
(обратно)345
2 Кор 7:11.
(обратно)346
2 Кор 8:2–3.
(обратно)347
2 Кор 8:7.
(обратно)348
2 Кор 7:13; Флп 2:2; 1 Фес 3:9.
(обратно)349
Georgi, Remembering the Poor, 71–72.
(обратно)350
2 Кор 8:20.
(обратно)351
2 Кор 9:1–15.
(обратно)352
Ис 60:4–5.
(обратно)353
2 Кор 8:13–14.
(обратно)354
Рим 1:10.
(обратно)355
Stendahl, Paul, 2.
(обратно)356
Stanley K. Stowers, A Rereading of Romans: Justice, Jews, and Gentiles (New Haven, CT, and London: Yale University Press, 1994), 21–33.
(обратно)357
Рим 1:2–5.
(обратно)358
Dewey et al., trans., Authentic Letters, 101–102.
(обратно)359
Georgi, Theocracy, 84.
(обратно)360
Рим 1:16–17.
(обратно)361
Рим 1:18–32.
(обратно)362
Вергилий. Георгики. 1.468.
(обратно)363
Гораций. Оды. 3.6.45–48. Пер. Н. С. Гинцбурга. [Цит. по изд.: Квинт Гораций Флакк. Собрание сочинений. – СПб: Биографический институт, Студия биографика, 1993. – Прим. пер.]
(обратно)364
Stowers, Rereading of Romans, 122–24.
(обратно)365
Рим 1:29–30.
(обратно)366
Georgi, Theocracy, 91–92.
(обратно)367
Рим 2:1.
(обратно)368
Рим 2:11–12.
(обратно)369
Рим 3:29–30.
(обратно)370
Horsley and Silberman, The Message and the Kingdom, 188–89; Dewey et al., trans., Authentic Gospel, 206–207; Georgi, Theocracy, 89–90.
(обратно)371
Рим 3:23–27.
(обратно)372
Рим 7:7–25.
(обратно)373
Рим 3:20.
(обратно)374
Рим 7:18–20.
(обратно)375
Robert Jewett, «Romans,» in James D. G. Dunn, ed., The Cambridge Companion to St. Paul (Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2003), 97.
(обратно)376
Рим 2:17–20.
(обратно)377
Georgi, Theocracy, 92–93; Josiah Royce, The Problem of Christianity (New York: Macmillan, 1913), 107–59.
(обратно)378
Быт 3:5, 22.
(обратно)379
Рим 5:7–8; Dewey et al., trans., Authentic Letters, 208; Georgi, Theocracy, 96–99.
(обратно)380
Рим 8:15–22.
(обратно)381
Рим 8:23, 34–37.
(обратно)382
Рим 13:1–5.
(обратно)383
Dewey et al., trans., Authentic Letters, 253.
(обратно)384
Horsley and Silberman, The Message and the Kingdom, 191.
(обратно)385
Neil Elliott, «Romans 13:1–7 in the Context of Imperial Propaganda,» in Horsley, ed., Paul and Empire; Elliott, «Paul and the Politics of Empire,» in Horsley, ed., Paul and Politics.
(обратно)386
Georgi, Theocracy, 102.
(обратно)387
Лев 19:18; Рим 13:9–10.
(обратно)388
Мф 5:43–44.
(обратно)389
Mark D. Nanos, The Mystery of Romans: The Jewish Context of Paul's Letter (Minneapolis, MN: Fortress Press, 1996), 10 passim.
(обратно)390
Рим 9:2–5.
(обратно)391
Рим 11:11, 25.
(обратно)392
Рим 14:13–15.
(обратно)393
Рим 15:26–27.
(обратно)394
Среди ученых нет единого мнения относительно последней главы Послания к Римлянам, где упоминаются видные деятели Иисусова движения. Одни считают, что Павел действительно приветствует членов римской общины. Другие полагают, что первоначально эта глава составляла часть письма к эфесской общине: ведь упомянуты, к примеру, Прискилла и Акила, которые жили вместе с Павлом в Эфесе. Но на последний аргумент имеется возражение: после освобождения Павла из тюрьмы они могли вернуться в Рим.
(обратно)395
Деян 20:5–6, 13–16; Georgi, Remembering the Poor, 123.
(обратно)396
Georgi, Remembering the Poor, 117–18.
(обратно)397
Рим 15:30–31.
(обратно)398
Ис 60:5.
(обратно)399
Ис 52:7; Рим 10:15.
(обратно)400
Ис 52:1.
(обратно)401
Georgi, Remembering the Poor, 167–68.
(обратно)402
Рим 11:13–14.
(обратно)403
Деян 21:17–19.
(обратно)404
Georgi, Remembering the Poor, 125–26.
(обратно)405
Иосиф Флавий. Иудейская война 2:261–62.
(обратно)406
Деян 21:22–25.
(обратно)407
Деян 21:28.
(обратно)408
Деян 28:31.
(обратно)409
Климент Римский. Послание к Коринфянам 5:6–7. См. английский перевод в: Andrew Louth, ed., and Maxwell Staniforth, trans., Early Christian Writings: The Apostolic Fathers (Harmondsworth, UK, and New York: Penguin, 1968). [Пер. В. Задворного под ред. А. Пахомовой. Цит. по изд.: Задворный В. История римских пап от Св. Петра до Св. Симплиция. – М.: Колледж католической теологии им. cв. Фомы Аквинского, 1994. – Прим. пер.]
(обратно)410
Евсевий Кесарийский. Церковная история 2.25. См. английский перевод в: Eusebius, The History of the Church from Christ to Constantine, Andrew Louth, ed., and G. A. Williamson, trans. (London and New York: Penguin, 1989).
(обратно)411
Crossan, Jesus: A Revolutionary Biography, 163. Выделено Кроссаном.
(обратно)412
Там же, 171.
(обратно)413
Кол 1:18.
(обратно)414
Еф 4:14–16.
(обратно)415
Кол 1:12–13.
(обратно)416
Еф 1:11, 21.
(обратно)417
Кол 3:18–25; ср. 1 Петр 2:18–3:7.
(обратно)418
Еф 5:22–24.
(обратно)419
James D. G. Dunn, «The Household Rules in the New Testament,» in Stephen C. Barton, ed., The Family in Theological Perspective (Edinburgh: T. & T. Clark, 1996); David L. Balch, «Household Codes,» in David E. Aune, ed., Greco-Roman Literature and the New Testament (Atlanta, GA: Scholars Press, 1998).
(обратно)420
Еф 5:23–6:9.
(обратно)421
1 Кор 15:24–27.
(обратно)422
2 Петр 3:15–16.
(обратно)423
Ernst Käsemann, «Paul and Early Catholicism,» New Testament Questions of Today (Philadelphia: Fortress Press, 1969), 249; Arland J. Hultgren, «The Pastoral Epistles,» in Dunn, ed., Cambridge Companion.
(обратно)424
Поликарп, Послание к Филиппийцам 3:2. См. английский перевод в: J. B. Lightfoot, ed. and trans., The Apostolic Fathers, 3 vols, Part Two: S. Ignatius and S. Polycarp (London, 1885).
(обратно)425
Быт 1:28.
(обратно)426
1 Тим 1:2; 3:9, 13; 4:6; 2 Тим 4:7; Тит 2:2.
(обратно)427
Calvin J. Roetzel, «Paul in the Second Century,» in Dunn, ed., Cambridge Companion, 233.
(обратно)428
1 Тим 6:20.
(обратно)429
1 Тим 4:3.
(обратно)430
1 Тим 2:11–15; ср. Тит 2:3–5.
(обратно)431
Elaine H. Pagels, The Gnostic Paul: Gnostic Exegesis of the Pauline Letters (Philadelphia: Trinity Press International, 1975), 66.
(обратно)(обратно)


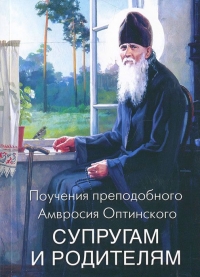
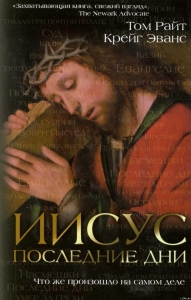
Комментарии к книге «Святой Павел. Апостол, которого мы любим ненавидеть», Карен Армстронг
Всего 0 комментариев