Чистый лист: Природа человека. Кто и почему отказывается признавать ее сегодня Стивен Пинкер
Посвящается Дону, Джуди, Леде и Джону
Предисловие
«О нет, только не очередная книга о природе и воспитании! Неужели действительно есть еще люди, которые верят, что разум — чистый лист? Неужели не очевидно каждому, у кого хотя бы двое детей, каждому, кто был в гетеросексуальных отношениях, каждому, кто замечал, что дети учатся говорить, а домашние животные — нет: люди рождаются с определенными способностями и темпераментами? Разве мы все не отказались от упрощенного противопоставления наследственности и среды и не осознали, что любое поведение обусловлено взаимодействием между ними?»
Примерно так отреагировали коллеги, когда я поделился с ними планами насчет этой книги. На первый взгляд реакция небеспочвенная. Может быть, вопрос о врожденном и приобретенном действительно уже не актуален. Любой, кто знаком с последними сочинениями на тему разума и поведения, наблюдал притязания на золотую середину подобные этим:
Если читатель теперь убежден, что либо генетическая, либо средовая теория одержала окончательную победу и полностью вытеснила другую, значит, мы недостаточно хорошо проделали свою работу, представляя вам ту или другую сторону. Нам кажется весьма вероятным, что и гены, и окружающая среда имеют некоторое отношение к теме. Но в какой мере? Мы решительные агностики в этом вопросе: насколько можно судить, имеющихся данных пока еще недостаточно для оценки.
Эта книга не пополнит список тех, в которых утверждается, будто все зависит от генов. Это не так. Окружающая среда важна не меньше, чем гены. То, с чем сталкиваются дети в период взросления, так же важно, как и то, какими они рождаются.
Даже когда поведение наследуемо, поведение конкретного человека все же является продуктом его развития, так что его причины следует искать в окружающей среде. Современное понимание того, как наследуются фенотипы путем воспроизводства и генетических компонентов, и условий среды, предполагает, что… культурные традиции — поведение, которое дети повторяют за своими родителями, — похоже, имеют решающее значение.
Если вы думаете, что это безобидные компромиссы, показывающие, что мы уже переросли споры о природе и воспитании, подумайте еще раз. На самом деле эти цитаты взяты из трех самых скандальных книг последнего десятилетия. Первая — из книги Ричарда Хернштейна и Чарльза Мюррея «Гауссова кривая» (The Bell Curve), в которой утверждается, что разница в среднем уровне IQ у белых и черных американцев имеет и генетические, и средовые причины[1]. Вторая — из «Предпосылки воспитания» (The Nurture Assumption) Джудит Рич Харрис, которая считает, что личность ребенка формируется как окружением, так и наследственностью, так что сходство между детьми и родителями может отражать влияние общих генов, а не только воспитательные практики родителей[2]. Третья взята из «Естественной истории изнасилования» (A Natural History of Rape) Рэнди Торнхилла и Крейга Палмера, в которой говорится, что изнасилование не просто продукт культуры — его корни кроются в самой природе мужской сексуальности[3]. За обращение к воспитанию и природе, а не только к воспитанию, против этих авторов устраивали пикеты, им не давали говорить, нецензурно ругали в прессе и даже осуждали в Конгрессе США. Других, которые осмеливались выражать подобные взгляды, подвергали цензуре, оскорблениям, а также угрозам судебного преследования[4].
Идея, что природа и воспитание взаимодействуют, формируя какую-то часть разума, может оказаться неверной, но даже сегодня, в XXI веке, спустя тысячи лет с того момента, как вопрос был впервые поставлен, нельзя сказать, слаба она или безупречна. Когда дело касается объяснения человеческого мышления или поведения, возможность, что определенную роль здесь играет наследственность, до сих пор способна вызвать шок. Многие думают, что признавать существование человеческой природы — значит оправдывать расизм, сексизм, войны, алчность, геноцид, нигилизм, реакционную политику и пренебрегать детьми и социально незащищенными. Каждое заявление, что разум обладает врожденной структурой, поражает людей не только как гипотеза, которая может быть и неверна, но как мысль, которая заведомо аморальна.
Эта книга о нравственной, эмоциональной и политической окраске концепции человеческой природы в современной жизни. Я прослежу историю вопроса, чтобы понять, почему сама идея вызывала у людей опасения, попытаюсь разобраться в морально-политической неразберихе, которая запутывала представления о ней. И хотя любая книга, посвященная человеческой природе, всегда вызывает споры, я пишу свою не для того, чтобы она стала очередной «бомбой», как это нередко преподносят на суперобложках. Я не сравниваю, как многие думают, крайнюю позицию «воспитания» с крайней позицией «природы», разыскивая истину где-то посередине. Иногда справедливо исключительно «средовое» объяснение: очевидный пример — на каком языке вы говорите. Еще один — разница между расами и этническими группами в экзаменационных оценках. В других случаях, касающихся, например, некоторых наследственных неврологических заболеваний, верно исключительно генетическое объяснение. А в большинстве ситуаций правильное объяснение нужно искать в сложном взаимодействии между наследственностью и окружающей средой: культура критически важна, но начнем с того, что культура не могла бы существовать без умственных способностей, которые позволяют людям создавать культуру и осваивать ее. Моя цель не в том, чтобы доказать, что гены — это все, а культура — ничто (никто в это не поверит), а в том, чтобы исследовать, почему крайняя позиция (что культура — это все) так часто считается умеренной, а умеренная оценивается как экстремальная.
На самом деле признание человеческой природы не влечет за собой тех политических последствий, которых многие боятся. Оно не требует, например, отказаться от феминизма, или смириться с нынешним уровнем насилия и неравенства, или считать мораль фикцией. По большей части я не буду агитировать за конкретные политические стратегии или становиться на сторону левых или правых. Я уверен, что политические прения практически всегда требуют компромисса между конкурирующими ценностями и что наука умеет распознавать эти компромиссы, но не разрешать их. Я покажу, что многие из этих компромиссов обусловлены особенностями человеческой природы, и, проясняя их, я надеюсь сделать наши коллективные решения, какими бы они ни были, более обоснованными. Если я и выступаю в защиту чего-либо, так это в защиту открытий в области человеческой природы, которые игнорируются и замалчиваются в современных дискуссиях о человеке.
Почему так важно разобраться во всем этом? Отказ от признания человеческой природы сродни викторианскому замалчиванию темы секса, только хуже: он искажает и науку, и образование, и общественный диалог, и повседневную жизнь. Логика учит нас, что одно-единственное противоречие может исказить весь ход рассуждений и привести к ложному утверждению. Учение, что человеческой природы не существует, перед лицом свидетельств обратного, предоставленных наукой и здравым смыслом, оказывает именно такое искажающее влияние.
Прежде всего, доктрина, будто разум — это «чистый лист», извратила исследования о человеке, а заодно и общественные, и личные решения, которые опирались на результаты этих исследований. Многие стратегии воспитания, например, вдохновлены исследованиями, обнаруживающими корреляцию между поведением родителей и поведением их детей. У любящих родителей растут уверенные в себе дети, у авторитетных родителей (не слишком либеральных и не слишком жестких) — дети, которые хорошо себя ведут; отпрыски родителей, которые много разговаривают с ними, успешнее осваивают речь и т. д. И люди делают вывод: чтобы вырастить лучших детей, родители должны быть любящими, авторитетными и общительными, и, если ребеночек не удался, это полностью вина матери и отца. Но этот вывод основан на убеждении, что ребенок — это «чистый лист». Однако не надо забывать, что родители снабжают своих детей не только домашней средой, но и генами. Может быть, корреляция между родителями и детьми говорит нам всего лишь о том, что те же самые гены, которые делают взрослых любящими, авторитетными и общительными, делают их детей уверенными в себе, послушными и разговорчивыми. До тех пор пока мы не повторим эти исследования с усыновленными детьми (которые получают от своих родителей только окружение, но не гены), с той же вероятностью можно утверждать, что на детей влияет только наследственность, только воспитание или все что угодно посередине. Но практически всегда исследователи придерживаются единственной, причем самой крайней позиции — за все отвечают родители.
Табу на исследования человеческой природы не только надевают шоры на ученых, но и превращают каждую дискуссию на эту тему в ересь, которую необходимо заклеймить. Многие авторы так отчаянно хотят дискредитировать любое предположение о врожденном характере человеческих свойств, что выбрасывают в окно и логику, и цивилизованность. Элементарными разграничениями — «некоторые» / «все», «возможно» / «всегда», «есть» / «должно быть» — с легкостью пренебрегают, чтобы изобразить идею природы человека как экстремистскую доктрину и отвратить от нее читателей. Анализ идей зачастую замещается политический клеветой и личными оскорблениями. Этот яд, разлитый в интеллектуальной атмосфере, лишил нас инструментов для анализа острых вопросов человеческой природы именно тогда, когда новые научные открытия делают их особенно актуальными.
Отрицание человеческой природы вышло за рамки академических кругов и привело к обрыву связей между интеллектуальной жизнью и здравым смыслом. Впервые мне пришла идея написать подобную книгу, когда я начал коллекционировать поразительные высказывания ученых мужей и социальных критиков о пластичности человеческой психики: мол, маленькие мальчики ссорятся и дерутся, потому что их в этом поощряют; детям нравится сладкое, потому что родители награждают их сладостями за то, что они съели овощи; подростки извлекают идею соперничества в красоте и моде из соревнований по орфографии и успеваемости, а мужчины убеждены, что цель секса — оргазм, из-за того, что их так воспитывали. Проблема не только в том, что эти утверждения абсурдны, но и в том, что их авторы не понимают, что говорят вещи, противоречащие элементарному здравому смыслу. Это ментальность культа, в котором согласие с фантастическими постулатами выдается за доказательство благочестия. Эта ментальность не может сосуществовать вместе с уважением к истине, и я считаю, что на ней лежит ответственность за некоторые прискорбные тенденции в современной интеллектуальной жизни. Одна из этих тенденций — установившееся в научной среде пренебрежение понятиями истины, логики и доказательности. Другая — лицемерное расхождение между тем, что интеллектуалы говорят на публике, и тем, во что они на самом деле верят. Третья — неизбежный разгул реакции: появление «неполиткорректных» деятелей, которые упиваются невежеством и нетерпимостью, ободренные уверенностью, что в глазах публики интеллектуальный истеблишмент лишился права требовать от своих оппонентов достоверности.
В конце концов, отрицание человеческой природы не только развратило мир мыслителей и критиков, но и нанесло вред обычным людям. Идея, что родители могут лепить своих детей, как из пластилина, навязала им неестественные и порой жестокие воспитательные модели. Она исказила картину выбора для матерей, пытающихся найти баланс между домом и работой, и умножила муки родителей, чьи дети не оправдали их надежд. Убежденность, что вкусы человека — это изменяемые культурные предпочтения, привела к тому, что политики, ответственные за социальное планирование, сбрасывают со счетов удовольствие, которое человек получает от солнечного света, от узоров и красок, и не учитывают человеческий масштаб, заставляя миллионы людей жить в серых бетонных коробках. Романтическое представление, что все зло — продукт воздействия общества, оправдало освобождение опасных психопатов, исправно убивающих невинных людей. А убеждение, что человечество можно изменить, воплощая в жизнь крупные социальные проекты, привело к величайшим злодеяниям в истории.
И хотя большинство моих аргументов будут беспристрастно аналитическими — что признание человеческой природы, логически говоря, не означает негативных последствий, которых многие боятся, — не стану скрывать своей уверенности, что в них есть и позитивный посыл. «Тогда человек станет лучше, когда вы покажете ему, каков он есть», — писал Чехов, и новые науки о человеческой природе могут проложить путь к реалистичному, биологически просвещенному гуманизму. Они демонстрируют глубинную психологическую общность нашего биологического вида, спрятанную под поверхностными различиями внешности и местечковых культур. Они заставляют признать удивительную сложность человеческого разума, которую мы склонны принимать как должное именно потому, что он функционирует так хорошо. Они определяют нравственное чутье, которое может послужить улучшению нашей доли. Они обещают естественность в человеческих отношениях, поощряя нас учитывать, что́ люди чувствуют на самом деле, а не то, что они должны чувствовать согласно какой-то теории. Они предлагают нам ориентир, благодаря которому мы можем заметить страдание и подавление, где бы оно ни появлялось, разоблачая оправдания власть имущих. Они помогают видеть насквозь замыслы самопровозглашенных социальных реформаторов, готовых освободить нас от наших удовольствий. Они позволяют заново оценить достижения демократии и верховенство права. И они обогащают озарения художников и философов, которые тысячелетиями размышляли над положением человека.
Честный разговор о природе человека никогда еще не был настолько своевременным. На протяжении всего XX века многие интеллектуалы пытались установить принципы справедливости на хрупком фактическом основании — что человеческие существа биологически идентичны, не таят низких побуждений и абсолютно свободны в своей способности делать выбор. Сегодня эти заявления оспариваются открытиями в науках, исследующих мозг, разум, гены и эволюцию. И уж во всяком случае завершение проекта «Геном человека», обещающего беспрецедентное понимание генетических корней интеллекта и эмоций, должно послужить сигналом к пробуждению. Новый научный вызов отрицанию человеческой природы ставит нас перед выбором. Если мы по-прежнему привержены ценностям мира и равенства, науки и истины, мы должны отделить эти ценности от тех убеждений о нашем психологическом устройстве, которые с высокой долей вероятности окажутся ложными.
Эта книга — для людей, которые хотят узнать, как тема человеческой природы стала запретной, и стремятся понять, действительно ли развенчание этого предубеждения опасно или всего лишь непривычно. Она для тех, кому интересны вырисовывающийся образ нашего биологического вида и разумная критика этого портрета. Для тех, кто подозревает, что табу на человеческую природу вынуждает нас играть неполной колодой, в то время как давление острых вопросов современности только усиливается. И для тех, кто понимает, что исследования мозга, разума, генов и эволюции постоянно меняют наш взгляд на самих себя; для тех, кто хочет знать, изменятся ли под влиянием новой информации о человеческой природе те ценности, которые мы считаем исключительно важными, — ослабеют ли они, сохранят ли свои позиции, или (как я считаю) обогатятся.
* * *
С огромным удовольствием я называю здесь имена друзей и коллег, улучшавших эту книгу бесчисленным количеством способов. Хелена Кронин, Джудит Рич Харрис, Джеффри Миллер, Орландо Паттерсон и Дональд Саймонс скрупулезно проанализировали каждый ее аспект, и я могу только надеяться, что окончательный результат достоин их мудрости. Очень полезными были также бесценные комментарии Неда Блока, Дэвида Басса, Назли Щукри, Леды Космидес, Дениса Даттона, Майкла Газзаниги, Дэвида Гири, Джорджа Грэхема, Пола Гросса, Марка Хаузера, Оуэна Джонса, Дэвида Каммерера, Дэвида Ликкена, Гари Маркуса, Рослин Пинкер, Роберта Пломина, Джеймса Рэйчелса, Томаса Сауэлла, Джона Туби, Марго Уилсон и Уильяма Циммермана. Моя благодарность — коллегам, которые рецензировали главы, касающиеся сферы их научных интересов: Джош Коэн, Ричард Докинз, Рональд Грин, Нэнси Кэнвишер, Лоуренс Кац, Глен Лури, Полин Майер, Анита Паттерсон, Мриганка Сур и Милтон Уилкинсон.
Я благодарю и многих других, кто любезно отзывался на просьбы об информации или выдвигал предложения, которые нашли свое место в книге: Мазарин Банаджи, Крис Бертрам, Говард Блум, Томас Бушар, Брайан Бойд, Дональд Браун, Дженнифер Кэмпбелл, Ребекка Канн, Сьюзан Кэри, Наполеон Шаньон, Мартин Дейли, Ирвен Девор, Дэйв Эванс, Джонатан Фридман, Дженнифер Гэнгер, Говард Гарднер, Тамар Гендлер, Адам Гопник, Эд Хаген, Дэвид Хаусман, Тони Ингрэм, Уильям Айронс, Кристофер Дженкс, Генри Дженкинс, Джим Джонсон, Эрика Джон, Дуглас Кенрик, Самуэль Джей Кейсер, Стивен Косслин, Роберт Курзбан, Джордж Лакофф, Эрик Лэндер, Лорен Ломаски, Марта Нуссбаум, Мэри Парли, Ларри Сквайр, Венди Стайнер, Рэнди Торнхилл, Джеймс Уотсон, Торстен Визель и Роберт Райт.
Тезисы этой книги были впервые представлены на форумах, где организаторы и слушатели обеспечили жизненно важную обратную связь: Центр биоэтики при Пенсильванском университете, симпозиум, посвященный мозгу, мышлению и искусству в Научно-исследовательском институте Гетти, конференция по эволюционной генетике поведения в Питтсбургском университете, Общество исследования поведения и эволюции человека, проект гуманитарного лидерства при Пенсильванском университете, Институт рас и социальных страт Бостонского университета, Школа гуманитарных, культурных и социальных исследований в Массачусетском технологическом институте, Программа нейроисследований при Институте нейронаук, саммит позитивной психологии, Общество эволюционного анализа в сфере права и Таннеровские лекции о человеческих ценностях при Йельском университете.
Я с радостью подтверждаю, что в Массачусетском технологическом институте потрясающие условия для учебы и исследований, и благодарю за поддержку Мриганку Сур, заведующую кафедрой мозга и когнитивных наук, Роберта Силби, декана Школы науки, Чарльза Веста, президента MIT, и многих других коллег и студентов. Джон Берли, сотрудник Библиотеки Тейбер, искал для меня научные материалы и отвечал на вопросы, какими бы неясными они ни были. Я глубоко признателен за материальную поддержку со стороны стипендиальной программы имени Маргарет Маквикар (MIT) и ее президенту Питеру де Флоресу. Мои исследования в области языка были спонсированы грантом Национальных институтов здравоохранения за номером HD18381.
Венди Вульф из издательства Viking и Стефан Макграт из Penguin Books постоянно поддерживали меня и давали отличные советы. Я благодарю их и моих агентов Джона Брокмана и Катинку Матсон за труд на благо этой книги. Я польщен, что Катя Райс согласилась отредактировать рукопись, это наша пятая совместная работа.
Моя сердечная признательность — моей семье, Пинкерам, Будманам и Суббиа-Адамсам за их любовь и поддержку. Особая благодарность — моей жене Ллавенил Суббиа за ее мудрые советы и любящую поддержку.
Эта книга посвящена четверым моим дорогим друзьям, оказавшим на меня глубочайшее влияние: Дональду Саймонсу, Джудит Рич Харрис, Леде Космидес и Джону Туби.
ЧАСТЬ I. «ЧИСТЫЙ ЛИСТ», «БЛАГОРОДНЫЙ ДИКАРЬ» И «ДУХ В МАШИНЕ»
У всех есть собственная теория человеческой природы. Каждый должен представлять себе, чего можно ожидать от других, и, значит, всем нам необходимы идеи о том, что именно заставляет этих других вести себя так или иначе. Обыденные представления о природе человека, о том, что причиной его поступков являются его чувства и мысли, влияют на само наше восприятие окружающих. Мы формулируем эту теорию, заглядывая внутрь себя и предполагая, что наши собеседники похожи на нас. Мы наблюдаем за поведением людей и обобщаем свои наблюдения. Мы впитываем идеи напрямую из интеллектуального климата — прислушиваясь к мнению авторитетных личностей и обращаясь к повседневному здравому смыслу.
Теория человеческой природы накладывает свой отпечаток на всю нашу жизнь. Мы сверяемся с ней, когда нам нужно убедить или пригрозить, сказать правду или обмануть. Она советует нам, как жить в браке, как воспитывать детей, как контролировать наше собственное поведение. Представления о том, как человек осваивает знания, влияют на нашу образовательную стратегию, представления о мотивации оказывают влияние на экономическую политику, преступность и законодательную систему. Эта теория определяет, чего люди могут добиваться с легкостью, чего добьются только через боль и жертвы и чего они не смогут достичь вообще. Таким образом, она затрагивает и наши ценности: нашу веру в то, за что нам — и отдельным людям, и обществу в целом — стоит бороться. Конкурирующие концепции человеческой природы различными способами вплетены в ткань жизни, являются частью самых разных политических систем и на протяжении истории становились причиной множества конфликтов.
Тысячелетиями источником основных теорий природы человека была религия[1]. Например, иудео-христианская традиция предлагала объяснения множеству феноменов, которые сейчас изучаются в рамках биологии и психологии. Человек создан по образу и подобию Божию и не относится к животным[2]. Женщина — производное от мужчины и должна ему подчиняться[3]. Сознание нематериально, оно обладает силой, неподвластной физическим структурам, и может продолжать существование после смерти тела[4]. Сознание состоит из нескольких компонентов, включая мораль, способность любить, разум, который различает, соответствует ли конкретный поступок идеалам добра, а также аппарат, выбирающий поведение. И хотя этот аппарат не связан законами причинно-следственных отношений, его врожденная склонность — выбирать грех. Наше мышление и восприятие работают без ошибок только потому, что Господь внедрил в них образы, не вступающие в противоречие с реальностью, и потому, что Он регулирует их деятельность через внешний мир. Психически здоров тот человек, который понимает Божьи намерения, выбирает добро, отвергает грех, любит Бога и людей по заветам Его.
Иудео-христианская традиция основана на событиях, о которых повествуется в Библии. Мы знаем, что человеческий разум не имеет ничего общего с разумом животных, поскольку Библия говорит нам, что люди были сотворены отдельно от них. Мы знаем, что женщина была создана по образцу мужчины, потому что во второй главе Книги Бытия сказано, что Господь сотворил Еву из ребра Адама. Мы можем предположить, что человеческие поступки не являются обязательным следствием определенных причин, человек наделен и свободой воли, потому что Бог возлагает на Адама и Еву ответственность за нарушение запрета есть плоды древа познания, подразумевая, что они были способны принять и другое решение. Мужчины главенствуют над женщинами в наказание за непослушание Евы, и все человечество наследует первородный грех от своих прародителей.
Иудео-христианская концепция до сих пор является самой популярной теорией человеческой природы в Соединенных Штатах. Согласно последним опросам, 76 % американцев верят в библейский акт творения, 79 % — что чудеса, описанные в Библии, случились на самом деле, 76 % верят в существование ангелов, дьявола и других нематериальных созданий, 67 % убеждены, что в той или иной форме продолжат свое существование и после смерти. И только 15 % считают, что теория эволюции Дарвина — это лучшее объяснение происхождения человека и жизни на Земле[5]. Политики правого крыла всецело поддерживают религиозную теорию, и ни один из популярных деятелей не осмелится публично ее оспаривать. Но современные исследования в космологии, геологии, биологии и археологии делают веру в библейский акт творения невозможной для образованного человека. В результате иудео-христианская теория человеческой природы более не находит поддержки у большинства ученых, журналистов, социальных аналитиков и других просвещенных людей.
Тем не менее любое общество нуждается в теории человеческой природы, и основная масса интеллектуалов сегодня придерживается другой идеи. Идея эта редко проговаривается или открыто признается, однако она лежит в основе огромного количества убеждений и жизненных стратегий. Бертран Рассел писал: «Каждый человек, куда бы он ни шел, сопровождается облаком успокаивающих убеждений, которые вьются вокруг, как мухи в летний день». Для нынешних мыслителей многие из этих убеждений касаются психологии и общественных отношений. Я буду называть эти убеждения концепцией «чистого листа», так как они отражают идею, что человеческий ум не имеет врожденной структуры и может быть наполнен чем только пожелает общество или сам индивид.
Эта теория человеческой природы — а точнее, то, что она вряд ли вообще существует, — и есть главная тема моей книги. Как религия содержит теорию природы человека, так и теории человеческой природы выполняют некоторые функции религии, и «чистый лист» стал этаким светским вероучением в современной интеллектуальной жизни. Эта идея становится источником ценностей, и тот факт, что основана она на чуде — сложнейший разум, возникающий буквально из ниоткуда! — не становится аргументом против нее. Критика доктрины со стороны скептиков и ученых повергла некоторых ее последователей в кризис веры, а других спровоцировала на ожесточенные нападки на оппонентов, которым обычно подвергались еретики и неверные. Но точно так же, как многие религиозные традиции в конечном счете справились с явными угрозами со стороны науки (например, с научными революциями Коперника и Дарвина), по моему убеждению, наши ценности переживут и кончину концепции «чистого листа».
Главы этой части книги (часть I) посвящены господству идей «чистого листа» в современной интеллектуальной жизни, а также новому взгляду на человеческую природу и культуру, готовому бросить им вызов. В последующих частях мы станем свидетелями того, какое беспокойство порождает этот вызов (часть II), и увидим, как это беспокойство можно смягчить (часть III). Далее я расскажу, как более богатая концепция человеческой природы может подарить нам понимание загадок языка, мышления, морали и общественной жизни (часть IV) и как она может прояснить противоречия в области политики, насилия, гендера, искусства и воспитания детей (часть V). И наконец, я покажу, что отход от идеологии «чистого листа» — гораздо менее тревожное и в некоторых отношениях менее революционное событие, чем кажется поначалу (часть VI).
Глава 1. Официальная теория
«Чистый лист» — это вольный перевод средневекового латинского термина tabula rasa (буквально — «очищенная дощечка», предназначенная для письма). Выражение обычно приписывается философу Джону Локку (1632–1704), хотя на самом деле он использовал другую метафору. Вот известный отрывок из его сочинения «Опыт о человеческом разумении»:
Предположим, что ум есть, так сказать, белая бумага без всяких знаков и идей. Но каким же образом он получает их? Откуда он приобретает тот их обширный запас, который деятельное и беспредельное человеческое воображение нарисовало с почти бесконечным разнообразием? Откуда он получает весь материал рассуждения и знания? На это я отвечаю одним словом: из опыта[1].
Локк критиковал теории врожденных идей, согласно которым считалось, что люди появляются на свет с готовыми математическими понятиями, вечными истинами и идеей Бога. Альтернативная теория, эмпиризм, была задумана Локком и как теория психологии, описывающая работу разума, и как теория эпистемологии, отвечающая на вопрос, каким путем мы приходим к пониманию истины. Оба эти направления послужили развитию его политической философии, которая считается основой либеральной демократии. Локк спорил с догматическим оправданием политического статус-кво, такого, как власть церкви и Божественное право королей, которое в те времена считалось самоочевидной истиной. Он убеждал, что социальное устройство необходимо полностью переосмыслить, опираясь на взаимное согласие, основанное на знаниях, которыми может овладеть любой индивид. Идеи рождаются из опыта, который варьирует от человека к человеку, и разница во мнениях проистекает не из того, что ум одного приспособлен к пониманию истины, а ум другого неполноценен, а потому, что эти два разума формировались различными путями. И эти различия должны уважаться, а не подавляться. Идея Локка о «чистом листе» подрывала основы существования королевской власти и наследственной аристократии, которая не могла более заявлять о своей врожденной мудрости или особых достоинствах, ведь потомки благородных родов являются на свет такими же «чистыми листами», как и прочий люд. Эта идея также была сильным аргументом против рабства — приниженное и подчиненное положение рабов более не могло быть оправдано их врожденными качествами.
На протяжении прошлого столетия доктрина «чистого листа» определяла повестку дня для большинства социальных и гуманитарных наук. Психология пыталась объяснить все мысли, чувства и поведение человека несколькими простыми механизмами научения. Социальные науки толковали все традиции и общественное устройство как результат социализации детей под влиянием окружающей культуры: системы слов, образов, стереотипов, ролевых моделей и непредсказуемого воздействия поощрений и наказаний. Длинный и все увеличивающийся список понятий, которые, казалось бы, имманентно присущи человеческому мышлению (эмоции, родственные отношения, разграничение полов, болезни, природа и мир в целом), сегодня считается «изобретенным» или «социально сконструированным»[2].
«Чистый лист» стал священной коровой современных политических и этических убеждений. В соответствии с этой доктриной любые различия, которые существуют между расами, этническими группами, полами и отдельными личностями, происходят не из врожденных качеств, а из различного жизненного опыта. Измените опыт, реформируя методы воспитания, образования, средства массовой информации и систему социальных вознаграждений, — и вы измените человека. Социальное отставание, бедность и асоциальное поведение можно искоренить, и, более того, не делать этого — безответственно. И дискриминация на основании предположительно врожденных черт пола или этнической группы просто абсурдна.
* * *
Доктрина «чистого листа» часто сопровождается двумя другими, и обе они также обрели священный статус в современной интеллектуальной жизни. Название, которое я дал первой из них, чаще всего связывают с философом Жан-Жаком Руссо (1712–1778), хотя на самом деле оно взято из поэмы Джона Драйдена «Завоевание Гранады» (The Conquest of Granada), опубликованной в 1670 году:
Свободен я, как первый человек — дитя природы, Когда неволя не вошла еще в законов своды, Когда в лесах дикарь резвился благородный.Концепцию благородного дикаря вдохновили встречи европейских колонистов с аборигенными племенами в Америке, Африке и, позже, в Океании. Она отражает веру в то, что люди в естественных условиях неэгоистичны, миролюбивы и безмятежны, а такие пороки, как алчность, жестокость и тревожность, — продукты цивилизации. В 1755 году Руссо писал:
…многие (авторы) поспешили сделать заключение, что человек от природы жесток и что он нуждается для смягчения его нравов в наличии внешнего управления; между тем нет ничего более кроткого, чем человек в первоначальном состоянии, поставленный природою равно далеко от неразумия животных и от гибельных познаний человека в гражданском состоянии…
Чем больше размышляешь об этом состоянии, тем более убеждаешься, что оно было менее всех подвержено переворотам, что оно было наилучшим для человека и ему пришлось выйти из этого состояния лишь вследствие какой-нибудь гибельной случайности, которой, для общей пользы, никогда не должно было бы быть. Пример дикарей, которых почти всех застали на этой ступени развития, кажется, доказывает, что человеческий род был создан для того, чтобы оставаться таким вечно, что это состояние является настоящею юностью мира и все его дальнейшее развитие представляет собою, по видимости, шаги к совершенствованию индивидуума, а на деле — к одряхлению рода[3].
Первый из авторов, которых имел в виду Руссо, Томас Гоббс (1588–1679), рисовал совсем другую картину:
Отсюда видно, что, пока люди живут без общей власти, держащей всех их в страхе, они находятся в том состоянии, которое называется войной, и именно в состоянии войны всех против всех…
В таком состоянии нет места для трудолюбия, так как никому не гарантированы плоды его труда, и потому нет земледелия, судоходства, морской торговли, удобных зданий, нет средств движения и передвижения вещей, требующих большой силы, нет знания земной поверхности, исчисления времени, ремесла, литературы, нет общества, а, что хуже всего, есть вечный страх и постоянная опасность насильственной смерти, и жизнь человека одинока, бедна, беспросветна, тупа и кратковременна[4].
Гоббс полагал, что люди могут избежать этого адского существования, только подчинив свою свободу верховному правителю или представительному собранию. Он назвал его левиафаном — еврейским словом, именем морского чудовища, покоренного Яхве на заре Творения.
От того, кто из этих кабинетных антропологов прав, зависит многое. Если люди — благородные дикари, нет нужды во властвующем левиафане. И более того, заставляя людей выделять свою собственность, отличая ее от чужой, — собственность, которой иначе они могли бы пользоваться совместно, левиафан сам порождает исключительную алчность и воинственность, которую призван контролировать. Счастливое общество полагалось бы нам по праву рождения; все, что нужно было бы сделать, — это избавиться от организационных барьеров, которые отделяют нас от него. Если же, напротив, люди от природы плохи, лучшее, на что мы можем надеяться, — шаткое перемирие, обеспечиваемое полицией и армией. Обе теории имеют последствия и для частной жизни. Каждый ребенок рождается дикарем (имеется в виду — нецивилизованным), так что, если дикари по природе своей послушны и кротки, для воспитания ребенка достаточно лишь предоставить ему возможности для развития заложенного потенциала, а плохие люди — продукт общества, которое их испортило. Если же дикари дурны, тогда воспитание — зона дисциплины и конфликтов, а злодеи демонстрируют свою темную сторону, которая не была укрощена должным образом.
Настоящие сочинения ученых всегда более сложны, чем теории, которыми они представлены в учебниках. В реальности взгляды Гоббса и Руссо не так сильно различаются. Руссо, как и Гоббс, верил (ошибочно), что дикари были одиночками, не связанными узами любви и верности, чуждыми всякого труда и мастерства (и он мог бы дать фору Гоббсу, заявляя, что у них не было даже языка). Гоббс представлял и описывал своего левиафана как воплощение коллективной воли, которая была возложена на него своего рода социальным контрактом. Самая известная работа Руссо называется «Об общественном договоре», и в ней он призывает людей подчинить свои интересы «общей воле».
Тем не менее Гоббс и Руссо по-разному изображали то самое «первобытное состояние», которое вдохновляло мыслителей последующих столетий. Невозможно не заметить влияния, оказанного концепцией «благородного дикаря» на самосознание современного человека. Оно заметно в нынешней приверженности всему натуральному (еде, медицине, деторождению) и недоверии к тому, что создано человеком; в том, что авторитарный стиль воспитания и образования не в моде, и во взгляде на социальные проблемы скорее как на исправимые дефекты в наших общественных институтах, чем как на трагедии, неотъемлемые от человеческой жизни.
* * *
Другая священная доктрина, часто сопровождающая концепцию «чистого листа», приписывается ученому, математику и философу Рене Декарту (1596–1650):
…существует великое различие между умом и телом, состоящее в том, что тело по природе своей всегда делимо, ум же совершенно неделим; ибо, когда я рассматриваю свой ум, или себя самого — постольку, поскольку я есмь вещь мыслящая, — я не могу различить в себе никаких частей, но усматриваю лишь абсолютно единую и целостную вещь; и хотя создается видимость, будто весь мой ум целиком связан со всем моим телом, если ампутировать мне ногу, руку или любую другую часть тела, уму моему, как я понимаю, не будет нанесено никакого ущерба; равным образом частями ума не могут быть названы ни способность желать, ни способность чувствовать, ни способность понимать и т. д., ибо один и тот же ум желает, чувствует и понимает. Напротив, ни одна телесная, или протяженная, вещь не может мыслиться мною без того, чтобы я не мог без труда расчленить ее мысленно на части, и в силу этого я постигаю ее как делимую; одного только этого было бы довольно, чтобы убедить меня в абсолютном отличии ума от тела, если бы даже других источников такого познания у меня пока не было[5].
Запоминающееся имя этой концепции дал три столетия спустя ее противник — философ Гилберт Райл (1900–1976):
Существует доктрина о природе и месте разума в ней, которая настолько овладела умами как теоретиков, так и дилетантов, что ее вполне можно назвать официальной теорией… Сущность этой официальной доктрины, восходящей главным образом к Декарту, в следующем: у каждого человека, за сомнительным исключением идиотов и грудных младенцев, есть и тело, и разум. Некоторые предпочли бы сказать, что всякий человек — это и тело, и разум. Его тело и его разум обычно связаны неразрывно, но после смерти тела разум может продолжать существовать и функционировать. Человеческие тела существуют в пространстве и подчиняются законам механики, которым подчиняются все прочие тела в пространстве… Но разумы не витают в пространстве, и их функционирование не подчиняется законам физики…
Такова, в общих чертах, официальная теория. Я буду часто говорить о ней, намеренно оскорбительно, как о «догме духа в машине»[6].
«Дух в машине», как и «благородный дикарь», появился отчасти как ответ Гоббсу. Гоббс утверждал, что жизнь и разум могут быть объяснены в терминах механики. Свет приводит в движение наш мозг и нервную систему — вот что значит «видеть». Движение может длиться, как след корабля на воде или как вибрация задетой струны, — и вот что значит «представлять». «Количества» могут складываться и вычитаться в мозгу — и вот что значит «думать».
Декарт отрицал идею, что разум может действовать по законам физики. Он думал, что поведение, особенно речь, есть не реакция на что-то, а свободный выбор субъекта. Он обращал внимание на то, что наше сознание, в отличие от тела и других физических объектов, не кажется способным делиться на части и располагаться в пространстве. Он подчеркивал, что мы не можем сомневаться в существовании нашего разума — действительно, мы не можем сомневаться, что мы и есть наш разум, — потому что сам процесс мышления подразумевает, что наш разум существует. Но вот насчет существования тела мы можем испытывать сомнения, потому что вполне можем вообразить себя нематериальным духом, который во сне или галлюцинации представляет себя воплощенным в теле.
Декарт нашел в своем дуализме (вере, что разум — вещь совершенно иного порядка, нежели тело) и нравственное преимущество: «…нет ничего, что отклоняло бы слабые умы от прямого пути добродетели дальше, чем представление о том, будто душа животных имеет ту же природу, что и наша, и что, следовательно, нам наравне с мухами и муравьями не к чему стремиться и не на что надеяться после смерти»[7]. Райл так объясняет дилемму Декарта:
Когда Галилей показал, что его методы научного исследования способны сформулировать механистическую теорию, которая была бы приложима к любому объекту в пространстве, Декарт обнаружил в себе два конфликтующих мотива. Как ученый он не мог не приветствовать успехи механики, а как религиозный и нравственный человек он не мог принять, как принял Гоббс, обескураживающие выводы, следующие из ее постулатов, а именно что человеческая природа отличается от часового механизма только уровнем сложности[8].
Действительно, обидно думать о себе как о невесть что возомнивших колесиках и пружинках. Машины — неживые, созданные, чтобы их использовали, и заменяемые; люди — чувствующие, обладающие достоинством и правами и бесконечно ценные. У машин есть некоторая утилитарная функция — молоть зерно или точить карандаши, у человека же есть высшие цели — любовь, вера в Бога, самореализация, поиск истины и созидание красоты. Поведение машин предопределено вечными законами физики и химии, люди же выбирают свое поведение сами. С выбором приходит свобода и, следовательно, оптимизм относительно наших будущих возможностей. С выбором также приходят обязательства, люди несут ответственность за свои поступки. И конечно, если разум — не часть тела, он может продолжать существование и после его разрушения, и наши мысли и чувства не исчезнут бесследно.
Как я уже упоминал, большинство американцев продолжают верить в бессмертие души, созданной из некоей нематериальной субстанции, которая может отделиться от тела. Но даже те, кто не поддерживает эту веру на словах, тем не менее воображают, что каким-то образом все же должно быть в нас нечто большее, чем электрическая и химическая активность мозга. Выбор, достоинство и ответственность — эти дары отличают человека от всего остального во Вселенной и кажутся несовместимыми с идеей, что мы не более чем набор молекул. Попытки объяснить поведение человека в механистических терминах обычно порицаются как «редукционистские» и «детерминистские». Порицатели редко точно знают, что они имеют в виду под этими словами, но каждый уверен, что это что-то плохое. Дихотомия разума и тела проникла и в разговорную речь, когда мы, например, говорим: «думай головой»; когда апеллируем к «внетелесному опыту»; когда говорим о «теле Джона» и если уж на то пошло, то и о «мозге Джона», что предполагает, что его обладатель, Джон, каким-то образом отделен от собственного мозга. Журналисты иногда рассуждают о «трансплантации мозга», хотя на самом деле они бы должны называть это «трансплантацией тела», поскольку, как заметил философ Дэн Дэннет, это единственная операция, в которой лучше быть донором, чем реципиентом.
Доктрины «чистого листа», «благородного дикаря» и «духа в машине», или, как философы называют их, эмпиризм, романтизм и дуализм, — логически независимы, однако на практике они часто идут рука об руку. Если наш разум — «чистый лист», тогда, строго говоря, у человека нет предписания делать добро, как нет предписания делать зло. Но добро и зло асимметричны: существует гораздо больше возможностей навредить людям, чем помочь им. Плохими поступками можно доставить больше неприятностей, чем осчастливить хорошими делами. Так что «чистый лист» в сравнении с листом, на котором предначертаны стремления и побуждения, должен сильнее впечатлять нас своей неспособностью причинить вред, чем своей неспособностью делать добро. Руссо не верил в «чистый лист» буквально, но он действительно считал, что плохое поведение — результат научения и социализации[9]. «Люди порочны, — писал он, — ежедневные печальные наблюдения делают доказательства этого факта излишними»[10]. Но эта порочность порождается обществом: «В сердце человеческом нет исконной испорченности; в нем не находится ни одного порока, о котором нельзя было бы сказать, как и откуда он туда проник»[11]. Если воспринимать метафоры обыденной речи как ключ, то все мы вслед за Руссо ассоциируем чистоту скорее с добродетелью, чем с пустотой. Подумайте о моральном подтексте прилагательных чистый, ясный, незапятнанный, белоснежный, незапачканный, прозрачный, а также о словах грязный, мутный, пятно, марать, пачкать, очернить, запятнать.
«Чистый лист» естественно сосуществует и с «духом в машине», потому что пустота — подходящее место для явления духа. Если все контролирует дух, фабрика может поставлять готовое «изделие» с минимумом деталей. Дух может читать информацию на дисплее тела и переключать рычажки, не нуждаясь в высокотехнологичных программах, управляющих системах и центральном процессоре. Чем более немеханическим образом контролируется поведение, тем меньше механики нам будет необходимо постулировать. По той же причине «дух в машине» радостно сопровождает «благородного дикаря». Если машина ведет себя подло, мы можем обвинить духа, который решил совершить некое ужасное действие; и нет необходимости проверять, не кроется ли дефект в устройстве самой машины.
* * *
Философия сегодня не пользуется уважением. Многие ученые употребляют этот термин как синоним бесплодных размышлений. Когда мой коллега Нед Блок сообщил своему отцу, что будет специализироваться в этой области, тот воскликнул: «Пустая болтовня!» А в одном анекдоте молодой человек говорит своей матери, что будет доктором философии, и та отвечает: «Прекрасно! А что это за болезнь — философия?»
Но на самом деле философские идеи не бесплодны и не пусты — они могут влиять на умы столетиями. «Чистый лист» и сопровождающие его доктрины проникли в массовое сознание нашей цивилизации и постоянно всплывают на поверхность в самых неожиданных местах. Уильям Годвин (1756–1835), один из основателей либеральной политической философии, писал, что «дети — сырой материал в наших руках», а их разум — «как лист белой бумаги»[12]. Ближе к нам во времени мы видим Мао Цзэдуна, оправдывающего свою радикальную социальную инженерию следующим образом: «Самые прекрасные поэмы написаны на чистых страницах»[13]. Даже Уолт Дисней был вдохновлен подобной метафорой: «Я думаю о разуме ребенка как о пустой книге, — писал он. — За первые несколько лет жизни очень многое будет написано на этих страницах. И качество этих записей будет влиять на всю его жизнь»[14].
Локк и представить себе не мог, что его слова однажды приведут к появлению Бэмби (который, по замыслу Диснея, должен учить детей полагаться на самих себя), и вряд ли Руссо понравилась бы Покахонтас — идеальная благородная дикарка. Но кажется, что душа Руссо вселилась в автора недавней заметки в газете The Boston Globe, опубликованной в День благодарения:
Я бы предположил, что мир, каким его знали коренные американцы, был более стабильным и счастливым и менее варварским, чем наше общество сегодня. Они не знали безработицы, в обществе царила гармония, о наркотиках ничего не было известно, преступности практически не существовало. Межплеменные войны были скорее ритуальными и редко выливались в массовое убийство без разбора. Конечно, бывали и тяжелые времена, но по большей части жизнь была стабильной и предсказуемой… И так как аборигены с уважением относились к окружающей среде, не случалось потерь воды из-за загрязнения или пищевых ресурсов из-за истребления, не было недостатка в материалах, необходимых для производства предметов первой необходимости: каноэ, корзин, жилищ или костров[15].
Нельзя сказать, что эти идеи не вызывали скепсиса.
Третья доктрина тоже дает о себе знать в наши времена. В 2001 году Джордж Буш объявил, что правительство США не будет финансировать исследования эмбриональных стволовых клеток, если для того, чтобы изъять их, ученым придется уничтожать новые эмбрионы (исследование линий клеток, извлеченных из эмбрионов ранее, не запрещается). Прежде чем принять это решение, он консультировался не только с учеными, но также с философами и религиозными мыслителями. Многие из них определяли нравственную проблему в терминах «одушевления» — момента, в который набор клеток (будущий ребенок) наделяется душой. Некоторые утверждали, что одушевление происходит в момент зачатия, откуда следует, что бластоцист (пятидневная зигота, из которой берутся эмбриональные стволовые клетки) с точки зрения морали эквивалентен личности и его уничтожение — убийство[16]. Этот аргумент стал решающим, а это значит, что судьба американской политики в отношении, возможно, наиболее перспективной медицинской технологии XXI века была определена размышлениями над моральной проблемой, которая могла быть сформулирована столетия назад: когда же дух впервые появляется в машине?
И это лишь немногие проявления «чистого листа», «благородного дикаря» и «духа в машине» в современной интеллектуальной жизни. В следующих главах мы посмотрим, как, казалось бы, чисто умозрительные идеи философов эпохи Просвещения укоренились в современном сознании и как недавние открытия ставят эти идеи под сомнение.
Глава 2.Умный пластилин
Датский филолог Отто Есперсен (1860–1943) — один из наиболее популярных лингвистов в истории. Его блестящие книги читают и сегодня, особенно труд «Развитие и структура английского языка» (Growth and Structure of the English Language), впервые опубликованный в 1905 году. И хотя научные изыскания Есперсена совершенно современны, первые страницы книги напоминают, что написана она не в наши дни:
Одно выражение постоянно приходит мне на ум, когда я размышляю об английском языке и сравниваю его с другими: он кажется определенно и безусловно мужским, это язык взрослого мужчины, и в нем очень мало детского или женского…
Чтобы проиллюстрировать это, я выбрал случайным образом, по контрасту, фразу из гавайского языка: «I koha hiki ana aku ilaila ua hookipa ia mai la oia me ke aloha pumehana loa». В ней ни одно слово не заканчивается на согласный, а два или больше согласных звука никогда не стоят рядом. Может ли кто-то сомневаться, что этот язык, хотя и звучит приятно, музыкально и гармонично, оставляет впечатление «детскости» или «женственности»? От людей, говорящих на таком языке, вы не ожидаете большой силы или энергии; он кажется подходящим только для жителей солнечных регионов, где земля обеспечивает человека всем необходимым практически без усилий с его стороны, и жизнь его, следовательно, не отмечена печатью тяжелой борьбы с природой и себе подобными. В таких языках, как испанский или итальянский, подобная фонетическая структура обнаруживается в меньшей степени; но насколько же от них отличаются наши северные языки[1].
Он продолжает в том же духе, расхваливая мужественность, сдержанность и логику английского языка, и завершает главу так: «Каков язык, такова и нация».
Любого современного читателя шокируют сексизм, расизм и шовинизм этого комментария: предпосылка, что женщины подобны детям, стереотипы о праздности колонизированных народов и неуместное превознесение автором собственной культуры. Равно удивляют и жалкие стандарты, до которых опускается здесь этот великий ученый. Предположение, что язык может быть «взрослым» и «мужественным», субъективно до бессмысленности. Он без каких-либо оснований приписывает личностные черты всему народу и затем продвигает две теории — что фонетика отражает личность и что теплый климат культивирует лень, — не подкрепляя их соответствующими данными, не говоря уже о причинно-следственных связях. Даже на его собственном поле он приходит к весьма шатким умозаключениям. Языки, в слоге которых гласный следует за согласным, такие как гавайский, требуют более длинных слов для передачи тех же объемов информации, чего вряд ли можно ожидать от людей без «силы или энергии». А насыщенные согласными слоги английского языка часто проглатываются или слышатся неправильно, чего едва ли ждешь от рассудительных деловых людей.
Но, пожалуй, сильнее всего возмущает то, что Есперсен даже не предполагает, что может говорить нечто неприемлемое. Он принимает как должное, что его предрассудки будут разделены читателями, которых он представляет своими собратьями-мужчинами, говорящими на северных языках. «Может ли кто-то сомневаться?» — риторически вопрошает Есперсен. «Вы не ожидаете большой мощи» от таких людей, заявляет он. Более низкое положение женщин и других рас не нуждается для него ни в оправдании, ни в доказательствах.
Я привел в пример Отто Есперсена, человека своего времени, чтобы показать, как изменились стандарты. Процитированные высказывания — обычный пример интеллектуального климата столетней давности; похожие возмутительные утверждения можно найти практически у любого автора XIX или начала XX века[2]. Это было время, когда белый человек принимал на себя бремя управления «только что покоренными угрюмыми народами, полудемонами, полудетьми» ; время берегов, кишащих притесненными толпами и отбросами цивилизации; время европейских империй, бросающих друг в друга не только злые взгляды, но порой и копья. Империализм, иммиграция, национализм и наследие рабства сделали слишком очевидными различия между этническими группами. Некоторые выглядели образованными и культурными, другие — невежественными и отсталыми; одни использовали кулаки и дубинки, чтобы обеспечить свою безопасность, другие платили за эти услуги полиции и армии. Очень соблазнительно было думать, что северные европейцы — более развитая раса, предназначенная для управления другими. Такой же удобной была и вера, что женщины по природе своей предназначены для кухни, церкви и детей, вера, поддерживаемая «исследованиями», подтверждающими, что умственная нагрузка вредит их физическому и психическому здоровью.
Расовые предубеждения тоже были покрыты налетом «научности». Дарвиновская теория эволюции повсеместно неверно подавалась как описание интеллектуального и нравственного прогресса, а не как объяснение того, каким образом все живое приспосабливается к своим экологическим нишам. Очень легко было подумать, что небелые расы стоят на эволюционной лестнице между приматами и европейцами. Хуже того, последователь Дарвина Герберт Спенсер писал, что доброхоты только зря вмешиваются в процесс эволюции, когда пытаются улучшить жребий нищих классов и рас, которые, по мнению Спенсера, были просто менее биологически «приспособленными». Доктрина социального дарвинизма (или, точнее, социального спенсеризма, поскольку Дарвин не имеет к ней отношения) привлекала, что неудивительно, таких деятелей, как Джон Рокфеллер и Эндрю Карнеги[3]. Кузен Дарвина, Френсис Гальтон, предлагал поспособствовать эволюции человека, препятствуя размножению менее приспособленных, — эту политику он назвал евгеникой[4]. Не прошло и нескольких десятилетий, как в Канаде, скандинавских странах, 30 американских штатах и, конечно, в Германии были приняты законы о принудительной стерилизации преступников и «слабоумных». А чуть позже нацистская идеология «низших рас» использовалась для оправдания убийства миллионов евреев, цыган и гомосексуалов.
Мы прошли долгий путь. И хотя взгляды куда более дремучие, чем позиция Есперсена, продолжают процветать во многих странах мира и в некоторых частях нашего общества, в западных демократиях они теперь вытеснены на задворки интеллектуальной жизни. Сегодня ни одна респектабельная публичная фигура в Соединенных Штатах, Британии или Западной Европе не позволит себе оскорблять женщин или озвучивать возмутительные стереотипы насчет других рас и этнических групп. Образованные люди стараются осмысливать собственные скрытые предубеждения, сверять их с фактами и не задевать чувства других. В публичной жизни мы стремимся судить о людях как об индивидуальностях, а не как о представителях того или иного пола или национальности. Мы стараемся отделять силу от права, свои личные вкусы от объективных оценок и относиться с уважением к культурам более бедным или не похожим на нашу. Мы осознаем, что ни один лидер не может быть достаточно мудр, чтобы доверить ему руководство эволюцией вида, и что в любом случае правительство не должно вмешиваться в такие личные вопросы, как решение иметь детей. Сама мысль, что представителей каких-то этнических групп можно подвергать гонениям по биологическим причинам, наполняет нас отвращением.
Эти изменения были закреплены горькими уроками линчеваний, мировых войн, насильственной стерилизации, холокоста, убедительно продемонстрировавшими гибельные последствия очернения этнических групп. Однако ростки этих изменений появились еще в начале XX века как результат незапланированного эксперимента: массовой иммиграции, социальной мобильности и распространения знаний. Викторианские джентльмены не могли себе представить, что грядущий век увидит национальное еврейское государство, основанное солдатами и первопроходцами, волну американских интеллектуалов африканского происхождения или индустрию программного обеспечения в Бангалоре. И вряд ли они могли предвидеть, что женщины будут возглавлять нации во время войн, управлять огромными корпорациями или получать Нобелевские премии за научные достижения. Сегодня мы знаем, что люди обоих полов и всех рас могут достичь любой позиции в жизни.
Эти коренные изменения включали и революцию во взглядах ученых и исследователей на человеческую природу. Ученых увлек разворот во взглядах на пол и расы, но они также помогли направить их в нужное русло, рассуждая о человеческой природе в книгах и журналах и сотрудничая с правительственными институтами. Господствующие теории были перекроены таким образом, чтобы сделать расизм и сексизм максимально неприемлемыми. Доктрина «чистого листа» закрепилась в интеллектуальной жизни в форме стандартной модели социальной науки, или социального конструкционизма[5]. Сегодня эта модель стала для людей второй натурой, но мало кто знает ее историю[6]. Карл Деглер, выдающийся исследователь этой революции, вкратце охарактеризовал ее так:
Имеющиеся свидетельства, похоже, показывают: идеология, или философские представления о том, что мир может быть более свободным и справедливым местом, сильно повлияла на переключение внимания с биологии на культуру. Наука или, по крайней мере, некоторые научные принципы, а также новые исследования тоже сыграли свою роль в трансформации, хотя и ограниченную. Главным импульсом здесь послужило желание установить социальный порядок, в котором врожденные и неизменяемые биологические факторы не будут использоваться для объяснения поведения социальных групп[7].
Концепция «чистого листа» завоевывала психологию и другие социальные науки разными путями, но толчком к развитию послужили те же исторические события и та же прогрессивная идеология. Ко второму и третьему десятилетию XX века стереотипы, касающиеся женщин и этнических групп, начали выглядеть глупо. Волны иммигрантов из Восточной и Южной Европы, в том числе евреев, наполняли города и поднимались вверх по социальной лестнице. Афроамериканцы пользовались возможностями, которые им предоставили новые «негритянские колледжи», переезжали в северные штаты; начался так называемый Гарлемский ренессанс. Выпускницы процветающих женских колледжей запустили первую волну феминизма. Впервые в истории не все профессора и студенты были белыми мужчинами англосаксонского происхождения и протестантского вероисповедания. Мнение, что эти сливки общества от природы лучше прочих, стало не только оскорбительным, но и шло вразрез с тем, что люди видели своими глазами. Социальные науки особенно привлекали женщин, евреев, азиатов и афроамериканцев, некоторые из них стали влиятельными мыслителями.
Многие социальные проблемы начала XX века касались менее удачливых представителей этих групп. Стоит ли позволить въезд большему количеству иммигрантов и если да, то из каких стран? Надо ли помогать новым иммигрантам ассимилироваться и если да, то как? Надо ли предоставлять женщинам равные политические права и экономические возможности? Надо ли осуществлять расовую интеграцию? Другие проблемы касались детей[8]. Образование стало обязательным, теперь это была забота государства. Люди массово устремились в города, семейные связи ослабли, и трудные дети стали общей головной болью. Для работы с ними были созданы новые институты: детские сады, приюты, исправительные школы, летние лагеря, общественные организации, клубы для мальчиков и для девочек. Развитие детей внезапно вышло на первый план. Эти социальные вызовы не собирались исчезать, и гуманнее всего было предполагать, что все человеческие существа имеют равный потенциал, если они получили правильное воспитание и равные возможности. И многие из социальных исследователей считали своим долгом сделать все возможное для укрепления этой точки зрения.
* * *
Современные психологические теории, как явствует из любого учебника, восходят к Джону Локку и другим мыслителям эпохи Просвещения. Для Локка «чистый лист» был оружием против церкви и тиранов-монархов, но к XIX столетию эти угрозы потеряли свою значимость для англоязычного мира. Наследник идей Локка — Джон Стюарт Милль (1806–1873) — стал, возможно, первым, кто приложил психологию «чистого листа» к политическим задачам, с которыми мы сталкиваемся и сегодня. Он был одним из первых сторонников суфражистского движения, обязательного образования и улучшения условий жизни обездоленных классов. Это повлияло, как он пишет в своей автобиографии, на его психологические и философские взгляды:
Что касается меня, я чувствовал с давних пор, что господствующее стремление, в силу которого мы считаем отличительные черты человеческого характера врожденными и вообще неизгладимыми и которое заставляет нас не признавать неоспоримые доказательства, указывающие на то, что громадное большинство этих отличий в индивидуумах, расах и полах не только могли бы естественно проистекать из обстоятельств, но и проистекают из них, я чувствовал — повторяю я, — что это стремление является одним из главных препятствий к рациональному разрешению великих социальных вопросов и самым значительным «камнем преткновения» на пути человеческого прогресса… [Это направление] так соответствует человеческой беспечности и консервативным интересам вообще, что если не нападать на его основы, то оно может зайти гораздо далее, чем допускают, в сущности, самые умеренные системы этой интуитивной философии[9].
Под «интуитивной философией» Милль подразумевал европейских интеллектуалов по ту сторону Ла-Манша, которые, в частности, отстаивали мнение, что категории мышления являются врожденными. Милль хотел атаковать самые основы их психологической теории, чтобы противодействовать, как он считал, ее реакционным социальным последствиям. Он усовершенствовал теорию научения, называемую ассоцианизмом (ранее сформулированную Локком), которая пыталась объяснить человеческий интеллект без опоры на какие-либо врожденные структуры. Согласно этой теории, на «чистом листе» записаны ощущения, которые Локк называл «идеями», а современные психологи — «свойствами» или «чертами». Идеи, которые постоянно появляются вместе (такие, как краснота, округлость, сладость яблока), ассоциируются друг с другом, так что любая из них приводит на ум остальные. И похожие объекты внешнего мира активируют в уме набор пересекающихся идей. Например, после многократных встреч с собаками их общие черты (мех, лай, четыре ноги и т. д.) объединяются вместе, создавая категорию «собака».
Влияние ассоцианизма Локка и Милля ощущается в психологии и сейчас. Он стал ядром большинства моделей научения, особенно в подходе, именуемом бихевиоризмом, который доминировал в психологии с 1920-х до 1960-х годов. Отец бихевиоризма Джон Уотсон (1878–1958) написал один из самых известных манифестов «чистого листа», созданных в XX веке:
Дайте мне на воспитание дюжину здоровых, правильно сформированных младенцев и мир, соответствующий моим требованиям, чтобы растить их, и я гарантирую, что возьму любого и воспитаю из него специалиста в любой области, в какой захочу, — доктора, юриста, художника, крупного коммерсанта и да, даже уличного попрошайку или вора, вне зависимости от его талантов, склонностей, способностей, призваний или расы его предков[10].
В бихевиоризме таланты и способности ребенка не имеют значения, потому что не существует таких вещей, как таланты и способности. Уотсон отлучил их от психологии вместе с прочим содержимым разума: идеями, верованиями, желаниями и чувствами. Они субъективны и неизмеримы, говорил он, и не подходят для науки, которая изучает только объективные и измеримые вещи. Для бихевиориста в психологии приемлема одна тема обсуждения — наблюдаемое поведение и как оно контролируется нынешним и прошлым влиянием внешней среды. (Есть старая шутка среди психологов: «Что говорит бихевиорист после занятий любовью? — "Я вижу, тебе понравилось. Теперь скажи, понравилось ли мне"».)
«Идеи» Локка были заменены «стимулами» и «реакциями», но его законы ассоциации устояли и стали называться законами обусловливания. Реакция может ассоциироваться с новым стимулом, вроде того как Уотсон показывал ребенку белую крысу и затем бил молотком по железному бруску, якобы заставляя ребенка ассоциировать страх с пушистым зверьком. И реакция может ассоциироваться с вознаграждением — когда кот, посаженный в ящик, случайно понимает, что, потянув за веревочку, можно открыть дверцу и сбежать. В этих случаях экспериментатор формирует связи между стимулом и другим стимулом, или между реакцией и вознаграждением. В естественных условиях, утверждали бихевиористы, эти связи есть часть самой структуры внешнего мира, и они неуклонно формируют поведение организмов, не исключая и человека.
Одной из жертв бихевиористского минимализма стала и многообещающая психология Уильяма Джеймса (1842–1910). Джеймс был вдохновлен утверждением Дарвина, что восприятие, мышление и эмоции эволюционировали в процессе биологической адаптации, подобно органам тела. Он прибег к понятию инстинкта, чтобы объяснить предпочтения не только животных, но и людей. В своей теории мышления он описал множество механизмов психики, включая кратковременную и долговременную память. Но с наступлением бихевиоризма все они пополнили список запрещенных концепций. Психолог Джейкоб Кантор писал в 1923 году: «Короток ответ на вопрос, каковы отношения между социальной психологией и инстинктами. Очевидно, что нет никаких отношений»[11]. Даже сексуальное желание было переопределено как условный ответ. Психолог Цин Янг Куо в 1929 году писал:
Поведение не есть проявление унаследованных факторов и не может быть выражено в терминах наследственности. Оно пассивно и вынуждено, оно механически и единственным образом определено структурной схемой организма и природой окружающих сил. Все наши сексуальные желания — результат социального стимулирования. Организм не обладает готовой реакцией на противоположный пол, так же как не обладает врожденными идеями[12].
Бихевиористы считали, что поведение можно понять независимо от прочей биологии, не принимая во внимание генетику живого существа или эволюционную историю видов. Психология свелась к изучению процессов научения у лабораторных животных. Беррес Фредерик Скиннер (1904–1990), самый известный психолог середины XX века, написал книгу «Поведение организмов» (The Behavior of Organisms), в которой единственными организмами были крысы и голуби, а единственным поведением — нажатие рычагов и клевание клавиш. Возможно, посещение цирка напомнило психологам, что виды и их инстинкты все-таки имеют значение. В статье, названной «Ненормальное поведение организмов» (The Misbehavior of Organisms), ученики Скиннера Келлер и Мариан Бреланд сообщали о своих попытках использовать его приемы, чтобы научить животных засовывать покерные фишки в торговые автоматы. Однако куры клевали фишки, еноты мыли их, а свиньи пытались закопать своими пятачками[13]. К мозгу бихевиористы были настроены так же враждебно, как и к генетике. Уже в 1974 году Скиннер написал, что изучение мозга — это еще один ошибочный путь в поисках причин поведения внутри организма, а не во внешнем мире[14].
Бихевиоризм не только превалировал в психологии, он проник в массовое сознание. Уотсон написал авторитетное руководство по воспитанию детей, в котором советовал родителям устанавливать жесткое расписание кормлений и уделять детям минимум внимания и любви. Если вы успокаиваете плачущего ребенка, писал он, вы вознаграждаете его за плач и тем самым приучаете чаще плакать. Книга Бенджамина Спока «Ребенок и уход за ним» (Baby and Child Care), впервые опубликованная в 1946 году и рекомендовавшая более мягкое отношение к детям, отчасти была реакцией на книгу Уотсона. Скиннер написал несколько бестселлеров, убеждая, что плохое поведение не инстинктивно и не результат свободного выбора, а обусловлено непредумышленными действиями. Если бы мы превратили общество в большой скиннеровский ящик и управляли поведением сознательно, а не случайным образом, мы бы избавились от агрессии, неравенства и достигли Утопии[15]. Благородный дикарь стал благородным голубем.
Строгий бихевиоризм — практически отмершая ветвь психологии, но многие из его подходов выжили. Ассоцианизм как теория научения принят во многих симуляторах нейронных сетей и математических моделях научения[16]. Многие нейроученые приравнивают научение к формированию ассоциаций и ищут в нейронах и синапсах ассоциативные связи, игнорируя другие мыслительные процессы, которые могут осуществлять научение[17]. (Например, умение держать в уме значение переменной, как в выражении «х = 3», — важнейшая мыслительная операция в процессе ориентирования на местности и преследования добычи, и эти способности очень развиты у животных в дикой природе. Но этот вид научения не может быть сведен к формированию ассоциаций, а потому игнорируется в нейронауках.) Психологи и нейробиологи все еще считают организмы взаимозаменяемыми, редко задумываясь, похожи или нет удобные лабораторные животные (крысы, кошки, обезьяны) на людей в своих жизненно важных чертах[18]. До последнего времени психологи игнорировали содержание убеждений и эмоций и не принимали во внимание возможность, что разум приспособился обращаться с биологически важными категориями по-разному[19]. Теории памяти и мышления не отличают соображения о людях от соображений о камнях или зданиях. Теории эмоций не видят разницы между страхом и гневом, ревностью и любовью[20]. Теории социальных отношений не проводят различий между семьей, друзьями, врагами и незнакомцами[21]. Более того, самые интересные для непрофессионалов темы — любовь, ненависть, работа, игра, еда, секс, статус, власть, зависть, дружба, религия, искусство — практически не затрагиваются в учебниках психологии.
Одним из важнейших текстов конца XX века был двухтомник «Параллельная распределенная обработка» (Parallel Distributed Processing), написанный группой ученых во главе с Дэвидом Румельхартом и Джеймсом Маклелландом, в котором был представлен способ моделирования нейронных сетей, названный коннекционизмом[22]. Румельхарт и Маклелланд утверждали, что обычные ассоцианистские сети, подверженные массированному обучению, могут объяснить процесс познания. Тем не менее они понимали, что эта теория не дает удовлетворительного ответа на вопрос, почему люди умнее крыс. Вот их слова:
Учитывая вышесказанное, этот вопрос действительно может поставить в тупик… У людей больше объем коры головного мозга, чем у крыс или даже у приматов, в частности, у нас гораздо больше мозговых структур, не занятых исключительно вводом-выводом информации, и, предположительно, эта дополнительная кора стратегически помещена в мозг для выполнения именно тех функций, что отличают людей от крыс и даже обезьян…
Но здесь нужно учитывать и другой аспект разницы между крысами и людьми. Человеческое окружение включает других людей, а также культурные механизмы, которые они создали, чтобы организовать свои мыслительные процессы[23].
Получается, что люди — те же крысы, только «чистые листы» у них побольше, плюс есть то, что называется «культурными механизмами». И это подводит нас к обратной стороне переворота, который совершил XX век в социальных науках.
* * *
Он такой невежа, что, когда слышит «Дилан»,
думает, что говорят о Дилане Томасе (кто бы он ни был).
Никакой культуры!
Саймон и Гарфункель
Слово «культура» используется для указания на высокие развлекательные жанры, такие как поэзия, опера, балет. Другой общепринятый смысл — «совокупность социально транслируемых паттернов поведения, убеждений, обычаев, искусства и других продуктов человеческого труда и мысли» — появился всего 100 лет назад. Это изменение в английском языке — еще одно наследие отца современной антропологии Франца Боаса (1858–1942).
Идеи Боаса, как и идеи других великих психологов, уходят корнями в эмпиристскую философию эпохи Просвещения, в частности, на Боаса повлиял Джордж Беркли (1685–1753). Беркли сформулировал теорию идеализма, взгляд, подразумевающий, что идеи, а не тела и не другие вещественные объекты — важнейшие элементы реальности. После поворотов, слишком запутанных, чтобы описывать их здесь, идеализм приобрел значительное влияние на германских мыслителей XIX века. Этой теории придерживался и молодой Боас, немецкий еврей из нерелигиозной либеральной семьи.
Идеализм позволил Боасу подвести новый интеллектуальный фундамент под эгалитаризм. Различия между расами и этническими группами, предположил он, проистекают не из их физических особенностей, а из их культуры, то есть системы идей и ценностей, которые распространяются при помощи языка и других форм социального поведения. Народы отличаются один от другого, потому что их культуры разные. И именно так мы должны говорить о них — культура эскимосов или еврейская культура, а не еврейская раса или раса эскимосов. Идея, что разум сформирован культурой, служила защитой от расизма и была той теорией, которой стоило придерживаться по моральным соображениям. Боас писал: «Я заявляю, что до тех пор, пока обратное не будет доказано, мы должны придерживаться мнения, что любое сложное поведение не наследуемо, а социально обусловлено»[24].
Доводы Боаса не сводились к нравственным нормам; они опирались на реальные открытия. Боас изучал коренные народы, иммигрантов и сирот в приютах, чтобы доказать, что все группы людей имеют равный потенциал. В противовес Есперсену Боас показал, что языки примитивных народов не проще европейских, они разные. Трудности эскимосов в распознавании звуков нашего языка ничем не отличаются от наших трудностей в распознавании звуков языка эскимосов. Действительно, во многих незападных языках отсутствуют слова для обозначения некоторых абстрактных понятий. В них может не быть названий для чисел больше трех или слов для обозначения «добродетели» вообще, а не качеств конкретного человека. Но подобные ограничения просто отражают потребности этих людей в повседневной жизни, а не их слабые интеллектуальные способности. По легенде, однажды Сократ заставил мальчика-раба формулировать абстрактные философские концепции; и Боас тоже показал, что может добиться от аборигенов куакиутл с северо-западных Тихоокеанских островов создания новых форм слов, обозначающих абстрактные понятия вроде «добродетели» или «сожаления». Он также обнаружил, что, как только аборигены вступают в контакт с цивилизацией и становятся обладателями вещей, требующих подсчета, они быстро усваивают полноценную систему счисления[25].
Несмотря на то, какое значение Боас придавал культуре, он не был ни релятивистом, считавшим, что все культуры равны, ни эмпиристом, верившим в «чистый лист». Он был уверен в превосходстве европейской цивилизации над племенными культурами, хотя и настаивал на том, что все народы способны достичь такого же уровня развития. Он не отрицал ни возможности существования общей для всех человеческой природы, ни того, что люди, принадлежащие к одной этнической группе, могут отличаться друг от друга. Для него была важна мысль, что все этнические группы обладают одинаковыми основными умственными способностями[26]. Здесь Боас был прав, и сегодня это признано практически всеми учеными и исследователями.
Но Боас создал монстра. Его ученики захватили власть в американских социальных науках, и каждое поколение превосходило предыдущее в огульных заявлениях. Они настаивали, что не только разница между этническими группами должна объясняться исходя из культуры, но и каждый аспект человеческого существования. Например, Боас писал, что придерживается «социального» объяснения до тех пор, пока нет доказательств обратного, а ученик Боаса Альфред Крёбер придерживался его, несмотря на наличие противоположных свидетельств. «Наследственность, — писал он — не должна играть никакой роли в истории человека»[27]. Вместо этого цепь событий, формирующая человека, «включает в себя абсолютное обусловливание исторических событий другими историческими событиями»[28].
Крёбер не только не признавал, что социальное поведение можно объяснить врожденными свойствами ума, он отрицал, что его можно объяснить хоть какими-то его свойствами. Культура, писал он, — это суперорганизм, она витает в своей собственной вселенной, свободная от плоти и крови реальных мужчин и женщин: «Цивилизация — это не работа отдельного ума, это поток продуктов умственной деятельности всех людей. Ментальность связана с индивидуумом. С другой стороны, социальное и культурное по своей сути не индивидуально. Цивилизация как таковая начинается там, где заканчивается отдельный человек»[29].
Обе эти идеи — отрицание человеческой природы и отделение культуры от индивидуального разума — озвучивались также основателем социологии Эмилем Дюркгеймом (1858–1917), предвосхитившим доктрину Крёбера о суперорганическом разуме:
Каждый раз, когда социальный феномен прямо объясняется психологическим феноменом, мы можем утверждать, что объяснение неверно… Группа мыслит, чувствует и действует совершенно иначе, чем действовали бы ее отдельные члены, будучи в изоляции… Если мы начинаем искать объяснение феномена в индивидууме, мы не поймем ничего о том, что происходит в группе… Человеческий характер — неопределенный материал, который формируется и меняется под влиянием социального фактора. Вклад каждого состоит исключительно в самых общих установках, в неясных и, следовательно, податливых предрасположенностях[30].
Дюркгейм сформулировал закон социальных наук, который будут часто цитировать в грядущем веке: «Определяющую причину социального факта следует искать в предшествующих социальных фактах, а не в состоянии умов отдельных личностей»[31].
И психология, и другие социальные науки отрицали важность индивидуального сознания, но с этого места их пути разошлись. Психология объявила вне закона психические структуры вроде убеждений и желаний и заменила их стимулами и реакциями. Прочие социальные науки поместили желания и убеждения в культуру и общество, а не в головы отдельных людей. Разные социальные науки также согласились, что содержание сознания — идеи, мысли, планы и т. д. — на самом деле феномены языка, публичного поведения, о котором любой может услышать и зафиксировать. (Уотсон предложил считать, что «размышление» на самом деле состоит из мельчайших движений рта и глотки.) Но самую сильную неприязнь их представители испытывали к инстинктам и эволюции. Выдающиеся социологи постоянно декларировали, что лист — чистый:
Инстинкты не создают обычаев; обычаи создают инстинкты. Приписываемые человеку инстинкты всегда выучены и не являются врожденными.
Элсворт Фэрис (1927)[32]
Культурные феноменыни в коем случае не наследуемы, но обязательно и без исключений приобретаемы.
Джордж Мёрдок (1932)[33]
У человека нет природы, все, что у него есть, — это история.
Хосе Ортега-и-Гассет (1935)[34]
За исключением инстинктивных реакций младенцев на неожиданную потерю опоры или внезапный резкий звук, человеческое существо лишено инстинктов… Человек потому и человек, что у него нет инстинктов, поскольку все, что делает его тем, кто он есть и кем становится, он постигает и приобретает от своей культуры, антропогенной части окружающей среды, от других человеческих существ.
Эшли Монтегю (1973)[35]
Действительно, выбор уже не стоял между исписанным листом и белой бумагой. Дюркгейм говорил о «неоформленном материале», о какой-то массе, которую мнут и втискивают в нужную форму с помощью культуры. Возможно, лучшая современная метафора — это «умный пластилин», эластичная игрушка, которую дети используют и чтобы сделать оттиск (как tabula rasa, пустой лист), и чтобы вылепить нужную форму (как неоформленный материал). Метафора пластичности появляется снова в утверждении двух наиболее известных учеников Боаса:
Большинство людей принимают форму своей культуры из-за гибкости их природных способностей… Подавляющее количество индивидуумов с готовностью принимают предложенную им форму.
Руфь Бенедикт (1934)[36]
Нам приходится признать, что человеческая природа невероятно пластична, чутко и совершенно по-разному отзываясь на разные культурные условия.
Маргарет Мид (1935)[37]
Другие уподобляли разум своего рода фильтру:
Многое из того, что обычно называют «человеческой природой», всего лишь культура, пропущенная через сито нервов, желёз, органов чувств, мускулов и т. д.
Лесли Уайт (1949)[38]
Либо — первичному сырью:
Человеческая природа есть самый грубый, самый необработанный из исходных материалов.
Маргарет Мид (1928)[39]
Наши идеи, наши ценности, наши действия, даже наши эмоции есть, как и сама наша нервная система, продукты культуры. Да, продукты, выработанные из склонностей, способностей и предрасположенностей, с которыми мы были рождены, но тем не менее выработанные.
Клиффорд Гирц (1973)[40]
Или сравнивали его с незапрограммированным компьютером:
Человек — это животное, отчаянно зависимое от сверхгенетических, внешних механизмов контроля, от культурных программ, управляющих его поведением.
Клиффорд Гирц (1973)[41]
Или с некой аморфной сущностью, с которой можно делать все что угодно:
Психология культуры — это изучение способа, которым культурные традиции и социальные практики регулируют, выражают, трансформируют и преображают психику людей, приводя в результате не столько к психологическому единству человечества, сколько к этническим расхождениям, с точки зрения сознания, личности и эмоций.
Ричард Шведер (1990)[42]
Суперорганическое или групповое сознание также стало символом веры в социальных науках. Роберт Лоуи (еще один ученик Боаса) писал: «Принципы психологии неспособны объяснить феномен культуры, так же как и гравитация не может объяснить архитектурные стили»[43]. И на случай, если вы не уловили всех подтекстов, антрополог Лесли Уайт разжевывает:
Вместо того чтобы считать индивидуума первопричиной, движущей силой, инициатором или решающим фактором культурного процесса, мы теперь рассматриваем его как составной элемент, как крошечную и относительно несущественную часть широкой социокультурной системы, которая в любую единицу времени включает в себя бесчисленное количество индивидуальностей, достигая и самого отдаленного их прошлого… Для целей научного толкования культурный процесс можно считать вещью, единственной в своем роде (sui generis); культура объяснима в терминах культуры[44].
Другими словами, нам следует забыть о разуме отдельной личности вроде вас, этой крошечной и несущественной части обширной социокультурной системы. Значение имеет только разум, принадлежащий группе, которая способна мыслить, чувствовать и действовать сама по себе.
Доктрина суперорганизма оказала на современную жизнь влияние, распространившееся гораздо дальше сочинений социологов. Она лежит в основе тенденции представлять «общество» в качестве морального агента, которого можно обвинить в грехах, как если бы это была личность. Это приводит к политике идентичности, в которой гражданские права и политические привилегии даются группам, а не отдельным лицам. И как мы увидим в последующих главах, это определило некоторые из крупных различий между основными политическими системами в XX веке.
* * *
«Чистый лист» был не единственной частью теории, которую социологи чувствовали себя обязанными поддерживать. Они также пытались сделать неприкосновенным «благородного дикаря». Маргарет Мид рисовала аборигенов в стиле Гогена: мирные сторонники равноправия, счастливые тем, что имеют, и не знающие конфликтов на сексуальной почве. Ее оптимистический взгляд на то, кем мы были и кем, следовательно, можем стать снова, переняли такие в других отношениях скептические авторы, как Бертран Рассел и Генри Луис Менкен. Эшли Монтегю (также последователь Боаса), выдающийся интеллектуал, с 1950-х и до своей недавней кончины без устали апеллировал к доктрине «благородного дикаря», чтобы обосновать поиски братства и мира и опровергнуть любого, кто мог задуматься о тщетности этих попыток. В 1950 году, например, он разработал манифест для только что созданной организации ЮНЕСКО, в котором декларировал: «Биологические исследования поддерживают этику всеобщего братства. Человек рождается со стремлением к кооперации, и если это стремление не реализуется, то и люди, и государства начинают болеть»[45]. Удивительно было слышать, что «биологические исследования» могли продемонстрировать нечто подобное, когда еще не остыл пепел 35 млн жертв Второй мировой. Манифест был отвергнут, но Монтегю повезло позже, когда ЮНЕСКО и многие ученые сообщества приняли похожие резолюции[46].
В общем, социологи считали, что доктрины о пластичности человека и автономности культуры могут помочь осуществлению вековой мечты о совершенствовании человечества. Мы не застряли навечно в нынешней, не устраивающей нас ситуации, утверждали они. Ничто не помешает нам изменить нашу судьбу, кроме недостатка воли и отсталого представления, что мы приговорены к ней собственной биологией. Многие социологи выражали надежду на обновление и улучшение человеческой природы:
Я чувствовал (и уже давно говорил), что «средовое» объяснение всегда оказывалось предпочтительным, если подтверждалось данными, потому что оно более оптимистическое и дарит нам надежду на улучшения.
Отто Клайнберг (1928)[47]
Современная социология и современная антропология единодушно утверждают, что сущность культуры или цивилизации — социальная традиция, и эта социальная традиция постоянно модифицируется по мере того, как люди учатся лучшим и более счастливым способам совместной жизни… Так научные исследования социальных структур пробуждают веру в возможность преобразования нашей природы и нашей общественной жизни.
Чарльз Эллвуд (1922)[48]
Барьеры во многих областях знаний падают под напором нового оптимизма: каждый из нас может научиться чему угодно… От концепции человеческих способностей как чего-то неотъемлемого от психологической структуры мы перешли к идее гибкого, приспособляемого механизма, который можно значительно улучшить.
Роберт Фэрис (1961)[49]
Хотя психология не настолько политизирована, как некоторые другие социальные науки, иногда и она поддается утопическим порывам, утверждая, что изменения в воспитании детей или в системе образования могут избавить общество от социальных патологий и улучшить благосостояние людей. И теоретики психологии порой пытаются добавить морального веса аргументам в пользу коннекционизма или других эмпиристских теорий, предупреждая о пессимистических последствиях идей наследственности. Они утверждают, например, что теории наследственности открывают дверь врожденным различиям, а это может сыграть на руку расизму, или что эти теории предполагают неизменность человеческих качеств, а это может поставить под вопрос действенность программ социальной поддержки[50].
* * *
Социальные науки XX века приняли в свои объятия не только «чистый лист» и «благородного дикаря», но и последнего члена троицы — «духа в машине». Заявление, что мы можем изменить в себе все, что нам не нравится, стало своего рода лозунгом социальных наук. Однако это только обострило вопрос: «Кто или что же такое "мы"»? Если «мы», пытающиеся изменить себя, есть всего лишь куски плоти в биологическом мире, тогда любая гибкость поведения, которую мы обнаруживаем, будет слабым утешением, поскольку тогда «мы» — творцы — были бы биологически связаны и, следовательно, не могли бы менять людей или меняться сами в спасительном для общества направлении. «Дух в машине» — величайший освободитель человеческой воли (включая волю изменить общество) от механистических причинно-следственных связей. Антрополог Лорен Эйсли поясняет:
Разум человека благодаря своей неопределенности, благодаря возможности выбора и культурной коммуникации почти ушел от слепого контроля этого причинно-обусловленного мира, которым дарвинисты неосознанно ограничили человека. Врожденные характеристики, навязанные ему биологическими экстремистами, трещат по швам… Уоллес считал, и считал верно, что с развитием человека роль эволюции заметно снизилась и его судьбу стал определять разум[51].
«Уоллес», к которому апеллирует Эйсли, — это Альфред Рассел Уоллес (1823–1913), соавтор дарвиновской теории естественного отбора. Уоллес отошел от дарвинизма, заявив, что человеческий разум не может быть объяснен эволюцией и мог быть создан только высшим разумом. Он был однозначно убежден, что разум человека может избежать «слепого контроля причинно-обусловленного мира»: позднее Уоллес стал спиритуалистом и последние годы своей карьеры занимался поисками способа общения с душами мертвых.
Социологи, верившие в абсолютное отделение культуры от биологии, возможно, не верили буквально в призрака, являющегося мозгу. Некоторые использовали аналогию разницы между живой и неживой материей. Крёбер писал: «Расцвет социального не стал звеном какой-то цепи или шагом вперед по проторенной дороге, нет, он стал прыжком на новый уровень… [Он] словно первое появление жизни в до того безжизненной вселенной… С этого момента и далее на месте одного мира должно появиться два»[52]. И Лоуи настаивал, что это «не мистицизм, но чисто научный метод», — утверждение, что культура есть sui generis (единственная в своем роде) и может быть объяснена только через саму себя, потому что каждый знает, что в биологии живая клетка может произойти только от другой живой клетки[53].
Во времена Крёбера и Лоуи биология была на их стороне. Многие биологи все еще верили, что живые существа одухотворены особой субстанцией, жизненным порывом, и не могут быть сведены к неживой материи. История биологии 1931 года издания, ссылаясь на генетику, как ее тогда понимали, сообщала: «Таким образом, последние биологические теории возвращают нас туда, откуда мы начали, к присутствию силы, называемой жизнью или душой, не только единственной в своем роде, но и уникальной во всех ее проявлениях»[54]. В следующей главе мы увидим, что аналогия между автономией культуры и автономией жизни может сообщить нам гораздо больше, чем предполагали вышеупомянутые социологи.
Глава 3. Последнее препятствие
Как писал в 1755 году Сэмюэл Джонсон, не стоит ожидать, что его толковый словарь «изменит подлунный мир и очистит землю от глупости, тщеславия и притворства». Мало кто употребляет сегодня это милое слово — «подлунный». Оно отсылает нас к античной вере в строгое разделение между первозданным, неизменным, упорядоченным космосом вверху и нашим грязным, хаотическим, переменчивым миром внизу. Разделение устарело уже во времена Джонсона: Ньютон показал, что те же силы, что притягивают яблоко к земле, удерживают и Луну на ее орбите.
Теория Ньютона, гласящая, что один и тот же набор физических законов управляет движением всех объектов во Вселенной, была первым шагом человека на великом пути развития человеческого взаимопонимания: унификации знаний, которую биолог Эдвард Уилсон назвал «согласованностью»[1]. Ньютон сломал стену между земным и небесным, а затем обрушилась и еще одна такая же прочная (и сегодня равно позабытая) стена между созидательным прошлым и неизменным настоящим. Это произошло, когда Чарльз Лайель доказал, что Земля была создана в прошлом теми же силами, какие мы наблюдаем и в настоящем (например, землетрясения и эрозии), действовавшими в течение длительных периодов времени.
Живое и неживое тоже больше не относится к разным мирам. В 1628 году Уильям Гарвей продемонстрировал, что человеческое тело — своего рода машина, управляемая по принципам гидравлики и механики. В 1828 году Фридрих Вёлер показал, что живая материя — это не волшебная пульсирующая глина, а сложные соединения, подчиняющиеся законам химии. Чарльз Дарвин объяснил, что и потрясающее разнообразие жизни, и ее универсальные признаки могли быть результатом вполне материального процесса естественного отбора репликаторов. Грегор Мендель, а затем Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик продемонстрировали, что представляют собой репликаторы в материальном смысле.
Консолидация наших знаний о живой природе с нашим пониманием материи и энергии стала величайшим научным достижением второй половины XX века. В частности, благодаря этому удалось выбить почву из-под ног социологов вроде Крёбера и Лоуи, которые предлагали «убедительный научный метод» размещения живого и неживого в параллельных вселенных. Сегодня мы знаем, что клетки не всегда происходят из других клеток и что зарождение жизни не влечет за собой появления двух миров там, где раньше был один. Клетки появляются из более простых реплицирующихся молекул — неживой части материального мира — и могут рассматриваться как набор молекулярных механизмов — фантастически сложных механизмов, но механизмов тем не менее.
И теперь единственная, последняя стена заслоняет нам ландшафт познания: та, которую социологи XX века особенно ревностно охраняли. Она отделяет материю от разума, материальное от духовного, физическое от психического, биологию от культуры, природу от общества, а также естественные науки от общественных наук, гуманитарных дисциплин и искусства. Это разделение встроено в каждую из доктрин официальной теории: «чистый лист», продукт биологии — в противовес тому, что заложено опытом и культурой; «благородство дикаря» в естественных условиях — в противовес пагубному влиянию социальных институтов; машина, следующая непреложным законам, — в противовес духу, свободе делать выбор и улучшать человеческую природу.
Но и эта стена уже шатается. Новые идеи с четырех фронтов познания — наук о разуме, мозге, генах и эволюции — пробивают брешь новым пониманием человеческой природы. В этой главе я покажу, как они заполняют «чистый лист», развенчивают «благородного дикаря» и изгоняют «духа из машины». Дальше я продемонстрирую, что новая концепция человеческой природы может стать важной частью не только биологии, но и гуманитарных и социальных наук. Эта новая концепция способна отдать должное феноменам культуры, не отселяя их в параллельную вселенную.
* * *
Первый мост между биологией и культурой — это наука о разуме, когнитивистика[2]. Понятие разума с начала времен озадачивало людей, пытающихся разобраться в природе своих мыслей и чувств. Сама идея постоянно и повсеместно плодила парадоксы, суеверия и эксцентричные теории. Можно почти посочувствовать бихевиористам и социальным конструктивистам первой половины XX века, которые рассматривали разум как загадку или концептуальную ловушку и старались избегать ее, исследуя лишь наблюдаемое поведение и другие явные проявления культуры.
Все изменилось с когнитивной революцией, начавшейся в 1950-х. Сейчас мы можем понимать смысл психических процессов и даже изучать их в лаборатории. Благодаря более внятной концепции разума многие постулаты «чистого листа», раньше казавшиеся привлекательными, сейчас выглядят неуместными и противоречивыми. Вот пять идей, которые принесла с собой когнитивная революция и которые перекроили наши представления о разуме.
Первая идея: психический мир может быть связан с физическим миром с помощью понятий информации, вычисления и обратной связи. Большой водораздел между разумом и материей всегда казался естественным, потому что механизмы поведения, по-видимому, отличаются от триггеров, запускающих физические события. События материального мира имеют причины, а человеческое поведение обусловлено мотивами. Однажды я участвовал в теледебатах на Би-би-си на тему «Может ли наука объяснить поведение человека». Против выступила женщина-философ, спросившая, как мы можем объяснить, почему кого-то посадили в тюрьму. Скажем, его посадили за возбуждение расовой ненависти. Намерение, ненависть и даже тюрьма, сказала она, не могут быть описаны на языке физики. Просто не существует способа описать «ненависть» и «тюрьму» в терминах движения частиц. Объяснения поведения подобны описанию намерений действующих лиц, доказывала она, в совершенно иной плоскости в сравнении с естественными науками. Или возьмем пример попроще. Как мы можем объяснить, почему Рекс подошел к телефону? Мы же не скажем, что стимул в форме телефона заставил ноги Рекса двигаться по определенному маршруту. Скорее мы подумаем, что он хотел поговорить с Сесиль и знал, что она дома. Ни одно другое объяснение не имеет такой прогностической силы, как это. Ведь если бы Рекс был в ссоре с Сесиль или вспомнил, что она сегодня отправилась в боулинг, его тело не поднялось бы с дивана.
Столетиями разрыв между физическими событиями с одной стороны и смыслом, содержанием, идеями, причинами и намерениями — с другой, казалось, делил мир надвое. Каким образом нечто столь бесплотное, как «возбуждение ненависти» или «желание поговорить с Сесиль» на самом деле заставляет материю изменять свое положение в пространстве? Но когнитивная революция уравняла мир идей с миром материи, используя новую могущественную теорию: психическая жизнь может быть объяснена в терминах информации, вычисления и обратной связи. Убеждения и воспоминания — это просто массив информации, как записи в базе данных, только помещенные в паттерны действий и структуры мозга. Мышление и планирование есть систематическая трансформация этих паттернов, вроде операций в компьютерной программе. Намерения и попытки — это петли обратной связи (принцип действия термостата), они получают информацию о расхождении между целью и текущим состоянием мира и затем выполняют операции, способные уменьшить это расхождение. Разум связан с миром через органы чувств, которые трансформируют физическую энергию в информационные структуры мозга, и двигательные программы, с помощью которых мозг контролирует мускулы.
Такое общее представление можно назвать вычислительной теорией разума. Это не то же самое, что «компьютерная метафора» — предположение, будто разум работает буквально как созданная человеком база данных, компьютерная программа или термостат. Теория утверждает, что мы можем объяснить и разум, и работу созданного человеком компьютера, используя одни и те же принципы. Это похоже на все другие случаи, когда живой мир и инженерная психология отчасти совпадают. Психолог может обратиться к тем же законам оптики, чтобы объяснить, как работает глаз и как работает фотокамера, не подразумевая, что глаз повторяет камеру в каждой детали.
Вычислительная теория разума делает больше, чем просто объясняет наличие знаний, мышления, проб и ошибок, не вызывая «духа из машины» (что уже было бы достижением). Она также объясняет, как эти процессы могут быть осмысленными — как в бездумном физическом процессе может возникнуть рацио. Если последовательность преобразований информации, хранящейся в куске материи (скажем, в тканях мозга или кремнии), отражает последовательность умозаключений, подчиняющихся законам логики, вероятности, причинно-следственным законам мира, они будут генерировать верные прогнозы относительно этого мира. А умение делать верные прогнозы в процессе достижения цели — очень неплохое определение «интеллекта»[3].
Конечно, нет ничего нового под солнцем, и вычислительная теория разума была предсказана еще Гоббсом, когда он описывал психическую активность как микродвижения и писал, что «мышление есть вычисление». Три с половиной столетия спустя наука догнала его провидческие идеи. Восприятие, память, воображение, рассуждение, принятие решений, речь, управление движениями изучаются в лабораториях и успешно моделируются с помощью вычислительных подходов, таких как правила, последовательности, матрицы, указатели, списки, файлы, ветвления, стрелки, петли, высказывания и информационные сети. Например, когнитивные психологи изучают представление в уме графических систем и пытаются понять, как люди «видят» решение проблемы в мысленном образе. Они изучают сеть понятий в долговременной памяти и пытаются объяснить, почему одни факты вспоминаются легче, чем другие. Они изучают центры обработки и память, используемые языковой системой, чтобы ответить на вопрос, почему чтение одних предложений воспринимается как удовольствие, а других — как утомительная работа.
И если объяснения дают информационные технологии, то родственная область искусственного интеллекта подтверждает, что обыкновенная материя может выполнять трюки, которые раньше считались подвластными только мыслящей материи. В 1950-х годах прошлого века компьютеры уже называли «электронным мозгом», потому что они могли производить вычисления, упорядочивать данные и доказывать теоремы. Вскоре компьютеры научились исправлять орфографические ошибки, классифицировать, решать уравнения и заменять экспертов в таких узких областях, как формирование фондового портфеля или диагностика заболеваний. Десятилетиями мы, психологи, оберегали хвастливую уверенность людей в собственной исключительности, рассказывая нашим ученикам, что ни один компьютер не может читать текст, распознавать речь, различать лица, но сегодня это уже не так. Сегодня приложения для распознавания текста и речи устанавливаются на обычных домашних ПК. Элементарные программы, которые понимают и переводят предложения, доступны в большинстве поисковых систем и программ-помощников, и они постоянно совершенствуются. Системы распознавания лиц достигли такого уровня, что борцы за гражданские права беспокоятся, что их использование в камерах наружного наблюдения в общественных местах может нанести вред гражданским свободам.
«Человеческие шовинисты» могут все еще не принимать всерьез эти слабые угрозы. Да, говорят они, процессы ввода-вывода могут быть встроены в вычислительные модули, но вы все еще нуждаетесь в человеке-пользователе с его способностями к анализу, принятию решений и творчеству. Однако, согласно вычислительной теории разума, все эти способности сами по себе есть формы информационных процессов и могут быть внедрены в вычислительную систему. В 1997 году компьютер фирмы IBM Deep Blue обыграл в шахматы чемпиона мира Гарри Каспарова, и, в отличие от своих предшественников, он не просто перебирал триллионы ходов, но и был оснащен стратегиями, позволяющими разумно реагировать на различные игровые комбинации. Журнал Newsweek назвал матч «последней битвой мозга», а Каспаров — «концом человечества».
Вы все еще можете возразить, что шахматы — искусственный мир с дискретными ходами, постижимыми правилами и явным победителем, идеально подходящий для компьютера. А люди живут в беспорядочном мире, где ходы не ограниченны, а цели расплывчаты. Без сомнения, здесь нужна человеческая креативность и интуиция — и поэтому все знают, что компьютеры никогда не смогут сочинить симфонию, написать книгу или нарисовать картину. Но все могут и ошибаться. Новейшие системы искусственного интеллекта уже сочиняют правдоподобные истории[4], пишут убедительные симфонии в духе Моцарта[5], рисуют приятные пейзажи и портреты[6] и предлагают остроумные идеи для рекламы[7].
Все это не означает, что мозг работает как электронная вычислительная машина, что искусственный интеллект когда-нибудь повторит разум человека или что компьютеры разумны в том смысле, что обладают субъективным восприятием от первого лица. Но это действительно предполагает, что мышление, интеллект, воображение и креативность — это формы информационного процесса, хорошо изученного и вполне материального. С помощью вычислительной теории разума когнитивные науки изгнали по крайней мере одного «духа из машины».
Вторая идея: разум не может быть «чистым листом», потому что «чистый лист» ничего не может. Пока люди имели лишь самые туманные представления о том, что есть разум и как он может работать, метафора «чистого листа», заполняемого окружением, не казалась такой уж из ряда вон выходящей. Но стоило задуматься серьезно о том, какие же вычисления позволяют системе видеть, думать, говорить или планировать, проблема с «чистым листом» становилась очевидной: они ничего не делают. Надписи будут оставаться там без движения до скончания времен, если только «что-то» не заметит в них паттерны, не сравнит их с паттернами, усвоенными ранее, не использует комбинации для того, чтобы записать на листе новые мысли и не прочтет результат, чтобы направить поведение к достижению цели. Локк видел эту проблему и ссылался на нечто, называемое «пониманием», которое смотрит на надписи на белой бумаге и выполняет распознавание, анализ и ассоциацию. Но конечно, объяснение понимания через нечто, называемое «пониманием», — это хождение по кругу.
Этот аргумент против «чистого листа» был резонно выдвинут в ответ Локку Готфридом Уильямом Лейбницем (1646–1716). Лейбниц повторил кредо эмпирика: «Нет ничего в разуме, чего не было бы прежде в чувствах, — а затем добавил: — Кроме самого разума»[8]. Даже если разум — это всего лишь механизмы научения, что-то в нем должно быть врожденным. Что-то должно быть в состоянии видеть мир объектов, а не калейдоскоп мерцающих пикселей. Что-то должно понимать смысл предложения, а не просто бессмысленно повторять слова. Что-то должно толковать поведение других людей как их попытки достичь цели, а не как судорожное мелькание конечностей.
Было бы в духе Локка приписать эту способность абстрактному имени существительному — возможно, не «пониманию», но «научению», «интеллекту», «пластичности» или «адаптивности». Но, как отмечал Лейбниц, сделать так — значит «[сохранить лицо], выдумывая способности или мистические качества… и представляя их как маленьких демонов или бесенят, которые могут без хлопот сделать все необходимое, как если бы карманные часы сообщали время с помощью некой времяизмерительной способности, не нуждаясь в колесиках и пружинках, или как если бы мельница молола зерно дробительной способностью без помощи жерновов»[9]. Лейбниц, как и Гоббс (который повлиял на него), опередил свое время в понимании того, что интеллект — это форма обработки информации и нуждается в сложных инструментах для ее осуществления. Как мы знаем сейчас, компьютеры, сходящие со сборочной линии конвейера, не понимают речь и не распознают текст; кто-то должен вначале установить программное обеспечение. То же самое, похоже, справедливо и для гораздо более сложных требований к функционированию человеческого существа. Создатели когнитивных моделей обнаружили, что повседневные задачи, такие как обойти предмет мебели, понять высказывание, вспомнить факт, распознать чьи-то намерения, — сложные инженерные проблемы, которые находятся на грани или за гранью возможностей искусственного интеллекта. Предположение, что они могут быть решены куском умного пластилина, слегка тронутого чем-то, называемым «культурой», просто ни в какие ворота не лезет.
Я не хочу сказать, что когнитивисты полностью решили дилемму природа/воспитание; они до сих пор не пришли к единому мнению о том, насколько человеческий разум оснащен стандартным оборудованием. На одном конце континуума мнений — философ Джерри Фодор, который предположил, что вообще все понятия должны быть врожденными (даже «дверная ручка» и «пинцет»), и лингвист Ноам Хомский, убежденный, что слово «научение» вводит в заблуждение и вместо этого надо говорить, что дети «развивают» речь[10]. А на другом конце — коннекционисты, включая Румельхарта, Маклелланда, Джеффри Элмана и Элизабет Бейтс, которые строят довольно простые компьютерные модели и вытрясают из них душу экспериментами[11]. Шутники относят первую из крайних точек зрения, зародившуюся в Массачусетском технологическом институте, к Восточному полюсу — несуществующему месту, из которого куда ни пойдешь, везде запад. А вторую, родом из Калифорнийского университета в Сан-Диего, — к Западному полюсу — несуществующему месту, откуда все дороги ведут на восток. (Названия были предложены Фодором на семинаре MIT, где он яростно выступал против «теоретиков с Западного побережья», и кто-то заметил, что сам Фодор работает в Йеле, который находится на Восточном побережье.)[12]
Но дебаты между Западным и Восточным полюсами отличаются от тех, что вели философы столетиями ранее, и вот почему: ни одна из сторон не верит в «чистый лист». Все понимают, что никакого научения не было бы, если бы не существовало врожденных механизмов научения. В манифесте Западного полюса, книге «Пересматривая наследственность» (Rethinking Innateness), Бейтс и Элман с соавторами радостно признали этот пункт: «Ни один алгоритм научения не может быть свободен от теоретического содержания, и ни одна tabula не может быть полностью rasa»[13]. Они объясняют:
Существует широко распространенное убеждение, что коннекционистские модели (и их разработчики) — приверженцы крайней формы эмпиризма; и что любых разговоров о каких-либо врожденных знаниях надо избегать как чумы… Мы совершенно не согласны с этой точкой зрения. Существуют убедительные причины верить, что некоторые виды предварительных условий [в моделях научения] необходимы. На самом деле все коннекционистские модели нуждаются в некотором количестве допущений, которые можно рассматривать как внутренние ограничения[14].
Расхождение между двумя полюсами, хотя и значительное, кроется в деталях: сколько этих врожденных механизмов научения и насколько специализированными (приспособленными для выполнения конкретного вида деятельности) они являются. Мы исследуем некоторые из этих расхождений в пятой главе.
Третья идея: бесконечное разнообразие поведения может быть создано конечным количеством комбинаторных программ разума. Когнитивные науки расшатали позиции «чистого листа» и «духа в машине» еще одним способом. Людей можно простить за насмешки над предположением, что человеческое поведение «записано в генах» или является «продуктом эволюции», подобно тому как это происходит в животном мире. Человек не выбирает свои действия из репертуара рефлексов, как рыбка, атакующая красное пятно, или курица, высиживающая яйца. Вместо этого люди могут молиться Богу, продавать всякую ерунду через интернет, притворяться, что играют на гитаре, поститься во искупление прошлых грехов, строить крепости из садовых стульев и т. д., практически бесконечно. Любая передача на National Geographic подтверждает, что даже самые странные для нашей культуры действия — это далеко не всё, на что способен наш вид. А если все позволено, тогда, может кто-то подумать, мы и есть умный пластилин, вещество, не имеющее никаких ограничений?
Но подобные взгляды устарели благодаря вычислительному подходу к разуму, который был немыслим во времена расцвета идеи «чистого листа». Ярчайший пример — «хомскианская революция» в языке[15]. Язык — совершенный образец креативного и вариативного поведения. Большинство высказываний — новехонькие комбинации слов, за всю историю человечества ни разу раньше не произнесенные. Мы не похожи на говорящих кукол, оперирующих ограниченным списком запрограммированных фраз. Но, указывал Хомский, несмотря на всю свою безграничность, язык не предполагает вседозволенности; он подчиняется правилам и схемам. Англоговорящий человек может составить из слов самые неожиданные предложения, например: «Новые вселенные появляются каждый день», или «Он любит тосты с мягким сыром и кетчупом», или «Мою машину съели росомахи». Но никто по-английски не скажет: «Машину росомахи съели мою» — и не использует другой теоретически возможный порядок этих слов. Что-то в голове должно уметь не только генерировать любую комбинацию слов, но и располагать эти слова в правильном порядке.
Это «что-то» — своего рода программное обеспечение, порождающая грамматика, которая может штамповать новые сочетания слов. Набор правил вроде «В предложении есть подлежащее и сказуемое», «Сказуемое обозначает действие», «Подлежащее обозначает предмет действия» может объяснить бесконечную креативность человеческой речи. Имея несколько тысяч существительных, которыми можно заполнить место подлежащего, и несколько тысяч глаголов на роль сказуемого, мы можем начать предложение миллионом способов. Количество возможных комбинаций доходит до невообразимых цифр. И действительно, число возможных предложений теоретически бесконечно, потому что правила языка используют трюк под названием рекурсия. Правило рекурсии позволяет фразе содержать ссылку на саму себя, например: «Она думает, что он думает, что они думают, что он знает» — и т. д., до бесконечности. А если количество предложений не ограничено, количество возможных мыслей и намерений бесконечно тоже, потому что практически любое предложение выражает какую-то мысль или намерение. Комбинаторная грамматика для языка соотносится с другими комбинаторными программами в голове человека — для мыслей и намерений. Определенный набор механизмов мозга может генерировать бесконечное количество вариантов поведения, совершаемого при помощи мускулов[16].
Когда начинаешь думать о психическом программном обеспечении, а не о физическом поведении, радикальные различия между человеческими культурами заметно уменьшаются, что приводит нас к четвертой новой идее: в основе поверхностных различий мировых культур могут лежать универсальные психические механизмы. Опять же мы можем использовать язык как хрестоматийный пример неограниченности поведения. Люди говорят на 6000 разных языков, но грамматические программы в головах носителей этих языков разнятся гораздо меньше, чем слова, которые они произносят. Мы давно знаем, что все языки могут выражать одни и те же идеи. Библия была переведена на сотни незападных языков, а во время Второй мировой войны морпехи США передавали секретные сообщения в районе Тихого океана с помощью шифровальщиков из племени навахо, которые переводили их на свой язык и обратно. Тот факт, что любой язык можно использовать, чтобы передать любое утверждение, от религиозных притч до военных распоряжений, предполагает, что все языки мира сделаны из одного теста.
Хомский предположил, что порождающие грамматики отдельных языков — вариации одной общей для всех модели, которую он назвал «универсальной грамматикой». Например, в английском языке глагол стоит перед дополнением (пить пиво), а предлог — перед существительным (из бутылки). В японском, напротив, дополнение идет впереди (пиво пить), а предлог или, точнее, послелог — после существительного (бутылки из). Но важным открытием стало то, что в обоих языках есть глаголы, дополнения, предлоги и послелоги в противоположность существованию бесконечного количества других потенциально возможных инструментов, способных привести в действие коммуникативную систему. И еще важнее, что неродственные языки строят фразы, составляя главное слово (такое, как глагол) с зависимым (таким, как именная группа) в определенном порядке. В английском языке главное слово стоит на первом месте, в японском — на последнем, но все остальное в построении предложений на английском и японском очень похоже. И так происходит с любой фразой на любом языке. Главные и зависимые слова могут быть расположены в любом порядке из 128 логически возможных, но 95 % мировых языков используют один из двух: или как в английском, прямой порядок слов, или как в японском, обратный[17]. Простой способ обозначить это однообразие — сказать, что все языки пользуются одинаковой грамматикой, за исключением одного параметра — переключателя порядка слов, который может стоять в позиции «главное слово впереди» или «главное слово позади». Лингвист Марк Бейкер некоторое время назад выделил около десятка таких параметров-переключателей, которые описывают большинство известных вариаций среди языков мира[18].
Характеристика вариаций универсальной схемы — не только способ привести в порядок запутанные данные. Возможно, где-то здесь кроются ключи к врожденным схемам, обеспечивающим научение. Если универсальная часть правил внедрена в нервную систему, помогающую детям осваивать речь, это объясняет, почему все дети учатся этому так легко, и одинаково, и безо всяких инструкций. Вместо того чтобы воспринимать звуки, выходящие из маминого рта, просто как интересный шум и пытаться его буквально повторить или произвольно разбирать услышанное на фрагменты, ребенок вслушивается в главные и зависимые слова, обращает внимание на их порядок, а затем строит грамматическую систему, соответствующую этому порядку.
Эта идея имеет смысл и применительно к другим различиям между культурами. Многие антропологи, поддерживающие идеи социального конструкционизма, заявляли, что хорошо знакомые нам эмоции, например гнев, отсутствуют в некоторых культурах[19]. (Кое-кто утверждал даже, что существуют культуры без эмоций вообще![20]). Например, Кэтрин Лутц писала, что жители микронезийского острова Ифалук не испытывают нашего «гнева», но вместо этого переживают то, что они называют «song». «Song» — это состояние негодования, возникающее как реакция на нарушение нравственных норм, таких как неподчинение табу или дерзкое поведение. Оно предписывает сторониться нарушителя, смотреть неодобрительно, угрожать обидчику или сплетничать о нем, но не атаковать физически. Цель «song» (еще одна, якобы незнакомая в западной культуре эмоция) — «metagu» — благоговейный страх, вынуждающий нарушителя умиротворить человека, преисполненного «song»: извиниться, заплатить штраф или предложить подарок.
Философы Рон Маллон и Стивен Стич, вдохновленные идеями Хомского и других когнитивистов, указывают, что вопрос, называть ли ифалукский «song» и западноевропейский «гнев» одной эмоцией или разными, — это спор о значении слов, обозначающих эмоции: описывают ли они внешнее поведение или же лежащие в его основе психические процессы[21]. Если характеристикой эмоции считать поведение, тогда эмоции в разных культурах, безусловно, разные. Ифалук эмоционально реагирует на женщину, работающую в огороде во время менструации, или на мужчину, переступающего порог роддома, а мы — нет. Мы реагируем на людей, выкрикивающих расистские эпитеты или демонстрирующих средний палец, а ифалуки, насколько нам известно, нет. Но если эмоции определяются психическими механизмами — тем, что психологи вроде Пола Экмана и Ричарда Лазаруса называют «аффективными программами» или «формулами "если… то…"» (обратите внимание на компьютерную лексику), — мы не так уж и отличаемся от ифалуков[22]. Возможно, мы все снабжены программой, которая отвечает на угрозу нашим интересам или оскорбление достоинства неприятным обжигающим чувством, заставляющим нас наказывать обидчика или требовать компенсации. Но что считать оскорблением, чувствуем ли мы, что имеем право разозлиться в конкретной ситуации, и какой вид компенсации мы посчитаем достаточным, зависит от нашей культуры. Стимулы и реакции могут отличаться, но психические состояния — одни и те же, неважно, есть для них подходящее слово в нашем языке или нет.
И так же, как и в случае с языком, без каких-то врожденных механизмов для выполнения мыслительных операций не существовало бы способа усвоить все тонкости культуры, которые необходимо усвоить. То, что ситуации, вызывающие «song» у ифалуков, включают нарушение табу, проявления лени и неуважения и отказ делиться и не включают соблюдение табу, доброту, почтительность, а также выполнение стойки на голове, — не совпадение. Ифалуки толкуют первые три ситуации одинаково, потому что те вызывают одну и ту же аффективную программу — воспринимаются как оскорбления. Они легче усваиваются, поскольку вызывают одинаковую реакцию, и, скорее всего, будут объединены как приемлемые триггеры для одной и той же эмоции.
Таким образом, мораль — это уже знакомая нам категория поведения. Брачные обычаи, пищевые запреты и народные суеверия действительно различаются в разных культурах, и им нужно учиться, но более глубокие мыслительные механизмы, порождающие их, могут быть универсальными и врожденными. Люди могут по-разному одеваться, но все они хотят таким образом продемонстрировать свой статус. Они могут уважать права только членов своего клана или распространять свое уважение на каждого в племени, нации, государстве или на человечество в целом, но все они делят мир на то, что внутри, и то, что снаружи группы, к которой они принадлежат. Они могут приписывать различные последствия намерениям существ, обладающих сознанием: одни допускают лишь, что предметы материальной культуры создаются сознательно, другие думают, что причина болезни — магические заклятия врагов, а третьи — что мир создан Творцом. Но все они объясняют определенные события, апеллируя к существованию разумных существ, которые добиваются своих целей. Бихевиористы трактуют все наоборот: важно сознание, а не поведение.
Пятая идея: разум — сложная система, состоящая из множества взаимодействующих частей. Психологи, изучающие эмоции в различных культурах, сделали еще одно важное открытие. Искреннее выражение на лицах, похоже, одинаково везде, но в некоторых культурах люди приучены демонстрировать невозмутимость в приличном обществе[23]. Объясняется это просто — аффективные программы включают одинаковые выражения лица у всех людей, но в каких ситуациях их можно выставлять напоказ, определяет система соответствующих «правил».
Разница между этими двумя механизмами подчеркивает еще одно открытие когнитивной революции. До нее толкователи обращались к гигантским «черным ящикам», таким как «интеллект» или «понимание», и делали обобщающие заявления о человеческой натуре, например, что мы по своей природе благородны или, наоборот, от природы подлы. Но сегодня мы знаем, что разум — это не какое-то однородное образование, обладающее единой энергией и общими чертами. Разум состоит из большого количества модулей, совместно организующих мыслительный поток или целенаправленное действие. Там есть особые системы обработки данных для отфильтровывания посторонних раздражителей, для освоения навыков, для контроля над телом, запоминания фактов, временного или длительного хранения информации и правила выполнения операций. С этими информационными системами пересекаются умственные способности (иногда их называют множественным интеллектом), специализирующиеся на различных данных, таких как слова, числа, пространство, инструменты и живые объекты. Когнитивисты Восточного полюса подозревают, что специализация модулей определяется по большей части генами[24];а на Западном полюсе считают, что она начинается с незначительных врожденных особенностей внимания, а затем закрепляется статистически значимыми паттернами сенсорных сигналов[25]. Но на обоих полюсах согласны, что мозг не похож на однородный мясной рулет. В аффективных программах обнаруживается еще один уровень систем обработки информации — системы мотиваций и эмоций.
В итоге импульс или привычная реакция, исходящая из одного модуля, может различными способами транслироваться в поведение — или подавляться — каким-то другим модулем. Покажем на простом примере: когнитивные психологи считают, что модуль, называемый «система привычек», несет ответственность за нашу склонность привычно реагировать на определенные стимулы: например, мысленно произносить напечатанное слово. Но другой модуль, «система контроля внимания», может перехватить управление и сфокусироваться на информации, важной для выполнения поставленной задачи: например, назвать цвет чернил, которыми напечатано слово, или думать о действии, которое обозначено этим словом[26]. В общем случае взаимосвязь психических систем может объяснить способность людей тешить себя фантазиями о мести, которую они никогда не осуществят, или прелюбодействовать в сердце своем. В таком виде, в каком теория человеческой природы предстает после когнитивной революции, она имеет больше общего с иудео-христианской теорией природы человека и с психоаналитической теорией Зигмунда Фрейда, чем с бихевиоризмом, социальным конструкционизмом или другими версиями «чистого листа». Поведение не просто спонтанно или реактивно, но и не запрограммировано культурой или обществом напрямую. Оно рождается во внутренней борьбе между модулями психики с их различными целями и намерениями.
Принесенная когнитивной революцией идея, что разум — это система универсальных порождающих вычислительных модулей, разрушила подход, в рамках которого споры о человеческой природе велись веками. Сегодня просто ошибочно спрашивать, гибки ли люди или же жестко запрограммированны, универсально ли поведение или отличается в разных культурах, врожденны ли действия или выучены, добры ли мы в основе своей или злы. Поведение людей гибко, потому что они запрограммированны; их разум напичкан комбинаторным программным обеспечением, которое может генерировать бесконечное количество мыслей и действий. Поведение может варьировать от культуры к культуре, но дизайн психических программ, порождающих его, не обязан меняться. Разумное поведение успешно усваивается, потому что у нас есть врожденные системы научения. У каждого человека есть и добрые, и злые намерения, но не все переводят их в поведение одинаковым способом.
* * *
Второй мост между разумом и материей — это нейронауки, особенно когнитивная нейробиология, наука о том, как мышление и эмоции встроены в мозг[27]. Фрэнсис Крик написал книгу о мозге под названием «Поразительная гипотеза» (The Astonishing Hypothesis), ссылаясь на идею, что все наши мысли и чувства, радости и печали, мечты и желания заключаются в психической активности мозга[28]. Нейроученые, считавшие эту мысль само собой разумеющейся, похихикали над названием, но Крик был прав: эта гипотеза действительно удивляет людей, впервые об этом задумавшихся. Кто не сочувствует сидящему за решеткой Дмитрию Карамазову в его попытках извлечь смысл из того, что ему поведал навещавший его Ракитин?
Вообрази себе: это там в нервах, в голове, то есть там в мозгу эти нервы… (ну черт их возьми!) есть такие этакие хвостики, у нервов этих хвостики, ну, и как только они там задрожат… то есть видишь, я посмотрю на что-нибудь глазами, вот так, и они задрожат, хвостики-то… а как задрожат, то и является образ, и не сейчас является, а там какое-то мгновение, секунда такая пройдет, и является такой будто бы момент, то есть не момент, — чорт его дери момент, — а образ, то есть предмет, али происшествие, ну там чорт дери — вот почему я и созерцаю, а потом мыслю… потому что хвостики, а вовсе не потому, что у меня душа и что я там какой-то образ и подобие, все это глупости. Это, брат, мне Михаил еще вчера объяснял, и меня точно обожгло. Великолепна, Алеша, эта наука! Новый человек пойдет, это-то я понимаю… А все-таки бога жалко![29]
Предвидение Достоевского само по себе удивительно, потому что в 1880 году очень мало было известно о функционировании нервной системы, и здравомыслящий человек мог бы усомниться в том, что все впечатления возникают из дрожащих нервных хвостиков. Но не теперь. Можно считать, что деятельность мозга по обработке данных порождает разум, или можно считать, что она и есть разум, но в любом случае доказательств того, что каждый аспект нашей интеллектуальной жизни полностью зависит от психических процессов в тканях мозга, более чем достаточно.
Когда хирург посылает в мозг пациента электрический сигнал, его посещают живые, правдоподобные переживания. Химикаты, проникшие в мозг, могут изменить восприятие человека, его настроение, мышление и даже личность. Если отмирает участок мозговой ткани, может исчезнуть часть разума: неврологические пациенты теряют способность называть инструменты, узнавать лица, предвидеть последствия своего поведения, сочувствовать другим, держать в уме область пространства или своего собственного тела. (Так что Декарт ошибался, когда утверждал, что «разум полностью неделим» и что поэтому он совершенно отличается от тела.) Каждая мысль и эмоция подает физический сигнал, и новые технологии их обнаружения настолько точны, что они буквально могут читать мысли человека и сообщать исследователю, что именно представляет себе испытуемый в данный момент — лицо или место. Нейроученые могут удалить отдельный ген у лабораторной мыши (ген, имеющийся также и у человека) и получить мышь, не способную учиться; или, наоборот, добавить дополнительных копий этого гена и создать мышь, усваивающую знания быстрее. Под микроскопом ткани мозга выглядят ошеломляюще сложными — сотни миллиардов нейронов, соединенных сотнями триллионов синапсов, что сопоставимо с ошеломляющей сложностью человеческих мыслей и переживаний. Создатели моделей нейронных сетей уже могут показать, как строительные блоки мыслительных операций, таких как хранение и извлечение паттернов, могут использоваться в нервной системе. И когда мозг умирает, личность прекращает свое существование. Несмотря на серьезные попытки Альфреда Рассела Уоллеса и других викторианских ученых, очевидно, что общаться с мертвыми невозможно.
Образованные люди, конечно же, знают, что восприятие, мышление, речь и эмоции таятся в мозге. Но до сих пор соблазнительно думать о мозге так, как его раньше рисовали в обучающих комиксах: контрольная панель с датчиками и рычажками, которыми оперирует пользователь — субъект, душа, дух, личность, «Я». Но когнитивная нейронаука доказывает, что «Я» — это просто одна из сетей в мозговых системах.
Самую первую подсказку дал нам Финеас Гейдж. Этот железнодорожный рабочий, живший в XIX веке, знаком поколениям студентов-психологов. Гейдж утрамбовывал взрывчатое вещество в скальный шурф с помощью металлического прута длиной около метра, когда искра воспламенила порошок и взрыв отправил прут прямо ему в скулу. Прут прошел через мозг и вышел в верхней части черепа. Финеас выжил и в полном объеме сохранил память, восприятие, речь и двигательные функции. Но, по знаменитому утверждению одного из его коллег, «Гейдж был больше не Гейдж». Кусок железа буквально превратил его в другого человека: из учтивого, ответственного и трудолюбивого — в грубого, ненадежного и безынициативного. Это случилось, потому что прут проткнул вентромедиальную префронтальную кору, область мозга, располагающуюся над глазами. Сегодня известно, что она участвует в формировании суждений о других людях. Вместе с другими зонами префронтальной коры и лимбической системой (место, где располагаются эмоции) она прогнозирует последствия действий и выбирает поведение, сообразное цели[30].
Когнитивные нейроученые не только изгнали духа, но и доказали, что мозг даже не содержит такого отдела, который мог бы выполнять приписываемые духу функции: проверять факты и принимать решения, которые остальной мозг исполнял бы[31]. Каждый из нас чувствует, что есть единственное «Я», стоящее у руля. Но это всего лишь иллюзия, результат упорной работы мозга, как и впечатление, что поле нашего зрения заполнено деталями от края до края. (На самом деле мы не видим ничего за пределами точки фиксации. Глаза движутся очень быстро от одной заинтересовавшей нас детали к другой, создавая впечатление, что все они одновременно находятся у нас в поле зрения.) В мозге есть управляющие системы, они располагаются в префронтальной и в передней поясной коре и действительно могут управлять поведением и подавлять привычки и импульсы. Но эти системы — устройства со специфическими особенностями и ограничениями; они не являются воплощением разумного свободного деятеля, традиционно идентифицируемого с душой или «Я».
Одна из самых впечатляющих демонстраций иллюзии единого «Я» предложена нейроучеными Майклом Газзанигой и Роджером Сперри, которые показали, что, когда хирург рассекает мозолистое тело, соединяющее два полушария, он фактически разделяет единое «Я» на два и каждое из полушарий может демонстрировать свободную волю, не советуясь и не спрашивая согласия у другого. И более того, левое полушарие постоянно сочиняет логичные, но неверные объяснения поведению, выбранному правым полушарием без его ведома. Например, если экспериментатор дает команду «Иди!» правому полушарию (показывая ее в поле зрения, доступном только правому полушарию), человек выполнит требование и направится к выходу. Но если спросить человека (а именно его левое полушарие), почему он встал со стула, тот совершенно искренне ответит: «Хотел выпить кока-колы», а не «Я не знаю», или «Просто нашло что-то», или «После операции вы экспериментировали надо мной годами и иногда заставляете делать разные вещи, но я не знаю точно, чего вы от меня хотите». Точно так же, если показать левому полушарию курицу, а правому — снегопад и обоим нужно будет выбрать картинку, соответствующую увиденному (каждое полушарие использует «свою» руку), левое полушарие выберет коготь (правильно), а правое — лопату (тоже правильно). Однако, если спросить у левого полушария, почему его хозяин сделал такой выбор, оно радостно сообщит: «О, это просто. У курицы есть когти, а для уборки в курятнике нужна лопата»[32].
Страшно подумать, но на самом деле мы не можем быть уверены, что генератор вздора в левом полушарии пациента ведет себя иначе, чем в нашем, когда мы придумываем объяснения побуждениям, поступающим из прочих частей нашего мозга. Сознающий ум — «Я», или «душа», — это мастер манипуляций, а не верховный главнокомандующий. Зигмунд Фрейд нескромно заявлял, что «в течение веков наивное самолюбие человечества вынуждено было претерпеть от науки три великих оскорбления»: открытие, что наша Земля не центр Вселенной, а крошечная частичка в бескрайнем космосе; открытие, что мы не созданы особенными, а произошли от животных; и открытие, что наш рассудок не всегда контролирует наши действия, а вместо этого рассказывает нам о них сказки. В целом Фрейд был прав, но именно когнитивные нейроученые, а не психоаналитики решительно нанесли третий удар.
Когнитивная нейронаука подорвала основы не только «духа в машине», но и «благородного дикаря». Повреждения лобных долей не только снижают интеллект человека или сужают его поведенческий репертуар, но и могут стать причиной агрессивных действий[33]. Это происходит из-за того, что разрушенные лобные доли больше не могут тормозить лимбическую систему, особенно ту цепь, которая связывает амигдалу с гипоталамусом посредством stria terminalis (краевой полоски). Связи между лобными долями обоих полушарий и лимбической системой служат рычагом, с помощью которого цели и знания индивида могут подавлять прочие механизмы, и среди них те, что порождают агрессивное поведение, причиняющее вред другим людям[34].
Но и физическая структура мозга не является «чистым листом». В середине XIX века невролог Поль Брока обнаружил, что извилины коры головного мозга не закручены хаотично, как отпечатки пальцев, их геометрия узнаваема. И действительно, их расположение в мозгу разных людей настолько постоянно, что каждой складке и морщинке можно дать имя. С тех пор нейробиологи установили, что крупная анатомия мозга — размеры, формы, связи долей и ядер, а также базовый план коры — по большей части формируется генами в процессе нормального внутриутробного развития[35]. Так же, как и количество серого вещества в различных областях мозга разных людей, включая области, ответственные за речь и мышление[36].
Эта врожденная геометрия и связи в мозге могут иметь последствия для мышления, чувств и поведения. Как мы увидим в следующих главах, младенцы, мозг которых был поврежден в определенных областях, часто растут, испытывая недостаточность некоторых умственных способностей. И если в мозге человека есть отклонения от стандартов, то и функционирует он не так, как в обычном случае. Согласно недавним исследованиям мозга идентичных и неидентичных близнецов, разница в количестве серого вещества в лобных долях не только генетически обусловлена, но и значительно коррелирует с разницей в уровне интеллекта[37]. Изучение мозга Альберта Эйнштейна показало, что его нижние теменные доли — отвечающие за пространственное мышление и математическую интуицию — были крупнее и имели необычную форму[38]. Третье интерстициальное ядро переднего отдела гипоталамуса, известное своей ролью в половых различиях, у гомосексуалов часто имеет меньший размер[39]. У осужденных убийц и других жестоких, асоциальных личностей префронтальная кора, область мозга, управляющая принятием решений и подавляющая импульсы, часто меньшего размера и менее активна[40]. Главные особенности мозга, скорее всего, не формируются информацией, поступающей в него от органов чувств, а это подразумевает, что различия в способностях к наукам, в сексуальной ориентации, в уровне интеллекта и импульсивной жестокости не могут быть полностью приобретенными.
На самом деле до недавнего времени идея о врожденном характере строения мозга была ахиллесовой пятой нейронаук. Мозг не может быть до последнего синапса запрограммирован генами, в геноме просто нет достаточного количества информации. И мы знаем, что люди учатся всю жизнь и что продукты этого научения должны каким-то образом в мозге храниться. Если не верить в «духа в машине», все, что человек узнаёт, должно влиять на какой-то отдел его мозга, а точнее, научение — это и есть изменение в какой-то части мозга. Но найти среди всех этих врожденных структур мозга те черты, в которых отражались бы изменения, оказалось непросто. Преуспеть в математике, координации движений или зрительном различении не значит накачать мозг, подобно тому как поднятие штанги накачивает мускулы.
Теперь наконец-то нейронаука начала догонять психологию, выявляя изменения в мозге, происходящие в процессе научения. Как мы увидим далее, границы между участками коры головного мозга, отвечающими за определенные части тела, таланты и даже физические ощущения, могут регулироваться научением и практикой. Некоторых ученых настолько взволновали эти открытия, что они пытаются подтолкнуть маятник в обратном направлении, подчеркивая пластичность коры мозга. Но по причинам, которые я опишу в пятой главе, большинство из них убеждены, что эти изменения возможны только в рамках генетически заданной структуры. Мы еще многого не знаем о том, как формируется мозг в ходе его развития, но мы знаем, что никакой опыт не может менять его до бесконечности.
* * *
Третий мост между биологическим и психическим — поведенческая генетика, наука о том, как гены влияют на поведение[41]. Весь потенциал мышления, научения и чувствования, отличающий человека от прочих животных, содержится в информации, записанной в ДНК оплодотворенной яйцеклетки. Это наиболее очевидно, когда мы сравниваем биологические виды. Шимпанзе, воспитанные в человеческих семьях, не говорят, не думают и не ведут себя как люди, и причиной этому — 10 мегабит генной информации, которыми мы отличаемся. Даже два вида шимпанзе — обычные и бонобо, различие в геноме которых составляет всего несколько десятых процента, — ведут себя по-разному. Впервые это обнаружили сотрудники зоопарка, когда непреднамеренно соединили их. Обычные шимпанзе — одни из наиболее агрессивных млекопитающих, известных зоологии, а бонобо — в числе наиболее мирных; у обычных шимпанзе доминируют самцы, у бонобо — матриархат; обычные шимпанзе занимаются сексом для размножения, а бонобо — для удовольствия. Маленькие различия в генах могут привести к большой разнице в поведении. Они могут влиять на размер и форму различных участков мозга, их связи и нанотехнологию, обеспечивающую высвобождение, взаимодействие и рециркуляцию гормонов и нейротрансмиттеров.
Важность генов для формирования нормального мозга подчеркивается многообразием способов, какими нестандартные гены дают начало нестандартному разуму. Когда я был студентом, на экзамене по патопсихологии мне попался вопрос: «Что может служить предвестником того, что человек станет шизофреником?» Ответ был: «То, что у него есть идентичный близнец-шизофреник». В то время это был непростой вопрос, потому что господствующие теории шизофрении указывали на социальный гнет, «шизофреногенических матерей», двойные послания и другой жизненный опыт (и ничто из этого, как оказалось, не имеет особого значения); и вряд ли кто-нибудь думал о генах как о возможной причине. Но даже тогда были явные свидетельства: шизофрения часто повторяется в парах идентичных близнецов, у которых общая ДНК и по большей части общее окружение, и далеко не так часто — в парах неидентичных близнецов, у которых в основном одна и та же среда и только половина ДНК (той части ДНК, которая вообще варьирует в популяции). На этот хитрый вопрос можно дать ответ — и ответ был бы тот же самый практически для любого когнитивного или эмоционального нарушения или наблюдаемого различия. Аутизм, дислексия, задержка речевого развития, расстройства речи, трудности в обучении, леворукость, клинические депрессии, биполярное расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство, нестандартная сексуальная ориентация и множество других состояний, наблюдающихся у членов одной семьи, чаще повторяются у идентичных, чем у неидентичных близнецов, лучше прогнозируются через биологических родственников, чем через приемных, и практически никак не прогнозируются через любые измеримые качества окружающей среды[42].
Гены не только подталкивают нас к крайним вариантам функционирования психики, но и делают неодинаковыми в пределах нормы, во многом обеспечивая ту разницу в способностях и темпераментах, которую мы замечаем в окружающих людях.
Идентичные близнецы думают и чувствуют настолько одинаково, что иногда подозревают, что связаны телепатически. Разделенные при рождении и встретившись взрослыми людьми, они говорят, что чувствуют, будто знали друг друга всю жизнь. Тесты подтверждают, что идентичные близнецы, разделенные при рождении или нет, пугающе похожи (хотя далеко и не идентичны) практически в каждом качестве, какое только можно измерить. Они похожи в речевом, математическом и общем интеллекте, в уровне удовлетворенности жизнью, в личностных чертах, таких как открытость опыту, добросовестность, экстраверсия-интроверсия, доброжелательность-враждебность и невротизм. У них похожие подходы к спорным вопросам вроде смертной казни, религии и современной музыки. Они повторяют один другого не только в бланковых тестах, но и в закономерностях поведения, таких как азартные игры, разводы, преступления, несчастные случаи и просмотр телепередач. Они могут похвастаться десятками общих специфических особенностей вроде беспрестанного хихиканья, привычки давать распространенные ответы на самые простые вопросы или макать в кофе тост, намазанный маслом. Или, как в случае Абигайль ван Бурен и Энн Ландерс, писать совершенно одинаковые колонки жизненных советов. Пики и впадины их электроэнцефалограмм практически неотличимы, как будто принадлежат одному человеку, но сделаны в разное время, и извилины их мозга и распределение серого вещества в коре головного мозга весьма похожи[43].
Влияние различий в генах на различия в интеллекте может быть измерено, но здесь фигурируют те же самые грубые оценки — значительно больше ноля и значительно меньше 100 % — независимо от используемых инструментов. Идентичные близнецы гораздо более похожи, чем неидентичные, растут ли они вместе или по отдельности; идентичные близнецы, разделенные при рождении, очень похожи; биологические братья и сестры, воспитанные в одной или разных семьях, намного более похожи, чем усыновленные. Многие из этих выводов сделаны в массовых исследованиях в скандинавских странах, где правительство ведет огромную базу данных о своих гражданах и использует самые надежные измерительные инструменты, какие только известны психологии. Пытаясь свести влияние генов к нулю, скептики предложили альтернативные объяснения: идентичные близнецы, разделенные при рождении, были помещены в похожие приемные семьи, они контактировали друг с другом перед тестами, они похожи, и поэтому их воспринимают одинаково, и общие у них не только гены, но и материнская утроба. Но, как мы увидим в главе, посвященной детям, все эти объяснения были проверены и отвергнуты. Недавно еще одно свидетельство стало вишенкой на торте. «Мнимые близнецы» — это зеркальный образ идентичных близнецов, воспитанных отдельно: это неродные братья и сестры, один или оба усыновленные, которые росли в одной семье с младенчества. И хотя они одного возраста и живут вместе, психолог Нэнси Сигал обнаружила, что их IQ практически не коррелируют[44]. Один из отцов, участвовавших в исследовании, сказал, что, несмотря на все попытки относиться к «мнимым близнецам» абсолютно одинаково, они отличаются друг от друга, «как ночь и день».
Близнецы и усыновление — естественные эксперименты, которые дают серьезные косвенные доказательства, что различия в интеллекте могут происходить из-за различий в генах. Недавно генетики точно определили некоторые гены, которые могут стать причиной этой разницы. Один своевольный нуклеотид в гене FOXP2 вызывает наследственное расстройство речи и языка[45]. Ген, входящий в состав той же хромосомы, LIM-kinasel, кодирует белок, найденный в растущих нейронах. Он отвечает за способность к пространственному мышлению: если ген отсутствует, у человека нормальный интеллект, но он не способен собрать объект, разделенный на части, строить из кубиков или копировать геометрические фигуры[46]. Один из вариантов гена IGF2R связан с очень высоким уровнем общего интеллекта и отвечает примерно за четыре пункта в тестах IQ и 2 % вариаций в уровне интеллекта нормальных индивидуумов[47]. Если вы — обладатель более длинной, чем обычная, версии гена дофаминового рецептора D4DR, вы с большой вероятностью станете любителем острых ощущений — тем, кто прыгает с парашютом, взбирается на заледеневшие водопады и занимается сексом с незнакомцами[48]. Если судьба наградила вас короткой версией участка ДНК, который ингибирует ген транспортера серотонина в 17-й хромосоме, вы, скорее всего, будете невротичным или тревожным — представителем типа личности, который неуютно чувствует себя в обществе, боясь обидеть кого-нибудь или выставить себя на посмешище[49].
Одиночные гены с большими последствиями — наиболее драматичный пример того влияния, который гены оказывают на интеллект, но все же не самый репрезентативный. Большинство психологических черт скорее продукт множества генов, имеющих незначительный эффект, чье влияние корректируется присутствием других генов, чем результат действия одного очень эффективного, который проявится в любом случае. Вот почему исследования идентичных близнецов (двух человек, у которых все гены одинаковые) постоянно демонстрируют мощное влияние генов на черты характера, даже если найти конкретный ген для определенной черты не удается.
В 2001 году была опубликована полная последовательность генома человека, и вместе с ней появилась реальная возможность идентифицировать гены и результаты их воздействия, включая те, что активны в мозге. В ближайшее десятилетие генетики определят, какие гены отличают нас от шимпанзе, выяснят, какие из них подверглись естественному отбору в течение тех миллионов лет, что наши предки эволюционировали в человека, идентифицируют комбинации, ответственные за нормальные, ненормальные и исключительные умственные способности, и начнут отслеживать цепи событий, которыми гены во внутриутробном периоде формируют мозговые системы, позволяющие нам учиться, чувствовать и действовать.
Иногда люди опасаются, что, если гены влияют на интеллект в целом, они должны определять его в каждой детали. Это неверно по двум причинам. Первая — что большинство генных эффектов вероятностны. Если один идентичный близнец имеет некую черту, шанс, что второй также будет ею обладать, равен шансу на противоположный исход, несмотря на их общий генетический код. Поведенческие генетики подсчитали, что при заданных условиях лишь около половины вариаций в большинстве психологических черт коррелируют с генами. В главе, посвященной детям, мы исследуем, что это значит и откуда берется вторая половина вариаций.
Вторая причина того, что гены — это еще не все, кроется в том, что их эффекты могут варьировать в зависимости от условий среды. Простой пример можно найти в любом учебнике генетики. Кукуруза нескольких сортов, растущая на одном поле, будет разной высоты из-за генетической разницы, а кукуруза одного и того же сорта, посаженная в двух разных местах — засушливом и влажном, будет разной высоты благодаря влиянию среды. Пример, касающийся человека, дает нам Вуди Аллен. Хотя его судьба, удача и способность привлекать красивых женщин может зависеть от генов, подаривших ему чувство юмора, в фильме «Воспоминания о звездной пыли» (Stardust Memories) он объясняет завистливому другу детства, что здесь есть и сильное влияние фактора среды: «Мы живем в обществе, которое придает большое значение шуткам… Если бы я был индейцем из племени апачей, я был бы безработным — этим ребятам не нужны комедианты».
Смысл открытий бихевиоральной генетики для нашего понимания человеческой природы необходимо рассматривать в каждом конкретном случае. Аномальный ген, ставший причиной нарушения, показывает, что для развития нормального интеллекта необходима его стандартная версия. Но что именно делает стандартная версия гена, не всегда очевидно. Если шестеренка со сломанным зубцом издает стук при каждом повороте, мы не думаем, что этот зубец в исправном состоянии был «супрессором стука». Так и ген, который повреждает умственные способности, не обязательно дефективная версия гена, отвечающего за нормальное развитие этой способности. Он может продуцировать токсин, который мешает нормальному развитию мозга, или оставить лазейку в иммунной системе, которая позволит патогену инфицировать мозг, или заставит человека выглядеть глупым или злым, и другие люди будут реагировать на него иначе. В прошлом генетики не могли исключить досадные вероятности (те, что не влияют прямо на функции мозга), и скептики объявляли, что все генетические эффекты могут быть несущественными, и скорее они деформируют и искажают «чистый лист», чем представляют собой неэффективную версию гена, помогающего придать структуру сложноорганизованному мозгу. Но все чаще и чаще у исследователей получается связать гены и мозг.
Многообещающий пример — ген FOXP2, связанный с расстройством речи и языка в одной большой семье[50]. Аномальный нуклеотид был обнаружен у каждого больного члена семьи (и у одного не имеющего к ней отношения человека с таким же синдромом), но не был найден ни у одного здорового родственника и ни в одной из 364 хромосом здоровых людей, не связанных родством с этой семьей. Этот ген принадлежит к группе генов-факторов транскрипции — протеинов, заставляющих работать другие гены. Известно, что они играют важную роль в эмбриогенезе. Мутация разрушает ту часть белка, которая прикрепляется к определенному участку ДНК, — а именно так включается нужный ген в нужное время. Ген крайне активен в мозговых тканях плода, и близкородственная его версия, найденная у мышей, также активна в развивающейся коре мозга. Как утверждают авторы исследования, это значит, что нормальная версия гена запускает каскад событий, помогающих формировать часть развивающегося мозга.
Значение генетических различий среди нормальных индивидуумов (в противоположность генетическим дефектам, вызывающим расстройства) тоже необходимо рассматривать с осторожностью. Врожденные различия между людьми — это не то же самое, что особенности, присущие человеческой природе, общие для всех представителей нашего вида. Описание факторов, отличающих людей друг от друга, не дает нам прямого ответа на вопрос о механизме действия человеческой природы, как описание разницы между марками автомобилей не откроет нам секрет работы мотора. Тем не менее генетические вариации определенно имеют отношение к природе человека. Если для разума существует множество способов генетически отличаться, значит, в нем есть множество частей и свойств, на которые гены оказывают влияние, что и делает эти отличия возможными. Кроме того, любая современная концепция человеческой природы, опирающаяся на биологию (в противоположность традиционным концепциям, которые опираются на философию, религию или здравый смысл), должна объяснить, почему способности, составляющие человеческую природу, настолько разнообразны, несмотря на то что их фундаментальный дизайн (как они работают) универсален. Естественный отбор зависит от генетических вариаций, и, хотя с течением поколений и с формированием вида количество вариаций снижается, полностью они не исчерпываются никогда[51].
Какой бы ни была их окончательная интерпретация, открытия бихевиоральной генетики значительно повредили идее «чистого листа» и его доктринам-компаньонам. Лист не может быть пуст, если различные гены могут сделать его менее или более умным, разговорчивым, бесшабашным, застенчивым, счастливым, совестливым, невротичным, открытым, необщительным, веселым, толстяком или любителем макать хлеб с маслом в кофе. Чтобы гены могли влиять на разум таким образом, необходимо, чтобы разум содержал множество частей и свойств, на которые можно было бы повлиять. Точно так же если мутация или делеция гена может поразить такую узкую умственную способность, как пространственное воображение, или такую специфическую личностную черту, как любовь к острым ощущениям, эти черты должны быть обособленными компонентами сложноорганизованной психики.
Более того, многие из черт, подверженных влиянию генов, отнюдь не благородные. Психологи обнаружили, что наши личности различаются в пяти основных отношениях: мы в разной степени интровертны или экстравертны, невротичны или уравновешены, нелюбопытны или открыты новому, покладисты или упрямы, добросовестны или равнодушны к делу. Большая часть из 18 000 названий личностных черт, имеющихся в словарях, может быть отнесена к одному из этих пяти измерений, включая такие грехи и пороки, как нецелеустремленность, беспечность, соглашательство, нетерпеливость, узость мышления, грубость, жалость к себе, эгоизм, подозрительность, несговорчивость и ненадежность. Все пять основных измерений личности врожденные, и от 40 до 50 % вариаций в типичной популяции связаны с разницей в генах. Жалкий неудачник, невротичный интроверт, ограниченный, эгоистичный и ненадежный, вероятно, таков отчасти из-за своих генов, как и остальные из нас, имеющие свои склонности в перечисленных отношениях, отличающие нас от собратьев.
По наследству может передаваться не только неприятный темперамент, но и конкретное поведение с реальными последствиями. Одно за другим исследования показывают, что склонность к таким асоциальным поступкам, как вранье, воровство, драка и вандализм, частично наследуемо (хотя, как и все наследственные черты, в одной среде они проявляются чаще, чем в другой)[52]. У людей, совершающих действительно гнусные преступления, такие как серийные изнасилования, обман пожилых людей ради их сбережений, убийство продавца, который даже не оказывал сопротивления грабителям, часто диагностируется психопатия или «диссоциальное расстройство личности»[53]. Большинство психопатов демонстрировали жестокость с раннего детства. Они обижали младших, мучили животных, постоянно лгали, были неспособны на сочувствие или раскаяние, причем часто несмотря на нормальное семейное окружение и на то, что их безутешные родители старались изо всех сил. Большинство специалистов по психопатии считают, что она происходит из генетической предрасположенности, хотя в некоторых случаях — из-за раннего повреждения мозга в раннем возрасте[54]. Так или иначе генетики и нейробиологи сходятся в том, что вину за «сердца тьмы» не всегда можно возложить на родителей или общество.
И гены, даже если они никак не определяют нашу судьбу, не слишком согласуются с ощущением, что мы — «духи в машинах». Представьте, что вы мучительно выбираете: какую делать карьеру, выходить ли замуж, за кого голосовать и что надеть сегодня. Наконец вы с трудом пришли к решению, и тут раздался телефонный звонок. Это ваша сестра — идентичный близнец, о которой вы раньше не знали. Во время оживленной беседы выясняется, что она только что выбрала похожую карьеру, решила выйти замуж в то же время, отдать свой голос за того же кандидата в президенты и надела блузку такого же цвета — к великому удовольствию поведенческих генетиков, которые и помогли вам найти друг друга. И насколько свободны в принятии решений «вы» на самом деле, если результат можно (по крайней мере с определенной долей вероятности) предсказать заранее, основываясь на событиях, которые произошли в фаллопиевых трубах вашей матери за много лет до этого?
* * *
Четвертый мост между биологией и культурой — это эволюционная психология, наука о филогенетической истории и адаптивных функциях разума[55]. Она дает надежду понять замысел или цельразума — не в каком-то мистическом или телеологическом смысле, а с точки зрения своего рода инженерного искусства, которое наблюдается повсюду в природе. Мы видим признаки этого искусства везде: в глазах, устроенных так, чтобы создавать образы; в сердце, словно специально сконструированном, чтобы качать кровь, в крыльях, наилучшим образом подходящих для полета.
Дарвин, конечно, показал, что иллюзия замысла в мире природы может быть объяснена естественным отбором. Однако глаз определенно слишком сложно устроен, чтобы появиться благодаря случайности. Ни одна бородавка, или опухоль, или продукт большой мутации не могут быть везучими настолько, чтобы случайно обрести линзу, зрачок, сетчатку, слезные протоки и все остальное, идеально подходящее для создания образа. Но глаз и не шедевр инженерии, буквально спроектированный космическим дизайнером, создавшим человека по своему образу и подобию. Человеческий глаз удивительно похож на глаза других животных, а у их вымерших предков встречались очень странные рудименты вроде сетчатки, встроенной задом наперед[56]. Наши нынешние органы — это копии органов тех наших предков, спроектированные лучше, чем альтернативные варианты, собственно поэтому они и стали нашими предками[57]. Естественный отбор — единственный известный нам природный процесс, который может имитировать инженерное искусство, потому что только он определяет, какой в итоге будет та или иная деталь в зависимости от того, насколько хорошо она работает.
Эволюция — основа понимания жизни, в том числе человеческой. Как все живые существа, мы — результат естественного отбора; мы здесь, потому что унаследовали черты, которые помогли нашим предкам выжить, найти партнера и дать потомство. Этот важнейший факт объясняет наши глубинные устремления: почему неблагодарное дитя хуже ядовитой змеи, почему все согласны с мнением, что холостяку с хорошим доходом непременно необходима жена, почему мы не уходим спокойно в страну вечной тьмы, а из последних сил боремся за каждый лучик света.
Эволюция — ключ к пониманию самих себя, потому что приметы замысла, если мы говорим о человеке, не заканчиваются устройством глаза или сердца. При всей своей изысканной конструкции глаз бесполезен без мозга. Итог его работы — не бессмысленные узоры скринсейвера, а исходник для вычислительной схемы, по которой создаются достоверные образы внешнего мира. Эти образы используются другими сетями, которые придают смысл внешнему миру, соотнося причины со следствиями и размещая их по категориям, что позволяет делать полезные прогнозы. И это извлечение смыслов, в свою очередь, обслуживает мотивы — голод, страх, любовь, любопытство, погоню за статусом и уважением. Как я уже упоминал, воспроизведение способностей, которые кажутся нам не требующими усилий, — категоризация событий, выявление причинно-следственных связей, преследование конфликтующих целей — главная сложность в создании интеллектуальных систем, которую робототехникам так пока и не удается преодолеть.
Так что признаки инженерного искусства в разуме человека заметны на всех этапах, и вот почему психология всегда была эволюционной. Познавательные и эмоциональные способности всегда понимались как неслучайные, сложные и необходимые, а это значит, что они должны быть либо продуктом божественного творения, либо результатом естественного отбора. Но до последнего времени психология редко обращалась к эволюции напрямую, так как во многих случаях умозрительных представлений о механизмах приспособления достаточно. Вам не нужен эволюционный биолог, чтобы понять, что животное не падает со скалы и не натыкается на деревья благодаря пространственному зрению, что жажда предохраняет от обезвоживания и что лучше помнить, что полезно, а что нет, чем страдать амнезией.
Но в других аспектах нашей психической жизни, особенно в социальном, функции способностей не так-то просто разгадать. Естественный отбор благоприятствует организмам, которые хорошо размножаются в определенной среде. Когда вокруг скалы трава и змеи, нетрудно догадаться, какая стратегия работает, а какая нет. Но когда значимая среда включает других представителей вида, развивающих собственные стратегии выживания, это уже не так очевидно. Что даст больший выигрыш в эволюционной игре — моногамия или полигамия? Миролюбие или агрессивность? Сотрудничество или эгоизм? Мягкость или жесткость по отношению к детям? Оптимизм, прагматизм или пессимизм?
В подобных вопросах интуиция бесполезна, и поэтому эволюционная биология все больше вторгается в психологию. Эволюционные биологи утверждают, что нельзя считать «адаптациями» все, что способствует человеческому благополучию: групповые связи, избегание насилия, создание моногамных пар, эстетическое удовольствие, самоуважение. То, что помогает нам приспособиться в обычной жизни, — не обязательно «адаптация» в техническом смысле, черта, которую поощряет естественный отбор в процессе эволюции вида. Естественный отбор — нравственно нейтральный процесс, в котором наиболее эффективные репликаторы размножаются успешнее прочих и начинают преобладать в популяции. Отобранные гены, таким образом, можно назвать «эгоистичными», согласно удачной метафоре Ричарда Докинза, или, более точно, мегаломаньяками, стремящимися наштамповать как можно больше собственных копий[58]. Адаптация — это все, что привносится генами для осуществления своей метафорической навязчивой идеи, неважно, соответствует ли это желаниям людей. И эта концепция абсолютно не совпадает с бытовыми представлениями о том, для чего нам были даны все наши способности.
Мегаломания генов не означает, что милосердие и сотрудничество не могли появиться в результате эволюции, так же как и закон земного притяжения не доказывает, что в результате эволюции не мог появиться полет. Это значит лишь, что милосердие, как и полет, особый случай, нуждающийся в объяснении, а не то, что появилось просто так. Оно может эволюционировать только в особых обстоятельствах и при поддержке когнитивных и эмоциональных способностей. Стало быть, милосердие, как и другие социальные мотивы, необходимо вытащить на свет и как следует рассмотреть, а не задвигать в угол, как старую мебель. Во время социобиологической революции 1970-х смутное представление эволюционных биологов, что организмы эволюционируют, чтобы служить высшему благу, сменилось предположениями о том, какие мотивы вероятно, разовьются в процессе взаимодействия этих организмов с потомством, партнерами, братьями и сестрами, незнакомцами, друзьями и врагами.
Когда их прогнозы соотнесли с известными фактами об образе жизни охотников и собирателей, в котором эволюционировал человек разумный, оказалось, что стороны психики, ранее казавшиеся непостижимыми, можно объяснить с не меньшим успехом, чем пространственное зрение и ощущение жажды. Например, нам кажутся красивыми лица, демонстрирующие признаки здоровья и плодовитости, — именно так, как если бы глаз развивался для того, чтобы помочь своему владельцу найти наилучшую пару для продолжения рода[59]. Чувства симпатии, благодарности, вины, гнева помогают людям извлекать пользу из сотрудничества и не позволять эксплуатировать себя лжецам и обманщикам[60]. Репутация жесткого и мстительного человека была наилучшей защитой в мире, где невозможно было позвонить 911 и вызвать полицию[61]. Дети усваивают разговорную речь инстинктивно, а письменную — прилагая значительные усилия, потому что разговорная речь была частью человеческой жизни в течение тысячелетий, в то время как письменная речь — недавнее и медленно распространяющееся изобретение[62].
Все это не означает, что люди в буквальном смысле борются за передачу своих генов последующим поколениям. Если бы разум работал так, мужчины выстраивались бы в очередь у банков спермы, а женщины платили бы деньги за то, чтобы их яйцеклетки была оплодотворены и отданы бесплодным парам. Это значит лишь, что унаследованные нами системы научения, мышления и чувствования устроены так, чтобы наш вид в целом мог успешно выживать и размножаться в среде, в которой эволюционировали наши предки. Люди получают удовольствие от еды, и в мире без фастфуда это помогало им прокормить себя, даже если они не задумывались о питательных свойствах продуктов. Люди наслаждаются сексом, они любят детей, и в мире без контрацепции этого было достаточно, чтобы гены могли позаботиться о себе.
Разница между механизмами, которые побуждают организмы вести себя тем или иным образом в реальном времени, и механизмами, которые формируют облик организмов в ходе эволюции, настолько важна, что заслужила особой терминологии. Проксимальная (непосредственная) причина поведения — это механизм, нажимающий кнопки в реальном времени, например голод или желание, побуждающее людей есть и заниматься сексом. Ультимальная (конечная) причина — это адаптивная мотивация, которая заставляет проксимальную причину проявляться: необходимость в питательных веществах или репродукции, порождающая голод и желание. Разграничение проксимального и ультимального объяснений необходимо нам для понимания самих себя, так как оно определяет ответ на вопросы вроде «Почему этот человек поступил так, как он поступил?». Приведем простой пример: на ультимальном уровне люди хотят заниматься сексом для размножения (потому что конечная причина секса — размножение), но на проксимальном они порой готовы сделать все что угодно, чтобы зачатие не состоялось (потому что непосредственная причина секса — удовольствие).
Разница между проксимальными и ультимальными целями — это еще одно доказательство того, что человек не есть «чистый лист». Всякий раз, когда люди борются за очевидные блага вроде здоровья или счастья, которые имеют как непосредственный, так и конечный смысл, вполне логично предположить, что разуму присущи только стремление к счастью и здоровью, а также расчет причин и следствий, помогающий получать желаемое. Но у человека часто бывают желания, которые разрушают его проксимальное (непосредственное) благополучие, желания, которые он не смеет высказать и от которых он (а также общество) безуспешно старается избавиться. Он может воспылать страстью к жене соседа, сводить себя в могилу перееданием, устраивать скандалы по мелочам, не любить приемных детей, накручивать себя в ответ на стресс, от которого не может ни убежать, ни побороть, доводить себя до изнеможения в попытках угнаться за другими, или вскарабкаться по карьерной лестнице, или предпочитать сексуального, но опасного партнера надежному, но не столь привлекательному. Такие неоправданные с точки зрения пользы для конкретного индивида побуждения имеют прозрачное эволюционное объяснение, а это предполагает, что разум укомплектован не универсальным желанием личного благополучия, а влечениями, сформированными естественным отбором.
Эволюционная психология объясняет также, почему лист не пустой. Разум ковался в эволюционном соперничестве, и инертный середнячок уступил бы сопернику, вооруженному высокими технологиями — точной системой восприятия, хитроумием, стратегическим мышлением и чувствительными системами обратной связи. И даже хуже — будь наш разум так уж пластичен, он бы легко поддавался манипуляциям конкурентов, которые могли бы заставить или убедить нас служить чужим интересам вместо собственных. Пластичный разум быстро остался бы за бортом естественного отбора.
Науки о человеке начали активно развивать гипотезу, согласно которой разум эволюционировал вместе с универсальным сложным дизайном. Некоторые антропологи обратились к этнографическим записям, ранее использовавшимся, чтобы возвестить о разнице культур, и обнаружили удивительно подробный набор склонностей и вкусов, общих для них всех. Этот разделяемый всеми образ жизни, мышления и ощущений представляет нас единым племенем, которое антрополог Дональд Браун назвал «универсальными людьми», вслед за «универсальной грамматикой» Хомского[63]. Сотни черт, от боязни змей до логических операций, от романтической любви до шуточных оскорблений, от поэзии до пищевых запретов, от товарообмена до скорби по умершим, могут быть найдены в каждом из когда-либо описанных обществ. Не то чтобы каждое универсальное поведение прямо отражает общие компоненты человеческой природы — многое возникает из взаимодействия между универсальными характеристиками разума, универсальными характеристиками тела и универсальными характеристиками окружающего мира. Тем не менее обилие общих черт в описании универсальных людей — сильный удар по представлению, что разум — это «чистый лист» или что разнообразие культур бесконечно. В этом списке есть пункты, опровергающие практически любую теорию, вытекающую из подобных предположений. Ничто не заменит возможности увидеть список Брауна полностью; с его разрешения он приведен в приложении в конце книги.
Идея, что естественный отбор одарил человечество универсальным сложным разумом, получила поддержку и из других областей науки. Детские психологи больше не думают, что мир в представлении младенца шумная неразбериха, поскольку нашли признаки базовых категорий разума (применительно к объектам, людям и инструментам) у самых маленьких детей[64]. Археологи и палеонтологи обнаружили, что доисторические люди не были звероподобными троглодитами, а упражняли ум искусством, ритуалами, торговлей, насилием, сотрудничеством, технологиями и символами[65]. И приматологи показали, что наши мохнатые родственники приматы, в отличие от лабораторных крыс, пребывающих в пассивном ожидании, наделены многими сложными способностями и дарами, которые раньше считались чисто человеческими, включая понятия, чувство пространства, использование инструментов, ревность, родительскую любовь, сотрудничество, миротворчество и межполовые различия[66]. С таким количеством умственных способностей, существующих во всех человеческих культурах, у детей еще до их знакомства с культурой и у созданий, у которых нет или почти нет культуры, разум больше не кажется бесформенной массой, приобретающей контуры благодаря культуре.
Но сильнее всего от нового эволюционного мышления пострадала доктрина «благородного дикаря». Вряд ли что-либо безусловно благородное может стать результатом естественного отбора, поскольку в борьбе генов за продолжение в следующих поколениях благородные обычно проигрывают. Конфликты интересов повсеместны среди живых существ, поскольку нельзя вдвоем съесть одну и ту же рыбку или претендовать на одного сексуального партнера. Если социальные мотивы представляют собой адаптации, которые увеличивают число копий генов, продуцирующих их, они должны работать на победу в подобных конфликтах, а один из способов победить — нейтрализовать угрозу. Как сформулировал это Уильям Джеймс, разве что чуть-чуть сгустив краски: «Мы наследственные представители удачливых исполнителей множества массовых убийств, и какое бы количество мирных черт мы ни обрели, мы наверняка все еще носим в себе готовые в любой момент воспламениться тлеющие зловещие стороны нрава, благодаря которым прошли путь кровопролитий, причиняя вред другим, но уцелев сами»[67].
Многие интеллектуалы, от Руссо до автора статьи ко Дню благодарения, упомянутой в первой главе, лелеяли образ миролюбивого туземца, берегущего природу, сторонника всеобщего равенства. Но за последние два десятилетия антропологи собрали данные о жизни и смерти в догосударственных обществах и предпочитают опираться на них, а не на приятные расплывчатые стереотипы. Что же они обнаружили? Если вкратце, Гоббс был прав, Руссо ошибался.
Начнем с того, что истории о каких-то племенах где-то там, которые никогда не слышали о насилии, оказались городскими легендами. Описания мирного новогвинейского племени и сексуально свободных самоанцев, сделанные Маргарет Мид, основывались на поверхностных исследованиях и оказались верны с точностью до наоборот. Как позже задокументировал антрополог Дерек Фримен, самоанцы могут избивать или даже убивать своих дочерей, если те не оказываются девственницами в первую брачную ночь; молодой мужчина, которому не удалось соблазнить девственницу, может изнасиловать девушку, чтобы вынудить ее бежать с ним; а семья обманутого мужа способна напасть на его соперника и убить[68]. Элизабет Маршал Томас описывала племя кунг сан, живущее в пустыне Калахари, как «безобидный народ» в книге под таким же названием. Но вскоре после того, как антропологи прожили с ними достаточно долго, чтобы собрать необходимые данные, они обнаружили, что смертность в результате убийств в племени выше, чем в американских трущобах. Также они узнали, как группа кунг сан отомстила за убийство, напав на обидчиков, пока те спали, и убив поголовно всех женщин, мужчин и детей[69]. Но кунг сан, по крайней мере, существуют. В начале 1970-х журнал New York Times сообщил об открытии «кроткого народа тасадей» в филиппинских тропических лесах, народа, словарь которого не содержал слов для понятий конфликта, насилия или оружия. Позже оказалось, что «кроткие Тасадей» — местные фермеры, которые фотографировались в нарядах из пальмовых листьев, чтобы дружки Фердинанда Маркоса (тогдашнего президента Филиппин) признали их «племенные земли» заповедными, что дало бы им эксклюзивные права на добычу полезных ископаемых и заготовку древесины[70].
Кроме того, антропологи и историки подсчитали тела. Множество интеллектуалов ссылались на малое количество военных столкновений в догосударственных обществах как на свидетельство того, что войны в этих обществах были по большей части ритуальными. Они не замечали, что две смерти в группе из 50 человек сопоставимы с 10 млн смертей в стране размером с США. Археолог Лоуренс Килиподсчитал долю мужских смертей, причиненных войнами, в нескольких обществах, по которым доступны данные[71].
Восемь строк сверху, которые ранжируют от почти 10 до почти 60 %, отражают положение в туземных племенах Южной Америки и Новой Гвинеи. Нижняя, почти незаметная, девятая строка представляет Соединенные Штаты и Европу в XX веке и включает статистику двух мировых войн. Более того, Кили и другие отмечают, что нецивилизованные народы стоят насмерть в военных конфликтах. Многие из них мастерят оружие настолько разрушительное, насколько позволяют их технологии, полностью уничтожают вражеские племена, если уверены, что это сойдет им с рук, плюс ко всему этому практикуют пытки, каннибализм и коллекционирование частей тела в качестве трофеев[72].
Статистика на уровне обществ дает такие же печальные цифры. В 1978 году антрополог Кэрол Эмбер подсчитала, что 90 % племен охотников-собирателей известны тем, что участвовали в войнах, а 64 % развязывают войны как минимум каждые два года[73]. И даже цифра 90 %, вероятно, занижена, поскольку антропологи часто изучают племена недостаточно долго, чтобы зафиксировать конфликты, происходящие, скажем, раз в 10 лет (представьте себе антрополога, изучающего мирную европейскую культуру между 1918 и 1938 годами). В 1972 году другой антрополог, У. Дивейл, сравнил 99 групп охотников-собирателей из 37 культур и обнаружил, что 68 из них в это время воевали, 20 воевали от 5 до 25 лет назад, прочие рассказывали о войнах, происходивших в более отдаленном прошлом[74]. Основываясь на этом и других этнографических обзорах, Дональд Браун включил конфликт, изнасилование, месть, зависть, власть и групповую мужскую агрессию в список человеческих универсалий[75].
Вполне понятно, что людям не нравится правда о насилии в догосударственных обществах. Веками стереотип о жестоких дикарях использовался как предлог для уничтожения туземцев и захвата их земель. Но совершенно точно нет необходимости рисовать фальшивую картинку миролюбивых народов, заботящихся о среде своего обитания, чтобы осудить жестокие преступления против них. Как будто геноцид — это плохо, только если жертвы милые и приятные люди.
Высокий уровень насилия, сопровождавший процесс эволюции человека, еще не доказывает, что наш биологический вид одержим стремлением к смерти, жаждой крови или инстинктом защиты своей территории. Для разумных видов существуют убедительные эволюционные причины попытаться жить в мире. Многие математические модели и компьютерные симуляции показали, что кооперация выгодна в эволюционном смысле, при условии что сотрудничающие обладают мозгом с нужной комбинацией когнитивных и эмоциональных способностей[76]. Так что хотя конфликт — универсальное человеческое понятие, но и разрешение конфликта — тоже. Вместе с жестокими и низкими побуждениями люди демонстрируют и множество добрых и благородных: нравственное чувство, справедливость, мирное сосуществование, способность представлять последствия при выборе поведения, любовь к детям, друзьям и супругам[77]. Будет ли группа людей вовлечена в насилие или постарается сохранить мир, зависит от мотивов, которые ими движут. Эту тему я раскрою подробнее в следующих главах.
Не всех успокоят такие заверения, потому что они разбивают в пух и прах третью, лелеемую многими, предпосылку современной интеллектуальной жизни. Любовь, воля и совесть — традиционные строчки в резюме души. Они всегда противопоставлялись чисто «биологическим» функциям. Если же эти черты тоже «биологические» — эволюционные приспособления, встроенные в нейронные сети мозга, тогда «дух» окажется практически не у дел и его можно, наконец, с благодарностью проводить на пенсию.
Глава 4. Ценители культуры
Как все мужчины в Вавилоне, я побывал проконсулом; как все — рабом… Глядите, на правой руке у меня нет указательного пальца. Глядите, сквозь дыру в плаще видна красная татуировка на животе — это вторая буква, «бет». В ночи полнолуния она дает мне власть над людьми, чей знак — буква «гимель», но подчиняет меня людям с «алефом», которые в безлунные ночи должны покоряться людям с «гимелем». В предрассветных сумерках, в подземелье, я убивал перед черным камнем священных быков. В течение лунного года я был объявлен невидимым: я кричал, и мне не отвечали, воровал хлеб, и меня не карали.
…Жестокой этой изменчивостью моей судьбы я обязан одному заведению, которое в других государствах неизвестно либо же действует скрыто и несовершенно: лотерее[1].
Рассказ Хорхе Луиса Борхеса «Лотерея в Вавилоне», возможно, лучшая иллюстрация идеи, что культура — это набор ролей и символов, которые мистическим образом обрушиваются на пассивного индивидуума. Его лотерея началась как знакомая игра, в которой выигрышный билет получает джекпот. Но, чтобы усилить интригу, организаторы добавили несколько номеров, награждающих владельца билета не выигрышем, а штрафом. Затем они добились тюремного заключения для тех, кто не платит штрафы, и система расширилась до огромного разнообразия немонетарных наград и наказаний. Лотерея стала бесплатной, обязательной, всемогущей и непостижимой. Люди начали строить предположения на тему, как она работает и продолжает ли вообще существовать.
На первый взгляд человеческая культура обладает всей чудовищной вариативностью борхесовской лотереи. Представители рода Homo sapiens едят все что угодно — от червей и личинок до коровьей мочи и человеческого мяса. Они связывают, режут, шрамируют и растягивают части тела так, что и максимально утыканные пирсингом западные подростки содрогнулись бы. Они допускают самые эксцентричные сексуальные практики, такие как ежедневные услуги фелляции, оказываемые подросткам младшими мальчиками, или браки пятилетних детей с благословения родителей. При такой явно выраженной изменчивости культурных норм действительно может показаться, что культура существует во вселенной отдельно от мозга, генов и эволюции. И это разделение в свою очередь связано с концепцией листа, оставленного чистым биологией и заполненного культурой. Теперь, когда я попытался убедить вас, что лист не чист, пришло время вернуть культуру в нашу картину. Это довершит процесс согласования биологических наук, наук о природе человека, социальных, гуманитарных наук и искусства.
В этой главе я предложу альтернативу мнению, что культура подобна лотерее. Напротив, культуру можно рассматривать как часть человеческого фенотипа: отличительная особенность, помогающая нам выживать, процветать и продолжать род. Люди — это общественный вид, использующий знания и склонный к сотрудничеству, так что культура возникает при таком образе жизни естественным образом. Предварительная ремарка: феномен, который мы называем «культурой», возникает, когда люди объединяют и аккумулируют свои открытия и оговаривают порядок координации усилий и разрешения конфликтов. Когда группы людей, разделенные временем и расстоянием, накапливают различные открытия и обычаи, мы используем множественное число и называем их «культурами». Разные культуры, таким образом, не происходят от генов разных типов (Боас и его последователи были в этом правы), но они не живут в разных мирах и не придают форму бесформенному сознанию.
* * *
Первый шаг на пути соединения культуры и наук о природе человека — это понимание того, что культура, при всей своей важности, не какая-то субстанция, проникающая в человека сквозь кожу. Культура опирается на нейронные связи, обеспечивающие нас даром, который мы называем научением. Эти связи не превращают нас в слепых подражателей, они должны работать удивительно тонко, чтобы сделать передачу культуры возможной. Вот почему фокусирование на врожденных умственных способностях не альтернатива вниманию к научению, социализации и культурной среде, а скорее попытка объяснить, как они работают.
Возьмем в качестве примера родной язык: как правило, это освоенный культурный навык. И попугай, и ребенок учат нечто, представленное в речи, но только у ребенка есть умственный алгоритм, извлекающий слова и правила грамматики из звуковой волны и использующий их для понимания и построения бесконечного числа новых высказываний. Врожденный дар речи — это на самом деле врожденный механизм его изучения[2]. Точно так же, чтобы дети учились своей культуре, они не должны быть просто видеокамерами, пассивно записывающими звуки и образы. Они должны обладать умственным механизмом, способным извлечь ценности и убеждения, лежащие в основе поведения других людей, чтобы дети, усвоив их, сами стали полноправными представителями своей культуры[3].
Даже мельчайший акт культурного научения — имитация поведения родителей или сверстников — не так прост, как кажется. Чтобы оценить происходящее в наших умах, когда мы играючи учимся чему-нибудь от других людей, нам нужно попытаться представить себе, каково было бы обладать каким-то другим разумом. К счастью, когнитивные ученые сделали это за нас, исследуя интеллект роботов, животных и людей с умственными отклонениями.
Исследователь искусственного интеллекта Родни Брукс, работающий над созданием робота, способного учиться с помощью имитации, попытался использовать обычные компьютерные техники научения и немедленно столкнулся с проблемой:
Робот наблюдает за человеком, открывающим стеклянную банку. Человек подходит к роботу и ставит банку на стол рядом с ним. Он потирает руки и готовится снять крышку с банки. Берется одной рукой за банку, другой за крышку и начинает откручивать ее, поворачивая против часовой стрелки. В процессе он останавливается, потирает бровь и смотрит на робота, чтобы узнать, что тот делает. Затем возвращается к своему занятию. После этого робот пытается имитировать действия человека. Но какую их часть он должен повторить? Какие действия важны (поворачивание крышки против часовой стрелки), а какие нет (потирание брови)? Как может робот вычленить знания из этого опыта и применить их в похожей ситуации?[4]
Ответ: робот должен быть наделен способностью читать в уме человека, которого он имитирует, чтобы догадаться о его цели и выделить те аспекты поведения, с помощью которых человек намеревается достичь ее. Когнитивисты называют эту способность интуитивной психологией, психологией здравого смысла или теорией разума. («Теория» здесь относится к подразумеваемым представлениям человека, животного или робота, а не к сформулированным убеждениям ученых.) Ни один из существующих роботов ни на йоту не приблизился к этой способности.
Еще один разум, которому практически неподвластна способность постигать цели другого существа, — шимпанзе. Психолог Лаура Петитто обучала языку знаков шимпанзе по имени Ним Шимпский и в течение года жила с ним в доме при университете. На первый взгляд казалось, что Ним повторяет за ней процесс мытья посуды, но с одним важным отличием. После того как Ним протирал губкой тарелку, она совсем не обязательно становилась чище, а когда ему давали чистую, Ним «мыл» ее, как если бы она была грязной. Ним не мог уловить смысл «мытья» — процесса использования жидкости, чтобы сделать предмет чистым. Он просто имитировал моющие движения Лауры и наслаждался ощущением теплой воды, текущей по пальцам. Та же картина повторялась во множестве лабораторных экспериментов. Хотя шимпанзе и другие приматы пользуются репутацией имитаторов (есть даже слово «обезьянничать»), их способность имитировать так, как это делают люди — повторяя намерения другого человека, а не его действия, — рудиментарна, потому что рудиментарна их интуитивная психология[5].
Разум, не умеющий распознавать представления и намерения других людей, даже если он и может учиться другими способами, не способен к усвоению культурных навыков. От такого нарушения страдают люди с аутизмом. Они легко усваивают материальные представления — карты и схемы, но не могут ухватить представления психические — они не могут читать в уме другого[6]. И хотя они однозначно имитируют, делают это странным образом. Некоторые склонны к эхолалии — бессмысленному повторению услышанных фраз вместо выделения грамматических паттернов, которые позволили бы им строить собственные высказывания. Аутисты, самостоятельно научившиеся говорить, часто используют местоимение «ты» в качестве своего имени, потому что другие люди обращаются к ним «ты». Им не приходит в голову, что значение этого слова меняется в зависимости от того, кто к кому обращается. Если родитель опрокинет стакан и скажет: «О черт!», аутичный ребенок может решить, что «о черт» обозначает стакан, — опровергая эмпиристскую теорию, что нормальные дети могут учить слова, просто ассоциируя звуки и события, пересекающиеся во времени. Эти нарушения — не последствия низкого интеллекта. Аутичные дети могут быть компетентны (и даже гениальны) в решении других проблем, а умственно отсталые дети без аутизма не демонстрируют подобных причуд в языке и имитации. Аутизм — это врожденное неврологическое состояние явно генетического происхождения[7]. Подобно роботам и шимпанзе, люди с аутизмом напоминают нам, что освоение культуры возможно только потому, что нейротипичные люди имеют подходящие для этого врожденные механизмы.
Ученые часто интерпретируют длинное детство представителей вида Homo sapiens как адаптацию, позволяющую детям осваивать широкие пласты культурной информации до того, как им придется жить самостоятельно. Если культурное научение зависит от особых психологических механизмов, мы должны наблюдать эти механизмы в детях с самого раннего возраста. И мы действительно наблюдаем.
Эксперименты показывают, что полуторагодовалые дети — не ассоцианисты, беспорядочно соединяющие происходящие одновременно события. Они интуитивные психологи, способные раскусить намерения других перед тем, как повторять их действия. Когда взрослый впервые знакомит ребенка со словом, например: «Вот это — матрешка», ребенок запомнит слово как название той игрушки, на которую в этот момент смотрит взрослый, а не той, на которую смотрит он сам[8]. Если взрослый, оперируя неким предметом, сообщит, что действие было непреднамеренным (воскликнув «Ой!»), ребенок даже не будет пробовать повторить за ним это действие. Но если взрослый каким-то образом даст понять, что он действует целенаправленно, ребенок будет имитировать его действия[9]. И если взрослый попытается выполнить какое-то действие (например, нажать кнопку звонка или накинуть петельку на колышек) и потерпит неудачу, ребенок будет имитировать то действие, которое взрослый хотел сделать, а не то, что он сделал на самом деле[10]. Как специалист, изучающий приобретение детьми речевых навыков, я не перестаю удивляться, как рано они постигают логику языка, усваивая лексику и грамматику разговорной речи к трем годам[11]. Это также может быть попыткой генома включить механизмы культурного научения как можно раньше, как только развивающийся мозг будет способен справиться с ними.
* * *
Итак, наш разум оснащен механизмами, предназначенными для чтения целей других людей, что позволяет нам копировать их целенаправленные действия. Но зачем нам это надо? Хотя мы принимаем на веру, что овладение культурой — хорошая вещь, о процессе усвоения часто говорят с насмешкой. Портовый грузчик и философ Эрик Хоффер писал: «Когда люди вольны делать то, что хотят, они обычно копируют действия друг друга». Существует целая коллекция метафор, приравнивающих это очень человеческое умение к поведению животных: «обезьянничать», «попугайничать», «как лемминги» (друг за другом в пропасть), «перепевать» и даже «стадное чувство».
Социальные психологи могут представить достаточное количество свидетельств сильной потребности людей делать то же самое, что делают их соседи. Большинство ничего не подозревающих испытуемых, окруженных подставными лицами, которым заплатили за то, чтобы они делали всякие странные вещи, тоже начинали их делать. Они отказывались верить собственным глазам и называли длинную линию «короткой» и наоборот, равнодушно продолжали заполнять опросник, в то время как из вентиляции валил дым, или, как в передаче «Скрытая камера», внезапно раздевались до белья без видимой причины[12]. Но социальные психологи указывают, что людская конформность, как бы забавно она ни выглядела в искусственных экспериментах, имеет естественное объяснение на социальном уровне — вернее, два объяснения[13].
Первое — информационное: желание выиграть, используя знания и суждения других людей. Утомленные ветераны различных комитетов утверждают, что уровень интеллекта группы равен низшему IQ в группе, разделенному на количество ее членов, но, на мой взгляд, это слишком пессимистично. Вид, владеющий языком, интуитивной психологией и стремлением к кооперации, может сделать общим достоянием группы с трудом добытые открытия из прошлого и настоящего ее членов и стать гораздо умнее, чем раса отшельников. Охотники-собиратели аккумулируют знания о том, как делать орудия труда, поддерживать огонь, перехитрить жертву и обезвредить ядовитое растение, и могут жить, пользуясь этими коллективными знаниями, даже если ни один из членов племени не способен изобрести их заново. И, координируя свое поведение (например, преследуя добычу или по очереди присматривая за детьми, пока остальные охотятся), они могут действовать, как большой зверь с несколькими головами и множеством конечностей, и достигать целей, которых вряд ли может достичь даже самый упрямый индивидуалист. А комплект взаимодействующих глаз, ушей и голов более надежен, чем одинарный набор со всеми его слабостями и специфическими особенностями. Есть мудрое изречение на идиш, которое предлагается бунтовщикам и сторонникам теории заговора в качестве проверки их идей на соответствие реальности: «Весь мир не может сойти с ума».
Многое из того, что мы называем культурой, есть просто аккумулированная местечковая мудрость: способы обработки артефактов, выбора еды, дележки упавших плодов и т. д. Некоторые антропологи, в том числе Марвин Харрис, считают, что даже обычаи, которые на первый взгляд выглядят делом случая, на самом деле могут быть решением экологических проблем[14]. Коровы в Индии действительно должны были стать священными животными, указывает он; они обеспечивают население едой (молоко и масло), топливом (коровьи лепешки) и тягловой силой (впряженные в плуг), так что обычаи, защищающие их, пресекают соблазн убить курицу, несущую золотые яйца. Другие культурные особенности могут иметь рациональное объяснение в смысле репродукции[15]. В некоторых обществах мужчины живут в отцовской семье и поддерживают свою жену и детей; в других — в материнской и поддерживают своих сестер, племянников и племянниц. Второй тип семейного устройства часто наблюдается в обществах, где мужчины проводят много времени вдали от дома и измены — обычное дело, так что они не могут быть уверены, что дети их жен также и их дети. А вот дети дочери его собственной матери — гарантированно его биологическая родня, вне зависимости от того, кто с кем спит, и матрилокальная семья позволяет мужчине инвестировать в тех детей, которые точно несут часть его генов.
Конечно, только Прокруст мог бы уместить все культурные практики в ложе прямой экономической или генетической выгоды. У конформизма есть и другая причина — нормативная, желание соответствовать нормам сообщества, какими бы они ни были. Но и это поведение на самом деле не настолько похоже на бездумные действия леммингов, как кажется на первый взгляд. Многие практики случайны по форме, но не случайны причины, вызвавшие их к жизни. Нет никакого резона придерживаться именно правой стороны при движении или, наоборот, именно левой стороны, но очевидно, что есть серьезные причины придерживаться какой-то одной из них. Так что произвольный выбор стороны движения и всеобщее согласие с этим выбором действительно имеют смысл. Другие примеры случайных, но не бессмысленных выборов экономисты называют «равновесием сотрудничества» — деньги, установленные дни выходных, а также соответствие звуков и смыслов, создающее слова и язык.
Общие произвольно установленные порядки помогают людям справиться с еще одной проблемой. Несмотря на то что большинство вещей в жизни не делятся на черное и белое, а имеют множество оттенков, выбирать часто приходится только из двух опций[16]. Дети не становятся взрослыми мгновенно, и влюбленные пары не моментально превращаются в моногамных партнеров. Обряды перехода или инициации и их современные аналоги — кусочки бумаги вроде паспорта или свидетельства о браке — позволяют третьим лицам решать, как вести себя в неочевидных ситуациях: относиться к человеку как к ребенку или взрослому, как к женатому или свободному — без бесконечного обсуждения разных мнений.
Но самая туманная из всех туманных категорий — стремления и намерения других людей. Действительно ли он — надежный член союза (которого я могу пустить в свой окоп) или предатель, который бросит в трудную минуту? С кем его сердце — с кланом его отца или с кланом его тестя? Не слишком ли эта женщина весела для вдовы или она просто пытается жить дальше? Он что, специально хамит или просто ему некогда? Обряды инициации, племенные опознавательные знаки, предписанные периоды траура, ритуализированные формы обращения могут не дать точного ответа на эти вопросы, но они способны рассеять облака подозрительности в отношениях между людьми.
Когда принятые нормы достаточно широко закреплены, они становятся своего рода реальностью, несмотря на то что существуют только в головах людей. В своей книге «Конструирование социальной реальности» (The Construction of Social Reality) — не путайте с социальным конструированием реальности — философ Джон Сёрль пишет, что некоторые факты являются объективной реальностью только потому, что люди ведут себя так, будто они ею являются[17]. Например, это факт, а не чье-то мнение, что Джордж Буш был 43-м президентом США, что О. Дж. Симпсон был признан невиновным в убийстве, что Boston Celtics выиграли чемпионат NBA в 1986 году и что к моменту написания этой книги бигмак стоил $2,62. Но хотя все это объективные факты, это не факты материального мира вроде атомного числа кадмия или того, что кит — это млекопитающее. Они состоят в общих для большинства членов сообщества представлениях — обычно в виде договоренностей о том, удостаивать (или нет) тех или иных людей власти или статуса.
Жизнь в сложных обществах построена на социальной реальности; самые очевидные образцы — деньги и правовые нормы. Но социальные факты полностью зависят от намерения людей относиться к ним, как к фактам. Это характерное качество общества, и мы видим тому примеры, когда люди отказываются доверять иностранной валюте или признавать власть самопровозглашенного лидера. Это свойство может вступать в реакцию с изменениями в коллективной психологии и привести к гиперинфляции и обесцениванию денег или к падению режима из-за массового неповиновения полиции и армии. (Сёрль утверждает, что Мао был только наполовину прав, когда говорил, что «политическая власть рождается из дула винтовки». Так как ни один режим не может нацелить по винтовке на каждого гражданина, политическая власть режима рождается из его способности внушать страх достаточному количеству людей одновременно.) Социальная реальность существует только внутри группы, но зависит она от познавательных способностей каждого индивидуума: его способности понять общественное соглашение, подтверждающее власть или статус, и соблюдать его в течение того же времени, что и другие.
Как психологическое событие (намерение, стремление, решение относиться определенным образом к определенному человеку) превращается в социокультурный факт — традицию, обычай, кредо, образ жизни? Когнитивный антрополог Дэн Спербер предлагает рассматривать культуру в терминах эпидемиологии психических представлений — распространения идей и обычаев от человека к человеку[18]. Ученые сегодня часто используют математические методы эпидемиологии (как распространяются заболевания) или популяционной биологии (как распространяются гены и организмы), чтобы смоделировать эволюцию культуры[19]. Они показали, как склонность человека присваивать изобретения других людей может привести к эффектам, описываемым с помощью метафор «эпидемия», «вспышка», «снежный ком» и «переломный момент». Так индивидуальная психология превращается в общую культуру.
* * *
Итак, культура — это набор полезных технологических и социальных инноваций, накапливаемых людьми и помогающих им выжить, а не коллекция случайных ролей и символов, выпадающих на их долю. Эта идея помогает объяснить, что же делает культуры похожими или, наоборот, отличающимися. Когда отделившаяся группа покидает племя и пересекает океан, горную гряду или ничейную территорию, инновации с одной стороны барьера не могут проникнуть на другую. Так как каждая группа изменяет свою коллекцию изобретений и соглашений, их набор в какой-то момент начинает отличаться, так же как и культура в целом. Даже если две группы оседают на небольшом расстоянии, но их отношения при этом враждебны, они могут поощрять отличающееся поведение, демонстрирующее, чью сторону занимает индивид, что дополнительно усиливает существующие различия. Это разделение и дифференциация наглядно видны в эволюции языков, возможно, самом очевидном образце культурной эволюции. Как подчеркивал Дарвин, эволюция языков очень похожа на происхождение видов, которое тоже часто происходит из-за деления популяции на две, в результате чего они развиваются по-разному[20]. Как языки и виды, культуры, разделенные недавно, похожи больше. Традиционные культуры Франции и Италии, например, гораздо ближе друг к другу, чем к культурам маори или гавайцев.
Психологические корни культуры также помогают объяснить, почему одни ее компоненты меняются, а другие остаются неизменными. Некоторые коллективные практики обладают огромной инерцией, потому что первому, кто попытается изменить их, придется заплатить высокую цену. Переход от левостороннего к правостороннему движению не может быть инициирован отдельным бунтовщиком или стихийным движением, но должен вводиться сверху (именно так и произошло в Швеции в пять утра в воскресенье, 3 сентября 1967 года). Другие примеры — разоружение в ситуации, когда враждебные соседи вооружены до зубов, отказ от привычной раскладки компьютерной клавиатуры или заявление, что король разгуливает без одежды.
Но традиционные культуры тоже способны меняться, и более серьезно, чем можно было бы подумать. Сохранение культурного разнообразия считается сегодня одной из важнейших ценностей, однако носители этого разнообразия не всегда с этим согласны. У людей есть нужды и желания, и, когда разные культуры сталкиваются, представители одной из них замечают, что соседи удовлетворяют те или иные потребности лучше, чем они сами. И, как учит история, когда замечают, они беззастенчиво перенимают то, что работает лучше. Культуры отнюдь не монолитны, они проницаемы и находятся в постоянном движении. И опять ярчайший пример — язык. Вопреки вечным сетованиям ревнителей его чистоты и усилиям языковых академий ни один живой язык не сохранился в том виде, в котором существовал столетия назад. Сравните современный английский с языком Шекспира или язык Шекспира с языком Чосера. Огромное количество других «традиций» возникло на удивление недавно. Предки евреев-хасидов не носили черных пальто и подбитых мехом шляп в ханаанских пустынях, а индейские племена с равнин не ездили на лошадях до прихода европейцев. Корни национальных кухонь тоже не так уж глубоки. Картошка в Ирландии, болгарский перец в Болгарии, помидоры в Италии, перец чили в Индии и Китае, маниока в Африке произошли от растений Нового Света и попали в свои «традиционные» страны уже после открытия Колумбом Америки[21].
Мысль, что культура — это инструмент для жизни, может объяснить даже тот факт, что привел Боаса к противоположному мнению: он считал культуру автономной системой идей. Самая очевидная разница между культурами на нашей планете — то, что одни из них более успешны в материальном плане, чем другие. В прошлом именно благодаря этой разнице европейские и азиатские культуры истребляли культуры Африки, Австралии, Америки и Тихого океана. Даже в самой Европе и Азии судьбы культур были очень разными: некоторые превратились в мощные цивилизации с искусством, наукой и технологиями высокого уровня, другие застряли в бедности и были не способны противостоять завоеванию. Что позволило небольшой группе испанцев пересечь Атлантику и покорить империи инков и ацтеков, почему не наоборот? Почему не африканские племена колонизировали Европу, а европейцы — Африку? Ответ можно дать не задумываясь — богатые колонизаторы обладали лучшими технологиями и более сложным политическим и экономическим устройством. Но это снова ставит перед нами вопрос, почему некоторые культуры развивают более сложный жизненный уклад, чем другие.
Боас помог нам перерасти расистские учения XIX века, связывавшие эту диспропорцию с уровнем биологической эволюции рас. Его последователи, в свою очередь, утверждали, что поведение обусловлено культурой, а культура существует отдельно от биологии[22]. К несчастью, этот взгляд не давал ответа на вопрос, почему культуры отличаются одна от другой так сильно, словно они — случайное порождение вавилонской лотереи. Более того, различия не только не объяснялись, но и замалчивалась, так как люди могли неверно интерпретировать наблюдение, что одни культуры технологически более развиты, чем другие, в духе морального суждения о превосходстве более развитых обществ. Но нетрудно заметить, что некоторые культуры действительно успешнее удовлетворяют актуальные для всех потребности, например здравоохранение и комфорт. Догма, что культуры разнятся по воле случая, — слабое опровержение мнения, что у некоторых рас есть нечто, необходимое для развития науки, технологии и государства, а у других — нет.
Но недавно двое исследователей, работавших независимо друг от друга, убедительно доказали, что нет необходимости обращаться к понятию расы для объяснения разницы культур. Оба пришли к этому заключению, отказавшись от «стандартной модели социальных наук», согласно которой культура — случайная система символов, существующая независимо от разума отдельных людей. В трилогии «Раса и культура» (Race and Culture), «Миграции и культуры» (Migration and Cultures), «Завоевания и культуры» (Conquests and Cultures) экономист Томас Сауэлл так описал отправную точку своего анализа культурных различий:
Культура — это не система символов, застывшая, словно бабочка в янтаре. Ее место не в музее, а в практической повседневной деятельности, где она развивается под давлением конкурирующих целей и других противоборствующих культур. Культуры не существуют как простые неизменные «отличия», которыми нужно гордиться, они соревнуются друг с другом как лучшие и худшие способы добиться результата. Лучшие или худшие не с точки зрения стороннего наблюдателя, а с точки зрения самих людей, которые пытаются справиться с трудностями и стремятся к своим целям через суровую реальность жизни[23].
Психолог Джаред Даймонд — сторонник эволюционной психологии и идеи согласования естественных и гуманитарных наук, в частности истории[24]. В своей книге «Ружья, микробы и сталь» (Guns, Germs and Steel) он отвергает общепринятое предположение, что история — это случайная последовательность событий, и пытается объяснить историю человечества на протяжении десятков тысячелетий в контексте экологии и эволюции человека[25]. Сауэлл и Даймонд убедительно обосновали мнение, что судьбы человеческих сообществ зависят не от расы, не от случайности, а от склонности человека пользоваться открытиями и изобретениями других людей и еще от превратностей географии и экологии.
Даймонд начал с самого начала. Бо́льшую часть своей эволюционной истории человек провел в качестве охотника-собирателя. Ловушки цивилизации: оседлый образ жизни, города, разделение труда, правительство, профессиональная армия, письменность, металлургия — все началось относительно недавно, около 10 000 лет назад с развитием сельского хозяйства. Сельское хозяйство зависит от растений, которые можно культивировать, и животных, которых можно приручить и использовать, и лишь немногие виды пригодны для этого. И так случилось, что эти растения и животные сконцентрированы всего в нескольких регионах мира, включая «плодородный полумесяц» на Ближнем Востоке, Китай, Центральную и Южную Америку. Первые цивилизации возникли именно в этих местах.
С тех пор судьбу цивилизаций определяла география. Даймонд и Сауэлл обращают внимание, что самый большой континент, Евразия, стал огромным накопительным резервуаром новшеств и изобретений. Торговцы, странники, завоеватели собирали и распространяли их, и люди, жившие на перекрестках больших дорог, могли аккумулировать и объединять новые знания. Кроме того, Евразия тянется с востока на запад, а Африка и обе Америки — с севера на юг. Растения и животные, одомашненные в одном регионе, легко могут распространяться вдоль параллелей, в места с похожим климатом. Но они не могут с такой же легкостью распространяться вдоль меридианов, где дистанция в несколько сотен миль может означать разницу между умеренным и тропическим климатом. Лошади, одомашненные в азиатских степях, например, могли перебраться западнее, в Европу, и восточнее, в Китай, но ламы и альпаки, прирученные в Андах, не достигли Мексики, и цивилизации инков и майя обходились без вьючных животных. До недавнего времени в этих регионах транспортировка тяжелых грузов на большие расстояния (а вместе с ними — торговцев и новых идей) была возможна только по воде. Ландшафт Европы и Азии, к счастью для местных жителей, изобилует горами и долинами, а значит, и пригодными для судоходства реками с естественными гаванями. Африке и Австралии не повезло.
Так что Евразия завоевала мир не потому, что евразийцы умнее, а потому, что благодаря природным условиям им удалось в полной мере воспользоваться преимуществами принципа «Одна голова хорошо, а две — лучше». «Культура» любой нации-завоевателя, например Британии, на самом деле представляет собой коллекцию величайших изобретений, собираемых тысячелетиями на территориях в тысячи миль. В этой коллекции — зерновые культуры и алфавитное письмо со Среднего Востока, порох и бумага из Китая, одомашненные лошади с Украины и многое другое. Но вынужденно изолированным культурам Австралии, Африки и Америки приходилось выживать с небольшим количеством местных технологий, и они не могли сравняться со своими завоевателями. Даже в границах Евразии (и позже в Америке) культуры, отрезанные от остальных высокими горами, например Аппалачами, Балканами или Шотландским высокогорьем, веками отставали от своих соседей, контактировавших друг с другом.
Тасмания — яркий пример, пишет Даймонд. Тасманцы, в XIX веке почти полностью истребленные европейцами, были самым технологически примитивным народом в истории. В отличие от австралийских аборигенов, тасманцы не умели разводить огонь, не знали бумерангов и копьеметалок, каменных орудий, топоров с рукояткой, каноэ и швейных игл и даже рыболовства. Удивительно, но археологические раскопки показывают, что предки тасманцев, переселившиеся из Австралии 10 000 лет назад, обладали всеми этими технологиями. Но затем перешеек, соединявший Австралию и Тасманию, погрузился под воду, и остров оказался отрезанным от остального мира. Даймонд рассуждает о том, что любые технологии в какой-то момент могут быть утеряны культурой. Возможно, из-за нехватки материалов для изготовления каких-то вещей люди перестали их делать. Возможно, все умельцы племени одновременно стали жертвами ужасного шторма. Возможно, какие-то доисторические луддиты или аятоллы по какой-то нелепой причине наложили табу на технологии. Если это случается в культуре, связанной с другими, утраченные технологии могут быть восстановлены, когда люди захотят достичь более высокого уровня жизни, каким пользуются их соседи. Но в изолированной Тасмании людям приходилось бы изобретать пресловутое колесо заново всякий раз, когда оно терялось, так что их благосостояние неуклонно падало.
Особенно парадоксально в «стандартной модели социальной науки» то, что она оказалась не способна достичь той цели, ради которой, собственно, и была создана: объяснить разную судьбу человеческих культур, не обращаясь к понятию расы. Лучшее объяснение сегодня — полностью «культурное», но оно основано на нашем взгляде на культуру как на продукт человеческих стремлений, а не как на нечто определяющее их.
* * *
Получается, что история и культура опираются на психологию, которая, в свою очередь, основывается на информатике, нейронауках, генетике и эволюции. Но подобная постановка вопроса включает сигнал тревоги в головах дилетантов. Они боятся, что «согласование» — всего лишь дымовая завеса, за которой коварные филистимляне в белых халатах захватывают власть в гуманитарных, социальных науках и искусстве. Они боятся, что все богатство изучаемого предмета будет сведено к обычной болтовне о нейронах, генах и эволюционных мотивах. Этот сценарий часто называют «редукционизмом», и я завершу главу объяснением, почему «согласование» к этому не призывает.
Редукционизм — как холестерин, он бывает плохим и хорошим. Плохой редукционизм, также именуемый жадным или деструктивным, заключается в попытке объяснить явление с точки зрения его мельчайших и простейших составляющих. Жадный редукционизм — не соломенное чучело, я знаю нескольких ученых, которые верят (или, по крайней мере, говорят так агентствам, распределяющим гранты), что мы совершим прорыв в образовании, разрешении конфликтов и других социальных проблем, изучая биофизику мембран нервных клеток или молекулярную структуру синапса. Но жадный редукционизм далек от точки зрения большинства, и легко показать, почему он ошибочен. Как сказал философ Хилари Патнэм, даже тот простой факт, что квадратной пробкой нельзя заткнуть круглую дырку, необъясним на уровне молекул и атомов и требует более высокого уровня анализа, учитывающего геометрию и жесткость (независимо от того, что именно делает пробку жесткой)[26]. А если кто-то всерьез думает, что социология, литература и история могут быть сведены к биологии, почему бы не пойти дальше? Биология основывается на химии, химия — на физике, и попробуйте теперь объяснить причины Первой мировой войны с точки зрения электронов и кварков. Даже если Первая мировая есть не более чем очень, очень большое количество кварков на очень, очень сложных траекториях движения, никакого открытия это утверждение нам не подарит.
Смысл хорошего редукционизма (называемого также иерархическим) не в замещении одной области знаний другой, а в их соединении или унификации. Строительные блоки одной области рассматриваются под микроскопом в другой. «Черные ящики» открываются, вексели обналичиваются. Географ может объяснить, почему береговая линия Африки совмещается с береговой линией Америки, тем, что некогда эти континенты были соединены, однако лежали на разных тектонических плитах и позже разошлись. Вопрос, почему плиты движутся, переходит к геологам, а они расскажут нам о том, как магма поднялась и оттолкнула плиты друг от друга. А за ответом на вопрос, почему магма стала такой горячей, мы обратимся к физикам, и те опишут процессы, происходящие в земном ядре и мантии. Из этой цепи нельзя убрать ни одного звена. Географ сам по себе мог бы объяснить движение континентов разве что магией, а физик не смог бы предугадать форму побережья Южной Америки.
Именно так строится мост между биологией и культурой. Великие деятели наук о человеческой природе непреклонны в своем убеждении, что психическую жизнь можно познать, если рассматривать ее на нескольких уровнях анализа, а не только на низшем биологическом. Лингвист Ноам Хомский, специалист по вычислительной нейронауке Дэвид Марр и этолог Нико Тинберген независимо друг от друга описали уровни анализа, необходимые для понимания возможностей разума. Это функции разума (чего он достигает в ультимальном, эволюционном смысле); его операции в реальном времени (как он работает проксимально, в каждый конкретный момент); как он встроен в ткани мозга; как он развивается у отдельного человека; и как он эволюционирует у биологического вида[27]. Например, язык основан на комбинаторной грамматике, предназначенной для того, чтобы передавать бесконечное число мыслей. Он используется людьми в реальном времени, задействуя массив памяти и применяя правила языка. Языковой центр находится в центре левого полушария, которое координирует память, планирование, значения слов и грамматику. Язык развивается в первые три года жизни от лепета к отдельным словам и словосочетаниям, в процессе неизбежны ошибки в применении правил. Он эволюционирует путем приспособления голосовых путей и структур мозга (которые у ранних приматов имели другое предназначение), поскольку эти изменения позволили нашим предкам использовать преимущества социально связанного, насыщенного знаниями образа жизни. Ни один из этих уровней понимания не может быть заменен другим, и ни один не может быть до конца понят без обращения к остальным.
Хомский отделил все эти уровни анализа от еще одного (к которому сам почти не обращался, но другие ученые рассматривают). Согласно вышеописанной точке зрения, язык — это внутренняя индивидуальная категория, как, например, мое владение канадским вариантом английского языка. Но язык также можно рассматривать как внешнюю категорию: «английский язык» как целое, с его полуторатысячелетней историей, бесконечным количеством диалектов и гибридных вариантов по всему миру и полумиллионом слов в Большом Оксфордском словаре. Внешний язык — это абстракция, объединяющая внутренние языки сотен миллионов человек, живущих в разных местах и живших в разные времена. Он не может существовать без этих внутренних языков в умах реальных людей, общающихся друг с другом, но его нельзя свести и к тому, что знает каждый из них. Например, утверждение «Словарный запас английского языка больше, чем японского» может быть верным, даже если мы не найдем ни одного конкретного носителя английского, чей словарный запас окажется больше, чем у любого человека, говорящего на японском языке.
Английский язык был сформирован важными историческими событиями, и происходили они не в отдельных головах. В Средние века скандинавское и нормандское завоевания Англии обогатили язык неанглосаксонскими словами; «великий сдвиг гласных», случившийся в XV веке, редуцировал произношение долгих гласных и превратил транскрипцию слов в путаницу без правил; расширение Британской империи породило американский, австралийский, сингапурский варианты английского; а развитие глобальных электронных медиа может снова гомогенизировать язык, потому что все мы листаем одни и те же страницы в интернете и смотрим одни и те же телешоу.
При этом ни одну из этих перемен невозможно понять, не принимая во внимание мыслительные процессы людей из плоти и крови. Такими людьми были бритты, переосмыслившие французские слова, ставшие частью английского языка; дети, которые не могли запомнить форму прошедшего времени неправильных глаголов вроде writhe-wrothe и crow-crew и превратили их в правильные; аристократы, нарочито манерно произносившие слова, чтобы подчеркнуть разницу между собой и чернью; косноязычные, проглатывавшие согласные и оставившие нам made и had вместо maked и haved; а также умники, которые впервые вместо «I had the house built» стали говорить «I had built the house» и подарили английскому языку совершенное время глагола. Язык воссоздается заново каждым поколением, проходя через головы людей, говорящих на нем[28].
Внешний язык, конечно, прекрасный пример культуры, родной дом для социологов и гуманитариев. Способы понимания языка на нескольких различных взаимосвязанных уровнях анализа — от мозга и эволюции до индивидуальных когнитивных процессов и до больших культурных систем — показывают, как могут быть связаны культура и биология. Возможности установления связей между другими областями человеческого знания безграничны, и мы не раз встретимся с ними в этой книге. Нравственное чувство может пролить свет на правовые и этические коды. Психология родственных связей помогает понять социополитическое устройство общества. Ментальность агрессии помогает увидеть смысл войн и разрешения конфликтов. Разница между полами имеет отношение к гендерной политике. Человеческие эмоции и представления о прекрасном могут пролить свет на наше понимание искусства.
Какова же польза от соединения социального и культурного уровней анализа с психологическим и биологическим? Это захватывающие дух открытия, которые никогда не могли бы быть сделаны в рамках отдельных дисциплин, такие, как универсалии красоты, логика языка и компоненты нравственного чувства. И это беспрецедентно глубокое понимание, подобное тому, что уже подарила нам унификация других наук: теперь мы знаем, что мускулы сокращаются благодаря мельчайшим магнитным колебаниям, что цветок — приманка для насекомых, что радуга — это спектральное разложение белого света. Это разница между коллекционированием марок и детективным расследованием, между жонглированием терминами и проникновением в суть вещей, между заявлением, что нечто существует просто потому, что существует, и объяснением, почему оно должно существовать именно так, а не иначе. В пародийном ток-шоу «Летающий цирк Монти Пайтона» эксперт по динозаврам трубит о своей новой теории о бронтозаврах: «Все бронтозавры тонкие с одного конца, намного толще в середине и снова сужаются к другому концу». Мы смеемся, потому что героиня сюжета ничего на самом деле не объяснила, не вникла в суть. Даже само слово «вникнуть» (буквально — «проникнуть внутрь») намекает на необходимость более глубокого анализа.
Наше понимание жизни только обогатилось благодаря открытию, что живая материя состоит из молекулярных механизмов, а не из вибрирующей протоплазмы и что птицы летают, используя законы физики, а не нарушая их. Точно так же и наше понимание самих себя и наших культур только обогатится знанием, что психика — это сложные нейронные сети, предназначенные для мышления, чувствования и научения, а не «чистый лист», бесформенная масса или непостижимый дух.
Глава 5. Последняя линия обороны «чистого листа»
Природа человека — это научная тема, и с появлением новых фактов наши представления о ней меняются. Порой факты могут показать, что существующая теория приписывает нашему разуму слишком много врожденных структур. Например, вполне возможно, что наши языковые способности экипированы не готовыми категориями существительных, глаголов, определений и предлогов, а только умением различать в речи слова, похожие на глаголы, и слова, похожие на существительные. А иногда оказывается, что теория приписывает нашему разуму недостаточно врожденных черт. Ведь по-прежнему ни одна из существующих теорий личности не может объяснить, почему оба генетически идентичных близнеца из разлученной пары любят носить резиновые браслеты и притворно чихать в переполненном лифте.
Ждет своего решения и вопрос, как именно разум использует информацию, поступающую от органов чувств. Когда способности к языку и социальному взаимодействию включаются в работу, некоторые виды научения могут представлять собой просто запоминание информации (имени человека или содержания нового законодательного акта) на будущее. Другие могут больше напоминать регулировку шкалы, переключение рычажков или вычисление средних величин, где механизм присутствует, а характеристики не предопределены, так что разум может отслеживать их в конкретной среде. Третьи, возможно, используют стандартную информацию, поступающую от окружающей среды, такую как наличие гравитации или данные о цветах и линиях в зрительном поле для настройки сенсомоторных систем. Существует множество других способов взаимодействия врожденного и приобретенного, и поэтому провести между ними четкую границу сложно.
Эта книга исходит из предположения, что, какой бы ни оказалась точная картина, универсальная сложная природа человека будет ее частью. Я думаю, что у нас есть все основания считать, что разум оснащен набором эмоций, побуждений, способностей к мышлению и коммуникации и что в любой культуре они подчиняются общей логике, их трудно стереть или кардинально изменить, они сформированы естественным отбором на протяжении эволюции человека и обязаны своим базовым дизайном (и некоторыми его вариациями) информации, записанной в геноме. Эта общая картина должна включать все разнообразие теорий, нынешних и будущих, и ряд ожидаемых научных открытий.
Но она не может вместить любую теорию или открытие. Может случиться, ученые узнают, что информации в геноме недостаточно, чтобы определить каждую врожденную структуру, или же найдут неизвестный механизм, с помощью которого информация может записываться в мозге. Или они могут обнаружить, что мозг сделан из самого универсального материала, который может принимать практически любые виды сенсорных сигналов и перестраивать себя для достижения практически любых целей. В первом случае открытия сделали бы врожденную организацию мозга невозможной, в последнем — необязательной. Эти открытия способны поставить под вопрос само понятие человеческой природы. Кроме моральных и политических возражений в отношении природы человека (которые я рассмотрю в последующих главах), могут возникнуть и научные возражения. И если подобные открытия уже на горизонте, стоит присмотреться к ним внимательнее.
Эта глава посвящена трем научным достижениям, которые часто интерпретируют как подрывающие саму возможность существования сложной человеческой природы. Первое — проект «Геном человека». Когда в 2001 году была опубликована расшифрованная последовательность человеческого генома, генетики были удивлены, что генов в нем куда меньше, чем предполагалось. Их количество колеблется в пределах 34 000, что никак не вписывается в ожидавшиеся 50 000–100 0001. Авторы газетных передовиц сделали вывод, что этот факт опровергает любые утверждения о врожденных талантах или склонностях, поскольку на маленькой табличке не уместится большое количество записей. Некоторые даже посчитали это доказательством концепции свободы воли: чем меньше механическая часть, тем больше места для духа.
Второй вызов бросает использование компьютерных моделей нейронных сетей для объяснения когнитивных процессов. Эти искусственные нейронные сети часто достигают больших успехов в выделении статистических свойств обучающего множества. Некоторые разработчики моделей, принадлежащие к школе когнитивистов, называемой коннекционизмом, предполагают, что обычные нейронные сети могут полностью объяснить человеческое познание, практически не нуждаясь в предварительной настройке конкретных способностей, таких как социальное мышление или речь. Во второй главе мы познакомились с основателями коннекционизма Дэвидом Румельхартом и Джеймсом Маклелландом, считавшими, что люди умнее крыс только потому, что их ассоциативная кора больше, и потому, что их среда включает культуру.
Третий вызов исходит от исследований нейропластичности, которые изучают, как развивается мозг в утробе и раннем детстве и как он фиксирует опыт в процессе научения. Нейроученые недавно показали, как меняется мозг в ответ на научение, тренировку и информацию, поступающую от органов чувств. Один из подходов к интерпретации этих открытий можно назвать экстремальной пластичностью. В соответствии с ним кора больших полушарий — извилистое серое вещество, ответственное за восприятие, мышление, речь и память, — белковая субстанция, которая может практически бесконечно изменяться под воздействием окружающей среды и предъявляемых ею требований. «Чистый лист» превращается в пластичный лист.
Коннекционизм и экстремальная пластичность популярны среди когнитивистов Западного полюса, отвергающих «девственно-чистый лист», но желающих свести врожденную организацию к простым настройкам внимания и памяти. Экстремальная пластичность привлекает и нейроученых, желающих повысить значимость своих исследований для образования и социальной политики, и предпринимателей, продающих товары для раннего развития, для излечения неспособных к обучению или для замедления старческой деменции. Вне академических кругов эти три направления поддерживаются некоторыми гуманитариями, желающими отразить атаки биологии[2]. Бедный геном, коннекционизм и экстремальная пластичность — последняя линия обороны «чистого листа».
Цель этой главы — доказать, что подобные заявления не подтверждение доктрины «чистого листа», а ее продукт. Многие люди (включая и некоторых ученых) читают исследования выборочно, иногда самым странным образом приспосабливая их к своему исходному представлению об отсутствии каких-либо врожденных структур или упрощенным представлениям о том, как эти структуры, если они вообще есть, могут кодироваться генами и развиваться в мозге.
Для начала я бы сказал, что нахожу эти «новейшие и лучшие» теории «чистого листа» совершенно неправдоподобными, и более того — лишенными внутренней логики. Из ничего не родится ничего, и сложность мозга должна откуда-то браться. Она не может происходить только из окружающей среды, потому что сам смысл наличия мозга в том, чтобы достигать определенных целей, а окружающая среда понятия о целях не имеет. Окружающая среда может дать пристанище существам, которые строят дамбы; мигрируют, сверяясь со звездами; щебечут и выводят трели, чтобы произвести впечатление на противоположный пол; метят деревья; пишут сонеты и т. д. Для одного биологического вида фрагмент человеческой речи — сигнал к бегству, для другого — интересный новый звук, который стоит интегрировать в собственный вокальный репертуар, для третьего — материал для грамматического анализа. Информация из внешнего мира не сообщает вам, что с ней делать.
И ткани мозга — это не сказочный джинн, способный подарить своему обладателю любой талант, какой только может пригодиться. Это физический механизм, строение материи, которая определенным образом конвертирует данные на входе в данные на выходе. Одна универсальная субстанция должна быть способна видеть вдаль, контролировать руки, привлекать партнера, растить детей, избегать хищников, обманывать жертву и т. д. Без некоторого уровня специализации это просто невозможно. Говорить, что мозг решает эти задачи благодаря своей «пластичности», ничем не лучше, чем утверждать, что он решает их с помощью магии.
Итак, в этой главе я внимательно рассмотрю недавние научные возражения против концепции человеческой природы. Каждое из открытий важно по-своему, даже если оно и не поддерживает вышеописанных экстравагантных выводов. И когда будет дана оценка последним аргументам в защиту «чистого листа», я смогу должным образом изложить научное обоснование альтернативной теории.
* * *
Геном человека часто рассматривается как суть нашего вида, так что неудивительно, что, когда в 2001 году его последовательность была опубликована, комментаторы наперебой кинулись интерпретировать его применительно к человеческим делам. Крейг Вентер, чья компания соревновалась с международным консорциумом в гонке секвенирования генома, сказал на пресс-конференции, что меньшее, чем ожидалось, число генов показывает: «У нас просто нет достаточного их количества, чтобы оправдать идею биологического детерминизма. Удивительное разнообразие человеческого вида не запрограммировано в нашем генном коде. Окружающая среда — вот что важно». Британская газета The Gardian озаглавила статью об этом так: «Секрет поведения человека раскрыт: не гены, а окружение — ключ к пониманию наших действий»[3]. Передовица в другой британской газете заключала, что, «кажется, мы более свободны, чем мы думали». Более того, открытие якобы «поддерживает левых, с их верой в равный потенциал каждого, независимо от происхождения. Но губительно для правых, с их уважением к правящим классам и первородному греху»[4].
И все эти выводы сделаны из одной-единственной цифры 34 000! Возникает вопрос: а какое количество генов доказало бы, что разнообразие человеческого вида записано в нашем генетическом коде или что мы менее свободны, чем предполагали, и что правые правы, а левые ошибаются? 50 000? 150 000? С другой стороны, если бы оказалось, что у нас только 20 000 генов, сделало бы это нас еще более свободными, влияние среды еще более важным, а левых политиков еще более влиятельными? Правда в том, что никто на самом деле не знает, что значат эти числа. У нас нет ни малейшего представления о том, сколько генов необходимо, чтобы построить систему жестко запрограммированных модулей, или, напротив, общецелевую обучающуюся программу, или что-нибудь среднее — и уж точно их число ничего не говорит о первородном грехе или превосходстве правящих классов. Пока мы не знаем, как гены строят мозг, их количество в геноме — это только число.
Если вы не верите в это, подумайте о круглом черве Caenorhabditis elegans. У него около 18 000 генов. По логике авторов статей о геноме, червь должен быть в два раза свободнее человека, вдвое превосходить его с точки зрения многообразия и иметь удвоенный потенциал. На самом деле эта микроскопическая нематода состоит из 959 клеток, выращенных по жесткой генетической программе, с нервной системой из 302 нейронов, связанных по заранее установленной схеме. Если говорить о поведении, она ест, размножается, движется в направлении одних запахов, избегая других, — и все. Одно это может подтвердить, что нашей свободой и разнообразием поведения мы обязаны сложности нашей биологической организации, а не ее простоте.
Почему человек, с его сотнями триллионов клеток и сотнями миллиардов нейронов, обходится всего в два раза большим количеством генов, чем скромный маленький червь, — настоящая загадка. Многие биологи думают, что геном человека посчитан не до конца. Число генов в геноме может быть названо только приблизительно. Сейчас их невозможно подсчитать точно. Программы подсчета генов ищут те участки ДНК, что похожи на уже известные гены и достаточно активны для того, чтобы можно было поймать их в момент кодирования белка[5]. Гены, имеющиеся только у человека, гены, активные только в развивающемся мозге плода, — наиболее важные для человеческой природы, и другие, не привлекающие к себе внимания, могут остаться незамеченными и ускользнуть от подсчета. Сейчас говорят о цифрах в 57 000, 75 000 или даже 120 000 генов[6]. И тем не менее, даже если у человека не в два, а в шесть раз больше генов, чем у нематоды, загадку это не решит.
Большинство биологов, занимающихся данной проблемой, не считают, что люди менее сложны, чем принято думать. Вместо этого они делают вывод, что число генов в геноме не влияет напрямую на сложность организма[7]. Единичный ген не связан с единичным компонентом таким образом, что организм с 20 000 генов имеет 20 000 составных частей, а организм с 30 000 генов — 30 000 и т. д. Гены кодируют белки, и некоторые белки строят плоть и кровь организма. Но другие белки занимаются более интересными делами — включают и выключают гены, ускоряют или замедляют их активность, разрезают другие белки и склеивают их в новые комбинации. Джеймс Уотсон говорит, что мы должны пересмотреть свое интуитивное представление о том, что может делать определенное количество генов: «Представьте, что вы смотрите пьесу, в которой играют 30 000 актеров. Есть от чего прийти в замешательство».
В зависимости от взаимодействия генов процесс сборки одного организма может быть гораздо более сложным, чем другого, несмотря на то что генов у них одинаковое количество. В простых организмах гены только строят белок и бросают его в общий котел. У сложных организмов первый ген может включить второй, который усилит активность третьего (но только при условии, что активен четвертый), а он уже выключит первый (если только пятый не активен) и т. д. Это объясняет, каким образом можно построить более сложный организм, пользуясь тем же количеством генов. Поэтому сложность организма зависит не от числа генов, а от количества стрелок в диаграмме, отражающей, как каждый ген влияет на активность других[8]. И так как добавить один ген значит не просто добавить единственный ингредиент, но умножить количество способов взаимодействия между ними, сложность организма зависит от числа возможных комбинаций активных и неактивных генов в геноме. Генетик Жан-Мишель Клавери предположил, что количество этих комбинаций можно оценить, возведя число 2 (позиции активный/неактивный) в степень, равную количеству генов. По этим оценкам, сложность человеческого генома не в 2, а в 216 000 раз (число с 4800 нулями) превышает сложность генома круглого червя[9].
Есть еще две причины, почему число генов в геноме не отражает его сложности. Первая: конкретный ген может продуцировать несколько белков, а не один. Обычно гены рассеяны по ДНК: кодирующие отрезки гена (экзоны) перемежаются некодирующей ДНК (интронами), примерно как статья в журнале прерывается рекламными объявлениями. Сегменты гена, таким образом, могут склеиваться между собой по-разному. Ген, составленный из экзонов А, В, С и D, может кодировать белки АВС, АВD, АСD и т. д. — до десяти различных видов белка на один ген. В сложных организмах такое происходит гораздо чаще, чем в простых[10].
Вторая причина состоит в том, что 34 000 генов — это только 3 % человеческого генома. Остальное — ДНК, которая не кодирует белок и которую не учитывают, как «мусор». Но, как сказал недавно один биолог, «термин "мусорная ДНК"» лишь отражение нашего невежества»[11]. Размер, расположение и содержание некодирующей ДНК могут значительно влиять на активацию соседних с ней генов, кодирующих белки. Информация, записанная в миллиардах некодирующих участков генома — часть характеристики человека, и гораздо большая, чем та, что записана в 34 000 генов.
Итак, человеческий геном абсолютно точно способен построить сложный мозг, невзирая на нелепые заявления о том, как прекрасно, что человек почти так же прост, как круглый червь. Конечно, «удивительное разнообразие человеческого вида не запрограммировано в нашем генетическом коде», но нам не нужно считать гены, чтобы это понять, мы уже знаем это хотя бы из того факта, что ребенок, выросший в Японии, говорит по-японски, и тот же ребенок говорил бы по-английски, если бы вырос в Англии. Вот пример синдрома, который мы будем встречать повсюду в этой книге: научные открытия искажаются до неузнаваемости, чтобы вложить в них нравственный смысл, достичь которого было бы гораздо легче на другой почве.
* * *
Второе научное направление, обеспечивающее поддержку «чистому листу», — коннекционизм, теория, что мозг подобен искусственным нейронным сетям, смоделированным на компьютерах и обучающимся путем выделения статистических паттернов[12].
Когнитивисты согласны, что элементарные процессы, составляющие набор инструкций для мозга — хранение и извлечение ассоциаций, определение последовательности элементов, фокусировка внимания, — встроены в него в виде цепей тесно связанных между собой нейронов (клеток мозга). Вопрос в том, может ли такая сеть самого общего вида, подвергнутая воздействию окружающей среды, объяснить человеческую психологию в целом, или геном создает различные сети для разных областей, таких как язык, зрение, мораль, страх, вожделение, интуитивная психология и т. д. Коннекционисты, разумеется, не верят в «чистый лист», но они верят в его ближайший эквивалент — неспециализированный механизм научения.
Что такое нейросеть? Коннекционисты называют так не реальные нейронные связи в мозгу, а вид компьютерной программы, построенной по аналогии с нейронами и их связями. В самом общем виде «нейроны» передают информацию, будучи более или менее активными. Уровень активности показывает наличие или отсутствие (или интенсивность или степень достоверности) какого-либо простого свойства окружающего мира. Это может быть цвет, линия, расположенная под определенным углом, буква алфавита или свойство животного, например наличие четырех ног.
Сеть нейронов может представлять различные понятия в зависимости от того, какие именно нейроны активны. Если это нейроны для «желтого», «летающего» и «поющего» — сеть думает о канарейке; если для «серебряного», «летающего», «рычащего» — сеть думает о самолете. Искусственные нейронные сети работают так: одни нейроны соединены с другими нейронами связями, имитирующими синапсы. Каждый нейрон считывает входные данные с других нейронов и в ответ меняет собственный уровень активности. Сеть учится, позволяя входным сигналам менять силу нейронных связей. Сила связей определяет вероятность того, будут ли нейроны ввода возбуждать или подавлять нейроны вывода.
В зависимости от того, за что отвечают нейроны, каким образом они связаны изначально и как связи меняются в процессе обучения, коннекционистская сеть может научиться вычислять разные вещи. Если каждый нейрон соединен со всеми прочими, сеть может выделить связи между отдельными свойствами и объединить их в класс объектов. Например, после предъявления описаний множества птиц она может предположить, что поющие объекты с перьями, вероятно, умеют летать, или что летающие объекты, покрытые перьями, поют, или что поющие летающие объекты обычно покрыты перьями. Если слой нейронов ввода связан со слоем нейронов вывода, сеть научится ассоциировать понятия, например: мягкие маленькие летающие объекты — это животные, а большие металлические летающие объекты — транспортные средства. Если слой вывода имеет обратную связь с предыдущими слоями, сеть может штамповать упорядоченные последовательности, например звуки, создающие слово.
Привлекательность нейронных сетей в том, что они автоматически распространяют усвоенные знания на новые похожие объекты. Если сеть научили, что тигры едят глазированные хлопья, она будет склонна к обобщению, что львы тоже едят глазированные хлопья, потому что «поедание глазированных хлопьев» ассоциировано не с «тиграми», а с более простыми характеристиками, вроде «рычания» и «усов», которые относятся и ко львам тоже. Коннекционистская школа, как и школа ассоцианизма Локка, Юма и Милля, доказывает, что в этих обобщениях состоит суть интеллекта. Если это так, то обученная — но в остальном обычная — нейронная сеть может объяснить разум.
Специалисты по компьютерным моделям часто применяют их к упрощенным задачам, чтобы доказать, что они могут работать в принципе. Вопрос тогда ставится так: можно ли масштабировать эти модели для решения более реалистичных задач или, как говорят скептики, исследователи «лезут на дерево, чтобы достать луну»? В этом и состоит проблема коннекционизма. Простые коннекционистские сети могут убедительно демонстрировать память и способность к обобщениям в простых задачах, таких как чтение списка слов или запоминание общих свойств животных. Но им не хватает мощности, чтобы воспроизвести реальные способности человеческого интеллекта, например понять смысл предложения или рассуждать о живых существах.
Люди не просто свободно ассоциируют похожие друг на друга вещи или вещи, которые часто появляются одновременно. Их разумы комбинаторны, они учитывают утверждения, что верно для чего и кто, что, кому, где, когда и зачем сделал. Это требует вычислительной конфигурации гораздо более сложной, чем стандартное переплетение нейронов в неспециализированных коннекционистских сетях. Конфигурации, оборудованной логическим аппаратом: правилами, переменными, утверждениями, состояниями цели и различными видами структур данных, организованных в системы высшего уровня. На эту проблему обращали внимание многие когнитивисты, в том числе Гари Маркус, Марвин Мински, Сеймур Паперт, Джерри Фодор, Зенон Пилишин, Джон Андерсон, Том Бивер и Роберт Хадли. Ее признают и исследователи нейронных сетей, не принадлежащие к коннекционистской школе, например Джон Хаммел, Локендрой Шастри и Пол Смоленски[13]. Я сам много писал об ограничениях коннекционизма и в своих исследованиях, и в популярной литературе и ниже подвожу итог моих собственных рассуждений[14].
В книге «Как работает мозг» (How the Mind Works) в разделе под названием «Коннектоплазма» я описываю некоторые простые логические взаимосвязи и способности, лежащие в основе нашего понимания завершенной мысли (такой, как смысл предложения), которые сложно реализовать с помощью неспециализированных сетей[15]. Одна из них — различение видовых и индивидуальных свойств, таких как разница между утками вообще и конкретной уткой. Обе имеют общие черты (плавают, крякают, покрыты перьями и т. д.), и обе, таким образом, представлены одним и тем же набором активных элементов стандартной коннекционистской модели. Но люди знают, в чем разница.
Второй человеческий талант — композиционность: способность понимать новые сложные соображения, которые не являются суммой простых мыслей, но зависят от их отношений. Например, мысль, что кошки ловят мышей, нельзя понять, активируя по отдельности каждый элемент: «кошки», «мыши» и «ловить», потому что так мы легко придем к заключению, что это мыши ловят кошек.
Третий логический талант — квантификация, связывание переменных: например, разница между одурачиванием некоторых людей все время или всех людей некоторое время. Без вычислительного эквивалента для иксов и игреков, без понимания утверждений вида «для любого икс» коннекционистская модель не увидит разницы между приведенными высказываниями.
Четвертый — рекурсия: способность встроить одну мысль внутрь другой, так что мы можем понимать не только утверждение, что Элвис жив, но и мысль, что National Enquirer сообщил, что Элвис жив, или что некоторые люди верят сообщению журнала National Enquirer, что Элвис жив, или что это удивительно, но некоторые люди верят сообщению журнала National Enquirer, что Элвис жив, и т. д. Коннекционистские сети будут напластовывать эти утверждения и запутаются в подлежащих и сказуемых.
И последний ускользающий от коннекционистских моделей талант — наша способность оперировать категориями в противовес неопределенным размышлениям. Это помогает нам понять, что Боб Дилан — дедушка, хотя он и не выглядит как типичный дедушка, или что землеройка — не грызун, хотя и очень похожа на мышь. Не имея ничего, кроме супа из нейронов для фиксации свойств объекта, и без запаса правил, переменных и определений сеть оперирует стереотипами и сбивается с толку нетипичными примерами.
В книге «Слова и правила» (Words and Rules) я целенаправленно изучаю единственный феномен языка, который служит проверкой для способности неспециализированных ассоциативных сетей ухватывать самую его суть: составление новых комбинаций из слов или частей слов. Люди не просто запоминают отрывки речи, они создают нечто новое. Простой пример — прошедшее время. Услышав неологизм вроде «спамить» или «гуглить», человек не полезет в словарь, чтобы узнать форму прошедшего времени этих глаголов. Он инстинктивно знает, что правильно — «спамил» и «гуглил». Способность создавать новые комбинации появляется очень рано, в возрасте двух лет, когда англоязычные, например, дети порой неверно образуют прошедшее время, без надобности добавляя окончание — ed к неправильным глаголам, как в «We holded the baby rabbit» и «Horton heared a Who»[16].
Очевидный способ объяснить этот талант — обратиться к двум видам вычислительных операций, осуществляемых в уме. Неправильные формы вроде held и heard хранятся в памяти и извлекаются из нее, подобно любому другому слову. Правильные формы, такие как walk-walked, создаются в уме с помощью грамматического правила о добавлении «-ed» к глаголу. Правило применяется, когда память не может помочь, например, когда слово незнакомо и форма его прошедшего времени не хранится в памяти, как в случае с неологизмами, или когда ребенок не может вспомнить неправильную форму, как в случае с «heard», а обозначить прошедшее время необходимо. Присоединение суффикса к глаголу — маленький пример важного человеческого таланта: умения комбинировать слова и фразы, чтобы создавать новые предложения и выражать ими новые мысли. Это одна из свежих идей когнитивной революции, о которых я писал в третьей главе, и один из логических вызовов коннекционизму, перечисленных мной в предшествующей дискуссии.
Коннекционисты использовали прошедшее время как опытный полигон, проверяя, смогут ли они повторить этот хрестоматийный пример человеческой креативности без использования правил и без разделения труда между системой памяти и системой грамматического комбинирования. Серии компьютерных моделей пытались образовывать формы прошедшего времени, используя простые сети сопоставления данных. Эти сети обычно связывают звуки в глаголе со звуками формы прошедшего времени: — am с — ammed, — ing с — ung и т. д. Затем модель может создавать новые формы по аналогии, вроде того как создается обобщение тигров со львами: модель, обученная на слове «crammed», может угадать «spammed», а на слове «folded» — способна сказать «holded».
Но, когда говорят люди, они не просто ассоциируют звуки со звуками, а делают гораздо большее, так что модели не могут за ними угнаться. Ошибки происходят из-за отсутствия механизмов, оперирующих логическими связями. Большинство моделей заходят в тупик, пытаясь справиться с новыми словами, которые не похожи на уже знакомые и не могут быть обобщены по аналогии. Встретившись с новым словом «frilg», например, они выдают не «frilged», как сделал бы человек, а странную смесь вроде «freezled». Дело в том, что у них нет алгоритма переменной (как «х» в алгебре или «глагол» в грамматике), приложимого к любому элементу категории, независимо от того, насколько знакомы его свойства. (Это механизм, позволяющий людям мыслить категориями.) Сети могут только ассоциировать отрывки звуков с другими отрывками, и, сталкиваясь с новым глаголом, который звучит непохоже ни на один из тех, на которых они обучались, сети выдают на-гора попурри из наиболее похожих звуков, какие только могут найти.
Модели также не могут различать глаголы-омонимы с одинаковым звучанием, но разными формами прошедшего времени, как в случае «ring the bell» — «rang the bell» или «ring the city» — «ringed the city». Стандартные модели учитывают только звуки и слепы к грамматической разнице глаголов, требующих различного спряжения. Ключевое отличие здесь между простыми корнями, такими как «ring» в смысле звонить (прошедшее время «rang») и сложными глаголами, произошедшими от существительных, такими как «ring» в смысле окружить (прошедшее время «ringed»). Чтобы уловить эту разницу, лингвистическая система должна быть оборудована структурами связанных данных (например, «глагол, произошедший от существительного»), а не просто кучей разрозненных элементов.
Еще одна проблема — в том, что коннекционистские сети внимательно отслеживают статистику ввода: сколько глаголов каждой звуковой модели они встречали. Это не позволяет им рассчитывать на озарения, с помощью которых маленькие дети открывают правило «-ed» и начинают делать ошибки вроде «heared» и «holded». Создатели коннекционистских сетей могут заставить их так ошибаться, только бомбардируя сети правильными глаголами (чтобы буквально выжечь в них «-ed»), что совершенно не похоже на живой опыт реальных детей. И наконец, масса свидетельств, предоставленных когнитивной нейронаукой, показывает, что грамматические комбинации (включая правильные глаголы) и словарный поиск (включая неправильные глаголы) выполняются отдельными системами мозга, а не единственной ассоциативной сетью.
Не то чтобы нейронные сети были не способны уловить смысл предложения или выполнить задачу грамматического спряжения. (Лучше бы они это умели, потому что сама идея, что размышление — это форма нейронного вычисления, требует, чтобы какой-то вид нейронной сети повторял все, что может делать разум.) Проблема лежит в убежденности, что можно сделать что угодно с самой общей моделью, если правильно ее обучать. Многие исследователи усиливали, модернизировали или объединяли сети в более сложные и мощные системы. Они посвящали разделы нейронной сети абстрактным понятиям вроде «глагольная группа» или «утверждение», встраивали дополнительные механизмы (такие как синхронизированные паттерны импульсов), чтобы связать их в подобие составной рекурсивной системы символов. Они устанавливали пакеты нейронов для слов, или для английских суффиксов, или для основных грамматических признаков. Они строили гибридные системы: с одной нейросетью — для извлечения неправильной формы глагола из памяти и другой — для соединения глагола с суффиксом[17].
Система, собранная из усиленных подсетей, может оказаться вне всякой критики. Но в этом случае мы уже не говорим об обычной нейронной сети! Мы будем говорить о сложной системе, в которой изначально заложены механизмы для выполнения задач, подвластных людям. В детской сказке «Каша из топора» главный герой просит разрешения воспользоваться котлом, чтобы сварить кашу из топора. Но затем, чтобы сделать кашу вкуснее, он добавляет все новые и новые ингредиенты и готовит сытное наваристое блюдо за счет скупой хозяйки. Разработчики коннекционистских сетей, претендующие на создание интеллекта на базе обычных нейронных сетей, не требуя чего-то существенного, занимаются тем же самым. Элементы дизайна, которые делают нейросеть умной — за что отвечает каждый нейрон, как они связаны друг с другом, какие типы сетей объединены в систему следующего уровня и каким образом, — отражают врожденную организацию моделируемой части разума. Обычно исследователь подбирает их вручную, подобно изобретателю, перетряхивающему коробку с диодами и транзисторами, но в настоящем мозге они могли развиваться благодаря естественному отбору (и архитектура некоторых сетей действительно создается с помощью симуляции естественного отбора)[18]. Единственная альтернатива состоит в том, что какие-то предыдущие эпизоды научения подготовили сеть к научению нынешнему, но, разумеется, нам придется в какой-то момент остановиться и признать некоторые врожденные характеристики самой первой сети, запустившей этот процесс.
Так что слухи, что нейронная сеть может заменить ментальную структуру статистическим научением, неверны. Простая, неспециализированная сеть не отвечает требованиям обычного человеческого мышления и речи; комплексные, специализированные сети — это каша из топора, в которой большая часть интересующей нас работы выполняется благодаря изначально заданным, врожденным настройкам нейронных связей внутри сети. Когда мы призна́ем это, моделирование нейронных сетей станет неотъемлемым дополнением теории сложной человеческой природы, а не будет пытаться подменить ее[19]. Оно заполнит пробелы между элементарными мыслительными операциями и психологической активностью мозга и послужит важным звеном в длинной цепи знаний между биологией и культурой.
* * *
Бо́льшую часть своей истории нейронауки сталкивались с обескураживающим фактом: мозг выглядит так, словно он изначально специализирован до мельчайшей детали. Если говорить о человеческом теле, то на нем мы видим следы жизненного опыта: оно может быть загорелым или бледным, плотным или рыхлым, иссушенным, пухлым или рельефным. Но подобных следов не найдешь в мозге. Очевидно, что-то здесь не так. Люди учатся, и учатся многому: осваивают язык, культуру, секреты производства, базы данных накопленных ими фактов. К тому же сотни триллионов связей в мозгу невозможно задать геномом в 750 мегабит. Мозг должен каким-то образом меняться в ответ на поступающую информацию, вопрос — каким?
И мы, наконец, начинаем это понимать. Изучение нейропластичности сейчас на пике. Почти каждую неделю появляются новые знания о том, как мозг формируется в утробе и настраивается вне ее. Десятилетиями никто не мог найти хоть что-то, что физически меняется в мозге, и неудивительно, что нынешние открытия в области пластичности нарушили равновесие в дихотомии врожденное/приобретенное. Некоторые считают, что пластичность поможет расширению человеческого потенциала и поставит силу мозга на службу революционным изменениям в воспитании детей, образовании, медицине и борьбе со старением. В некоторых научных манифестах провозглашается, будто пластичность доказывает, что мозг не может иметь сколько-нибудь значительной врожденной структуры[20]. В книге «Пересматривая наследственность» (Rethinking Innateness) Джеффри Элман и группа коннекционистов Западного полюса пишут, что предрасположенность по-разному думать о разных вещах (язык, люди, объекты и т. д.) может быть заложена в мозг только в виде предупреждающих сигнализаторов, которые обеспечивают организмам получение «огромного количества определенных входных данных еще до последовательного научения»[21]. В «конструктивистском манифесте» ученые-теоретики Стивен Кварц и Терренс Сейновски пишут, что «хотя кора больших полушарий и не "чистый лист", на ранних стадиях она по большей части не специализирована», и поэтому теории врожденных идей «выглядят неправдоподобными»[22].
Бесспорно, исследования пластичности и развития нервной системы открывают человеческому знанию новые горизонты. Как линейная нить ДНК может управлять сборкой замысловатого объемного органа, позволяющего нам думать, чувствовать, учиться? Эта проблема поражает воображение и способна обеспечить нейроученых работой на десятилетия и заодно опровергнуть любые предположения о том, что мы достигли «конца наук».
Да и сами по себе открытия в этих областях удивительны и провокативны. Традиционно считалось, что кора головного мозга (наше «серое вещество») разделена на зоны с определенными функциями. Одни представляют конкретные части тела, другие отвечают за восприятие и обработку звуков и зрительных образов, третьи концентрируются на мышлении и языке. Но теперь мы знаем, что познание и практика меняют границы между зонами. (Это не значит, что ткани мозга буквально увеличиваются или сжимаются, но, как показывает сканирование или обследование коры головного мозга с помощью электродов, граница, на которой заканчивается одна способность и начинается другая, может сдвигаться.) Например, у скрипачей увеличена область коры, отвечающая за пальцы левой руки[23]. Когда человек или обезьяна выполняют простую задачу вроде различения форм или слежения за точкой в пространстве, нейроученые могут наблюдать, как части коры головного мозга или даже отдельные нейроны выполняют эту работу[24].
Перераспределение ресурсов тканей мозга для выполнения новых задач особенно ярко заметно, когда человек лишается возможности пользоваться органом чувств или частью тела. Люди, слепые от рождения, пользуются зрительной корой, читая шрифт Брайля[25]. Глухие от рождения используют часть своей слуховой коры, когда говорят на языке жестов[26]. Области коры, отвечавшие ранее за ампутированную конечность, переориентируются на другую часть тела[27]. Маленькие дети после травм мозга, превративших бы взрослого человека в овощ, могут вырасти в общем и целом нормальными людьми — даже в случае полной потери левого полушария, которое в норме отвечает за язык и логику[28]. Все это предполагает, что функции восприятия и мышления не присваиваются тканям мозга раз и навсегда в зависимости от их расположения в черепе, но зависят от того, как сам мозг обрабатывает информацию.
Динамическое распределение тканей мозга можно наблюдать уже в процессе его развития в утробе. Компьютер первый раз включается только после его полной сборки, но мозг активен уже в процессесоздания, и эта его активность может сборкой управлять. Эксперименты на кошках и других млекопитающих показали, что мозг плода формируется с заметными нарушениями, если химически подавлять его активность[29]. Участки коры развиваются по-разному в зависимости от сигналов, которые они получают. В своем превосходном эксперименте нейробиолог Мриганка Сур буквально перемонтировал нервные связи в мозге хорьков так, чтобы сигналы от глаз поступали в первичную слуховую зону, часть мозга, обычно получающую слуховые сигналы[30]. Затем он исследовал слуховую кору с помощью электродов и обнаружил, что теперь она работает подобно зрительной коре. Области новой зрительной коры располагались по схеме, и конкретные нейроны отвечали за линии и полосы определенной ориентации и за направление движения подобно нейронам обычной зрительной коры. Хорьки даже могли использовать свой перемонтированный мозг для движения в направлении объектов, зафиксированных только с помощью зрения. Значит, информация, поступающая в сенсорные зоны мозга, помогает их структурировать: зрительная информация заставляет слуховую кору работать как зрительная.
Что же значат эти открытия? Значат ли они, что мозг «может быть сформирован, вылеплен, смоделирован или отлит», как предполагает словарное определение слова «пластичный»? В оставшейся части главы я покажу, что ответ — нет, не значат[31]. Новые данные о том, как опыт меняет мозг, еще не доказывают, что научение — более мощный процесс, чем мы считали раньше, что мозг может быть значительно видоизменен получаемой информацией или что гены его не формируют. Более того, проявления пластичности мозга не настолько радикальны, как казалось вначале: предположительно, пластичные зоны коры все равно делают примерно то же самое, что они делали бы, если бы не были изменены. И новейшие открытия о развитии мозга также опровергли тезис о чрезвычайной его пластичности. Давайте рассмотрим все по порядку.
* * *
Тот факт, что мозг меняется, когда мы учимся, не стал великим открытием, изменившим представления о роли природы и воспитания или о возможностях человека, как некоторые заявляли. Даже Дмитрий Карамазов в XIX веке мог бы додуматься до этого в своей тюремной камере, рассуждая о том, что мышление исходит от дрожащих нервных хвостиков, а не от нематериальной души. Если мышление и действие — продукт физической активности мозга и если они подвержены влиянию опыта, то опыт и должен оставлять след в физической структуре мозга.
Так что для науки вопрос не в том, влияют ли опыт, познание и практика на мозг. Конечно, влияют, если мы хотя бы примерно движемся в верном направлении. Разве удивительно, что мозг людей, умеющих играть на скрипке, отличается от мозга тех, кто не умеет; и что мозг людей, пользующихся языком жестов или шрифтом Брайля, имеет отличия от мозга тех, кто говорит и пишет. Ваш мозг меняется, когда вы знакомитесь с новым человеком, когда узнаете слухи, когда смотрите церемонию вручения «Оскара», когда оттачиваете удар в гольфе, — короче, всякий раз, когда опыт оставляет след в сознании. Единственный вопрос — каким образом научение влияет на мозг? Хранятся ли воспоминания в белковых последовательностях, в новых нейронах и синапсах или отражаются в изменениях силы существующих связей? Когда кто-то осваивает новое умение, запечатлевается ли оно только в органах, отвечающих за учебные навыки (мозжечок и базальные ганглии) или перестраивает и кору? От чего зависит рост мастерства — от использования большего количества квадратных сантиметров коры или от использования большего количества синапсов на той же площади? Все это важные научные проблемы, но они ничего не говорят о том, могут ли люди учиться и как многому. Мы и так знали, что опытные скрипачи играют лучше новичков, иначе не засунули бы их головы в сканер. «Нейропластичность» — просто еще одно название для научения и развития, описываемых на новом уровне анализа.
Все это кажется очевидным, но в наши дни любая банальность о научении может быть облачена в «нейронные» одежды и выдана за научную сенсацию. Вот, к примеру, заголовок в New York Times: «Разговорная терапия, как утверждает психиатр, может изменить структуру мозга пациента»[32]. Хотелось бы надеяться, иначе этот психиатр просто обманывает своих клиентов. «Изменения в окружающей среде могут повлиять на развитие мозга ребенка», — сказал в интервью Boston Globe детский невролог Гарри Чугани. «Агрессия, жестокость или неадекватные поощрения отражаются на связях в мозге и на поведении ребенка»[33]. Ну да, если окружение вообще влияет на ребенка, оно влияет именно через изменение связей в мозге. Специальный выпуск журнала Educational Tecnology and Society («Образовательные технологии и общество») был посвящен «исследованию точки зрения, что научение происходит в мозге ученика, и тому, что образовательные методики и технологии должны создаваться и оцениваться с учетом воздействия на него». Приглашенный научный редактор (биолог) не сказал, существуют ли альтернативы вроде того, что научение происходит в каком-то другом органе, например в поджелудочной железе, или в нематериальной душе. Даже профессора нейронаук иногда заявляют об «открытиях», которые новы разве что для тех, кто верит в «духа в машине»: «Ученые обнаружили, что мозг способен изменять свои связи… У вас есть способность менять синаптические связи мозга»[34]. Это хорошо, иначе мы все страдали бы вечной амнезией.
Упомянутый нейроученый управляет компанией, которая «использует результаты исследований мозга и высокие технологии для создания продуктов, способствующих учебе и результативности», — одной из многих новых компаний с подобными притязаниями. «Человек обладает неограниченной креативностью, если его правильно воспитывать и мотивировать», — говорит консультант, который учит клиентов рисовать диаграммы, «отображающие их нейронные паттерны». «Чем старше вы становитесь, тем больше ассоциаций и связей должен создавать ваш мозг, — сказал довольный клиент, — потому что в вашем мозге хранится больше информации. Вам только нужно до нее добраться»[35]. Многие люди верят публичным заявлениям приверженцев нейронаук — неважно, насколько они убедительны и подкреплены фактами, — в духе того, что изменение привычного маршрута от работы до дома может предотвратить последствия старения[36]. А ведь есть еще и гении маркетинга, которых осенило, что кубики, мячики и другие игрушки «обеспечивают визуальную и тактильную стимуляцию» и «способствуют развитию и концентрации внимания». Это только малая часть движения за воспитание и образование, «основанное на функциях мозга», с которым мы встретимся снова в главе, посвященной детям[37].
Такие компании эксплуатируют веру людей в «духа в машине», подразумевающую, что любая форма научения, воздействующая на мозг (предполагается, в противоположность научению, не влияющему на мозг), невероятно результативна. Но это неверно. Всякое познание влияет на мозг. То, что ученые узнают, как именно оно на него влияет, безусловно, вдохновляет, однако это не делает научение само по себе ни более глубоким, ни всеобъемлющим.
* * *
Корни второй ошибочной интерпретации нейропластичности можно найти в убеждении, что в разуме нет ничего такого, чего прежде не было в ощущениях. Самые известные открытия в области пластичности коры мозга касаются первичной сенсорной коры, участков серого вещества, которые первыми принимают сигналы от органов чувств (через таламус и другие подкорковые структуры). Авторы, использующие пластичность для подкрепления концепции «чистого листа», полагают, что, если первичная сенсорная кора пластична, остальной мозг должен быть еще более пластичен, потому что разум строится на сенсорном опыте. Например, по словам одного нейроученого, эксперимент Сура по изменению связей в мозге «ставит под сомнение то значение, которое недавно придавалось генам» и «возвращает людей к более высокой оценке роли окружающей среды в формировании нормального мозга»[38].
Но если мозг — это сложный орган, состоящий из множества частей, для подобных выводов нет оснований. Первичная сенсорная кора — это не краеугольный камень разума, а устройство, одно из многих, предназначенное для обработки определенных видов сигналов на первых стадиях сенсорного анализа. Представим, что первичная сенсорная кора бесформенна, а структуру ей придают исключительно входные сигналы. Значило бы это, что весь мозг не имеет структуры и получает ее лишь из информации на входе? Вовсе нет. Начнем с того, что даже первичная сенсорная кора — это только одна из частей огромной сложной системы. Чтобы представить вещи в более широком контексте, ниже приведена современная диаграмма связей внутри зрительной системы приматов[39] (см. рис. ниже).
Первичная зрительная кора — блок внизу, обозначенный VI. Это лишь одна из как минимум 50 отдельных областей мозга, занятых обработкой визуальной информации. (Несмотря на то что схема напоминает сваренные спагетти, не каждый элемент с чем-то связан. На самом деле мозг создает только третью часть всех теоретически возможных связей.) Первичной зрительной коры как таковой недостаточно, чтобы видеть. На самом деле она настолько глубоко скрыта в визуальной системе, что Фрэнсис Крик и нейроученый Кристоф Кох доказывали, что мы не осознаем ничего, что там происходит[40]. То, что мы видим, — знакомые разноцветные объекты, расположенные в определенном порядке или двигающиеся по определенным траекториям, — результат работы этого хитроумного изобретения в целом. Так что даже если внутреннее строение блока VI полностью определяется поступающей из внешнего мира информацией, нам придется объяснить архитектуру остальной части зрительной системы — 50 других блоков и связей между ними. Я не утверждаю, что генетически запрограммирована вся диаграмма целиком, но ее бо́льшая часть — скорее всего, да[41].
И конечно, зрительную систему тоже нужно поставить на свое место, потому что это только часть мозга. В коре насчитывается более 50 зон с различными связями и анатомией, и зрительная система преобладает примерно в полудюжине из них. Другие зоны обеспечивают прочие функции — язык, мышление, планирование, социальные навыки. И хотя никто не знает, до какой степени они генетически предуготовлены для выполнения своих вычислительных ролей, есть основания считать, что влияние генов значительно[42]. Разделение закладывается еще в утробе, даже если кора в процессе развития отрезана от сигналов из внешнего мира. Когда мозг развивается, в различных его областях активируются разные наборы генов. Мозг обладает целым комплектом механизмов для установления связей между нейронами, включая молекулы, которые притягивают или отталкивают аксоны (выходные волокна нейронов), чтобы направить их к цели, и молекулы, которые приклеивают их в нужном месте или же, наоборот, мешают присоединению. Число, размер и возможность образования связей в корковых зонах разные у разных видов млекопитающих, различаются они и среди людей и других приматов. Это разнообразие — продукт генетических мутаций в процессе эволюции, в чьи тайны мы только начинаем проникать[43]. Например, недавно генетики обнаружили, что в развивающемся мозге человека и в развивающемся мозге шимпанзе активны различные наборы генов[44].
Под микроскопом разные части коры не отличаются друг от друга, что, как кажется, противоречит предположению о функциональной специализации зон коры. Но поскольку мозг — система обработки информации, это практически ничего не значит. Микроуглубления на поверхности компакт-диска выглядят одинаково, независимо от того, что на нем записано, и строчки букв в разных книгах выглядят одинаково для того, кто не умеет читать. Содержание носителя информации кодируется комбинациями элементов (что касается мозга — особенностями нервных связей) и не зависит от того, как они выглядят.
Да и кора — это еще не весь мозг. Под ней находятся другие отделы, управляющие важными сторонами человеческой природы. Гиппокамп, объединяющий память и поддерживающий ментальные карты, амигдала, окрашивающая опыт эмоциями, и гипоталамус, порождающий сексуальное желание и прочие влечения. Многие нейроученые, даже впечатленные пластичностью коры, признают, что подкорковые структуры гораздо менее пластичны[45]. Это не мелкая придирка к анатомии. Некоторые комментаторы считают, что нейропластичность отменяет эволюционную психологию, потому что подвижность коры якобы доказывает, что специализация мозга не заложена в процессе эволюции[46]. Но большинство предположений эволюционной психологии касается стимулов вроде страха, секса, любви и агрессии, которые по большей части базируются в подкорковых структурах. И какой бы теории мы ни придерживались, в любом случае врожденные человеческие способности должны располагаться в сети корковых и подкорковых зон, а не в каком-то одном участке сенсорной коры.
* * *
И еще один важный факт, касающийся мозга, был забыт на волне недавнего энтузиазма по поводу пластичности. Открытие, что активность нейронов критически важна для построения мозга, еще не доказывает, что научение имеет решающее значение в его формировании или что гены не играют роли в этом процессе.
Вопросы развития нервной системы часто рассматриваются в терминах врожденного и приобретенного, но более полезно было бы думать об этом как о проблеме биологии развития — как из клубка идентичных клеток создаются функционирующие узкоспециализированные органы. Сделать так — значит перевернуть традиционные ассоцианистские представления с ног на голову. Первичная сенсорная кора, вместо того чтобы быть самой устойчивой частью мозга, на базе которой строятся последующие все более пластичные этажи, может оказаться той зоной, успешное развитие которой сильнее всего зависит от поступающей сенсорной информации.
Сборка мозга целиком по жестко заданной генетической схеме совершенно исключена по двум причинам. Первая — ген не может спрогнозировать все детали среды, в том числе среды, образованной остальными генами генома. Он должен создать адаптивную программу развития, гарантирующую, что организм как целое будет функционировать правильно с учетом любых условий питания, других генов, темпов роста в течение жизни, случайных отклонений, физического и социального окружения. А это требует обратной связи со всеми частями организма в процессе его развития.
Рассмотрим это на примере тела. Гены, строящие бедренную кость, не могут определить точную форму ее головки, потому что головка должна подходить к углублению в кости таза, форма которого задается другими генами, питанием, возрастом и случаем. Так что головка бедра и углубление для него меняют свою форму, подстраиваясь друг под друга, пока ребенок пинается в матке. Мы знаем это наверняка, потому что парализованные в процессе развития экспериментальные животные рождаются с сильно деформированными суставами. Точно так же гены, управляющие развитием линзы глаза, не знают, как глубоко должна располагаться сетчатка, а гены сетчатки ничего не знают о линзе. Поэтому мозг младенца обладает механизмом обратной связи, использующим сигналы о том, насколько четкое изображение формируется на сетчатке, для того чтобы ускорить или замедлить рост глазного яблока. Это хорошие примеры «пластичности», но сравнение с пластилином все равно ошибочно. Эти механизмы не предназначены для того, чтобы различные влияния среды формировали разные органы. Наоборот, они должны гарантировать, что способный выполнять свои обязанности орган со стабильными параметрами сформируется правильно несмотря на влияние среды.
Как и тело, мозг тоже должен использовать петли обратной связи, чтобы сформироваться в работающую систему. Это особенно верно для сенсорных зон, которые должны синхронизироваться с растущими органами чувств. Одна эта причина уже должна навести нас на мысль, что активность мозга важна для его собственного развития, даже если его конечное состояние, как в случае головки бедренной кости и глаза, задано генетически. Как это происходит до сих пор по большей части загадка, но мы знаем, что нейронная стимуляция по определенной схеме может запустить экспрессию гена и что один ген может включить еще несколько[47]. Так как каждая клетка мозга содержит полную генетическую программу, у нейронов есть механизмы, способные запустить развитие генетически запрограммированных нейронных связей в любой из нескольких зон. Если так, активность мозга не формирует мозг; она только сообщает геному, куда должна вести та или иная нейронная цепь.
Так что даже крайние приверженцы идеи «врожденности» не обязаны верить, что мозг сам себя дифференцирует с помощью эквивалента GPS координат внутри черепа, следуя правилам вроде: «Если вы находитесь между левым виском и левым ухом, станете языковой цепочкой» (или цепью страха, или цепью для распознавания лиц). Программа развития может быть запущена в части развивающегося мозга комбинацией внешней стимуляции, паттернов импульсов, химических и других сигналов. Окончательным результатом могут быть способности, которые у разных людей располагается в разных частях мозга. В конце концов, мозг — орган для вычислений, а вычисления могут происходить в разных местах, если только программа обработки информации одна и та же. В компьютере файл или программа могут храниться в разных местах в памяти или быть разбиты по различным секторам на диске и в любом случае работать без сбоев. И нет ничего удивительного в том, что растущий мозг, по крайней мере, настолько же подвижен в распределении нервных ресурсов в ответ на требования мыслительных операций.
Другая причина того, что мозг не может полагаться на исчерпывающий генетический план, состоит в том, что ресурсы генома ограниченны. Гены постоянно мутируют на протяжении эволюции, и естественный отбор избавляется от неудачных, но довольно медленно. Большинство эволюционных биологов считают, что естественный отбор может поддерживать лишь такой геном, который не очень велик. Это значит, что генетические планы сложного мозга должны быть спрессованы в минимальный объем, достаточный для его развития и правильной работы. И хотя больше половины генома работает в основном или исключительно в мозге, имеющегося количества генов отнюдь не достаточно, чтобы определить схему связей внутри него.
Программам развития мозга требуется большая изобретательность. Возьмем, например, задачу правильного присоединения каждого аксона (выходного волокна нейрона), связывающего глаза с мозгом. Соседние точки глаза должны быть связаны с соседними точками в мозге (это называется топографическое картирование), и соответствующие области обоих глаз должны располагаться в мозге рядом, но не путаться одна с другой.
Вместо того чтобы давать каждому аксону генетически определенный адрес, мозг млекопитающего организует связи более хитрым способом. Изучая развитие мозга кошек, нейроученый Карла Шац обнаружила, что нейроны сетчатки возбуждаются волнами: сначала в одном направлении, затем в другом[48]. Это значит, что нейроны, расположенные в одном глазу рядом, активизируются примерно в одно и то же время, часто под воздействием одной и той же волны. Но активность аксонов из разных глаз или из отдаленных друг от друга точек в одном глазу не будет коррелировать, потому что волна, активизировавшая один, не затронет другой. Для примера: вы можете представить себе схему рассадки фанатов на стадионе, имея данные о том, кто из них и в какой последовательности встает, создавая «волну» (потому что люди, встающие в одно и то же время, должны сидеть рядом). Так же и мозг может реконструировать схему пространственного размещения нейронов обоих глаз, прислушиваясь к тому, какие наборы входных нейронов активизируются одновременно. Одно из правил научения в нейронных сетях, впервые сформулированное психологом Дональдом Хеббом, гласит: «Нейроны, которые возбуждаются вместе, связаны друг с другом; несинхронизированные нейроны не связаны». Пока волны активности днями и неделями пересекают сетчатку вдоль и поперек, зрительный таламус, расположенный ниже, может образовать слои, каждый из которых связан с одним из глаз, причем соседние нейроны соответствуют соседним зонам сетчатки. Теоретически кора больших полушарий может строить собственные связи точно так же[49].
Какие части мозга на самом деле используют технику самоинсталляции — это другой вопрос. Зрительная система, похоже, не нуждается в механизмах построения топографически организованных связей; грубая топографическая схема развивается под прямым контролем генов. Некоторые нейроученые верят, что технику «возбуждаются-вместе-связываются-вместе» можно использовать, чтобы сделать картирование более точным или чтобы разделить информацию, поступающую от правого и левого глаза[50]. Это предположение тоже оспаривается, но давайте примем его за истину и посмотрим, к чему это нас приведет.
Процесс «возбуждаются-вместе-связываются-вместе» теоретически мог бы запускаться от того, что глаза созерцают мир. Мир имеет линии и контуры, стимулирующие соседние части сетчатки одновременно, что обеспечивает мозг информацией, необходимой для установки и тонкой настройки стандартной карты. Но в случае с кошками Шатц система работала вообще без поступления информации из внешнего мира. Зрительная система развивается в беспросветной темноте утробы, прежде чем откроются глаза животного и прежде чем палочки и колбочки свяжутся друг с другом и начнут функционировать. Волны активности сетчатки генерируются ее тканями эндогенно в течение того периода, в который зрительная зона мозга должна сформировать свои связи. Другими словами, глаз генерирует тестовое изображение и мозг использует его для завершения своей собственной сборки. Обычно аксон, идущий из глаза, несет информацию об объектах внешнего мира, но программа развития заставляет эти аксоны доставлять также информацию о том, какие нейроны идут из того же глаза или места в глазу. Грубая аналогия пришла мне на ум, пока я наблюдал, как настройщик кабельного телевидения определяет, в какую комнату ведут кабели от оборудования, размещенного в подвале. Он присоединил генератор звука, который еще называют «пищалкой», к кабелю в спальне и побежал вниз, чтобы проверить сигнал на каждом конце пучка проводов, торчащих из стены. Хотя кабели должны передавать телевизионный сигнал наверх, а не звуковой вниз, в процессе отладки их можно использовать и таким образом, потому что свойства кабеля это позволяют. Вывод очевиден — открытие, что развитие мозга зависит от его активности, может ничего не говорить об опыте или научении, кроме того, что мозг, создавая связи, использует в своих интересах собственную способность передавать информацию.
«Возбуждаются-вместе-связываются-вместе» — это трюк, который решает конкретную задачу — связывание поверхности рецептора с его географической репрезентацией в коре. Эта проблема существует не только для зрительной системы, но и для других пространственных ощущений, например осязания. Потому что задача разбиения участка первичной зрительной коры, получающего информацию от двухмерной поверхности сетчатки, подобна задаче разбиения участка первичной соматосенсорной коры, получающей информацию от двухмерной поверхности кожи. Даже слуховая система может использовать этот фокус, потому что сигналы, представляющие различные частоты (звуки определенной высоты), рождаются в одномерной мембране внутреннего уха, а мозг трактует высоту в слуховых ощущениях так же, как пространство в зрении и осязании.
Однако этот фокус может и не пригодиться больше нигде в мозге. Обонятельная система, например, формирует связи, с помощью совершенно иной технологии. Если зрение, слух и осязание организованы согласно месту сенсорной коры, в которое прибывают сигналы от органов чувств, то запахи приходят смешанными и анализируются с точки зрения их химического состава, причем каждый компонент определяется особым рецептором в носу. Каждый рецептор присоединен к нейрону, несущему сигнал в мозг, и в данном случае геном действительно использует тысячи генов, связывая аксоны с соответствующим местом в мозге — отдельный ген для каждого аксона. При этом он замечательным способом экономит гены. Белок, производимый каждым геном, используется дважды: сначала в носу, как рецептор для определения запахов в воздухе, а затем в мозге, как маркер для конца соответствующего аксона, направляющий его к нужной точке обонятельной луковицы[51].
Задача создания связей отличается и в других частях мозга, например в продолговатом мозге, генерирующем глотательный рефлекс и другие рефлекторные действия, в амигдале, отвечающей за страх и другие эмоции, в вентромедиальной фронтальной коре, вовлеченной в социальное мышление. Техника «возбуждаются-вместе-связываются-вместе» может быть идеальным методом для сенсорных карт и других структур, которые должны просто дублировать информацию о мире или о других частях мозга, таких как первичная сенсорная кора для зрения, слуха и осязания. Но другие области мозга, выполняющие такие функции, как обоняние, глотание, избегание опасности или завоевание друзей, должны быть связаны с помощью более сложных технологий. Это только следствие того главного аргумента, с которого я начал эту главу: внешняя среда не может указывать различным частям организма, каковы их цели.
Доктрина экстремальной пластичности использует пластичность первичной сенсорной коры как метафору того, что якобы происходит в мозге повсеместно. Как показывает изложенное выше, это не очень хорошая метафора. Если пластичность сенсорной коры символизирует пластичность психической жизни в целом, как легко было бы изменить то, что нам не нравится в себе или в других людях! Возьмем пример, далекий от зрения, — сексуальную ориентацию. Большинство гомосексуальных мужчин впервые чувствуют влечение к другим мужчинам примерно во время первых гормональных изменений, предшествующих пубертату. Никто не знает, почему некоторые мальчики становятся геями, — причиной могут быть гены, влияние гормонов во время внутриутробного периода, другие биологические причины, а также случайности, но я сейчас не столько о том, как становятся геями, а о том, как становятся гетеросексуальными. В менее толерантном прошлом несчастные геи иногда приходили к психиатрам (или их заставляли обращаться к ним) за помощью в изменении сексуальной ориентации. Даже сегодня некоторые религиозные организации пытаются заставить своих членов-геев «выбрать» гетеросексуальность. Чего только им не предлагали: психоанализ, спекуляции на чувстве вины, техники обусловливания, использующие безупречную логику «возбуждаются-вместе-связываются-вместе» (например, их заставляли смотреть на иллюстрации в журнале Playboy во время сексуального возбуждения). Ни одна из техник не имела успеха[52]. За исключением нескольких сомнительных примеров (которые, вероятно, были скорее результатом сознательного самоконтроля, чем действительным изменением в желаниях), сексуальная ориентация большинства геев не может быть изменена внешним воздействием. Некоторые части мозга просто не пластичны, и никакие открытия насчет того, как образуются связи в первичной сенсорной коре, этого не изменят.
* * *
Чем же на самом деле занят мозг, когда в нем происходят изменения, которые мы называем пластичностью? Один из комментаторов назвал это «мозговым эквивалентом Христа, превращающего воду в вино», и, следовательно, опровержением любой теории, предполагающей, что части мозга специализируются в процессе эволюции[53]. Те же, кто не верит в чудеса, настроены скептически. Нервная ткань — не волшебная субстанция, способная принимать любую форму, а механизм, подчиняющийся причинно-следственным связям. Если мы посмотрим на выдающиеся примеры пластичности поближе, то увидим, что в этих изменениях нет никаких чудес. В каждом случае измененная кора не делает ничего кардинально отличного от того, что она делает обычно.
Большинство демонстраций пластичности представляют собой преобразование карты первичной сенсорной коры. Область мозга, отвечавшая за ампутированный или парализованный палец, может использоваться соседним пальцем, или же область мозга, отвечающая за палец, который постоянно стимулируется, расширяет свои границы за счет соседей. Способность мозга заново оценивать входные сигналы примечательна, но способ обработки информации фундаментально при этом не меняется: кора, которая отвечает теперь за другую часть тела, по-прежнему обрабатывает такие же данные: например, о поверхности кожи или об углах сочленений. И представление числа или части зрительного поля не может расти до бесконечности, неважно, с какой силой оно стимулируется, — этому помешает сложная сеть нейронных связей в мозге[54].
Как расценивать использование зрительной коры для обработки шрифта Брайля у слепых людей? На первый взгляд это выглядит как настоящее превращение. Но может быть, это и не так. Еще не описано случая, чтобы любая способность заняла любую свободную зону коры. Чтение по Брайлю может использовать анатомию зрительной коры тем же способом, каким это делает зрение.
Нейроанатомы уже давно знают, что волокон, несущих информацию в зрительные зоны коры от прочих областей мозга, не меньше, чем волокон, передающих информацию от глаз[55]. Эти иерархические связи выполняют несколько функций. Они направляют внимание на какую-то часть зрительного поля, или координируют зрение с другими ощущениями, или группируют пиксели по областям, или формируют психические образы (визуализацию вещей в уме)[56]. Слепые люди могут просто использовать эти вшитые по умолчанию иерархические связи для того, чтобы читать шрифт Брайля. Возможно, они «представляют» последовательности точек, когда ощущают их, подобно тому как человек с завязанными глазами воображает объекты, которые он держит в руках, — хотя, конечно, гораздо быстрее. (Предыдущие исследования установили, что и у слепых людей есть психические представления — возможно, даже зрительные образы, — содержащие пространственную информацию[57].) Зрительная кора отлично подходит для выполнения операций, необходимых для чтения шрифта Брайля. Глаза зрячего человека сканируют обстановку, передавая детали в центральную ямку сетчатки, обладающую высокой разрешающей способностью. Это очень похоже на перемещение пальцев вдоль линии Брайля и передачу мелких деталей с помощью высокой разрешающей способности кожи на их кончиках. Так что зрительная система у слепых людей может функционировать почти так же, как и у зрячих, несмотря на отсутствие сигнала от глаз. Годы тренировки в воспроизведении образов мира, ощущаемого пальцами, и внимание к деталям шрифта Брайля учат зрительную кору максимально использовать врожденно запрограммированные сигналы, поступающие от других частей мозга.
Так же и в случае с глухотой: один из органов чувств берет контроль над подходящими нейронными цепями, а не просто переезжает на свободную территорию. Лаура Петитто и ее коллеги обнаружили, что глухие люди используют верхнюю извилину височной доли (область рядом с первичной слуховой корой), чтобы распознавать элементы языка жестов, так же как и слышащие используют ее, чтобы обрабатывать звуки разговорной речи. Они обнаружили, что глухие используют латеральную префронтальную кору для извлечения жестов из памяти, как и слышащие используют ее для припоминания слов[58]. И это не удивительно. Лингвистам давно известно, что структура языка жестов очень похожа на структуру обычной речи. Там есть слова, грамматика и даже фонологические правила, с помощью которых из бессмысленных жестов составляются осмысленные знаки, подобно тому как правила разговорной речи комбинируют бессмысленные звуки в осмысленные слова[59]. Более того, отчасти модульный характер имеет и разговорная речь: представления для слов и правил могут быть отделены от систем ввода-вывода, которые соединяют их с ушами и ртом. Простейшая интерпретация, предложенная Петитто и ее коллегами: зоны коры, используемые теми, кто говорит на языке жестов, изначально предназначены не для речи как таковой, а для языка (слов и правил) и выполняют те же функции, что и у слышащих людей.
Позвольте мне теперь обратиться к самому поразительному примеру пластичности: к «перемонтированным» хорькам, чьи глаза были связаны со слуховыми зонами таламуса и коры, что заставило эти зоны работать, подобно зрительным. Но даже и здесь вода не превращалась в вино. Сур и его коллеги обратили внимание на то, что перенаправленный сигнал изменил не существующие в слуховой коре связи, а только силу синаптических связей. В результате они обнаружили множество различий между переоснащенной слуховой корой и нормальной зрительной[60]. Репрезентация зрительного поля в слуховой коре была более нечеткой и дезорганизованной, поскольку эти ткани предназначены для слухового, а не для зрительного анализа. Карта зрительного поля, например, была более четкой в направлении справа налево, чем в направлении вверх-вниз. Это потому, что направление право-лево отображалось на оси слуховой коры, которая у нормальных животных отображает различные звуковые частоты и поэтому получает от внутреннего уха сигналы, четко организованные по высоте звука. Но направление верх-низ представлено на перпендикулярной оси слуховой коры, которая обычно получает большое количество сигналов одинаковой частоты. Сур также заметил, что связи между первичной слуховой корой и другими слуховыми зонами мозга (эквивалент диаграммы связей в зрительной системе) не изменялись из-за поступления новых сигналов.
Так что вид сигнала может настроить часть сенсорной коры так, чтобы она была способна обрабатывать эти сигналы, но только в пределах уже существующих между нейронами связей. Сур предположил, что слуховая кора хорьков вообще оказалась способной обрабатывать визуальную информацию, потому что определенные виды обработки информации, вероятно, полезно выполнять непосредственно на входе сенсорных сигналов, неважно — зрительных, слуховых или тактильных:
С этой точки зрения одна из функций сенсорного таламуса или коры — выполнять определенные стереотипные операции над входными сигналами, независимо от их модальности (зрение, слух или осязание); конкретный тип сенсорного сигнала, разумеется, обеспечивает основную информацию, которая передается и обрабатывается… Если нормальная организация основных слуховых структур не изменена зрительными сигналами или, по крайней мере, не изменена значительно, мы можем ожидать, что некоторые операции, подобные операциям обработки зрительных сигналов, которые мы наблюдали у прооперированных хорьков, будут выполняться также и в слуховых проводящих путях нормальных животных. Другими словами, животные со зрительными сигналами, направленными в слуховые проводящие пути, заставляют нас по-новому взглянуть на некоторые операции, которые в нормальном состоянии должны выполняться в слуховом таламусе и коре[61].
Предположение, что слуховая кора изначально приспособлена для анализа зрительных сигналов, не так уж неправдоподобно. Я упоминал, что частота (высота звука) в слуховом восприятии имеет много общего с пространством, когда речь идет о зрении. Мозг воспринимает источники звука разной высоты как объекты, расположенные в разных местах, и перепады высот звука трактует как движение в пространстве[62]. Это значит, что некоторые из операций зрительного анализа аналогичны операциям анализа слухового и могут быть выполнены, по крайней мере частично, посредством однотипных нейронных связей. Сигналы от ушей представляют звуки различной частоты, сигналы от глаз — точки различной локализации. Нейроны сенсорной коры (и зрительной, и слуховой) принимают информацию от соседних входных волокон и выделяют из них простые паттерны. Поэтому нейроны слуховой коры, которые обычно определяют повышение или понижение тона, его богатство и чистоту, а также местоположение источника звука, у «перемонтированных» хорьков автоматически были способны определять линии определенного наклона, место и направление движения.
Я не хочу сказать, что первичная слуховая кора может без подготовки справиться со зрительными сигналами. Она все же должна настроить свои синаптические связи в ответ на вид сигнала. Прооперированные хорьки — замечательная демонстрация того, как развивающаяся сенсорная кора организует сама себя в превосходно функционирующую систему. Но, как и другие примеры пластичности, это не доказывает, что сигналы от органов чувств могут переделать аморфную кору и заставить ее делать все что заблагорассудится. Кора имеет врожденную структуру, которая позволяет ей выполнять определенные виды операций. Многие из примеров пластичности, скорее всего, демонстрируют только взаимодействие входного сигнала с этой структурой.
* * *
Каждый, кто смотрел канал Discavery, видел кадры, на которых детеныш антилопы гну или зебры сразу после рождения ковыляет на подгибающихся ножках минуту или две, а потом весело скачет вокруг матери, уже полностью контролируя движения и владея всеми своими ощущениями и импульсами. Это происходит так быстро, что никакой организованный внешний опыт просто не успел бы воздействовать на его мозг, а значит, обязательно должны существовать генетические механизмы, способные структурировать мозг в период внутриутробного развития. Нейроученые знали об этом задолго до того, как пластичность вошла в моду. Уже первые исследования развития зрительной системы, проведенные Дэвидом Хьюбелом и Торсеном Визелем, показали, что почти готовая микросхема закладывается в мозгу обезьян к моменту рождения[63]. И даже их известные эксперименты, продемонстрировавшие, что зрительная система кошек может быть изменена внешними сигналами, если их воздействие приходится на критический период развития (например, при содержании в полной темноте, или внутри полосатого цилиндра, или с принудительно закрытым глазом), показывают только, что опыт необходим для поддержания зрительной системы в рабочем состоянии и для ее тонкой настройки в процессе роста животного. И они не доказывают, что опыт необходим для создания связей в мозге.
В самом общем виде мы понимаем, как мозг компонуется под руководством генов[64]. Даже до формирования коры нейроны, которые должны строить определенные области, уже организованы в «прототипную карту». Каждая область этой карты состоит из нейронов с различными свойствами, с молекулярными механизмами, которые привлекают различные входные волокна, и различными способами ответа на входной сигнал. Аксоны притягиваются и отталкиваются разными видами молекул, растворенных в окружающих жидкостях или прикрепленных к мембранам клеток. И в разных частях растущей коры экспрессируются различные наборы генов. Нейроученый Лоуренс Катц сетовал, что идея «возбуждаются-вместе-связываются-вместе» стала «догмой», мешающей нейроученым исследовать эти генетические механизмы в полном объеме[65].
Но взгляды меняются, и последние открытия показывают, как части мозга могут самоорганизовываться без поступления информации от органов чувств. В экспериментах, которые журнал Science назвал «еретическими», команда Катца удаляла один или оба глаза у развивающихся хорьков, лишая зрительную кору каких-либо сигналов извне. Тем не менее зрительная кора строила связи с глазами по стандартной схеме[66].
Опыты над генетически измененными мышами дали особенно важные подсказки, потому что удаление одного гена дает более точный результат, чем традиционные приемы химического воздействия на нейроны или операции на мозге. Одна группа исследователей вывела мышь, чьи синапсы были полностью выключены, и нейроны не могли обмениваться сигналами. Тем не менее ее мозг развивался довольно нормально, формируя слои, проводящие пути и синапсы там, где нужно[67]. (Мозг быстро дегенерировал после рождения, еще раз доказав, что активность нейронов может быть больше важна для поддержания работоспособности мозга, чем для его построения.) Другая команда создала мышь с неработающим таламусом, лишая кору его сигналов полностью. Однако кора развилась нормально, со всеми слоями и областями, каждый — со своим набором работающих генов[68]. Третье исследование, наоборот, экспериментировало с мышами, лишенными гена, который строит молекулярные цепи, помогающие организовать мозг, включая другие гены в определенных местах. Исчезновение гена повлияло значительно: границы между областями коры были серьезно деформированы[69]. Эти исследования, таким образом, показывают, что гены могут быть важнее для организации коры больших полушарий, чем нейроны и их активность. Без сомнения, активность нейронов играет роль (в зависимости от биологического вида, стадии развития и части мозга), но это только одна из возможностей мозга, а не источник его структуры.
А как насчет нашего вида? Вспомним недавние близнецовые исследования, показавшие, что разница в строении коры, особенно в количестве серого вещества в различных ее зонах, контролируется генами, а следовательно, то же самое верно и для разницы в интеллекте и других психологических чертах[70]. Примеры пластичности человеческого мозга не противоречат его фундаментальной генетической организации. Один из наиболее цитируемых примеров пластичности у людей и обезьян — то, что кора головного мозга, первоначально предназначенная для ампутированной или парализованной части тела, может переключиться на другую часть тела. Но тот факт, что входной сигнал меняет уже готовый и функционирующий мозг, еще не значит, что этот сигнал может формировать мозг в процессе развития. Большинство ампутантов испытывают фантомные ощущения: яркие, детальные галлюцинации. Невероятно, но довольно многие из тех, кто уже родился без конечности, тоже переживают подобные наваждения[71]. Они способны описать анатомию отсутствующей конечности (например, сколько пальцев чувствуют на несуществующей ноге), им даже может казаться, что они жестикулируют фантомными руками во время разговора. Одна девочка решала арифметические задачи, «загибая пальцы» на своей фантомной руке! Психолог Рональд Мелзак, описавший множество подобных случаев, предположил, что мозг содержит врожденную «нейроматрицу», распределенную между несколькими корковыми и подкорковыми зонами и занятую репрезентацией тела.
Впечатление, что человеческий мозг бесконечно пластичен, подкрепляется историями детей, которые порой восстанавливаются после ранних повреждений мозга. Однако существование церебрального паралича (пожизненных трудностей контроля движений и речи, причина которых — врожденные дефекты или ранние повреждения мозга) показывает, что даже пластичность детского мозга имеет жесткие пределы. Наиболее заметное свидетельство экстремальной пластичности у людей — то, что иногда дети вырастают практически нормальными даже после хирургического удаления во младенчестве одного из полушарий целиком[72]. Однако это — особый случай. Возможно, так происходит потому, что мозг приматов по большей части симметричный орган. Обычная человеческая асимметрия (речью управляет преимущественно левое полушарие, пространственными ощущениями и некоторыми эмоциями — в основном правое) наложена на практически симметричный дизайн. И было бы неудивительно, если бы полушария были генетически запрограммированы обладать в целом похожими возможностями, но и небольшими различиями, позволяющими каждому полушарию специализироваться в одних талантах, оставив другие на долю соседа. С потерей одного из полушарий второму приходится использовать свои способности на полную катушку.
Но что случится, если ребенок потеряет часть коры в обоих полушариях, так что ни одно из них не сможет выполнять работу другого? Если области коры взаимозаменяемы, пластичны и организованы воздействием входных сигналов, уцелевшая часть коры должна взять на себя функции поврежденной. Ребенок может быть несколько заторможен, потому что ему придется обходиться меньшим количеством мозговой ткани, но он должен обладать полным набором человеческих способностей. Однако этого не происходит. Несколько десятилетий назад неврологи наблюдали мальчика, пострадавшего от временной гипоксии мозга и вследствие этого потерявшего языковые области левого полушария и зеркально расположенные области правого. И хотя, когда случилось несчастье, ему было всего десять дней от роду, он рос, постоянно испытывая трудности в речи и понимании[73].
Это исследование, как и многие другие в детской неврологии, нельзя назвать безупречным с научной точки зрения, но недавнее изучение двух других умственных способностей подтверждает, что мозг ребенка может быть не настолько пластичен, как многие думают. Психолог Марта Фарах и ее коллеги недавно рассказали о 16-летнем мальчике, который сразу после рождения перенес менингит, повредивший его зрительную кору и нижнюю часть обеих височных долей мозга[74]. Когда такое случается со взрослыми, они теряют способность узнавать лица, с трудом различают животных, однако обычно понимают слова, узнают инструменты, мебель, различают формы. У мальчика был тот же самый синдром. И хотя он вырос с нормальным вербальным интеллектом, совершенно не мог распознавать лица. Не узнавал даже фотографии актеров из своего любимого телесериала «Пляжный патруль», который смотрел каждый день по часу в течение полутора лет. При отсутствии нужных «линий передач» в мозге ни множество увиденных в течение 16 лет лиц, ни наличие большого количества доступной коры не смогли обеспечить его базовой человеческой способностью различать людей по их внешности.
Нейроученые Стивен Андерсон, Ханна и Антонио Дамасио и их коллеги недавно протестировали двух молодых людей, в детстве пострадавших от повреждения вентромедиальной и орбитофронтальной коры[75]. Эти части мозга расположены над глазами и важны для эмпатии, социальных навыков и самоконтроля (как мы знаем из случая Финеаса Гейджа, железнодорожного рабочего, чей мозг был пронзен металлическим прутом). Оба ребенка оправились от травм, воспитывались в стабильных семьях с нормальными братьями и сестрами, с образованными родителями и выросли во взрослых с обычными IQ. Если бы мозг действительно был однородным и пластичным, здоровые его части должны были бы быть сформированы нормальным социальным окружением и взяли на себя функции поврежденных частей. Увы, этого не случилось ни с одним из них. Девушка, которая попала под машину в возрасте 15 месяцев, ребенком совершенно не подчинялась дисциплине, игнорировала наказания и бесконечно лгала. Будучи подростком, воровала в магазинах и у родителей. У нее не было друзей, она не испытывала ни сочувствия, ни раскаяния и совершенно не интересовалась собственным ребенком. Другой пациент, молодой человек, потерял те же части мозга из-за опухоли в трехмесячном возрасте. Он также вырос вспыльчивым и безынициативным, воровал и не имел друзей. Неприятности не ограничивались плохим поведением. Несмотря на нормальный IQ, оба испытывали затруднения в разрешении простых моральных проблем. Они, например, не могли ответить, что нужно делать людям, поспорившим из-за того, какой телеканал смотреть, или решить, должен ли мужчина украсть лекарство, чтобы спасти свою умирающую жену.
Эти случаи не только развенчивают доктрину экстремальной пластичности, они бросают вызов генетикам и нейроученым XXI века. Каким образом геном приказывает развивающемуся мозгу разграничивать нейронные сети, предназначенные для решения таких абстрактных задач, как различение лиц или внимание к интересам других людей?
* * *
«Чистый лист» дал свой последний бой, однако, как мы видим, его последние научные бастионы оказались иллюзией. Возможно, количество генов в человеческом геноме меньше, чем ожидали биологи, но это показывает только, что число генов не имеет прямого отношения к сложности организма. Возможно, коннекционистские нейросети могут объяснить некоторые из составных блоков мышления, но они недостаточно мощны для того, чтобы самостоятельно овладеть мышлением или речью; для этого их нужно специальным образом спроектировать заранее. Нейропластичность — не волшебная всемогущая сила мозга, а набор инструментов, помогающих превратить мегабиты генома в терабиты мозга, заставляющих сенсорную кору отвечать на внешние сигналы соответствующим образом и реализовывающих процесс научения.
Таким образом, геномика, нейросети и нейропластичность прекрасно вписываются в картину человеческой природы, которая стала вырисовываться в последние десятилетия. Конечно, это не та природа, которая жестко запрограммирована, невосприимчива к внешнему воздействию, свободна от культуры или изначально наделена мельчайшими деталями каждого чувства или понятия. Но это природа, достаточно богатая для того, чтобы отвечать необходимым требованиям: видеть, двигаться, планировать, говорить, сохранять жизнь, понимать смысл происходящего вокруг и согласовывать свои действия с другими людьми.
Затишье после финального боя «чистого листа» — хорошее время для того, чтобы сформировать альтернативную концепцию. И вот мое краткое изложение доказательств существования сложной человеческой природы: некоторые из них повторяют аргументы, изложенные в предыдущих главах, другие предваряют аргументы последующих.
Простая логика говорит, что не может быть научения без врожденных механизмов научения. Эти механизмы должны быть достаточно сильны, чтобы обеспечивать все виды научения, доступные человеку. Теория научения — математический анализ того, как научение может работать в принципе, — гласит, что из конечного набора входных данных можно вывести бесконечное число обобщений[76]. Предложения, которые слышит ребенок, он может использовать по-разному: повторять вслух, составлять комбинации слов с тем же соотношением глаголов и существительных или же анализировать лежащую в их основе грамматику и формулировать высказывания, отвечающие ее правилам. Наблюдение за процессом мытья посуды с равным успехом может побудить обучающегося попытаться отмыть тарелки дочиста или просто позволять теплой воде струиться по пальцам — и то и другое логично. Однако успешный ученик должен делать из входных сигналов существенные умозаключения, отсекая несущественные. Это подтверждают и исследования искусственного интеллекта. Компьютеры и роботы, запрограммированные на выполнение человеческих умений, заведомо должны быть оснащены большим количеством сложных модулей[77].
Эволюционная биология показала, что сложные адаптации повсеместны в живой природе, а естественный отбор способен развить даже сложные мыслительные и поведенческие приспособления[78]. Исследования поведения животных в естественных условиях показывают, что биологические виды по своей природе отличаются один от другого побуждениями и способностями; и некоторые из них (например, навигация по звездам или создание запасов пищи) требуют сложной и специализированной нервной системы[79]. Изучение людей с точки зрения эволюции привело к выводу, что многие психологические особенности (такие, как предпочтение жирной пищи, стремление к социальному статусу или рискованным сексуальным контактам) лучше отвечают эволюционным требованиям окружающей среды из нашего давнего прошлого, чем актуальным требованиям современности[80]. Антропологические обзоры демонстрируют, что сотни универсалий, касающихся каждого аспекта жизненного опыта людей, красной нитью проходят через все мировые культуры[81].
Когнитивисты обнаружили, что разные виды репрезентации и процессы используются в разных областях знаний, таких как слова и правила в языке, представления о стабильности объектов для понимания материального мира или теория разума для понимания других людей[82]. Психология развития показала, что отдельные способы интерпретации опыта вступают в строй на самых ранних этапах жизни: младенцы уже обладают базовыми представлениями об объектах, числах, лицах, инструментах, языке и других областях человеческого мышления[83].
Человеческий геном содержит огромное количество информации и в генах, и в некодирующих частях ДНК, и она управляет созданием сложного организма. Все чаще получается привязать конкретные гены к конкретным аспектам мышления, языка и личности[84]. Разница в психологических чертах часто имеет своей причиной генетические различия: идентичные близнецы похоже больше, чем неидентичные, биологические братья и сестры похожи больше, чем приемные, неважно, выросли они в одной семье или в разных[85]. Темперамент и личностные черты проявляются в раннем детстве и остаются практически неизменными на всем протяжении жизни[86]. В рамках одной культуры личностные черты и интеллект очень мало подвержены влиянию семейного окружения: дети, выросшие в одной семье, похожи в основном из-за того, что делят общие гены[87].
Наконец, нейронаука демонстрирует, что базовая архитектура мозга развивается под контролем генов. Несмотря на важность научения и нейропластичности, системы мозга демонстрируют признаки врожденной специализации и не могут произвольно заменять одна другую[88].
В этих трех главах я подвел итог современному научному взгляду на сложную природу человека. Оставшаяся часть книги посвящена ее значению и последствиям.
ЧАСТЬ II.СТРАХ И НЕНАВИСТЬ
К середине второй половины XX века идеалы социологов первой его половины одержали долгожданную победу. Евгеника, социальный дарвинизм, колониальные войны, жестокое обращение с детьми, открытые проявления расизма и сексизма в образованных кругах, государственная дискриминация женщин и меньшинств — все это осталось в прошлом или, по крайней мере, быстро исчезало из жизни западного общества.
В то же самое время доктрина «чистого листа», которая бо́льшую часть столетия была затуманена идеалами равенства и прогресса, начала трещать по швам. С расцветом новых наук о природе человека становилось ясно, что мышление — это физический процесс, что люди — не психологические клоны, что половые различия касаются не только того, что находится ниже шеи, но и того, что выше; что мозг человека не был обойден эволюцией, что люди всех культур обладают общими особенностями психики и новые идеи эволюционной биологии способны их выявить.
Эти новшества поставили интеллектуалов перед выбором. Трезвые умы могли бы объяснить, что подобные открытия не должны влиять на политические идеалы равных возможностей и равных прав, потому что идеалы — это моральные принципы, регулирующие отношения между людьми, а не научные гипотезы о том, что представляет собой человек. Безусловно, нельзя обращать людей в рабство, подавлять, дискриминировать или убивать на основании каких бы то ни было фактов или теорий, предложенных учеными.
Но это не были времена трезвых умов. Вместо того чтобы отделить моральные доктрины от научных (и тогда мы могли бы быть уверены, что, какие бы теории ни выходили из исследовательских лабораторий, человечество не вернется в прошлое), многие интеллектуалы, включая некоторых всемирно известных ученых, сделали все возможное, чтобы их связать. Открытия в области человеческой природы встречались со страхом и ненавистью, их считали угрозой идеалам прогресса. Сегодня такой подход мог бы уже стать историей, если бы не факт, что эти интеллектуалы, в то время называвшие себя радикалами, нынче сделались столпами науки и посеянные ими опасения перед человеческой природой пустили корни в современной интеллектуальной жизни.
Эта часть книги посвящена политически мотивированной реакции на новые науки о природе человека. Хотя первоначально против нее протестовали левые, сегодня их взгляды разделяют и правые деятели, которых обуревают те же самые моральные возражения. В главе 6 я подробно расскажу об интригах в ответ на новые идеи о человеческой природе. В главе 7 покажу, почему подобные реакции закономерно вытекают из нравственного императива, отстаивающего «чистый лист», «благородного дикаря» и «духа в машине».
Глава 6. Ученые-политики
Первую лекцию, которую я посетил в Гарварде в 1976 году, будучи студентом магистратуры, читал известный теоретик вычислительной техники Джозеф Вейценбаум. Вейценбаум одним из первых занялся изучением искусственного интеллекта, а наибольшую известность ему принесла программа «Элиза», заставлявшая людей думать, что компьютер может поддерживать беседу, хотя тот всего лишь жонглировал готовыми ответами. Вейценбаум только что опубликовал книгу «Возможности вычислительных машин и человеческий разум» (Computer Power and Human Reason), объявленную «важнейшей за последние 10 лет книгой о компьютерах». В ней он критиковал искусственный интеллект и компьютерные модели познания. У меня были определенные опасения в отношении этой книги, в которой было маловато аргументов, зато ханжества — в избытке. (Например, он писал, что определенные идеи в области искусственного интеллекта, такие как научно-фантастические предположения о гибриде из нервной системы и компьютера, «просто непристойны. Одна только мысль о таких приложениях должна вызывать чувство отвращения в каждом цивилизованном человеке… Непонятно, что должно было случиться с восприятием жизни тех, кто продвигает такие идеи, с их восприятием самих себя как части жизненного континуума, чтобы они могли даже думать о таких вещах»[1].) Однако ничто не могло подготовить меня к тому спектаклю, которому я стал свидетелем в тот день в Музее науки.
Вейценбаум обсуждал программу искусственного интеллекта, разработанную Аланом Ньюэллом и Гербертом Саймоном. Программа была основана на аналогии: если она знала решение одной задачи, она применяла это решение к другим, с похожей логической структурой. Как сказал Вейценбаум, в действительности она была создана для помощи Пентагону в планировании карательных операций против вьетнамских партизан. Тогда говорили, что вьетконговцы «чувствуют себя в джунглях как рыба в воде». И если программу снабдить соответствующей информацией, сказал он, та способна сделать вывод, что, подобно тому, как осушают пруд, чтобы добраться до рыбы, можно вырубить джунгли, чтобы поймать вьетконговцев. Обратившись к проблемам компьютерного распознавания речи, он сказал, что единственной убедительной причиной для изучения восприятия речи было то, что ЦРУ позволили прослушивать миллионы телефонных разговоров одновременно, и убеждал студентов в аудитории бойкотировать подобные исследования. Но, добавил он, на самом деле не важно, последуем мы его совету или нет, поскольку он совершенно уверен — у него нет ни тени сомнений, — что к 2000 году мы все будем мертвы. И этим вдохновляющим напутствием молодежи он и закончил свою речь.
Слухи о нашей скорой кончине оказались сильно преувеличенными, так же как и прочие звучавшие в тот день пророчества. Использование аналогии в умозаключениях отнюдь не происки дьявола, и сегодня это основная тема исследований в когнитивистике. Считается, что это поможет узнать, что делает нас умными. Программы распознавания речи широко используются в телефонных информационных службах и на домашних компьютерах, где они стали благословением для инвалидов и людей, страдающих от туннельного синдрома запястья. Сегодня обвинения Вейценбаума остаются напоминанием о политической паранойе и нравственном эксгибиционизме, типичном для университетских сообществ в 1970-х, когда формировалась нынешняя оппозиция наукам о человеческой природе.
По-другому я представлял себе, как проходят научные дискуссии в «американских Афинах», как называют Бостон, но, возможно, мне не стоило удивляться. Битвы мнений веками сопровождались крикливым морализаторством, шельмованием оппонентов, преувеличениями, а то и приемами похлеще. Казалось бы, наука должна быть плацдармом, где сталкиваются идеи, а не люди, и где объективные факты отделяются от политических мнений. Но, когда наука приближается к вопросу о человеческой природе, наблюдатели реагируют не так, как они реагировали бы, например, на открытия в области происхождения комет или классификации ящериц, и ученые возвращаются на морализаторские позиции, естественные для нашего вида.
Исследования человеческой природы — тема спорная в любые времена, но новые науки выбрали особенно неподходящее десятилетие для привлечения к себе всеобщего внимания. В 1970-х многие интеллектуалы стали политическими радикалами. Марксизм — это истина, либерализм — для слабаков, а Маркс заявлял, что «господствующие идеи каждого исторического периода были идеями его господствующего класса». Традиционное недоверие к человеческой природе стало ассоциироваться с крайне левой идеологией, и ученые, исследовавшие разум человека в биологическом контексте, считались теперь инструментом в руках реакционного истеблишмента. Их противники объявили себя частью движения «Радикальная наука», дав нам подходящее название для группы[2].
Вейценбаум испытывал отвращение к попыткам отождествить мозг и механизм в рамках искусственного интеллекта и когнитивистики, но другие науки о человеческой природе вызывали у него не меньшее раздражение. В 1971 году психолог Ричард Хернштейн опубликовал в журнале Atlantic Monthly статью под названием «IQ»[3]. Рассуждения Хернштейна, как признавал он сам, были банальны. Он писал, что, поскольку на социальный статус все меньше влияют такие случайные факторы, как раса, происхождение и унаследованное богатство, он будет во все большей степени зависеть от способностей человека, особенно (в современной экономике) от интеллекта. И коль скоро разница в уровне интеллекта частично наследуема, а умные люди, как правило, вступают в брак с другими умными людьми, следовательно, когда общество станет более справедливым, оно станет и более стратифицированным по генетическим признакам. Умные люди поднимутся в верхние слои общества, и их дети, скорее всего, останутся там, где были. Основной аргумент действительно банален, поскольку основан на математической необходимости: если снижается влияние негенетических факторов на разницу социальных статусов, то влияние генетических причин должно пропорционально возрасти. Это было бы абсолютно неверно, если бы не существовало разницы в социальных статусах из-за интеллектуальных способностей (для этого было бы нужно, чтобы люди не стремились нанимать на работу умных и сотрудничать с умными) или если бы не было генетических отличий в интеллекте (а для этого люди должны быть «чистыми листами» или клонами).
Аргумент Хернштейна не предполагает, что любые различия в среднем уровне интеллекта у разных рас обусловлены природой (такую гипотезу выдвигал Артур Дженсен двумя годами ранее)[4], и он специально уточнил, что не имел в виду ничего подобного. Расовая десегрегация в школах началась менее поколения назад, законодательство о гражданских правах насчитывало менее десятилетия, так что в то время разница в уровне IQ у белых и черных была легко объяснима разницей в возможностях. Действительно, говорить, что из силлогизма Хернштейна следует, будто черные окажутся на дне генетически стратифицированного общества, — значит необоснованно предполагать, что черные в целом менее умны генетически, чего Хернштейн всеми силами старался избегать.
Тем не менее влиятельный психиатр Элвин Пуссен написал, что Хернштейн «стал врагом черных людей и его высказывания угрожают жизни каждого черного человека в Америке». Он риторически вопрошал: «Может быть, нам устроить демонстрацию в защиту его права на свободу слова?» В университетском районе Бостона раздавались буклеты, убеждавшие студентов «бороться с фашистской ложью гарвардского профессора», а Гарвардская площадь была увешана фотографиями Хернштейна с подписью «Разыскивается за расизм» и вырванными из контекста цитатами из его статьи. Хернштейну угрожали убийством, и в довершение всего он не мог больше выступать по темам своей научной специальности (научение у голубей), потому что, куда бы он ни приехал, лекционные залы заполнялись протестующими толпами. Например, в Принстоне студенты угрожали заблокировать дверь аудитории, чтобы заставить Хернштейна отвечать на каверзные вопросы об IQ. Несколько лекций в других университетах были отменены, поскольку руководство заявляло, что не может гарантировать ему безопасность[5].
Тема обусловленных природой различий между людьми имеет явный политический подтекст, и я исследую ее в последующих главах. Однако некоторые ученые были возмущены и таким, казалось бы, безобидным заявлением, что люди имеют врожденные общие черты. В конце 1960-х психолог Пол Экман обнаружил, что улыбка, нахмуренные брови, презрительная ухмылка, гримасы и другие выражения лица одинаково выглядят и понимаются по всему миру, даже среди диких племен, никогда не контактировавших с западными цивилизациями. Это открытие, убеждал он, подтверждает два заявления, сделанных Дарвином в 1872 году в его книге «Выражение эмоций у человека и животных» (The Expression of the Emotions in Man and Animals). Одно — о том, что свойство выражать эмоциичеловеческие лица обрели в процессе эволюции; другое, радикальное для времен Дарвина, — что все расы произошли от общего предка сравнительно недавно[6]. Несмотря на эти воодушевляющие заявления, Маргарет Мид назвала работу Экмана «возмутительной», «отталкивающей» и «позорной» — и это только самые мягкие из эпитетов[7]. На ежегодной встрече Американской антропологической ассоциации Алан Ломакс (младший) встал со своего места и крикнул, что Экману нельзя позволять выступать, поскольку его идеи — фашистские. В другой раз афроамериканский активист обвинил его в расизме за утверждение, что эмоциональные выражения лица черных не отличаются от таковых у белых (куда ни кинь — всюду клин). Не только утверждения о врожденных способностях человеческого вида бесили радикалов, но и утверждения о врожденных способностях любых животных вообще. Когда нейроученые Торстен Визель и Дэвид Хьюбел опубликовали свою легендарную работу, в которой показали, что формирование зрительной системы кошек практически полностью завершено к моменту рождения, другой нейроученый в ярости обозвал Торстена фашистом и поклялся доказать, что тот не прав.
* * *
Некоторые из этих протестов были знаками времени и сошли на нет вместе с модой на радикализм. Но две книги об эволюции вызывали бурную реакцию десятилетиями, став важной частью интеллектуального мейнстрима.
Первая — «Социобиология» (Sociobiology) Эдварда Уилсона, изданная в 1975 году[8]. Автор обобщил массу исследований поведения животных, рассматривая его в свете новых идей естественного отбора, предложенных Джорджем Уильямсом, Уильямом Гамильтоном, Джоном Мэйнардом Смитом и Робертом Триверсом. В книге пересматривались принципы эволюции общения, альтруизма, агрессии, пола и родительства на примере социальных животных — насекомых, птиц и рыб. В главе 27 эти же вопросы рассматривались применительно к Homo sapiens, представляя наш вид еще одной ветвью царства животных. Исследование включало обзор литературы по общим чертам и отличиям обществ, дискуссию о языке и его влиянии на культуру и гипотезу, что некоторые универсалии (включая нравственное чувство) могли происходить из природы человека, сформированной естественным отбором. Уилсон выразил надежду, что эти идеи могут соединить биологию с социальными науками и философией, мысль, которую он позже развивал в своей книге «Согласованность» (Consilience).
Первая же атака на «Социобиологию» нацелилась на ее главную ересь. Антрополог Маршал Салинз написал в ответ обширный критический труд, в котором назвал «вульгарную социобиологию» вызовом доктрине Дюркгейма и Крёбера о суперорганизме: вере, что культура и общество отделены от индивидуумов, их мыслей и чувств. «Вульгарная социобиология, — писал Салинз, — это интерпретация социального поведения человека как выражения желаний и побуждений отдельного человеческого организма, каковые были созданы в человеческой природе биологической эволюцией»[9]. Опасаясь посягательств на сферу его академических интересов, он добавил: «Центральная интеллектуальная проблема сводится к автономии культуры и к изучению культуры. "Социобиология" угрожает целостности культуры как "вещи в себе", как уникальному и символическому творению человека»[10].
Книга Салинза называлась «Употребление биологии и злоупотребление ею» (The Use and Abuse of Biology). В качестве примера предполагаемого злоупотребления подавалась идея, что теория Гамильтона о совокупной приспособленности может объяснить важность родственных связей в жизни человека. Гамильтон показал, как могла эволюционировать тенденция жертвовать чем-либо ради родственников. У родственников есть общие гены, так что ген, который подталкивает организм помогать родственнику, косвенно помогает и собственной копии. Ген будет размножаться, если издержки, связанные с помощью, меньше, чем выигрыш, доставшийся родственнику с учетом степени родства. (Половина — для брата или сестры, а также ребенка, одна восьмая — для двоюродных братьев и сестер и т. д.) Салинз пишет, что это не может быть верно, потому что люди в большинстве культур не знают слов, обозначающих дроби. И поэтому не способны вычислить коэффициент родства, чтобы на его основании решить, какому родственнику оказывать поддержку и в каком объеме. Его возражение — хрестоматийный пример путаницы между проксимальной и ультимальной причиной. Это то же самое, что сказать, что люди не могут видеть вдаль, потому что большинство культур не знает тригонометрии, которая лежит в основе стереоскопического зрения.
В любом случае определение «вульгарный» — это еще цветочки. В ответ на благоприятный отзыв известного биолога Конрада Уоддингтона в журнале New York Review of Books «Группа социобиологических исследований» (в которую входили двое коллег Уилсона, палеонтолог Стивен Гулд и генетик Ричард Левонтин) опубликовала широко разошедшуюся филиппику под названием «Против "Социобиологии"» (Against «Sociobiology»). Обвинив Уилсона в поддержке евгеники, социального дарвинизма и гипотезы Дженсена о врожденных расовых отличиях интеллекта, авторы писали:
Причина живучести этих время от времени возникающих детерминистских теорий в том, что они упорно пытаются предоставить генетические оправдания существующему status quo и привилегиям определенных социальных групп в соответствии с классом, расой или полом… Эти теории обосновали принятие законов о принудительной стерилизации и запретительных иммиграционных законов в США между 1910 и 1930 годами, а также евгенику, которая привела к газовым камерам в нацистской Германии.
Книга Уилсона показывает, как трудно отделить не только влияние внешней среды (например, культурную трансмиссию), но также личные и классовые предубеждения исследователя. Уилсон присоединился к длинной череде биологических детерминистов, чьи работы призваны поддерживать существующие общественные институты, освобождая их от ответственности за социальные проблемы[11].
Они также обвинили Уилсона в рассуждениях о «благотворном влиянии геноцида» и признании «таких институтов, как рабство… естественными в человеческих обществах в силу их "универсального" распространения среди биологических видов». На случай, если связь была подчеркнута недостаточно сильно, один из подписантов уточнил, что «согласно последним данным, именно социобиологические исследования обеспечили концептуальную базу для трансформации теории евгеники в реальный геноцид» в нацистской Германии[12].
В последней главе «Социобиологии» нетрудно найти повод для критики. Сегодня мы знаем, что некоторые из уилсоновских универсалий неточны или определены слишком грубо, а его заявление, что однажды моральные суждения будут вытеснены эволюционной биологией, однозначно ошибочно. Но и критические оценки в книге «Против "Социобиологии"» были заведомой ложью. Уилсона назвали «детерминистом», считающим, что человеческие общества подчиняются жестким генетически заданным правилам. Но вот что писал он сам:
Первый и легче всего проверяемый диагностический признак (человеческих обществ) по природе количественный. Параметры социальной организации… в человеческой популяции варьируют гораздо больше, чем у любых других приматов… Почему человеческие общества настолько гибки?[13]
Похожим образом Уилсона обвинили в убеждении, что люди делятся на касты в зависимости от расы, класса, пола и индивидуального генома. Но в действительности он писал, что «свидетельств наследственной передачи социального статуса мало»[14] и что «человеческие популяции не сильно отличаются одна от другой генетически»[15]. Более того:
Человеческие общества расцвели до уровня крайней сложности, потому что их члены обладают интеллектом и гибкостью, которые позволяют им принимать на себя практически любые роли и переключаться между ними, когда это необходимо. Современный человек — исполнитель множества ролей и способен соответствовать постоянно меняющимся требованиям среды[16].
Что касается неискоренимости агрессии — еще одна опасная идея, в поддержке которой он был обвинен, — Уилсон писал, что в процессе эволюции человека «агрессивность ограничивалась и старые формы примитивного доминирования заменялись сложными социальными навыками»[17]. Обвинения в том, что личные предубеждения Уилсона (всю жизнь принадлежавшего к либеральным демократам) заставили его защищать расизм, сексизм, неравенство, рабство и геноцид, были тем более несправедливы и безответственны, что Уилсон стал объектом травли и преследования со стороны тех, кто читал манифест, а не его книгу[18].
В Гарварде распространялись буклеты и агитки, протестующие с мегафонами требовали отставки Уилсона, а в его класс регулярно врывались студенты, выкрикивающие оскорбления. Когда он выступал в других университетах, там развешивались плакаты, в которых Уилсона называли «правым проповедником патриархата», а слушателей призывали срывать его лекции[19]. В 1978 году Уилсон готовился начать выступление на встрече Американской ассоциации содействия развитию науки, когда группа людей с плакатами (на одном из которых была изображена свастика) ворвалась на сцену, скандируя: «Ты не скроешься, расист Уилсон, мы обвиняем тебя в геноциде». Один из протестующих схватил микрофон и со страстью обратился к аудитории, в то время как другой вылил на Уилсона воду из графина.
В последующие годы, с ростом дурной славы «Социобиологии», Гамильтон и Триверс, авторы многих описанных там идей, тоже стали жертвами пикетчиков, как и антропологи Ирвен Девор и Лайонел Тайгер, пытавшиеся эти идеи популяризировать. Клеветнические заявления, что Триверс служил инструментом расизма и тирании правых, особенно раздражали, поскольку сам Триверс был политическим радикалом, поддерживал Черных пантер и сотрудничал с Хью Ньютоном[20]. Триверс говорил, что социобиология, если уж на то пошло, способствует политическому прогрессу. Она основывается на представлении, что организмы эволюционируют не на благо своей семьи, группы или вида, так как индивидам, составляющим эти группы, присущ генетический конфликт интересов друг с другом и каждый защищает свои. Такой подход автоматически подрывает удобную веру в то, что власть имущие правят, руководствуясь идеей всеобщего блага, и проливает свет на недооцененных социальных акторов, таких как женщины и молодежь. Кроме того, отыскав эволюционную основу альтруизма, социобиология показывает, что чувство справедливости имеет глубокие корни в разуме людей и не противоречит их биологической природе. И, показав, что самообман также эволюционирует (потому что лучший лжец тот, кто верит в собственную ложь), социобиология стимулирует самокритику и направлена против лицемерия и коррупции[21]. (Я вернусь к политическим взглядам Триверса и других «левых дарвинистов» в разделе, посвященном политике.)
Триверс позже писал об атаках на социобиологию: «Хотя некоторые из нападающих были известными биологами, сама атака выглядела интеллектуально слабой и неподготовленной. Грубые логические ошибки никого не смущали, пока давали некоторые тактические преимущества в политической борьбе… Будучи наймитами господствующих заинтересованных кругов, говорили эти коллеги, выражающие те же самые интересы, мы были носителями их мнения, нанятыми, чтобы усугубить обман, с помощью которого правящая элита сохраняла бы свое несправедливое преимущество. И хотя эволюционное мышление подсказывает, что индивидуумы склонны подбирать аргументы исключительно (и часто неосознанно) себе на пользу, априори кажется невероятным, чтобы все зло сосредоточилось полностью в одной из групп наймитов, а все добродетели — в другой»[22].
«Известные биологи», которых имеет в виду Триверс, — это Гулд и Левонтин. Вместе с британским нейроученым Стивеном Роузом они стали интеллектуальным авангардом радикального научного движения. Двадцать пять лет они не покладая рук вели оборонительные бои против поведенческой генетики, социобиологии (и позже эволюционной психологии) и против нейронаук в таких политически чувствительных областях, как разница между полами и психические заболевания[23]. Кроме Уилсона основной целью их атак был Ричард Докинз. В своей книге «Эгоистичный ген» (The Selfish Gene), изданной в 1976 году, Докинз коснулся тех же тем, что и Уилсон, но сосредоточился на логике новых эволюционных теорий, а не на зоологических деталях. Он почти ничего не сказал о людях.
Доводы радикальных ученых против Уилсона и Докинза можно свести к двум словам: «детерминизм» и «редукционизм»[24]. Их сочинения просто усыпаны этими словами, употребленными не в прямом смысле, а скорее как иносказательное оскорбление. Вот для примера два характерных пассажа из книги Левонтина, Роуза и психолога Леона Камина с определенно «чистолистовым» названием «Не в наших генах» (Not in Our Genes):
Социобиология — это редукционистское, биологически детерминистское объяснение человеческого существования. Ее приверженцы заявляют… что детали настоящего и прошлого социального устройства — это неизбежные проявления специфического действия генов[25].
[Редукционисты] утверждают, что характеристики человеческого общества… не более чем сумма индивидуального поведения и склонностей отдельных людей, из которых состоит это общество. Например, общества «агрессивны», потому что личности, составляющие его, «агрессивны»[26].
Цитаты из книги Уилсона, приведенные ранее в этой главе, показывают, что он никогда не говорил ничего похожего, то же самое, конечно, касается и Докинза. Например, после обсуждения поведения самцов млекопитающих, которые склонны искать больше сексуальных партнеров, чем самки, Докинз посвятил абзац и человеческому обществу. Он написал:
Это удивительное разнообразие предполагает, что образ жизни человека в большей степени определен культурой, а не генами. Тем не менее возможно, что мужчины в целом склонны к промискуитету, а женщины — к моногамии, чего можно было бы ожидать с точки зрения эволюции. Какая из этих тенденций победит в конкретном обществе, зависит от особенностей культуры, так же как и у различных видов животных это зависит от экологических условий[27].
Каково же точное значение слов «детерминизм» и «редукционизм»? В том смысле, в котором их используют математики, «детерминированная» система — это система, чье нынешнее состояние определено предыдущими состояниями с абсолютной точностью, а не вероятностно. И ни Докинз, и ни один другой вменяемый биолог не мог и помыслить о предположении, что человеческое поведение детерминировано в том смысле, что люди должны совершать акты промискуитета, агрессии и эгоизма при каждой возможности. Среди радикальных ученых и тех интеллектуалов, на которых они повлияли, слово «детерминизм» обрело новое значение, диаметрально противоположное истинному. Оно сейчас употребляется в адрес любого заявления, что у людей есть склонностьвести себя определенным образом в определенных обстоятельствах. В том, что вероятность больше нуля автоматически приравнивается к стопроцентной вероятности, явно видно влияние «чистого листа». Единственно приемлемой считается теория нулевой наследственности, и в глазах радикальных ученых любые отклонения от нуля одинаково недопустимы.
О генетическом детерминизме сказано достаточно. Что же насчет «редукционизма» (понятия, которое мы рассматривали в главе 4) и заявления, что Докинз — «главный редукционист среди социобиологов», убежденный, что каждый признак определяется своим геном? Левонтин, Роуз и Камин пытались объяснить своим читателям, как на самом деле работает жизнь, в соответствии с их альтернативой редукционизму, которую они назвали «диалектической биологией»:
Подумайте, например, о выпечке пирога: вкус продукта — результат сложного взаимодействия компонентов — масла, сахара и муки, подвергаемых в разные периоды времени воздействию нарастающих температур; он не распадается на такой-то процент муки, такой-то процент масла и т. д., хотя каждый из ингредиентов вносит свой вклад в окончательный результат[28].
Позволю себе привести комментарий Докинза:
Когда вопрос ставится таким образом, эта диалектическая биология, кажется, имеет смысл. Возможно, даже я мог бы быть диалектическим биологом. Я вот думаю, нет ли чего знакомого в этом пироге? Да, вот оно, в публикации 1981 года за авторством главного редукциониста в социобиологии:
«Если мы следуем конкретному рецепту в поваренной книге, слово за словом, в конце концов мы испечем пирог. И теперь мы уже не можем разделить его на отдельные крошки и сказать: эта крошка относится к первому слову в рецепте, эта — ко второму и т. д. С минимальными исключениями вроде вишенки сверху, мы не найдем точного соответствия между словами в рецепте и кусочками пирога. Пирог — результат применения рецепта в целом».
Я, конечно же, не заявляю эксклюзивных прав на этот пирог… Но я действительно надеюсь, что это маленькое совпадение по крайней мере заставит Роуза и Левонтина притормозить. Может быть, их противники не такие уж наивные атомистические редукционисты, какими те так страстно желают их видеть?[29]
Действительно, обвинения в редукционизме здесь вывернуты наизнанку, потому что Левонтин и Роуз в своих исследованиях выступают самыми настоящими биологическими редукционистами, объясняющими различные феномены на уровне генов и молекул. Докинз, напротив, по образованию этолог и пишет о поведении животных в естественной среде обитания. Уилсон, в свою очередь, пионер экологических исследований и страстный защитник исчезающей области науки, о которой молекулярные биологи пренебрежительно отзываются как о биологии «птичек и цветочков».
Когда все прочие попытки провалились, Левонтин, Роуз и Камин в конце концов приписали Докинзу следующую убийственную цитату: «Они [гены] контролируют нас, наше тело и разум»[30]. Это на самом деле звучит довольно детерминистически. Но в действительности Докинз писал: «Гены создали нас, наше тело и разум», что звучит совершенно по-другому[31]. Левонтин использовал эту поддельную цитату в пяти различных местах[32].
Есть ли какое-нибудь благожелательное объяснение этих «грубых ошибок», как назвал их Триверс? Возможно, Докинз и Уилсон использовали выражение «ген для Х», обсуждая эволюцию социального поведения вроде альтруизма, моногамии и агрессии. Левонтин, Роуз и Гулд постоянно цеплялись к этому выражению, которое, как они считали, относилось к гену, всегда определявшему поведение и являвшемуся единственной причиной этого поведения. Но Докинз совершенно четко дает понять, что эта фраза относится к гену, который увеличивает вероятность поведения, в сравнении с другими генами, которые могли бы находиться в этом локусе. И эта возможность — среднее арифметическое влияния других генов, которые сопровождали его на протяжении эволюции, и влияния среды, в которой существовали организмы, обладающие этим геном. Это нередукционистское и недетерминистское употребление фразы «ген для Х» общепринято среди генетиков и эволюционных биологов, потому что необходимо для их работы. На некоторые виды поведения оказывают влияние некоторые гены, иначе мы никогда не сможем объяснить, почему львы ведут себя не так, как овцы, почему куры сидят на яйцах, а не едят их, почему олени бодаются, а мыши-песчанки — нет и т. д. Цель эволюционной биологии — объяснить, как эти животные стали обладателями именно этих генов, а не генов с другими эффектами. И конкретный ген может не иметь одинакового эффекта в любой среде или в любом геноме, но он должен иметь усредненный эффект. Именно это среднее и выбирает естественный отбор (при прочих равных), и именно в этом смысл слова «для» во фразе «ген для Х». Трудно поверить, что эволюционные биологи Гулд и Левонтин поняли фразу неправильно, но если так, это может объяснить 25 лет бессмысленных нападок.
Но как далеко можно зайти в подобных спорах? Насмешки над сексуальной жизнью оппонента, казалось бы, существуют только в плохих сатирических комиксах об ученых. Но Левонтин, Роуз и Каминвынесли на обсуждение предположение социолога Стивена Голдберга, что женщины мастерски умеют манипулировать чужими эмоциями, прокомментировав: «Какая трогательная иллюстрация уязвимости Голдберга перед обольщением открывается нам!»[33]Позже они упоминали ту часть революционной книги Дональда Саймонса «Эволюция человеческой сексуальности» (The Evolution of Human Sexuality), в которой он показывает, что в любых обществах секс обычно считается одолжением или услугой со стороны женщины. «Когда читаешь социобиологию, — комментируют они, — тебя преследует ощущение, что ты вуайерист, заглядывающий в автобиографические воспоминания ее сторонников»[34]. Роузу так понравилась эта шутка, что он повторил ее 14 лет спустя в своей книге «Линии жизни: Биология за пределами детерминизма» (Lifelines: Biology Beyond Determinism)[35].
* * *
Надежда, что подобная практика — дело прошлого, была опрокинута событиями 2000 года. Антропологи всегда были настроены враждебно к тем, кто обсуждал человеческую агрессивность в биологическом контексте. В 1976 году Американская антропологическая ассоциация чуть не приняла предложение подвергнуть «Социобиологию» цензуре и запретить два тематических симпозиума, а в 1983 году она постановила, что книга Дерека Фримена «Маргарет Мид и Самоа» (Margaret Mead and Samoa) «плохо написана, ненаучна, безответственна и ошибочна»[36]. Но это были цветочки по сравнению с тем, что ожидало впереди.
В сентябре 2000 года антропологи Теренс Тёрнер и Лесли Спонсел отправили руководителям ассоциации письмо (которое быстро распространилось по киберпространству), предупреждающее о скандале в антропологии, который скоро будет обнародован в книге журналиста Патрика Тьерни[37]. Подозреваемыми в преступлении были Джеймс Нил, основатель современной генетики человека, и антрополог Наполеон Шеньон, известный тем, что 30 лет изучал народ яномамо, живущий в тропических лесах Амазонки. Тёрнер и Спонсел писали:
Эта кошмарная история — настоящее сердце тьмы антропологии, такую даже Джозеф Конрад не мог бы придумать (хотя мог бы, вероятно, Джозеф Менгеле) — будет оценена (правильно, по нашему мнению) широкой публикой и большинством антропологов как суд над научной дисциплиной в целом. Как сказал еще один человек, прочитавший рукопись, книга посягает на самые основы антропологии. Благодаря ей станет ясно, как продажные и развращенные поборники этой дисциплины распространяли свой яд так долго, пользуясь большим уважением в западном мире и пичкая поколения студентов ложью под видом введения в антропологию. Это не должно повториться.
Это действительно были шокирующие обличения. Тёрнер и Спонсел обвинили Нила и Шеньона в том, что они намеренно заразили яномамо корью (которая часто смертельна для туземных племен) и затем не оказывали им медицинской помощи, чтобы Нил мог проверить свои «генетические теории с уклоном в евгенику». Согласно толкованию этих теорий Тёрнером и Спонселом, Нил якобы считал, что полигамные вожди диких племен должны быть биологически более приспособлены, чем изнеженные представители западных обществ, потому что обладают «доминантными генами» для «врожденной способности», которые отбираются во время жестоких схваток вождей за обладание женщинами. Нил верил, утверждали Тёрнер и Спонсел, что «демократия, с ее бесконтрольным размножением масс и сентиментальной поддержкой слабых» — это ошибка. Они рассуждают так: «Политические последствия этой фашистской евгеники ясны — общество должно быть разделено на небольшие изолированные группы, в которых самцы, обладающие лучшими генами, могли бы доминировать, уничтожая или подчиняя себе неудачников в соревновании за власть и женщин и окружая себя гаремами самок-производительниц».
Обвинения против Шеньона были столь же чудовищными. В книгах и статьях, посвященных яномамо, Шеньон подробно описывал их частые войны и набеги и приводил доказательства того, что мужчины, участвовавшие в убийствах, имели больше жен и детей, чем те, кто не убивал[38]. (Эти выводы провокативны, так как если подобные преимущества типичны для догосударственных обществ, в рамках которых эволюционировали наши предки, то естественный отбор должен был способствовать стратегическому применению насилия.) Тёрнер и Спонсел приписывали ему подтасовку фактов, подстрекательство яномамо к насилию (он якобы сеял между ними раздор из-за ножей и кастрюль, которыми расплачивался со своими информаторами) и инсценировку смертельных схваток для своих документальных фильмов. Портрет яномамо, нарисованный Шеньоном, утверждали они, использовался для оправдания вторжения на их территории золотодобытчиков, подстрекаемых тайным сговором Шеньона и «прогнивших» венесуэльских политиков. Численность яномамо действительно значительно снизилась в результате болезней и бесчинств золотодобытчиков, так что претензии, предъявленные Шеньону, были по сути обвинениями в геноциде. Для убедительности Тёрнер и Спонсел добавили, что в книге Тьерни «вскользь упоминается, будто бы Шеньон требовал, чтобы яномамо приводили к нему девушек для секса».
Вскоре по всему миру в прессе появились заголовки вроде «Ученый убивал индейцев Амазонки, чтобы проверить расовую теорию», за ними последовали выдержки из книги Тьерни в журнале New Yorker, а затем и сама книга «Тьма в Эльдорадо: Как ученые и журналисты опустошили Амазонку» (Darkness in El Dorado)[39]. Под давлением юристов издательства, опасающихся исков о клевете, некоторые особенно сенсационные обличения были из книги исключены, сглажены или вложены в уста венесуэльских журналистов или анонимных источников информации. Однако суть обвинений оставалась прежней[40].
Тёрнер и Спонсел признавали, что их обвинения в отношении Нила «представляют собой только предположения на основе того, что нам сегодня известно: прямых улик нет — Нил нигде не писал и не говорил об этом». И это еще мягко сказано. По прошествии времени люди, обладающие достоверными знаниями о тех событиях — историки, эпидемиологи, антропологи и киножурналисты, — разбили эти аргументы пункт за пунктом[41].
Джеймс Нил (умерший незадолго до скандала) вовсе не был порочным последователем евгеники, он был уважаемым и титулованным ученым, последовательно выступавшим против нее. Более того, его имя часто связывают с очищением науки о генах человека от евгенических теорий, что способствовало росту уважения к ней. В свете этого абсурдная теория, которую ему приписали Тёрнер и Спонсел, была совершенно бессвязной и научно безграмотной (например, они спутали «доминантный ген» с геном, отвечающим за доминирование). И в любом случае нет ни малейших свидетельств, что Нил придерживался хоть сколько-нибудь близких убеждений. Записи показывают, что Нил и Шеньон не ожидали застать эпидемию кори в самом разгаре и прилагали героические усилия, чтобы ее сдержать. Вакцина, которую они вводили туземцам и которую Тьерни считал причиной эпидемии, до этого вводилась сотням миллионов людей по всему миру и никогда не становилась причиной передачи инфекции, и, скорее всего, усилия Нила и Шеньона спасли сотни жизней яномамо[42]. В ответ на публичные заявления эпидемиологов, отвергающих его утверждения, Тьерни сбивчиво оправдывался: «Эксперты, с которыми я беседовал тогда, высказывали мнения, очень отличающиеся от того, что они публично заявляют сейчас»[43].
И хотя никто не может утверждать, что Нил и Шеньон случайно не распространяли инфекцию самим своим присутствием, это все же маловероятно. Яномамо, рассеянные по территории в десятки тысяч квадратных миль, имели гораздо больше контактов с другими европейцами, чем с Шеньоном и Нилом, потому что в лесах Амазонки слоняются тысячи миссионеров, торговцев, старателей и искателей приключений. Шеньон свидетельствовал, что источником предыдущего всплеска кори была католическая миссия монахов-салезианцев. Вдобавок Шеньон обвинял миссионеров в снабжении яномамо огнестрельным оружием и обрел в лице монахов злейших врагов. Не случайно большинство яномамо — информаторов Тьерни — были так или иначе связаны с миссией.
Конкретные обвинения в адрес Шеньона распались так же быстро, как и против Нила. Шеньон, в противоположность тому, в чем обвинял его Тьерни, не преувеличивал агрессивность яномамо и не игнорировал прочие стороны их образа жизни; на самом деле он в деталях описывал их способы разрешения конфликтов[44]. Предположение, что Шеньон познакомил их с жестокостью, просто анекдотично. Военные столкновения и налеты среди яномамо были описаны еще в середине XIX века и постоянно регистрировались в первой половине XX века, задолго до того, как Шеньон впервые приехал на Амазонку. Этому есть яркое свидетельство — репортаж от первого лица под названием «Яноама: История Хелены Валеро, девочки, похищенной индейцами Амазонки» (Yanoáma: The Story of Helena Valero, a Girl Kidnapped by Amazonian Indians)[45]. Фактические утверждения Шеньона отвечали золотому стандарту науки — независимому повторению наблюдений. В обзоре уровня смертности из-за войн в догосударственных обществах приблизительные оценки Шеньона, касающиеся яномамо, попадают в ожидаемый диапазон, как видно из таблицы в главе №3 [46]. Даже его наиболее сомнительное утверждение, что убийцы имеют больше жен и детей, подтверждается и в других группах, хотя интерпретация этого наблюдения неоднозначна. Поучительно сравнить выводы, которые Тьерни сделал, прочитав книгу, предположительно опровергающую Шеньона, со словами самого автора этой книги. Тьерни сообщает:
Для Дживаро охота за головами была ритуальной обязанностью всех мужчин и актом инициации для подростков. Здесь также большинство мужчин погибают в войнах. Но среди лидеров Дживаро те, кто захватил больше голов, имеют меньше жен, и наоборот, те, у кого коллекция меньше, имеют больше жен[47].
Автор, антрополог Эльза Редмонд, на самом деле писала вот что:
Мужчины яномамо, которым случалось убивать, обычно имеют больше жен, которых они или захватывают во время набегов на деревни, или просто берут в жены, — женщины считают их более привлекательными. То же самое верно для военных вождей дживаро, которые могут иметь от четырех до шести жен; собственно говоря, в 1930-х годах великий вождь реки Упано, известный под именем Туки или Хосе Гранде, имел 11 жен. Выдающиеся воины также имеют более многочисленное потомство, в основном благодаря большему количеству браков[48].
Тёрнер и Спонсел долгое время были среди самых резких критиков Шеньона (и, что не удивительно, основным источником информации для книги Тьерни, несмотря на притворный шок, который они демонстрировали, ознакомившись с ее содержанием). И они не скрывали своих идеологических принципов, состоящих в защите доктрины «благородного дикаря». Спонсел писал, что он приверженец «антропологии мира» и поддерживает идею «менее жестокого и невоинственного мира», стремление к которому, по его мнению, «скрыто в человеческой натуре»[49]. Он не согласен с «дарвиновским акцентом на насилии и конкуренции» и недавно высказывался, что «ненасилие и мир были нормой на протяжении большей части доисторического периода, а убийство человека человеком, по всей видимости, случалось редко»[50]. Он даже признает, что его критическое отношение к Шеньону по большей части происходит от «почти автоматической реакции против любого биологического объяснения поведения человека, против возможности биологического редукционизма и связанных с ним политических последствий»[51].
Знакомо из времен радикальной науки и крайнее левачество, считающее реакционной даже умеренную и либеральную позиции. По словам Тьерни, Нил «был убежден, что демократия, с ее свободным размножением масс и сентиментальной поддержкой слабых, мешает естественному отбору»[52] и является «ошибкой с точки зрения евгеники». На самом же деле Нил был политическим либералом, осуждавшим перераспределение денежных потоков, направляемых, вместо помощи бедным детям, на исследования проблем старения, от которых, как он считал, выиграют лишь богатеи. Он агитировал за увеличение инвестиций в медицинскую помощь беременным и новорожденным, детям и подросткам, а также за качественное образование для всех[53]. Шеньона Тьерни назвал «воинствующим антикоммунистом и защитником свободного рынка». Доказательства? Цитата из Тёрнера (!), утверждающего, что Шеньон — «из тех представителей правого крыла, кто параноидально враждебен ко всем, кого считает левыми». Чтобы объяснить, как Шеньон пришел к таким взглядам, Тьерни сообщает читателю, что этот ученый вырос в отдаленной части Мичигана, «где этническое разнообразие не приветствовалось, где высок уровень ксенофобии и антикоммунизма и где сильной поддержкой пользовался сенатор Джозеф Маккарти». Не замечая собственной непоследовательности, Тьерни заключает, что Шеньон — «потомок» Маккарти, «унаследовавший его [Маккарти] дух». На самом же деле Шеньон придерживался умеренных взглядов и всегда голосовал за демократов[54].
В автобиографическом комментарии в предисловии к книге Тьерни откровенничает: «Постепенно из обозревателя я превратился в адвоката… традиционная, объективная журналистика больше не мой выбор»[55]. Тьерни убежден, что свидетельства агрессивности яномамо могут быть использованы захватчиками, чтобы изобразить их как примитивных дикарей, которых нужно переселить или ассимилировать ради их же собственного блага. Дискредитация источников, подобных Шеньону, по его мнению, только облагороженная форма социального действия и шаг к культурному выживанию туземных народов (невзирая на тот факт, что Шеньон сам постоянно действовал в защиту интересов яномамо).
Уничтожение коренных американцев европейскими болезнями и геноцид на протяжении пяти столетий действительно одно из величайших преступлений в истории. Но нелепо возлагать вину за эти преступления на горстку современных ученых, пытающихся сохранить для истории образ жизни местных народов, пока они не исчезли навсегда под давлением ассимиляции. Эта тактика опасна. Конечно, нецивилизованные племена имеют право жить на своей земле независимо от того, склонны они или нет — как и любое человеческое общество — к насилию и военным конфликтам. Самоназначенные «адвокаты», связывающие выживание местных народностей с доктриной «благородного дикаря», сами загоняют себя в угол. Когда факты свидетельствуют об обратном, они, вовсе того не желая, либо умаляют естественные права этих племен, либо должны, по необходимости, эти факты отрицать и замалчивать.
* * *
Неудивительно, что утверждения о человеческой природе вызывают столько споров. Очевидно, что каждое такое утверждение должно тщательно рассматриваться, а все логические и фактические изъяны должны выявляться, как это делается с любой научной гипотезой. Но критика новых наук о человеческой природе пошла гораздо дальше обычных академических дебатов. Она переросла в оскорбления, инсинуации, намеренно ошибочные интерпретации, фальсифицированные цитаты и в последнее время — в кровавые наветы. Я вижу две причины для такой нетерпимости.
Первая состоит в том, что в XX веке «чистый лист» стал священной доктриной, которая в глазах ее защитников должна или приниматься на веру полностью, или отвергаться целиком. Однако такое черно-белое мышление может привести к подмене тезиса о врожденном характере некоторых аспектов человеческого поведения представлением, что все его стороны изначально обусловлены природой, или превратить предположение, что генетические черты влияют на человеческие поступки, в идею, что они определяют их. Только религиозная необходимость может потребовать, чтобы 100 % разницы в интеллектуальных способностях имели своей причиной влияние среды. Только фанатический подход может заставить кого-нибудь возмутиться математической банальностью, постулирующей, что если пропорция вариаций, обусловленных негенетическими причинами, снижается, то растет пропорция тех, что обусловлены генетически. Только если считать, что разум должен быть пустой глиняной табличкой, можно разъяриться от заявления, что человеческая природа заставляет нас улыбаться, а не скалиться, когда нам приятно.
Вторая причина — в том, что «радикальные» мыслители сами себя поймали в ловушку своим морализаторством. Как только они связали себя непродуманным аргументом, согласно которому расизм, сексизм, войны и неравенство не имеют под собой фактологической основы, поскольку не существует такого понятия, как человеческая природа (вместо того, чтобы объявить эти вещи нравственно отвратительными независимо от особенностей человеческой природы), каждое открытие о природе человека для них звучало равносильно признанию, что эти пороки не так уж, в общем, и плохи. А это еще более настоятельно требовало дискредитировать еретиков, делающих открытия в этой области. И если обычные стандарты научной аргументации не срабатывали, приходилось применять другие приемы, потому что под угрозой высшее благо.
Глава 7. Святая троица
Науки о поведении человека — не для слабаков. В одно прекрасное утро ученый может проснуться и обнаружить, что он теперь персона нон грата, и все из-за выбранной им области исследований или данных, на которые он натолкнулся. Обращение к некоторым темам — детские сады, сексуальное поведение, воспоминания детства, лечение наркозависимых — может повлечь за собой поношения, оскорбления, вмешательство политиков и прямую физическую агрессию[1]. Даже такое безобидное занятие, как изучение левшей, оборачивается хождением по минному полю. В 1991 году психологи Стенли Корен и Дайана Халперн опубликовали в медицинском журнале статистику, показывающую, что левши в среднем имеют больше осложнений во внутриутробном периоде и в первые дни после рождения чаще становятся жертвами несчастных случаев и умирают раньше правшей. Оскорбления со стороны возмущенных левшей и их защитников, включая угрозу судебного преследования, бесчисленные угрозы убийством и запрет на опубликование результатов исследования в академическом журнале, посыпались незамедлительно[2].
Может быть, грязные приемы, описанные в предыдущей главе, всего лишь очередной случай реакции людей, задетых утверждениями о поведении, вызывающими у них дискомфорт? Или, как я подозреваю, они часть организованного интеллектуального течения — попыток защитить «чистый лист», «благородного дикаря» и «духа в машине» — как источник смысла и морали? Ведущие теоретики радикального научного движения отрицают, что верят в «чистый лист», так что справедливость требует тщательно изучить их позиции. Вдобавок я рассмотрю атаки на науки о человеческой природе со стороны политических противников радикальных ученых — современных правых.
* * *
Неужели радикальные ученые действительно верят в «чистый лист»? Доктрина может показаться правдоподобной некоторым теоретикам, живущим в мире абстрактных идей. Но могут ли трезвые специалисты, обитающие в механистическом мире генов и нейронов, всерьез думать, что душа просачивается в мозг из окружающей культуры? Теоретически они это отрицают, но, когда дело доходит до конкретики, выясняется, что их представления лежат в русле традиций социальной науки начала XX века, поддерживающей «чистый лист». Стивен Гулд, Ричард Левонтин и другие авторы манифеста «Против "Социобиологии"» писали:
Мы не отрицаем, что в человеческом поведении есть генетическая составляющая. Но мы подозреваем, что биологические универсалии человека относятся скорее к питанию, выделительным процессам и сну, чем к таким специфическим и очень разнообразным обыкновениям, как ведение войн, сексуальная эксплуатация женщин и использование денег в качестве всеобщего эквивалента[3].
Обратите внимание на хитрую постановку вопроса. Утверждение, что деньги — генетически закодированная человеческая универсалия, настолько смехотворно (и не случайно Уилсон никогда такого не предполагал), что любая альтернатива будет выглядеть более приемлемой. Но если мы посмотрим на настоящую альтернативу, а не ту, что основана на фальшивом противопоставлении, Гулд и Левонтин, похоже, говорят, что генетические компоненты человеческого поведения нужно искать, прежде всего, в «питании, выделительных процессах и сне». Остальная часть листа, видимо, пустая.
Эта дискуссионная тактика — сначала отрицать «чистый лист», а затем сделать его более правдоподобным, противопоставив какой-нибудь химере, — наблюдается повсюду в сочинениях радикальных ученых. Гулд, например, писал:
Итак, моя критика Уилсона не основывается на небиологическом «энвайронментализме», она просто противопоставляет концепцию биологического потенциала (что мозг способен инициировать любое человеческое поведение, но не предрасположен ни к какому) идее биологического детерминизма, с конкретными генами для конкретных поведенческих особенностей[4].
Идеи «биологического детерминизма» — что гены обуславливают поведение со стопроцентной определенностью и что каждая особенность поведения кодируется своим геном — очевидно абсурдны (неважно, что Уилсон никогда их не придерживался). Так что предлагаемый Гулдом выбор оставляет «биологический потенциал» единственной разумной опцией. Но что это значит? Утверждение, что «мозг способен инициировать любое человеческое поведение», практически тавтология: как мозг может быть на это не способен? А заявление, что мозг не предрасположен ни к какому поведению, — это еще одна версия «чистого листа». «Не предрасположен ни к чему» буквально значит, что любое поведение одинаково вероятно. Так что, если какой-то человек где-то на планете когда-то сделал что-то в каких-то обстоятельствах — отрекся от еды или секса, утыкал себя гвоздями, убил свое дитя — значит, его мозг не был предрасположен к тому, чтобы избегать этого действия в сравнении с альтернативными: наслаждаться едой и сексом, беречь собственное тело или заботиться о своем ребенке.
Левонтин, Роуз и Камин также говорят, что они не утверждают, будто человек — «чистый лист»[5]. Но человеческой природе они делают только две уступки. Одна исходит не из логики и не из доказательств, а из политических мотивов: «Если бы человек был [чистый лист], не было бы социальной эволюции». Обосновывая этот «аргумент», они ссылаются на авторитет Маркса, которого цитируют: «Материалистическое учение о том, что люди суть продукты обстоятельств и воспитания, что, следовательно, изменившиеся люди суть продукты иных обстоятельств и измененного воспитания, — это учение забывает, что обстоятельства изменяются именно людьми и что воспитатель сам должен быть воспитан»[6]. По их собственному мнению, «единственная разумная вещь, которую можно сказать о человеческой природе, — то, что этой природе "свойственно" создавать собственную историю»[7]. Отсюда следует, что любое другое утверждение о психологическом облике нашего биологического вида — о способности к языку, любви к семье, сексуальных эмоциях, типичных страхах и т. д. — не «разумно».
Вторую уступку они делают биологии. Но не устройству разума или мозга, а размеру тела. «Если бы люди были ростом в шесть дюймов, человеческой культуры, как мы ее понимаем, вообще не существовало бы», — замечают Левонтин, Роуз и Камин, потому что лилипуты не могли бы контролировать огонь, разбивать камни киркомотыгой или иметь мозг достаточно большой, чтобы обеспечить освоение языка. Это их единственное допущение о возможностях влияния биологии человека на его общественную жизнь.
Восемью годами позже Левонтин повторил свою теорию о том, что присуще человеку от рождения: «Самый важный факт о человеческих генах — это то, что они помогают сделать нас достаточно крупными и обеспечивают центральной нервной системой с таким большим количеством связей»[8]. И опять стоит отнестись к этой риторике с осторожностью. Если мы понимаем предложение буквально, Левонтин обращается к «самому важному факту» о человеческих генах. И здесь, при буквальном понимании, предложение просто бессмысленно. Как вообще можно выстроить по ранжиру тысячи генных эффектов, каждый из которых абсолютно необходим для нашего существования, и назвать один или два самыми важными? Неужели наш рост более важен, чем то, что у нас есть сердце, глаза и легкие? Неужели число синапсов более важно, чем клеточный натриевый насос, без которого наши нейроны переполнились бы положительно заряженными ионами и вышли из строя? Так что бесполезно пытаться понять это высказывание буквально. Единственное разумное прочтение, к тому же укладывающееся в контекст, — то, что только эти генные эффекты важны для человеческого разума. Получается, что десятки тысяч генов экспрессируются исключительно или по большей части в мозге — и не делают ничего важного, только обеспечивают большое количество нейронных связей; схема связей и организация мозга (в такие структуры, как гиппокамп, амигдала, гипоталамус и кора больших полушарий, разделенная на зоны) случайны или могли бы такими быть. Гены не дают мозгу систем памяти, сложных зрительных и двигательных проводящих путей, способности к языку и широкого спектра эмоций (ну или гены обеспечивают эти способности, но они не «важны»).
В добавление к заявлению Джона Уотсона, что он мог бы превратить любого ребенка в «доктора, адвоката, художника, предпринимателя и даже в попрошайку или воришку, вне зависимости от его талантов, пристрастий, наклонностей, способностей, стремлений и расы его предков», Левонтин написал книгу, на обложке которой значилось: «Наши генетические способности обеспечивают пластичность психического и физического развития, так что в течение нашей жизни, от зачатия и до смерти, каждый из нас независимо от расы, класса, пола может развить буквально любую идентичность в рамках человеческого диапазона»[9].Уотсон признавал, что «вышел за пределы фактов», что простительно, поскольку в его время не было фактов как таковых. Но заявление из книги Левонтина, что любой индивидуум может обрести любую идентичность (даже учитывая равенство рас, полов и классов), в пику результатам 60 лет исследований поведенческой генетики — символ веры редкой чистоты. И заново возводя дюркгеймовскую стену между биологией и культурой, в книге 1992 года Левонтин пишет, что гены «полностью заменены новым уровнем причинно-следственного анализа — социальным взаимодействием с его собственными законами и его собственной природой, которая может быть понята и исследована только через уникальную форму опыта — социальное действие»[10].
Так что хотя Гулд, Роуз и Левонтин отрицают, что они верят в «чистый лист», их уступки эволюции и генетике — что они позволяют нам есть, спать, мочиться, опорожнять кишечник и вырастать крупнее белки, а также осуществлять социальные изменения — выставляют их более радикальными эмпиристами, чем сам Локк, который, по крайней мере, осознавал необходимость врожденной способности к «пониманию».
* * *
«Благородный дикарь» — еще одна доктрина, нежно любимая критиками наук о человеческой природе. В «Социобиологии» Уилсон упомянул, что племенные войны в доисторических обществах были в порядке вещей. Противники социобиологии заявили, что это утверждение «опровергается и историческими, и антропологическими исследованиями». Я просмотрел эти «исследования», собранные под одной обложкой в книге Эшли Монтегю «Человек и агрессия» (Man and Aggression). На самом деле это были просто враждебные отзывы о книгах этолога Конрада Лоренца, драматурга Роберта Ардри и писателя Уильяма Голдинга (автора книги «Повелитель мух»)[11]. Кое-какая критика, надо признать, была заслуженной: Ардри и Лоренц верили в устаревшие теории, например, что агрессивность подобна сбросу гидравлического давления и что эволюция действует в интересах биологических видов. Но сами социобиологи критиковали Ардри и Лоренца куда сильнее. (Например, на второй странице «Эгоистичного гена» Докинз писал: «Проблема с этими книгами в том, что их авторы поняли все абсолютно неправильно».) Но в любом случае этот обзор практически не содержит данных о племенных войнах. Нет их и в заключении книги Монтегю, где он просто перефразирует старые бихевиористские атаки на концепцию «инстинкта». Одна из немногих глав с данными «опровергает» утверждения Лоренца о войнах и набегах среди индейцев племени юта аргументом, что они воевали не больше прочих аборигенных групп!
Двадцать лет спустя Гулд написал, что «Homo sapiens — не порочный и не деструктивный вид». Его новый аргумент опирается на идею, которую он называет «Великой асимметрией». «Истинная правда, — пишет он, — что добрые и хорошие люди превосходят прочих в соотношении несколько тысяч к одному»[12]. Более того, «мы совершаем 10 000 мелких и нерегистрируемых актов доброты на каждый чрезвычайно редкий, но, к сожалению, уравновешивающий момент жестокости»[13]. Статистика, создающая эту «истинную правду», высосана из пальца и очевидно ошибочна: психопаты, определенно не «добрые и хорошие люди», составляют от 3 до 4 % мужского населения, а отнюдь не несколько тысячных процента[14]. Но даже если мы согласимся с цифрами, этот аргумент подразумевает, что «порочный и деструктивный» вид должен быть порочным и деструктивным без перерыва, подобно невменяемому почтальону в хроническом состоянии буйного помешательства. Именно потому, что один преступный акт может уравновесить 10 000 проявлений доброты, мы и зовем его злом! Кроме того, разве имеет смысл судить наш вид в целом, словно мы всей толпой стоим перед райскими воротами? Дело не в том, является ли наш вид «порочным и деструктивным», а в том, действительно ли в нас уживаются одновременно порочные и деструктивные побуждения вместе с добрыми и конструктивными. И если это так, можно попытаться понять, что они собой представляют и как работают.
Гулд препятствовал любой попытке понять мотивы войн в контексте человеческой эволюции, потому что «каждому случаю геноцида могут быть противопоставлены бесчисленные акты милосердия; а каждой банде убийц — мирный клан»[15]. И опять соотношение было взято с потолка; данные, которые приведены в главе 3 этой книги, показывают, что «мирные кланы» или не существуют вообще, или находятся в значительном меньшинстве по отношению к «бандам убийц»[16]. Но для Гулда эти факты не имеют значения, потому что он считает необходимым верить в «мирные кланы» по моральным причинам. Только если у людей нет никакой предрасположенности — ни к добру, ни ко злу, ни к чему-либо другому, полагает он, только тогда у нас есть основания осуждать геноцид. Вот как он представляет себе позицию эволюционных психологов, с которыми спорит:
Возможно, наиболее популярное из всех объяснений нашей способности к геноциду прибегает к эволюционной биологии как к печальному источнику — и как к удобному способу избежать моральной ответственности… Группа, лишенная ксенофобии и неискушенная в убийствах, конечно, не сможет устоять перед другими, в чьих генах закодирована враждебность к чужакам и склонность к разрушению. Шимпанзе, наши ближайшие родственники, собираются в банды и регулярно убивают членов соседних групп. Возможно, мы тоже запрограммированы действовать так же. Эти зловещие наклонности на заре времен помогли выживанию групп, самым разрушительным оружием которых были зубы и камни. Но в мире ядерных бомб такая неизменная (и, возможно, неизменяемая) наследственность может стать причиной нашей гибели (или, по крайней мере, увеличить количество трагедий) — но нас нельзя винить в этих моральных слабостях. Наши проклятые гены сделали нас порождением ночи[17].
В этом абзаце Гулд приводит более или менее разумное объяснение того, почему ученые могут думать, будто эволюция может пролить свет на человеческую жестокость. Но затем он сползает в такую неистовую околесицу («удобный способ избежать моральной ответственности», «нас нельзя винить»), словно эволюционные психологи тоже обязаны думать именно так. Он завершает свои размышления:
В 1525 году были убиты тысячи германских крестьян … И в это же самое время Микеланджело расписывал капеллу Медичи… Обе стороны этой дихотомии представляют наши общие, эволюционировавшие черты. И что же, в конце концов, нам следует выбрать? Давайте займем следующую позицию по отношению к геноциду и разрушению: так не должно быть. Мы можем выбрать другой путь[18].
Подразумевается, что каждый, кто считает причины геноцида объяснимыми с точки зрения эволюции человеческих свойств, на самом деле занимает позицию в поддержку геноцида!
* * *
А как насчет третьего члена троицы, «духа в машине»? Радикальные ученые — крайние материалисты, и вряд ли они верят в нематериальную душу. Но им неприятна и любая четко высказанная альтернатива как потенциальное посягательство на их политическое убеждение, что сообща мы способны реализовать любое социальное устройство, какое только захотим. Сегодня дилемма Декарта, описанная Райлом, может выглядеть так: как люди научного склада они не могут не поддерживать требования биологии, а как политики они не могут принять их обескураживающую подоплеку, а именно что человеческая природа отличается от часового механизма только уровнем сложности.
Обычно считается, что нечестно использовать политические убеждения ученых в обсуждении их научных аргументов, но Левонтин и Роуз сами настаивали на том, что их научные убеждения неотделимы от политических. Левонтин в соавторстве с биологом Ричардом Левинсом написали книгу «Биолог-диалектик» (The Dialectical Biologist) и посвятили ее Фридриху Энгельсу («который ошибался бо́льшую часть времени, но оказался прав, когда это было важно»). В ней они пишут: «Как ученые, работающие в области эволюционной генетики и экологии, мы с некоторым успехом пытались направить наши исследования в русло осмысленного приложения марксистской философии»[19]. В книге «Не в наших генах» (Not in Our Genes) Левонтин, Роуз и Камин декларируют, что они «разделяют преданность идеям более социально справедливого — социалистического — общества» и считают свою «научную деятельность неотъемлемой частью борьбы за создание такого общества»[20]. В какой-то момент они преподносят свое несогласие с «редукционизмом» следующим образом:
Дешевой редукции как принципу, лежащему в основе объяснения всего человеческого поведения, мы можем противопоставить … таких практиков и теоретиков революции, как Мао Цзэдун, доказавший силу человеческого сознания в осмыслении и изменении мира, силу, основанную на понимании сути диалектического единства биологического и социального не как двух отдельных сфер или раздельных компонентов действия, но как онтологически совпадающих[21].
Верность Левонтина и Роуза «диалектическому» подходу Маркса, Энгельса и Мао объясняет, почему они отрицают человеческую природу и при этом отрицают, что они ее отрицают. Сама идея устойчивой человеческой природы, которую можно обсуждать отдельно от ее постоянно меняющегося взаимодействия с окружающей средой, есть, по их мнению, грубейшая ошибка. Ошибка не только в игнорировании этого взаимодействия — Левонтин и Роуз уже расправились с этой, ими самими придуманной опасностью. По их мнению, более глубокая ошибка порождена попытками анализировать поведение как взаимодействие между природой человека и его окружением (включая общество) в первую очередь[22]. Само их разделение, даже чисто умозрительное, для того, чтобы понять, как они взаимодействуют, «предполагает отчуждение организма от среды». А это противоречит принципам диалектики, подразумевающим, что они «онтологически совпадают» — не только в том бытовом смысле, что ни один организм не живет в вакууме, но и в том смысле, что они неотделимы ни в одном аспекте своего существования.
Так как на протяжении истории отношения между организмом и средой постоянно меняются и ни одно из них не является прямой причиной другого, организмы сами могут менять эти отношения. И Роуз настойчиво возражает «детерминистам», заявляя: «У нас есть способность создавать наше собственное будущее даже в обстоятельствах, которых мы не выбирали»[23], — вероятно, вслед за утверждением Маркса, что «люди сами делают свою историю, но они ее делают не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а которые непосредственно имеются налицо, даны им и перешли от прошлого». Но Роуз никак не объясняет, кто такие эти «мы», если не высокоорганизованные нейронные сети, обязанные своей структурой генам и эволюции. Эту теорию можно назвать «местоимение в машине».
Гулд не схоласт, как Роуз или Левонтин, но он тоже использует местоимение первого лица множественного числа, как будто это каким-то образом доказывает, что гены и эволюция не имеют никакого отношения к человеческим делам: «Что мы должны выбрать? Мы займем эту позицию… Мы можем выбрать другой путь». И он также цитирует «прекрасный афоризм» Маркса о том, что мы сами творим свою историю, и верит, что Маркс защищает доктрину свободы воли:
Сам Маркс придерживался более тонкого взгляда на разницу между человеческой и естественной историей, чем большинство его современников. Он понимал, что эволюция сознания и последующее развитие социальной и экономической организации общества привели к появлению элементов различий и волеизъявления, которые мы обычно называем «свободой воли»[24].
Тонким на самом деле я бы назвал аргумент, который объясняет свободу воли на основе ее синонима «волеизъявление» (с или без «элементов различий», чтобы это ни значило) и привязывает ее к столь же загадочной «эволюции сознания». В основном Роуз и Гулд изо всех сил пытаются наделить смыслом изобретенное ими противопоставление генетически организованного мозга, продукта естественного отбора, с одной стороны, и желания мира, справедливости и равенства — с другой. В части III мы увидим, что сама эта дихотомия ложная.
Доктрина «местоимения в машине» — это не случайная оплошность в мировоззрении радикальных ученых. Она согласуется с их стремлением к кардинальным политическим переменам и с их враждебностью к «буржуазной» демократии (Левонтин постоянно использует слово «буржуазный» как ругательство). Если «мы» действительно свободны от ограничений биологии, тогда, как только «мы» прозреем, мы сможем осуществить то видение радикальных изменений, которое считаем правильным. Но если «мы» — несовершенный продукт эволюции, ограниченный в знаниях и мудрости, соблазняемый статусом и властью, ослепленный самообманом и иллюзиями морального превосходства, — тогда «нам» стоит подумать дважды, прежде чем творить свою историю. Как объяснит глава, посвященная политике, конституционная демократия основана на предвзятой теории человеческой природы, согласно которой «мы» неизменно подвержены гордыне и алчности. Система сдержек и противовесов демократических институтов была явно предназначена для того, чтобы противостоять нередко опасным амбициям несовершенных людей.
* * *
«Дух в машине», конечно, ближе политическим правым, чем политическим левым. Однако в своей книге «Новое невежество: Политические противники изучения природы человека» (The New Know-Nothings: The Political Foes of the Scientific Study of Human Nature) психолог Мортон Хант показал, что противниками становятся и левые, и правые, и пестрая коллекция фанатиков посередине, зацикленных на каком-то одном вопросе[25]. До сих пор я обсуждал негодование крайних левых, потому что они развертывают свои войска на поле боя идей в университетах и в популярной прессе. Однако на крайне правом фланге возмущения не меньше, хотя до настоящего времени правые атаковали другие мишени и бились на других аренах.
Наиболее устойчивая оппозиция наукам о природе человека со стороны правых исходит от религиозного сектора коалиции, особенно от христианских фундаменталистов. Естественно, тот, кто отрицает эволюцию как таковую, не может верить в эволюцию разума, и каждый, кто убежден в существовании нематериальной души, определенно не поверит в то, что мысли и чувства — это информация, обрабатываемая в мозговой ткани.
Религиозная оппозиция эволюции подпитывается несколькими опасениями морального толка. Самое очевидное: факт эволюции противоречит буквальному описанию сотворения мира в Библии и подрывает основанную на нем власть религии. Как сказал один священник-креационист, «если Библия не права насчет биологии, почему я должен верить ей в вопросах нравственности и спасения?»[26]
Но оппозиция эволюции идет дальше желания защитить библейские тексты. Современные верующие могут и не верить буквально в каждое чудо, описанное в Библии, но они по-прежнему убеждены, что человек создан по образу и подобию Божию и помещен на Землю с высокой целью — жить праведной жизнью по Его заповедям. Если люди — случайный продукт мутации и отбора химических репликаторов, волнуются они, мораль лишается основы, а мы оказываемся в пассивном подчинении биологическим влечениям. Один креационист, доказывая эту опасность юридическому комитету палаты представителей Конгресса США, процитировал строчки из рок-песни: «Ты и я — просто млекопитающие, детка. Так что давай вести себя так, как показывают на канале Discovery»[27]. После массового убийства, устроенного двумя подростками в школе «Колумбайн» в Колорадо в 1999 году, Том Дилей, секретарь Республиканской партии в палате представителей, сказал, что такая жестокость неискоренима, пока «наша школьная система учит детей, что мы не что иное, как чуть более развитые обезьяны, эволюционировавшие из какого-то первичного бульона»[28].
Самый разрушительный эффект, производимый правыми противниками эволюции, — то отрицательное воздействие, которое оказывают на американское просвещение активисты креационистского движения. До решения Верховного суда в 1968 году штатам разрешалось полностью исключать преподавание теории эволюции в школах. С тех пор креационисты всячески пытались препятствовать ее изучению способами, не нарушающими закон. Они пробовали удалить эволюцию из образовательных стандартов по естественным наукам, снизить количество выделяемых на нее часов, требовали, чтобы в учебниках была оговорка, что это «только теория», протестовали против пособий, в которых внятно описывалось учение об эволюции, в пользу учебников, подающих историю с точки зрения креационизма. В последние годы Национальный центр научного образования узнает о новых попытках применения подобных тактик в одном из 40 штатов примерно раз в неделю[29].
Замешательство религиозных правых вызывала не только эволюция, но и нейронаука. Изгнав «духа из машины», науки о мозге подорвали базу еще двух доктрин, опирающихся на него. Первая — что у каждого человека есть душа, которая определяет ценности, выражает свободную волю и несет ответственность за свои решения. Если же вместо этого поведение контролируется подчиняющимися законам химии системами в мозге, тогда решения и ценности становятся мифами и моральная ответственность испаряется. Как говорит сторонник креационизма Джон Уэст: «Если человеческие существа (и их убеждения) в действительности бессмысленный продукт их материального существования, тогда все, что придает смысл человеческой жизни — религия, мораль, красота, — не имеет под собой никакой объективной основы»[30].
Другая нравственная доктрина (ее можно найти у некоторых, но не у всех христианских конфессий) состоит в том, что душа входит в тело при зачатии и оставляет его после смерти, тем самым определяя, кто есть личность с правом на жизнь. Эта доктрина приравнивает аборты, эвтаназию, забор стволовых клеток из бластоцистов к убийству. Она проводит четкую границу между человеком и животным, что превращает клонирование человека в нарушение Божественного порядка. И все это, похоже, ставят под угрозу нейроученые, заявляющие, что «Я», или «душа», заключается в нервной деятельности, которая постепенно развивается в мозге эмбриона, наблюдается и в мозге животных и постепенно разрушается старостью и болезнями (мы вернемся к этому в главе 13).
Но правая оппозиция наукам о человеческой природе — это не только христианские ортодоксы и телеевангелисты. Сегодня против эволюции выступают некоторые из наиболее здравых теоретиков ранее нерелигиозного неоконсервативного течения. Они поддерживают гипотезу биохимика Майкла Бихи, названную «Разумный замысел»[31]. Молекулярные клеточные механизмы, утверждает Бихи, не могут функционировать в более простой форме и поэтому не могли появиться постепенно в процессе естественного отбора. Они должны были сразу возникнуть как цельное работающее изобретение разумного творца. Этот творец теоретически мог быть высокоразвитым неземным разумом, но все понимают, что здесь имеется в виду Бог.
Биологи отвергают аргументы Бихи по нескольким причинам[32]. Его краеугольный тезис о «нечленимой (неуменьшаемой) сложности» биохимии ничем не подтвержден или просто ошибочен. Он берет каждое явление, эволюционная история которого не ясна, и по умолчанию записывает его на счет разумного замысла. Когда же дело доходит до него самого, Бихи внезапно избавляется от всех научных сомнений и не задумывается, откуда этот творец взялся и как функционирует. К тому же он игнорирует имеющиеся в избытке доказательства того, что процесс эволюции вовсе не разумен и не целесообразен, а скорее жесток и бесцелен.
Несмотря на это, «разумный замысел» очень понравился лидерам неоконсерваторов, в том числе Ирвингу Кристолу, Роберту Борку, Роджеру Кимбеллу и Гертруде Химмельфарб. Прочие интеллектуалы консервативного толка (профессор права Филип Джонсон, писатель Уильям Бакли, журналист Том Бетелл и, без сомнения, биоэтик Леон Касс — председатель учрежденного Джорджем Бушем Совета по биоэтике, формирующего политику страны в области биологии и медицины) также симпатизируют креационизму по моральным соображениям[33]. Поразительно, но статья, озаглавленная «Опровергая Дарвина» (The Deniable Darwin) появилась в журнале Commentary. Журнал, который всегда был рупором еврейских интеллектуалов-атеистов, теперь относится к эволюции более скептически, чем сам папа римский![34]
Непонятно, действительно ли эти светские мыслители уверены, что дарвинизм ошибочен, или для них важно, чтобы другие люди так думали. В сцене из пьесы «Пожнешь бурю» (Inherit the Wind), посвященной «обезьяньему процессу» прокурор и адвокат (чьими прототипами были Уильям Дженнингс Брайан и Кларенс Дэрроу) вместе отдыхают после трудного дня в суде. Прокурор говорит о местных жителях:
Они простые люди, Генри; бедные люди. Они усердно работают, и им нужно во что-то верить, во что-то прекрасное. Зачем вы хотите забрать у них эту веру? Это единственное, что у них есть.
Это недалеко от убеждений неоконсерваторов. Кристол пишет:
Если и существует какой-то неоспоримый факт о человеческой природе, так это то, что ни одно общество не сможет существовать, если оно убеждено — или даже если только подозревает, — что его члены ведут бессмысленную жизнь в бессмысленной вселенной[35].
Он разъясняет моральные следствия:
Существуют разные правды для разных людей. Есть истины, пригодные для детей; истины для студентов и для взрослых образованных людей; истины, подходящие только высокообразованным личностям; и представление, что должен существовать одинаковый набор истин, подходящий для всех, — ошибка современной демократии. Это просто не работает[36].
Как отмечает автор научно-популярных книг Рональд Бейли, «забавно, но сегодня многие консерваторы горячо соглашаются с утверждением Карла Маркса, что религия — это "опиум народа"; только они добавляют — и слава Богу!»[37]
Многие интеллектуалы-консерваторы присоединяются к христианским фундаменталистам в порицании нейронауки и эволюционной психологии, которые, как им кажется, обосновывают отсутствие души, вечных ценностей и свободы выбора. Касс пишет:
Вместе с наукой, основой современного рационализма, пришла и прогрессирующая демистификация мира. Любовь, если она вообще еще существует, объясняется на современный лад не сверхъестественной одержимостью (Эрос), порожденной вызывающей смятение красотой (Афродита), а повышением концентрации какого-то пока не уточненного полипептидного гормона в гипоталамусе. Сила религиозного чувства и понимания религии также ослабевает. Даже если правда, что большинство американцев все еще верят в Бога, уже мало кто трепещет от страха в ожидании Судного дня[38].
Точно так же журналист Эндрю Фергюссон предупреждает читателей, что эволюционная психология «без сомнения, приведет вас в содрогание», потому что «нравственно ли поведение, добродетельно ли оно — не под силу решить новым наукам и материализму в целом»[39]. Новые науки, пишет он, утверждают, что люди — это всего лишь «марионетки из плоти»: пугающий сдвиг от традиционного иудео-христианского взгляда, согласно которому «человеческие существа — с самого начала личности, одаренные душой, созданные Богом и бесконечно ценные»[40].
Даже тяготеющий к левым взглядам писатель Том Вулф, горячий поклонник нейронауки и эволюционной психологии, озабочен их нравственными последствиями. В своем эссе «Извините, но ваша душа умерла» он пишет, что, когда наука окончательно убьет душу («это последнее прибежище ценностей»), «наступит такая жуткая свистопляска, что фраза Ницше о "затмении всех ценностей" покажется пресной»:
Между тем понятие «Я» — «Я», способное к самодисциплине, к отсрочке вознаграждения, к обузданию сексуальных желаний, агрессии и преступного поведения, — «Я», которое может стать более умным и на собственных подтяжках поднять себя на вершину жизни благодаря учебе, опыту, настойчивости, отказу сдаваться перед лицом его величества случая, — это устаревшее (что такое подтяжки, ради всего святого?) понятие успеха, которого добиваются собственными усилиями и силою духа, — уже ускользает, ускользает, ускользает…[41]
«Ну и где теперь самоконтроль? — спрашивает он. — Где он в самом деле, если люди считают, что этого призрачного "Я" даже не существует, и томография мозга доказала это раз и навсегда?»[42]
Парадокс современного отрицания человеческой природы состоит в том, что бойцы на крайне противоположных точках политического спектра, те, что обычно друг друга на дух не выносят, вдруг обнаруживают себя в странном соседстве. Вспомним, как авторы манифеста «Против "Социобиологии"» писали, что теории, подобные уилсоновской, «обеспечивают важное основание для евгеники, которая привела к газовым камерам нацистской Германии». В мае 2001 года комиссия по образованию палаты представителей Луизианы решила, что «Адольф Гитлер и другие использовали расистские взгляды Дарвина и тех, на кого он повлиял… чтобы оправдать уничтожение миллионов предположительно расово неполноценных людей»[43]. Автор резолюции (которая в итоге была отклонена) в свою защиту цитировал Гулда, и это не первый раз, когда его одобрительно цитировали пропагандисты креационизма[44].И хотя Гулд был последовательным противником креационизма, он был не менее последовательным противником идеи, что эволюция может объяснить разум и мораль, и этого вывода из теории Дарвина креационисты боятся больше всего.
Левые и правые также сходятся в том, что новые науки о человеческой природе угрожают понятию моральной ответственности. Когда Уилсон предположил, что у людей, как и у других млекопитающих, самцы чаще склонны иметь нескольких сексуальных партнеров, чем самки, Роуз обвинил его в том, что тот якобы сказал:
Не вините ваших мужей за измены, леди, это не их вина, они так генетически запрограммированы[45].
Сравните со словами Тома Вулфа, шутливыми лишь наполовину:
Мужчины нашего биологического вида генетически запрограммированы на полигамность, то есть неверность законным партнершам. Любой мужчина, читающий современные журналы, понимает это очень быстро (Три миллиона лет эволюции заставили меня сделать это!)[46].
С одной стороны, у нас Гулд, риторически вопрошающий:
Почему мы стремимся переложить ответственность за собственную склонность к насилию и сексизму на наши гены?[47]
А с другой — мы обнаруживаем Фергюсона, поднимающего тот же вопрос:
«Научное убеждение»… может оказаться разрушительным для любой концепции свободы воли, личной ответственности и универсальной морали[48].
Для Роуза и Гулда «дух в машине» — это «мы», способные конструировать историю и менять мир по своему желанию. Для Касса, Вулфа и Фергюсона — это «душа», которая выносит моральные суждения в соответствии с религиозными постулатами. Но все они считают генетику, нейронауки и эволюцию угрозами этому непостижимому вместилищу свободной воли.
* * *
Ну и где теперь интеллектуальная жизнь? Враждебность в отношении наук о человеческой природе со стороны религиозных правых, похоже, будет только нарастать, но влияние правых начнет проявляться скорее в прямых призывах к политикам, чем в изменении интеллектуального климата. Любое посягательство религиозных правых на основные тенденции в интеллектуальной жизни будет ограничено их неприятием теории эволюции как таковой. Отрицание теории естественного отбора, называется ли оно креационизмом или эвфемизмом вроде «разумного замысла», провалится под весом доказательств ее правоты. Но неизвестно, сколько еще вреда принесет это отрицание научному образованию и биомедицинским исследованиям, прежде чем канет в Лету.
В то же время враждебность радикальных левых оставила заметный отпечаток на современной интеллектуальной жизни, потому что так называемые радикальные ученые составляют сегодня научную элиту. Я встречал социологов и когнитивистов, с гордостью признававшихся, что они учили биологию по работам Гулда и Левонтина[49]. Многие интеллектуалы полагаются на Левонтина как на непогрешимый авторитет в эволюции и генетике, и многие философы биологии учились у него. Язвительные рецензии Роуза на каждую новую книгу, посвященную эволюции человека или генетике, стали непреложным правилом британской журналистики. Что касается Гулда, Айзек Азимов, возможно, не иронизировал, когда писал в книжной аннотации, что «Гулд не может сделать ничего дурного», но именно так к нему относятся журналисты и социологи. Недавняя статья в журнале New York называет журналиста Роберта Райта «сталкером» и «юным панком» с «завистью к пенису», потому что он был настолько дерзок, что критиковал Гулда за его логику и подбор фактов[50].
Уважение, которым пользуются радикальные ученые, частично заслужено. Кроме своих чисто научных достижений Левонтин показал себя проницательным аналитиком во множестве научных и социальных вопросов, Гулд написал сотни превосходных эссе по естественной истории, а Роуз — автор прекрасной книги по нейробиологии памяти. Вдобавок они прочно утвердили свой авторитет в интеллектуальной среде. Как объясняет биолог Джон Олкок, «Стивен Гулд презирает насилие, он высказывается против сексизма, он ненавидит нацизм, он считает геноцид ужасающим, он бесспорно на стороне добра. Кто осмелится спорить с таким человеком?»[51] Этот иммунитет к критике позволяет нечестной аргументации радикальных ученых, применяемой ими в спорах с оппонентами, становиться частью общепринятых представлений.
Многие писатели сегодня привычно приравнивают поведенческую генетику к евгенике, будто изучение связи генов и поведения — это то же самое, что принудительный контроль деторождения. Многие считают эволюционную психологию чем-то вроде социал-дарвинизма, как если бы изучение наших эволюционных корней подразумевало оправдание существования нищеты. И это непонимание существует не только среди людей, далеких от науки, оно может быть обнаружено и в престижных научных изданиях, таких как Scientific American и Science[52]. После того как Уилсон написал в «Согласованности», что границы между различными областями человеческого знания отживают свое, историк Цветан Тодоров саркастически заметил: «У меня есть идея для следующей книги Уилсона… анализ социал-дарвинизма, доктрины, принятой на вооружение Гитлером, и ее отличий от социобиологии»[53]. Когда в 2001 году был завершен проект «Геном человека», его лидеры совершили ритуальный отказ от «генетического детерминизма», убеждения — которого никто не придерживается, — что «все характеристики личности жестко прописаны в нашем геноме»[54].
Даже многие ученые спокойно мирятся с радикальным социальным конструкционизмом, и не столько потому, что с ним согласны, сколько потому, что они заняты делом в своих лабораториях и протестующие под окнами для них лишняя головная боль. Как отмечают антрополог Джон Туби и психолог Леда Космидес, догма, что биология по существу не имеет отношения к человеческому общественному устройству, предлагает ученым «безопасный проход по политизированному минному полю современной академической жизни»[55]. И даже сегодня людям, бросающим вызов «чистому листу» или «благородному дикарю», порой затыкают рот или причисляют их к нацистам. Даже если подобные нападки единичны, они создают атмосферу запугивания, которая отрицательно влияет на науку в целом.
Но в интеллектуальном климате уже намечаются признаки изменений. Идеи о человеческой природе все еще являются воплощением зла для некоторых академиков и ученых мужей, однако к ним начинают прислушиваться. Ученые, люди искусства, гуманитарии, юристы-теоретики и просто мыслящие люди заинтересованы в новых знаниях о разуме, которые приходят из биологических и когнитивных наук. Ведь несмотря на всю свою успешную риторику, движение радикальной науки оказалось бесплодным. Двадцать пять лет исследований нанесли жестокий удар по их прогнозам. Шимпанзе вовсе не мирные вегетарианцы, как утверждал Монтегю; доля наследственных черт интеллекта не равна нулю; уровень IQ — это не абстракция, не имеющая отношения к мозгу; не подтвердились идеи о том, что личное и общественное поведение не имеет никакой генетической основы, что гендерные различия — продукт исключительно «психологических и культурных ожиданий» и что количество воинственных кланов равно числу мирных племен[56]. Сегодня идея осуществлять научные исследования, руководствуясь «сознательным применением марксистской философии», просто сбивает с толку. И как сказал эволюционный психолог Мартин Дейли, «исследование, достойное быть изданным в первом выпуске "Диалектической биологии", до сих пор не появилось»[57].
И напротив, социобиология не оказалась преходящим увлечением, как это предрекал Салинз. Название изданной в 2001 году книги Олкока «Триумф социобиологии» (The Triumph of Sociobiology) говорит само за себя: в исследованиях поведения животных никто больше не обсуждает «социобиологию» или «эгоистичный ген», потому что эти идеи стали неотъемлемой частью науки[58]. В изучении людей есть крупные области человеческого опыта — красота, материнство, родство, мораль, сотрудничество, сексуальность, насилие, — в которых эволюционная психология оказалась единственной связной теорией и открыла новые захватывающие области эмпирических исследований[59]. Поведенческая генетика возродила к жизни изучение личности, а с использованием знаний, полученных в проекте «Геном человека», она будет только расширять свое влияние[60]. Когнитивная нейронаука не потеряет от применения ее новых инструментов к каждому аспекту разума и поведения, включая эмоционально и политически окрашенные.
Вопрос не в том, смогут ли науки о мозге, разуме, генах и эволюции объяснить природу человека, а в том, что мы собираемся делать с этими знаниями. Каковы на самом деле потенциальные последствия для наших идей равенства, прогресса, ответственности и ценности личности? В одном не ошибаются противники наук о человеческой природе слева и справа: это жизненно важные вопросы. Тем больше оснований встречать их не со страхом и ненавистью, а с умом. Следующая часть книги — об этом.
ЧАСТЬ III. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРИРОДА С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ
Когда в 1633 году Галилей привлек к себе нежелательное внимание инквизиции, на кону стояли не только вопросы астрономии. Утверждая, что Земля вертится вокруг Солнца, а не наоборот, Галилей противоречил тексту Библии, той части, например, где Иисус Навин приказал Солнцу остановиться и оно подчинилось. Хуже того, Галилей ставил под сомнение нравственный порядок Вселенной.
В соответствии со средневековыми представлениями сфера Луны разделяла Вселенную на неизменное совершенство вверху, на небесах, и упадок внизу, на грешной Земле (поэтому Сэмюэл Джонсон писал, что он не может изменить «подлунный мир»). Окружают Луну сферы внутренних планет, Солнца, затем внешних планет и неподвижные звезды — каждая поставлена на свое место ангелом высшего ранга. А вокруг всего этого — небеса, дом Бога. Внутри лунной сферы, чуть ниже ангелов, находятся души людей, затем, в нисходящем порядке, человеческие тела, животные (сначала звери, затем птицы, рыбы и насекомые), потом растения, минералы, неживые элементы, девять чинов демонов и, наконец, в центре Земли, Люцифер в аду. Таким образом, Вселенная организована иерархически, образуя великую цепь бытия.
Великая цепь была богата нравственными смыслами. Считалось, что наш дом лежит в центре Вселенной, отражая важность нашего существования и поведения. Люди проживают свою жизнь в надлежащем статусе (король, герцог или крестьянин), а после смерти их души возносятся на небо или же cпускаются в ад. Каждый должен был помнить, что человек занимает скромное место в порядке вещей и что нужно обращать свой взор к небу, стремясь поймать отблеск Божественного совершенства. В мире, который, казалось, всегда балансирует на грани голода и варварства, великая цепь предлагала утешительное знание, что природа вещей подчиняется порядку. Если планеты слетят со своих сфер, разразится хаос, потому что все в космическом устройстве взаимосвязано. Как писал Александр Поуп:
Одну ступень творения разрушь — И все падет, вплоть до бессмертных душ. Хоть пятое, хоть сотое звено Изъяв, ты цепь разрушишь все равно.И Галилей не избежал последствий, когда нацелился на свое звено в этой цепи. Он понимал невозможность опытным путем доказать, что разделение между грешной Землей и неизменными небесами опровергается пятнами на Солнце, сверхновыми звездами и спутниками, дрейфующими вокруг Юпитера. Он утверждал, что моральные ловушки геоцентрической теории так же сомнительны, как и ее эмпирические утверждения, так что, если окажется, что теория ошибочна, ничего страшного не случится. Вот как альтер эго Галилея в «Диалоге о двух главнейших системах мира» рассуждает о том, чем хороши постоянство и неизменность:
Я считаю Землю особенно благородной и достойной удивления за те противоположные свойства, многие и весьма различные изменения, превращения, возникновения и т. д., которые непрерывно на ней происходят; если бы она не подвергалась никаким изменениям, если бы вся она была огромной песчаной пустыней или массой яшмы или если бы во время потопа застыли покрывавшие ее воды и она стала огромным ледяным шаром, где никогда ничто не рождается, не изменяется и не превращается, то я назвал бы ее телом, бесполезным для мира и, говорю кратко, излишним и как бы не существующим в природе; я провел бы здесь то же различие, какое существует между живым и мертвым животным; то же я скажу о Луне, Юпитере и всех других мировых телах.
…Те, кто превозносит неуничтожаемость, неизменность и т. д., побуждаются говорить такие вещи, как я полагаю, только великим желанием прожить подольше и страхом смерти; они не думают, что если бы люди были бессмертны, то им совершенно не стоило бы появляться на свет. Они заслуживают встречи с головой Медузы, которая превратила бы их в статую из алмаза или яшмы, чтобы они стали совершеннее, чем тепер.
Сегодня мы согласны с Галилеем. Нам трудно вообразить, почему расположение камней и газа в трехмерном пространстве должно иметь какое-то отношение к добру и злу или к смыслу и цели нашей жизни. Нравственные чувства времен Галилея в конечном счете приспособились к астрономическим фактам, и не потому, что пришлось отдать должное реальности, а потому, что сама идея, что мораль имеет какое-то отношение к великой цепи бытия, была глупой с самого начала.
Я думаю, мы сейчас переживаем такой же переходный период. «Чистый лист» — это сегодняшняя «великая цепь бытия»: доктрина, которую принято считать разумной по нравственным соображениям, но вступающая в противоречие с современной наукой. И как в веках, следующих за галилеевым, нравственные чувства в конце концов тоже приспособятся к биологическим фактам, и не только потому, что факты есть факты, но и потому, что нравственные заслуги «чистого листа» не менее иллюзорны.
Эта часть книги покажет, почему обновленная концепция смысла и морали переживет кончину «чистого листа». Я ни в коем случае не предлагаю новую философию жизни, словно некий духовный лидер нового культа. Аргументы, которые я привожу, витали в воздухе веками, их развивали величайшие мыслители в истории. Моя цель — собрать их в одном месте и сопоставить с очевидными нравственными вызовами со стороны наук о человеческой природе, чтобы мы помнили, что эти науки не приведут к ницшеанскому «полному затмению всех ценностей», и понимали почему.
Беспокойство по поводу человеческой природы, по сути, сводится к четырем страхам:
• Если люди от рождения разные, то оправданы подавление и дискриминация.
• Если люди внутренне аморальны, то бесполезно надеяться на лучший удел человеческий.
• Если человек — продукт биологии, тогда свобода воли — миф и мы больше не сможем возлагать на людей ответственность за их поступки.
• Если человек — продукт биологии, жизнь не имеет высшего смысла и цели.
Каждому страху я посвящу отдельную главу. Сначала я объясню, откуда он взялся: какие утверждения о человеческой природе поставлены на карту и почему считается, что они могут повлечь непредсказуемые последствия. Затем я покажу, что в каждом случае логика ошибочна и для подобных выводов нет оснований. Но я пойду еще дальше. Дело не в том, что концепция человеческой природы менее опасна, чем многие считают, а в том, что отрицание человеческой природы, возможно, даже более опасно. Поэтому совершенно необходимо исследовать утверждения о человеческой природе объективно, не оказывая морального давления ни на одну позицию, и выяснить, как мы сможем жить с этим знанием, если оно окажется верным.
Глава 8.Страх неравенства
Величайшая нравственная привлекательность доктрины «чистого листа» рождается из простого математического факта: ноль равен нолю. Это позволяет «чистому листу» выступать в качестве гаранта политического равноправия. Если лист пуст, значит, он пуст, так что, если все мы «чистые листы», все мы, следовательно, равны. Но если лист новорожденного не пуст, то у разных детей на листах могут быть написаны разные вещи. Люди разного пола, класса и расы могут с самого начала отличаться талантами, способностями, интересами и задатками. И считается, что это может привести к трем губительным последствиям.
Первое — это предубежденность: если группы людей биологически различаются, дискриминация по отношению к членам некоторых групп выглядит разумной. Второе — социальный дарвинизм: если разница в положении групп в обществе, в их доходах, статусе, уровне преступности, например, происходит из их врожденных особенностей, то ее причиной уже не объявишь дискриминацию и тогда легко обвинять жертву и оправдывать неравенство. Третье — это евгеника: если люди биологически неодинаковы по своим одобряемым или неодобряемым обществом качествам, возникает соблазн улучшить общество, вмешиваясь в биологию, — побуждая людей иметь детей или, наоборот, запрещая, лишая их тем самым права самим принимать такие решения либо просто убивая. Нацисты прибегли к «окончательному решению еврейского вопроса», так как считали евреев и другие этнические группы биологически неполноценными. Страх ужасных последствий, которые может повлечь за собой открытие врожденных особенностей, заставляет многих интеллектуалов настаивать на том, что таких особенностей не существует или даже что не существует человеческой природы, потому что если она есть, то могут быть и обусловленные от рождения различия.
Я надеюсь, что, когда логика этих размышлений будет опровергнута, тревожная сирена наконец выключится. Никакие открытия, касающиеся человека, не должны иметь подобных ужасающих последствий. Мы не имеем права допустить этого. Проблема не в том, что люди могут отличаться один от другого, — это всего лишь вопрос фактов, которые могут оказаться какими угодно. Проблема в самом ходе рассуждений, из которого следует, что, если люди оказываются разными, тогда приемлемы дискриминация, угнетение и геноцид. Фундаментальные ценности (такие, как равенство и права человека) не должны быть заложниками научных гипотез о «чистом листе», которые могут быть завтра опровергнуты. В этой главе мы увидим, как эти ценности можно поместить на более надежное основание.
* * *
Какие же человеческие особенности заставляют нас волноваться? В главах, посвященных детям и гендерным вопросам, мы рассмотрим новые доказательства существования межполовых и межличностных различий, а также что из этого следует, а что не следует. Цель данной главы более общая: наметить те различия, которые могут выявиться в результате долгосрочных исследований, основанных на нашем понимании генетики и эволюции человека, и определить нравственные вопросы, которые они поднимают.
Эта книга посвящена, прежде всего, человеческой природе — когнитивным и эмоциональным способностям, общим для каждого здорового представителя Homo sapiens. Сэмюэл Джонсон писал: «Всеми нами движут одни и те же мотивы, все мы одинаково обманываемся, все надеемся, останавливаемся перед опасностью и соблазняемся удовольствием»[1]. Многочисленные свидетельства общей человеческой природы не означают, что различия между индивидуумами, расами или полами также свойственны нашей природе. Возможно, Конфуций был прав, когда писал, что «люди похожи по природе своей; их образ жизни — вот что их разделяет»[2].
Современная биология утверждает, что силы, делающие людей похожими, — это не те же самые силы, что делают их разными[3] (их даже изучают разные ученые: сходствами занимаются эволюционные психологи, различиями — поведенческие генетики). Естественный отбор направлен на то, чтобы привести виды к общему стандарту путем концентрации эффективных генов — тех, что строят хорошо функционирующие органы, — и отсеивания неэффективных. Что же касается объяснения нашего поведения, мы все сделаны из одного теста. Подобно тому как все мы имеем одинаковые физические органы (два глаза, печень, четырехкамерное сердце), мы обладаем и сходными психическими органами. Это особенно очевидно на примере речи — каждый неврологически сохранный ребенок снабжен всем необходимым для освоения любого языка; но это же верно и для других частей разума. Отказ от доктрины «чистого листа» проливает гораздо больше света на психологическую общность человечества, чем на какие бы то ни было различия[4].
Мы все довольно похожи друг на друга, но мы, разумеется, не клоны. За исключением идентичных близнецов, каждый человек генетически уникален. Это так, поскольку в геном постоянно проникают случайные мутации и нужно время, чтобы от них избавиться, и еще потому, что гены постоянно перетасовываются в процессе полового размножения. Естественный отбор стремится сохранить некоторый уровень генетической гетерогенности на молекулярном уровне в виде мелких, случайных отличий между белками. Эти отличия усложняют комбинации молекулярных замков организма и позволяют его защитникам быть на шаг впереди микроскопических врагов, которые постоянно эволюционируют в попытках эти замки взломать.
Все виды генетически изменчивы, но Homo sapiens — один из наименее изменчивых. Генетики называют нас «мелким» видом, что звучит как неудачная шутка, учитывая, что мы заполонили планету подобно тараканам. Они имеют в виду, что количество генетических вариаций, обнаруженных среди людей, биологи скорее ожидали бы встретить у вида с небольшим количеством представителей[5]. Даже среди шимпанзе больше генетических вариаций, чем среди людей, несмотря на то что по численности мы оставляем их далеко позади. Причина в том, что наши предки прошли через популяционное бутылочное горлышко сравнительно недавно в нашей эволюционной истории (меньше чем 100 000 лет назад). Популяция сократилась до мизерного количества представителей с соответственно малым количеством генетических вариаций. Вид выжил и восстановился, а около 10 000 лет назад, с изобретением сельского хозяйства, достиг эволюционного взрыва. Быстрое увеличение численности населения породило множество копий генов, имевшихся в наличии в то время, когда наша численность была мала; нам не хватило времени, чтобы накопить большое количество новых версий генов.
В какой-то момент после прохождения бутылочного горлышка начали выделяться расы. Но разница в цвете кожи и структуре волос, которая так заметна взгляду, на самом деле — обман зрения. Расовые различия — это, прежде всего, приспособления к климату. Темный пигмент кожи — защита от агрессивного солнца тропиков, монгольская складка века — «защитные очки» для жителей тундры. Части тела, которые встречаются с силами природы, — это те самые части, которые встречают взгляд других людей, заставляя их ошибочно думать, что разница между расами глубже, чем она есть на самом деле[6]. Силам адаптации к климатическим условиям, придающим разный цвет коже, противодействуют эволюционные силы, делающие соседние группы внутренне схожими. Редкие гены могут подарить иммунитет к эндемическим болезням, так что они проникают из одной группы в другую, как чернила в промокашку, даже если их представители не часто скрещиваются между собой[7]. Вот почему евреи, например, повсеместно генетически схожи со своими соседями неевреями, пусть даже до последнего времени старались устраивать внутринациональные браки. Достаточно одного на каждое поколение случая перехода в другую веру, любовной истории c неевреем или изнасилования чужаком, чтобы со временем генетические границы размывались[8].
Принимая во внимание все эти процессы, мы видим следующую картину: люди одинаковы качественно, но могут различаться количественно. Количественные различия минимальны с точки зрения биологии, а кроме того, их гораздо больше внутри этнических групп или рас, чем между ними. Обнадеживающее открытие! Любая расистская идеология, подразумевающая, что все члены одной этнической группы похожи друг на друга или что одна группа фундаментально отличается от другой, базируется на ложных биологических предпосылках.
Но все же мы не вполне свободны от биологии. Отдельные люди генетически не идентичны, и маловероятно, чтобы различия между ними затрагивали все части тела, кроме мозга. И хотя генетические различия между расами и национальностями гораздо меньше, чем между индивидами, все же они существует (например, они приводят к физическим особенностям и разной восприимчивости к генетическим заболеваниям, таким как болезнь Тея — Сакса или серповидноклеточная анемия). Сегодня модно говорить, что рас не существует, что они представляют собой чисто социальный конструкт. И хотя это абсолютно верно для бюрократических ярлыков вроде «цветные», «испаноязычные» или «полинезийцы» и для «правила одной капли крови», достаточной, чтобы считаться «черным», было бы преувеличением утверждать, что это относится к человеческим различиям в целом. Биолог-антрополог Винсент Сарич считает, что раса — это, по сути, очень большая семья, все члены которой в той или иной степени кровные родственники. Некоторые расовые различия, таким образом, могут быть биологической реальностью, хотя они и не формируют четких границ между неизменными категориями рас. Все ныне живущие люди произошли от одной небольшой группы, мы все — родственники, но европейцы, скрещиваясь на протяжении тысячелетий преимущественно с европейцами, в среднем более близкая родня друг другу, чем африканцам или азиатам, и наоборот. В прошлом океаны, пустыни и горные цепи мешали людям выбирать себе пару случайным образом, и крупные родственные группы, которые мы называем расами, все еще различимы, каждая некоторым образом отличается от других частотой проявления тех или иных генов. Теоретически какие-то из этих генов могут влиять на личностные черты или интеллект (хотя подобные особенности в основном могут проявляться на уровне средних величин при существенных различиях между членами группы). Я не утверждаю, что открытие таких генетических различий ожидается или что имеются доказательства их существования, я только хочу сказать, что они возможны с биологической точки зрения.
Мое собственное мнение, кстати, что в случае наиболее обсуждаемой расовой разницы — разрыве в коэффициенте интеллекта между черными и белыми американцами — современные данные не требуют генетического объяснения. Томас Сауэлл документально показал, что на протяжении XX века этническая разница в IQ — правило, а не исключение для любой точки планеты[9]. Представители меньшинств, лишенные доступа к общей культурной среде, обычно имели более низкий средний IQ по сравнению с большинством. Это касается и иммигрантов, приехавших в Соединенные Штаты из Южной и Восточной Европы, и жителей сельских горных районов США, и детей, выросших на лодках в каналах Британии, и гэльскоговорящих детей с Гебридских островов. И разница была так же велика, как нынешний разрыв между черными и белыми, однако благополучно исчезла спустя несколько поколений. По многим причинам афроамериканцев, переживших рабство и сегрегацию, нельзя сравнивать с иммигрантами или жителями изолированных районов, и их переход к общепринятым культурным моделям может занять больше времени[10].
И, кроме того, есть половой аспект. В отличие от этнических групп и рас, чьи биологические различия малы и случайны, два пола имеют как минимум одно крупное системное различие: у них разные репродуктивные органы. С точки зрения эволюции это позволяет предположить, что нервные системы у мужчин и женщин различаются в том, что касается контроля использования этих органов, — в своей сексуальности, родительских инстинктах и брачных стратегиях. Следуя той же логике, можно ожидать, что, если речь идет о требованиях, предъявляемых к обоим полам, таким как общий интеллект, их нервные системы не так сильно различаются (что мы и увидим в части, посвященной гендеру).
* * *
Итак, могут ли открытия в биологии оправдать расизм и сексизм? Ни в коем случае! Доводы против нетерпимости — это не фактическое суждение, что люди биологически неотличимы друг от друга. Это нравственная позиция, которая осуждает отношение к человеку в зависимости от общих признаков определенных групп, к которым он принадлежит. Просвещенные общества предпочитают не учитывать расу, пол и национальность, нанимая людей на работу, продвигая их по карьерной лестнице, назначая зарплату, предоставляя доступ к образованию и рассматривая дела в суде, потому что альтернатива отвратительна с нравственной точки зрения. Несправедливо дискриминировать людей на основе расы, пола или национальности, наказывая их за то, над чем они не властны. Это увековечило бы несправедливость прошлого, в котором афроамериканцы, женщины и другие группы подавлялись и порабощались. Это разбило бы общество на враждебные группировки и могло бы стать причиной ужасающих репрессий. Но ни один из этих аргументов против дискриминации не зависит от того, различимы или неразличимы генетически группы людей.
Концепция человеческой природы далека от поощрения дискриминации, напротив, в ней причина нашего противостояния дискриминации. Вот где критически важно различать врожденные особенности и врожденные универсальные черты. Независимо от уровня интеллекта, или физической силы, или любых других качеств, выраженность которых может меняться, все люди имеют общие черты. Никому не нравится быть рабом. Никому не нравится быть униженным. Никому не нравится несправедливое отношение — отношение, зависящее от черт, которые человек не может контролировать. Наше отвращение к рабству и дискриминации исходит из убежденности, что, как бы люди ни отличались друг от друга в каких-то отношениях, в этом они одинаковы. Эта убежденность, между прочим, контрастирует с якобы прогрессивной доктриной, что люди не имеют врожденных потребностей, из чего следует, что их можно приучить получать удовольствие от несвободы и унижения.
Идея, что политическое равноправие — это нравственная позиция, а не эмпирическая гипотеза, высказывалась величайшими в истории поборниками равенства. Декларация независимости гласит: «Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными». Ее автор, Томас Джефферсон, пояснил, что он имеет в виду равенство в правах, а не биологическое равенство. Например, в 1813 году он писал в письме к Джону Адамсу: «Я согласен с вами, что среди людей существует естественная аристократия. В ее основе — добродетель и таланты… Опыт показывает, что моральные и физические свойства человека, и хорошие и плохие, до определенной степени могут передаваться от отца к сыну»[11]. (Тот факт, что Декларация первоначально касалась только белых мужчин и что Джефферсон не был сторонником равноправия в своей частной жизни, не отменяет этот аргумент. Джефферсон защищал политическое равенство белых мужчин — новая идея для того времени, — даже признавая изначальные различия между ними.) Точно так же Авраам Линкольн считал, что авторы Декларации «не имели в виду, что все равны в цвете кожи, размере, интеллекте, нравственном развитии или социальном положении», но только в уважении к их «определенным неотъемлемым правам»[12].
Некоторые влиятельные современные мыслители в биологии и науках о человеческой природе проводят такое же различие. Эрнст Майр, один из основателей современной теории эволюции, мудро предвидел грядущие четыре десятилетия дебатов, когда писал в 1963 году:
Равенство, несмотря на явное несовпадение с идентичностью, все же достаточно замысловатое понятие и требует нравственной позиции, на которую многие, кажется, не способны. Часто разницу между людьми отрицают и приравнивают равенство к идентичности. Либо заявляют, что человек как вид исключение в органическом мире, в том смысле, что его гены контролируют только морфологические признаки, а все остальные особенности ума или характера обязаны «обусловливанию» или другим негенетическим факторам. Такие авторы удобно игнорируют результаты близнецовых исследований и генетического анализа неморфологических признаков у животных. Идеология, основанная на таких очевидно ложных предпосылках, может привести только к катастрофе. Если защита равенства людей основывается на их идентичности, то как только будет доказано, что ее не существует, обоснование равенства также будет утрачено[13].
Ноам Хомский развивал ту же мысль в статье под названием «Психология и идеология». Хотя он был не согласен с аргументом Хернштейна об IQ (рассмотренным в главе 6), он не соглашался и с обвинением Хернштейна в расизме и дистанцировался от своих коллег — радикальных ученых, объявивших факты опасными:
Корреляция между расой и IQ (там, где ее существование доказано) может повлечь за собой социальные последствия исключительно в расистском обществе, в котором каждый индивид приписан к определенной расовой категории и в котором с ним обращаются не как с полноправной личностью, а как с представителем своей категории. Хернштейн упоминает возможную корреляцию между ростом и IQ. Насколько этот факт социально важен? Абсолютно не важен, поскольку наше общество не страдает от дискриминации по росту. Мы не настаиваем на том, чтобы относить каждого взрослого в категорию «выше шести футов» или «ниже шести футов», решая, какое образование ему следует получать, или где он должен жить, или какую работу выполнять. Наоборот, он таков, каков есть, независимо от средних значений IQ людей его ростовой категории. Не большее значение в нерасистском обществе должна иметь и категория расы. Средний IQ людей определенного расового происхождения не имеет никакого отношения к ситуации конкретного человека, который таков, каков он есть…
Кстати говоря, удивительно, но многих комментаторов раздражает, что IQ может быть наследуемым, и возможно, в существенной степени. Интересно, насколько раздражающим было бы для них открытие, что рост, музыкальный талант, скорость бега на 100 метров частично заданы генетически? Почему необходимо иметь какие бы то ни было предубеждения относительно этих вопросов и как ответы на них, какими бы они ни были, соотносятся с серьезными научными темами (на существующем уровне наших знаний) или с общественной практикой в справедливом обществе?[14]
Некоторых читателей, возможно, не убедит эта возвышенная позиция. Если бы все расы и оба пола были идентичны в своих талантах, дискриминация была бы просто обречена на провал и люди отказались бы от нее, как только факты стали бы очевидны. Но если они не идентичны, то разумно принимать различия во внимание. В конце концов, согласно теореме Байеса, специалист, которому необходимо сделать предположение (например, преуспеет ли некто в профессии), должен принимать во внимание априорную вероятность, такую как базовый уровень успеха представителей группы, к которой «некто» принадлежит. Если люди разного пола и расы в среднем различаются, расовое профилирование или гендерные стереотипы статистически обоснованы, и наивно ожидать, что информация о расе и поле не будет использована для предвзятых выводов. Так что идея относиться к людям как к индивидуальностям кажется слишком хрупким основанием для надежды на уменьшение дискриминации.
В ответ на это беспокойство скажем прямо: опасность возникает в любом случае, неважно, что служит причиной различий между группами — гены или окружение. Среднее есть среднее, и специалист, принимающий решение, должен волноваться лишь о том, каково оно, а не о том, какова его причина.
Более того, факт, что дискриминация может быть экономически оправданной, действительно несет угрозу, только если приветствовать жесткую экономическую оптимизацию любой ценой. Но на самом деле мы располагаем политическими инструментами, позволяющими ставить нравственные принципы выше экономической эффективности. Например, продавать свой голос на выборах, свои органы и своих детей — незаконно, даже если экономисты станут убеждать нас, что любой добровольный обмен приносит выгоду обеим сторонам. Подобное отношение естественно для современных демократий, и мы можем так же решительно выбрать государственную политику и личные правила, которые не поддерживают расовую и гендерную предубежденность[15].
Моральные и юридические запреты не единственный способ снизить уровень дискриминации, учитывая вероятную разницу между группами. Чем большей информацией о квалификации претендента мы располагаем, тем меньшее значение в процессе принятия любого решения относительно этого человека будет придаваться средним для расы или средним для пола показателям. Следовательно, лучший способ избавиться от дискриминации — это более точное и расширенное тестирование умственных способностей, потому что тогда у нас будет столько информации для прогнозов относительно индивидуума, что не возникнет соблазна учитывать его расу или пол. (Хотя, конечно, эта идея не имеет политического будущего.)
Дискриминация — в смысле использования статистически прогнозируемых признаков группы, к которой принадлежит индивидуум, — в процессе принятия решения относительно этого индивидуума не всегда аморальна, по крайней мере мы не всегда считаем ее таковой. Чтобы с абсолютной точностью предсказать чье-либо поведение, нам потребовался бы аппарат для рентгена души. Предсказание поведения, даже с помощью инструментов, которые у нас есть, — тестов, интервью, анкетных данных, рекомендаций — потребовало бы неограниченных ресурсов, если бы мы хотели использовать их в полной мере. Для принятия решений в ограниченный промежуток времени и с ограниченными ресурсами (а цена ошибки высока) приходится использовать некоторые групповые черты в качестве основы для суждения о человеке. А это неизбежно приводит к оценкам на основе стереотипов.
В некоторых случаях общего между двумя группами так мало, что мы не испытываем дискомфорта, дискриминируя одну из них полностью. Например, никто не выступает против того, что в наши школы не допускаются шимпанзе, хотя вполне возможно, что, если мы протестируем каждого шимпанзе на планете, мы найдем одного, способного научиться читать и писать. Мы пользуемся видовым стереотипом, что шимпанзе не может получить никакой пользы от человеческого образования, тем более что вероятность найти исключение не стоит затрат на проверку каждого животного.
В более реалистичных обстоятельствах мы должны в каждом конкретном случае заново принимать решение о том, оправдана ли дискриминация. Отказ всем подросткам в праве голоса и водительских правах — это дискриминация по возрасту, несправедливая в отношении некоторых ответственных молодых людей. Но мы не хотим нести ни финансовых издержек, необходимых для проведения массовых тестов на психологическую зрелость, ни моральных — из-за ошибочных решений, повлекших за собой гибель людей в авариях. Практически все возмущаются случаями расового профилирования, когда водителя останавливают за то, что он «управляет автомобилем, будучи чернокожим». Но в 2001 году, после нападения террористов на Всемирный торговый центр и Пентагон, около половины опрошенных американцев сказали, что они не против «этнического профилирования» — тщательной проверки пассажиров, «летающих на самолетах, будучи арабами»[16]. Люди, думающие, что расовое и этническое профилирование — это разные вещи, видимо, считают, что выгода от поимки продавца марихуаны не стоит вреда, причиненного невинным чернокожим водителям, однако польза от поимки террориста-смертника перевешивает вред, нанесенный невинным арабским пассажирам. Анализ затрат и выгод иногда используется и для того, чтобы оправдать расовые преференции: считается, что выигрыш от расово неоднородных офисов и кампусов перевешивает издержки дискриминации белых.
Возможность, что мужчины и женщины не во всех отношениях одинаковы, также ставит политических лидеров перед выбором. Считается предосудительным, если банк нанимает больше мужчин-менеджеров, чем женщин из-за того, что те не уволятся, родив ребенка. Но будет ли также предосудительно, если пара наймет не мужчину, а женщину в качестве няни для своей дочери, потому что в таком случае меньше вероятность сексуального насилия? Большинство людей полагают, что наказание за конкретное преступление должно быть одинаковым независимо от того, кто его совершил. Но, зная о сексуальных эмоциях, типичных для каждого из двух полов, должны ли мы наказывать одинаково мужчину, совратившего 16-летнюю девочку, и женщину, соблазнившую 16-летнего мальчика?
С такими вопросами сталкиваются жители демократических стран, решая, что же делать с дискриминацией. Смысл не в том, что различия между группами не могут использоваться в качестве основы для дискриминации. Смысл в том, что они не обязательно должны так использоваться, и в определенных случаях мы можем, по моральным соображениям, решить, что так делать нельзя.
* * *
Таким образом, «чистый лист» не обязательное условие для борьбы с сексизмом, расизмом и социал-дарвинизмом — убеждением, что бедные и богатые заслуживают своего статуса и, следовательно, мы должны отказаться от всех принципов экономической справедливости в пользу политики абсолютного невмешательства в экономику.
Страх перед социальным дарвинизмом заставляет современных интеллектуалов относиться к идее, что общественный класс каким-то образом связан с генами, как к радиоактивному плутонию, хотя сложно себе представить, что это не может быть верно хотя бы частично. Позаимствую пример у философа Роберта Нозика: предположим, миллион человек готовы отдать $10, чтобы услышать, как поет Паваротти, и не хотят платить $10, чтобы послушать, как пою я. Частично причина в том, что мы с Паваротти отличаемся генетически. Даже в абсолютно справедливом обществе Паваротти станет на $10 млн богаче и попадет в экономическую страту, куда меня мои гены не пускают[17]. То, что бо́льшие награды достаются людям с бо́льшими врожденными способностями, если другие люди готовы платить за плоды их таланта, — грубый факт. Единственное, что может помешать этому, — случайное распределение людей по кастам, контроль государства над всеми экономическими транзакциями или то, что врожденных талантов не существует, потому что мы — «чистые листы».
Удивительное количество интеллектуалов, особенно среди левых, действительно отрицают, что существует такая вещь, как врожденный талант, особенно интеллект. Стивен Джей Гулд написал свой бестселлер 1981 года под названием «Ложное измерение человека» (The Mismeasure of Man) для того, чтобы развенчать «абстрактное понятие интеллекта как единого целого, его локализации в мозге, его представления в виде одного числа для каждого индивидуума и использования этих чисел для ранжирования людей по степени их ценности, что неизменно обнаруживает, что подавляемые и неимущие группы — расы, классы, пол — изначально ущербны и заслуживают своего положения»[18]. Философ Хилари Патнэм доказывал, что концепция интеллекта — часть социальной теории под названием «элитизм», приложимой к капиталистическому обществу:
В условиях менее соревновательных форм общественного устройства теория элитизма могла бы быть заменена другой — теорией эгалитаризма, которая утверждает, что обычные люди могут делать все, что захотят, и делать это хорошо, если (1) они высоко мотивированы и (2) работают сообща[19].
Другими словами, каждый из нас может стать Ричардом Фейнманом или Тайгером Вудсом, если только мы высоко мотивированы и работаем сообща.
Совершенно фантастическое чувство испытываешь, читая профессоров, отрицающих существование интеллекта. Профессора одержимы интеллектом. Они обсуждают его бесконечно, рассматривая вопросы приема студентов, нанимая преподавателей и сотрудников, а особенно сплетничая друг о друге. Точно так же ни граждане, ни политики не могут игнорировать эту концепцию, независимо от отношения к ней. Люди, которые говорят, что не верят в IQ, тут же вспоминают о нем в дискуссиях о высшей мере наказания для убийцы, чей IQ равен 64, о запрете свинцовой краски, которая понижает IQ ребенка на пять пунктов, или в обсуждении, достаточно ли Джордж Буш образован для того, чтобы занимать пост президента. В любом случае сегодня существует достаточно доказательств того, что интеллект — стабильная характеристика личности, что он связан с качествами мозга (включая общий размер, количество серого вещества в лобных долях, скорость нейронной передачи и метаболизм глюкозы), что он частично наследуем и что его уровень можно использовать для прогноза некоторых жизненных достижений, например дохода или социального статуса[20].
Существование врожденных талантов тем не менее не подразумевает социальный дарвинизм. Это опасение основано на двух ложных заключениях. Первое — мышление по типу «все или ничего», которое часто проникает в дискуссии о социальных последствиях генетики. То, что врожденные особенности, возможно, один из источников социального статуса, еще не значит, что это — единственный источник. Есть и другие — чистая удача, унаследованное богатство, расовые и классовые предрассудки, неравные возможности (такие, как образование и социальные связи) и культурный капитал: привычки и ценности, способствующие экономическому успеху. Признав, что талант имеет значение, не обязательно считать, что предубеждения и неравные возможности его не имеют.
Но что более важно: даже если унаследованные таланты могут привести к социально-экономическому успеху, это еще не значит, что успех заслужен в моральном смысле. Социальный дарвинизм основан на предпосылке Спенсера, что эволюция может подсказать нам, что правильно, — что понятие «хороший» может быть сведено к «эволюционно успешный». Это малоизвестный вариант «натуралистической ошибки»: веры, что все, что происходит в природе, — это хорошо. (Спенсер также путал социальный успех — богатство, власть и статус — с эволюционным успехом: количеством жизнеспособных потомков.) Натуралистическая ошибка была описана философом Джорджем Муром в его книге 1903 года «Принципы этики» (Principia Ethica), книге, которая положила конец этике Спенсера[21]. Мур использовал принцип Юма (гильотину Юма): как бы убедительно вы ни показали, что что-то является истиной, из этого еще не следует, что оно должно быть истиной. Мур заметил, что разумно было бы поставить вопрос так: «Это поведение более эволюционно успешно, но хорошо ли оно?» Сам факт, что этот вопрос имеет смысл, показывает, что эволюционный успех и добродетель не одно и то же.
Но можно ли на самом деле примирить биологические различия с концепцией социальной справедливости? Конечно. В своей известной теории справедливости философ Джон Ролс предлагает нам представить себе общественный договор, подписываемый меркантильными агентами, ведущими переговоры вслепую, не зная о талантах и статусе, какие они унаследуют по рождению, — «духами», не знающими, какая «машина» им достанется. Он утверждает, что справедливое общество — единственное, в котором эти бесплотные «духи» согласились бы родиться, зная, что им, возможно, придется иметь дело с неблагоприятными социальными или генетическими условиями[22]. Если вы согласны с тем, что это разумная концепция справедливости и что агенты будут настаивать на широкой социальной поддержке и перераспределительном налогообложении (не устраняющем при этом стимулы, делающие лучше жизнь для всех), тогда вы согласитесь с уравнительной социальной политикой, даже если считаете, что разница в социальном статусе на 100 % наследуется генетически. Политика тогда будет в буквальном смысле вопросом справедливости, а не следствием идеи тождественности людей.
На самом деле существование присущих от рождения различий в способностях делает концепцию Ролса о социальной справедливости особенно актуальной и всегда уместной. Если бы мы были «чистыми листами» и если бы общество на самом деле избавилось от дискриминации, беднейшие могли бы считаться заслуживающими своего положения, поскольку они, видимо, сами решили не очень старательно работать, ведь способности-то у них такие же, как у всех! Но если люди одарены по-разному, некоторые могут оказаться среди беднейших даже в обществе, свободном от предубеждений, и даже если они стараются изо всех сил. Эта несправедливость, сказал бы последователь Ролса, должна быть скорректирована, но мы могли бы проглядеть ее, если бы не признали, что способности людей не одинаковы.
* * *
Кое-кто говорил мне, что такие высокопарные аргументы просто слишком сложны для опасного мира, в котором мы живем. Да, существуют доказательства того, что люди не одинаковы, но так как данные социальных наук не безупречны и так как идея неравенства может быть использована в самых худших целях фанатиками или приверженцами социального дарвинизма, не лучше ли нам перестраховаться и исходить из основной гипотезы — что люди идентичны? Некоторые считают, что, даже если бы мы были абсолютно уверены, что люди отличаются друг от друга генетически, нам все же стоило бы поддерживать вымысел, что они одинаковы, потому что это снижает вероятность злоупотреблений.
Этот аргумент основывается на ложном заключении, что все моральные следствия у «чистого листа» исключительно хороши, а у теории человеческой природы — дурны. Но в случае разницы между людьми, как и в случае сходства между ними, опасность подстерегает с обеих сторон. Если людей разного общественного положения ошибочно воспринимают как различающихся в их унаследованных способностях, мы можем пройти мимо дискриминации и неравных возможностей. По словам Дарвина, «если причина невзгод обездоленных не в законах природы, а в наших общественных институтах, наш грех — огромен». Но если людей, находящихся в разных социальных условиях, ошибочно считают одинаковыми, мы будем завидовать наградам, которые кто-то заслужил честно и справедливо, и можем применить силу, чтобы заколотить выпирающие шляпки гвоздей. Экономист Фредерик Хайек писал: «Это просто неправда, что люди рождаются равными… Если относиться к ним одинаково, результатом станет неравенство их действительного положения… единственный способ поставить их в равные условия — относиться к ним по-разному. Равенство перед законом и равенство в благосостоянии, таким образом, не только одно и то же, но и противоречат друг другу»[23]. Философы Исайя Берлин, Карл Поппер и Роберт Нозик высказывали похожие соображения.
Неравное отношение во имя равенства может принимать множество форм, и некоторые из них, такие как переложение налогового бремени на богатых, высокие налоги на недвижимость, распределение учеников в классы по возрасту, а не по способностям, квоты и предпочтения, оказываемые определенным расам или районам, ограничения, касающиеся частной медицины, доступной не для всех, и другие волюнтаристские решения имеют как сторонников, так и противников. Но некоторые могут быть очевидно опасными. Если мы считаем, что люди рождаются одинаковыми, но некоторые из них добиваются большего богатства и успеха, чем другие, мы можем сделать вывод, что те, кто богаче, должно быть, более жадны и ненасытны. И как только диагнозом вместо таланта признается грех, лекарством вместо перераспределения становится месть. Многие зверства XX века были совершены во имя эгалитаризма, и жертвами стали люди, чей успех использовался в качестве доказательства их преступности. Кулаки в Советском Союзе были истреблены Лениным и Сталиным; учителя, бывшие землевладельцы и «богатые крестьяне» подвергались унижениям, пыткам и убийствам во время китайской «культурной революции»; городских жителей и образованных профессионалов замучивали до смерти непосильным трудом и попросту уничтожали во время правления в Камбодже красных кхмеров[24]. Образованные и предприимчивые национальные меньшинства, процветавшие на чужбине, — индусы в Восточной Африке и Океании, ибос в Нигерии, армяне в Турции, китайцы в Индонезии и Малайзии, евреи практически повсеместно — выгонялись из своих домов и становились жертвами погромов, потому что их явно успешные представители считались паразитами и эксплуататорами[25].
Если лист не пуст, то это предполагает, что компромисс между свободой и материальным равенством — неотъемлемая часть любой политической системы. Основные концепции политической философии могут быть определены в соответствии с тем, как они обращаются с этим компромиссом. Правые социал-дарвинисты не считают важным равенство, левый тоталитаризм не придает значения свободе. Левые последователи Ролса готовы пожертвовать некоторым количеством свободы во имя равенства, правые либертарианцы — некоторым количеством равенства ради свободы. И хотя разумные люди могут не соглашаться даже с самым лучшим компромиссом, неразумно притворяться, что этот компромисс не существует. А это, в свою очередь, значит, что любое открытие изначальных различий между индивидуумами не запретное знание, которое нужно пресекать, а информация, которая может помочь нам сделать выбор осмысленным и гуманным.
* * *
От угрозы евгеники можно избавиться так же легко, как и от угрозы социального дарвинизма и дискриминации. И опять, ключ — в обозначении грани между биологическими фактами и человеческими ценностями.
Если люди генетически имеют разный интеллект и характер, можем ли мы целенаправленно выводить породу более умных и милых людей? Возможно, хотя взаимодействие генетики и развития делает это гораздо более сложной затеей, чем воображают поклонники евгеники. Селекционное разведение не вызывает затруднений в случае генов с аддитивными эффектами — генов, которые действуют одинаково всегда и не зависят от других генов в геноме. Но некоторые свойства, такие как научный гений, спортивное мастерство, музыкальная одаренность, поведенческие генетики называют эмерджентными: они возникают только в результате определенной комбинации генов и не могут гарантированно передаваться потомству[26]. Более того, один и тот же ген в разных условиях может привести к разному поведению. Когда биохимика (и радикального ученого) Джорджа Уолда убеждали сдать образец своего семени в банк спермы нобелевских лауреатов имени Уильяма Шокли, он ответил: «Если вам нужна сперма, рождающая нобелевских лауреатов, вам стоит обратиться к людям вроде моего отца, бедного портного-эмигранта. Что моя-то сперма дала этому миру? Двух гитаристов!»[27]
Но даже если мы можем вывести породу людей с определенными чертами, стоит ли нам это делать? Для этого нам потребуется правительство, достаточно мудрое, чтобы знать, какие способности селекционировать, достаточно образованное, чтобы понимать, как осуществить селекцию, и настолько вездесущее, чтобы влиять на самые личные решения людей. Вряд ли кто-то в демократической стране доверил бы правительству такую власть, даже если бы оно пообещало нам лучшее общество в будущем. Цена свободы личности и возможные злоупотребления со стороны власть имущих были бы неприемлемыми.
Вопреки распространенному мнению радикальных ученых большую часть XX века евгеника была любимой темой левых, а не правых[28]. Ее защищали многие прогрессисты, либералы и социалисты, в том числе Теодор Рузвельт, Герберт Уэллс, Эмма Голдман, Бернард Шоу, Гарольд Ласки, Джон Мейнард Кейнс, Сидней и Беатрис Вебб, Маргарет Сэнгер и биологи-марксисты Джон Холдейн и Герман Мёллер. Нетрудно понять, почему стороны разделились именно так. Консервативные католики и протестанты Библейского пояса ненавидели евгенику как попытку интеллектуальной и научной элиты взять на себя роль Бога. Прогрессистам она нравилась, потому что предполагала реформы вместо статус-кво, государственное регулирование экономики вместо свободного рынка и социальную ответственность вместо эгоизма. Более того, их вполне устраивало расширение роли государства ради достижения социальных целей. Большинство из них отказались от евгеники, только когда увидели, как она привела к принудительной стерилизации в США и Западной Европе и, позже, к политике нацистской Германии. История евгеники — один из многих случаев, когда нравственные проблемы, поставленные человеческой природой, не могут быть решены в рамках привычных дебатов между левыми и правыми, а должны быть проанализированы заново, с точки зрения конфликтующих ценностей, поставленных на карту.
* * *
Наиболее тошнотворные ассоциации биологической концепции человеческой природы — ассоциации с нацизмом. Хотя противостояние идее человеческой природы зародилось за несколько десятилетий до Второй мировой войны, историки согласны, что горькая память о холокосте была основной причиной того, что человеческая природа после Второй мировой превратилась в табу.
Безусловно, на Гитлера повлияли извращенные версии дарвинизма и генетики, популярные в начале XХ века, и в качестве обоснования своей зловещей доктрины он ссылался, в частности, на естественный отбор и выживание наиболее приспособленных. Он верил в крайний социал-дарвинизм, согласно которому единицами естественного отбора были группы и борьба между ними необходима для силы и мощи нации. Он считал, что эти группы в соответствии с конституциональными особенностями их членов выделились в расы, представители которых обладают общими биологическими признаками. При этом расы отличаются одна от другой в силе, смелости, честности, интеллекте и гражданском самосознании. Он писал, что прекращение существования низших рас — часть мудрости природы, что высшие расы обязаны жизнестойкостью и мощью своей генетической чистоте и что высшие расы подвергаются опасности деградации, смешиваясь с низшими. Он использовал эти убеждения как оправдание своих завоевательных войн и геноцида в отношении евреев, цыган, славян и гомосексуалов[29].
Злоупотребление биологией со стороны нацистов напоминает нам, что извращенные идеи могут повлечь за собой ужасающие последствия и что интеллектуалы несут за это ответственность и должны позаботиться о том, чтобы их идеи не были использованы в губительных целях. Но отчасти эта ответственность и в том, чтобы не превращать ужас нацизма в общее место, эксплуатируя его в риторике академических склок. Называя людей, с которыми вы не согласны, нацистами, вы ничего не сделаете для памяти жертв нацизма или для предотвращения новых попыток геноцида. Именно потому, что эти события настолько мрачны, на нас лежит особая ответственность — определить их причины ясно и точно.
Ни одна идея не может быть ложной или вредной только потому, что ею злоупотребляли нацисты. Историк Роберт Ричардс писал о предполагаемой связи между нацизмом и эволюционной биологией: «Если достаточно таких туманных аналогий, нас всех пора гнать на эшафот»[30]. На самом деле, если мы захотим запретить идеи, которыми злоупотребляли нацисты, нам придется пожертвовать гораздо большим, чем приложение эволюции и генетики к человеческому поведению. Нам придется цензурировать эволюционные и генетические исследования, этим все сказано. И нам придется отказаться от множества других идей, которые Гитлер использовал для обоснования нацизма:
• Микробная теория заболеваний: нацисты постоянно ссылались на Пастера и Коха, говоря, что евреи подобны инфекционным бациллам и их нужно уничтожить, чтобы избежать заразы.
• Романтизм, энвайронментализм и любовь к природе: нацисты подчеркивали идеи романтизма в немецкой культуре о том, что немцы — судьбоносный народ, мистическими узами связанный с землей и природой. Евреи и другие меньшинства считались, наоборот, порождением вырождающихся городов.
• Филология и лингвистика: концепция арийской расы основывалась на предположении лингвистов о существовании доисторического племени индо-европейцев, которые тысячи лет назад распространились из мест своего происхождения и завоевали бо́льшую часть Европы и Азии.
• Религиозная вера: хотя Гитлер недолюбливал христианство, он не был и атеистом и придавал себе храбрости мыслью, что действует согласно Божественному плану[31].
Опасность, что, реагируя на злоупотребления нацистов, мы можем исказить науку — не гипотетическая. Историк науки Роберт Проктор описывал, как официальные лица американского здравоохранения не торопились признавать, что курение провоцирует рак, потому что первыми эту связь обнаружили нацисты[32]. И некоторые немецкие ученые признают, что биомедицинские исследования в их стране отстают от мирового уровня из-за смутных исторических ассоциаций с нацизмом[33].
Гитлер был злом, потому что стал причиной смерти 30 млн человек и невообразимых страданий бесчисленного их количества, а не потому, что его убеждения имели отношение к биологии (или к лингвистике, или к природе, или к курению, или к Богу). Перекладывание вины за действия фюрера на те или иные стороны его убеждений может привести к обратному эффекту. Идеи взаимосвязаны, и, если окажется, что какая-то из идей, которых придерживался Гитлер, содержит зерно истины, например, что расы — биологическая реальность или индоевропейцы действительно были воинственным племенем, — мы не захотим признать, что нацисты хоть в чем-то были правы.
Нацистский холокост стал тем единственным событием, которое изменило отношение к бесчисленному количеству политических и научных тем. Но это был не единственный холокост XX века, вдохновленный идеологией, и мыслящие люди только начинают осознавать уроки остальных, таких как массовые убийства в Советском Союзе, Китае, Камбодже и других тоталитарных государствах, совершавшиеся во имя марксизма. Рассекречивание советских архивов, обнародование данных и воспоминаний о китайской и камбоджийской революциях заставляют пересмотреть последствия идеологии такой же разрушительной, как та, что стала причиной Второй мировой войны. Историки сегодня спорят о том, привели ли массовые убийства, форсированные военные наступления, рабский труд и рукотворный голод к смерти 100 млн или «всего» 25 млн? Они обсуждают, хуже ли эти зверства с нравственной точки зрения, чем нацистские, или «только» равны им[34].
И вот примечательный факт: хотя обе идеологии — и нацистская, и коммунистическая — привели к убийствам в промышленных масштабах, их биологические и психологические теории были противоположны. Марксисты не использовали концепцию расы, отвергали идею генетической наследственности и враждебно относились к мысли о существовании человеческой природы, основанной на биологии[35]. Маркс и Энгельс не исповедовали явно доктрину «чистого листа» в своих сочинениях, однако они были твердо уверены, что природа человека не имеет устойчивых свойств. Она состоит лишь во взаимодействии групп людей с их материальной средой в конкретный исторический период и постоянно меняется по мере того, как люди изменяют окружающую среду и одновременно изменяются ею[36]. Поэтому разум не имеет врожденной структуры, но возникает в диалектическом процессе истории и социального взаимодействия. Как писал Маркс:
Вся история есть не что иное, как беспрерывное изменение человеческой природы[37].
Обстоятельства в той же мере творят людей, в какой люди творят обстоятельства[38].
Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание[39].
Предвосхищая заявления Дюркгейма и Крёбера, что отдельный человеческий разум не стоит внимания, Маркс писал:
Но человек — не абстрактное, где-то вне мира ютящееся существо. Человек — это мир человека, государство, общество. Сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений[40].
Дело идет о лицах лишь постольку, поскольку они являются олицетворением экономических категорий, носителями определенных классовых отношений и интересов[41].
Смерть кажется жестокой победой рода над определенным индивидом и как будто противоречит их единству; но определенный индивид есть лишь некое определенное родовое существо и как таковое смертен[42].
Последователи же Маркса в XX веке однозначно соглашались с концепцией «чистого листа» или, по крайней мере, с близкой к ней метафорой эластичного материала. Ленин одобрял идеал Николая Бухарина о «производстве коммунистов из человеческого материала капиталистической эры»[43]. Поклонник Ленина Максим Горький писал: «Рабочий класс для Ленина — то же, что для металлиста руда»[44] и «Грубый человеческий материал неизмеримо сложнее в обработке, чем древесина» (последнее — наслаждаясь поездкой по Беломорско-Балтийскому каналу, построенному руками рабов-заключенных)[45]. Мы натыкаемся на метафору «чистого листа» в сочинениях человека, которого можно считать ответственным за 65 млн смертей:
На чистом листе бумаги нет пятен, так что на нем могут быть написаны новые и самые прекрасные слова, нарисованы новые и самые прекрасные картины.
Мао Цзэдун[46]
И находим ее в лозунге политического движения, убившего четверть населения своей страны:
Только новорожденный ребенок безгрешен.
(Лозунг красных кхмеров)[47]
Массовые убийства, осуществляемые на государственном уровне, так же легко могут порождаться системой, которая не верит в наследственность, как и системой, которая в нее верит, — понимание этой истины переворачивает послевоенное представление о том, что пагубны только биологические подходы к поведению. Причины государственных геноцидов необходимо искать в убеждениях, общих для нацизма и марксизма, запустивших их на параллельные траектории, и, конкретно, в убеждениях, характерных для марксизма, которые привели к невероятным зверствам, совершенным во имя него. Этим и занимается новое поколение историков и философов[48].
И нацизм, и марксизм стремились изменить человечество. «Изменение человека в массовом масштабе необходимо», — писал Маркс, «воля к созданию нового человечества» — суть национал-социализма, писал Гитлер[49]. Они были одинаково похожи и в своем революционном идеализме, и в тиранической уверенности в достижении этой мечты. Они не собирались запасаться терпением, необходимым для поэтапных реформ, или учитывать гуманитарные последствия своей политики. Одно это — уже готовый рецепт катастрофы. Как писал Александр Солженицын в книге «Архипелаг ГУЛАГ», «у Макбета слабы были оправдания — и загрызла его совесть. Да и Яго — ягненок. Десятком трупов обрывалась фантазия и душевные силы шекспировских злодеев. Потому что у них не было идеологии».
Идеологическая связь между марксистским социализмом и национал-социализмом — не фантазия[50]. В 1913 году Гитлер, живший тогда в Мюнхене, внимательно читал Маркса и, возможно, перенял у него роковой постулат, который станет общим для двух идеологий[51]. Это вера в то, что история есть предопределенная последовательность конфликтов между группами людей и что человеческое существование можно улучшить только победой одной группы над другими. Для нацизма группы — расы, для марксизма — классы. Для нацизма конфликт — социал-дарвинизм, для марксизма — классовая борьба. Нацизм желал победы для арийцев, марксизм — для пролетариата. Идеологию от зверств отделяло всего несколько шагов: борьба (часто эвфемизм для насилия) неизбежна и благотворна; определенные группы людей (неарийские расы или буржуазия) морально ущербны; и счастье человечества зависит от их порабощения или уничтожения. Кроме прямого оправдания жестоких конфликтов идеология межгрупповой борьбы поощряет отвратительное проявление общественной психологии: склонность разделять людей на своих и чужих и считать чужих не совсем людьми. Неважно, чем определяются группы — своей биологией или историей. Психологи обнаружили, что спровоцировать враждебность между группами можно моментально, сортируя людей каким угодно способом, даже просто подбрасывая монетку[52].
Идеология межгрупповой борьбы объясняет схожие последствия марксизма и нацизма. Идеология «чистого листа» помогает объяснить некоторые особенности, характерные только для марксистских государств:
• Если люди не различаются психологически своими талантами и побуждениями, тогда тот, кто добился большего богатства, вор и корыстолюбец (я уже говорил об этом). Массовые убийства кулаков — зажиточных, «обуржуазившихся» крестьян — происходили и в Советском Союзе при Ленине и Сталине, и в Китае при Мао, и в Камбодже при Пол Поте.
• Если от рождения разум человека не структурирован и формируется только опытом, тогда общество, которому нужны правильные умы, должно контролировать опыт («Самые прекрасные стихи пишутся на чистых листах»)[53]. Марксистские государства XX века были не просто диктатурами, это были тоталитарные диктатуры. Они пытались контролировать каждый аспект жизни: воспитание детей, образование, стиль одежды, развлечения, архитектуру, искусство, даже еду и секс. Писателей в Советском Союзе называли «инженерами человеческих душ». В Китае и Камбодже постоянно проводились неприемлемые эксперименты с обязательными общественными столовыми, общими спальнями для однополых взрослых и отделением детей от родителей.
• Коль скоро люди формируются социальным окружением, тогда, если человек вырос в буржуазной среде, это оставляет несмываемое пятно на его психологии («Только новорожденный ребенок безгрешен»). Потомки землевладельцев и «богатых крестьян» в постреволюционных режимах носили вечную стигму, их подвергали гонениям так яростно, будто буржуазное происхождение — это генетическая черта. Хуже того, происхождение не увидишь глазом, его можно узнать только от третьих лиц, а потому практика доносов о «плохом происхождении» стала оружием социального соперничества. Это привело к обличениям и паранойе, что сделало жизнь в таких режимах оруэлловским кошмаром.
• Если человеческой природы, заставляющей людей защищать интересы своей семьи в ущерб интересам «общества», не существует, тогда люди, собирающие больший урожай со своих личных огородов, чем с колхозных полей, где весь урожай отходит государству, — жадные, ленивые и должны быть за это наказаны. Страх, а не личный интерес становится мотивацией труда.
• В целом, если отдельные умы — взаимозаменяемые компоненты суперорганической сущности, называемой обществом, тогда общество, а не личность — естественная единица здоровья и благополучия, и именно в его интересах должны стараться люди. Здесь нет места для прав человека.
Я не хочу сказать, что «чистый лист» — порочная доктрина: она порочна не более, чем вера в человеческую природу. И та и другая сами по себе далеки от жутких преступлений, совершенных под их знаменами, и должны оцениваться на основании фактов. Но я хочу опровергнуть упрощенное представление о связи наук о человеческой природе с моральными катастрофами XX века. Эта поверхностная ассоциация мешает нам понять самих себя и причины этих катастроф. Тем более если эти причины имеют отношение к тем сторонам нашей натуры, которых мы пока полностью не понимаем.
Глава 9.Страх невозможности совершенствования
Могучей царственной Природы виды,
Младым воображеньем завладев,
Надежду смутную мне в сердце заронили.
В любое время мира между наций
Уверен я, что было б мое сердце
Охвачено подобным же желаньем;
В те дни Европа была радости полна,
Век золотой для Франции пришел,
Природа человека возродилась вновь.
Уильям Вордсворт[1]В воспоминаниях Вордсворта мы можем обнаружить второй страх, связанный с душой, присущей человеку от рождения. Поэт-романтик взволнован мыслью, что человеческая природа способна возродиться, но был бы расстроен вероятностью, что мы обречены на роковые ошибки и смертные грехи. Так же полагают и политики-романтики, поскольку неизменная человеческая природа, похоже, убивает всякую надежду и на реформы. Зачем пытаться сделать мир лучше, если люди сами испорчены до мозга костей и будут портить все, что бы ты ни делал? Не секрет, что работы Руссо вдохновили и романтическую литературу, и Французскую революцию и что в 1960-х годах романтизм и радикальная политика переживали новый расцвет в тандеме. Философ Джон Пассмор считал, что страстная тоска по лучшему миру, в который нас приведет новая, улучшенная человеческая природа, — лейтмотив западной философии, и подытожил мысль замечанием классика английской литературы Дэвида Лоуренса: «Совершенствование человека! О небеса, какая скучная тема!»[2]
Страх из-за врожденной порочности человека принимает две формы. Одна — утилитарный страх: социальные реформы — пустая трата времени, поскольку человеческая природа неизменяема. Другая — более глубокое беспокойство, вырастающее из романтической веры в то, что все природное — хорошо само по себе. Согласно этой логике, если ученые предполагают, что быть жестоким, неверным, эгоцентричным и эгоистичным «естественно», что это часть человеческой природы, значит, они считают эти качества хорошими, а не просто неизбежными.
Как и другие опасения, связанные с «чистым листом», страх невозможности совершенствования имеет смысл в контексте истории XX века. Отвращение к идее, что люди по природе своей воинственные ксенофобы, — понятная реакция на идеологию, прославляющую войну. Когда я был студентом магистратуры, я наткнулся на иллюстрацию, запомнившуюся мне на всю жизнь: лежащий в грязи мертвый солдат. От его тела отделялся призрак в военной форме, одна рука призрака обвивалась вокруг укрытого плащом тела без лица, вторая — вокруг обнаженной блондинки-валькирии. Надпись гласила: «Счастливы те, кто, источая свет верности, в одном объятии соединили смерть и победу». Был ли это китчевый постер, рекрутировавший пушечное мясо для имперских захватнических войн? Ура-патриотический памятник в замке прусского военного аристократа? Нет, картина «Смерть и победа» была написана в 1922 году великим американским художником Джоном Сарджентом и висела на видном месте в одной из самых известных научных библиотек — в Библиотеке Вайденер в Гарвардском университете.
То, что это престижное учебное заведение было украшено подобным символом смерти, — свидетельство милитаристской ментальности прошедших десятилетий. Война считалась живительной, облагораживающей, естественным стремлением мужчин и народов. Руководствуясь этим убеждением и не вполне осознавая, что делают, мировые лидеры развязали Первую мировую войну, и миллионы людей с радостью отправились на призывные пункты, не задумываясь о мясорубке, ожидающей их впереди. Начиная с крушения иллюзий, последовавшего за этой катастрофой, и заканчивая массовыми протестами против боевых действий во Вьетнаме, отношение западного мира к войне уверенно менялось: ее перестали прославлять. Современные художественные произведения, такие как фильм «Спасти рядового Райана», даже имея целью воздать должное храбрости воина, показывают войну как ад, в котором смельчаки платят ужасную цену, претерпевая страдания ради уничтожения зла, а не как способ испытать ощущение «счастья». Реальные войны сегодня ведутся с помощью дистанционно управляемой техники, чтобы минимизировать количество жертв, даже если ради этого приходится снижать уровень поставленных задач. В такой атмосфере любое предположение, что война «естественна», будет встречено возмущенными попытками доказать обратное — назову для примера периодически всплывающее «Заявление о насилии», составленное в Севилье в 1986 году видными социологами. В нем утверждается, что говорить о человеческой склонности к агрессии «некорректно с научной точки зрения»[3].
Феминизм враждебно относится к идее, что эгоистичные сексуальные стремления могут корениться в нашей природе. Тысячелетиями женщины страдали от двойных стандартов, основанных на предпосылке, что мужчины и женщины отличаются друг от друга. Законы и обычаи наказывали женское распутство куда жестче, чем мужское. Мужья и отцы отбирали у женщин контроль над их собственной сексуальностью, ограничивая их передвижения, предписывая, как они должны выглядеть. Законы освобождали насильников от ответственности или смягчали наказание, если жертва якобы была одета и вела себя так, что вызвала у насильника неудержимое желание. Представители власти отмахивались от жертв оскорблений, сексуальных преследований, избиений, считая, что эти преступления — обычная часть отношений и семейной жизни. Некоторые феминистские течения настолько боятся принять любую идею, которая, как им кажется, способна сделать это бесчинство «естественным» или неизбежным, что они отвергают все предположения о том, что мужчины от природы наделены более сильным сексуальным желанием и чувством ревности. В главе 7 мы видели, как утверждение, что мужчины больше женщин склонны к случайным связям, отвергается и правыми и левыми. Под еще более сильный перекрестный огонь попали недавно Крейг Палмер и Рэнди Торнхилл, которые в своей книге «Естественная история изнасилования» предположили, что изнасилование — это следствие мужской сексуальности. Представительница феминистской организации Feminist Majority Foundation назвала книгу «пугающей» и «реакционной», потому что она «практически оправдывает преступление и возлагает вину на жертву»[4]. А представитель Института Дискавери, креационистской организации, на слушаниях в Конгрессе сказал, что книга угрожает нравственным основам, на которых стоит Америка[5].
Третий порок с политическими последствиями — эгоизм. Если люди, подобно животным, руководимы «эгоистичным геном», эгоизм выглядит неизбежным и даже добродетельным. Аргумент в корне неверен, потому что эгоистичный ген вовсе не обязательно строит эгоистичный организм. Но все же давайте учитывать вероятность, что люди могут быть склонны ставить свои интересы, интересы семьи и друзей выше интересов племени, общества или вида. Политические последствия этого сформулированы в двух философских направлениях, которые описывают, как должно быть организовано общество, и основаны на взаимоисключающих предположениях о врожденности человеческого эгоизма:
Не от благожелательности мясника, пивовара или булочника ожидаем мы получить свой обед, а от соблюдения ими своих собственных интересов. Мы обращаемся не к их гуманности, а к их эгоизму.
Адам Смит
От каждого по способностям, каждому по потребностям.
Карл Маркс
Смит, теоретик капитализма, полагает, что люди эгоистично отдают продукт своего труда, чтобы удовлетворить собственные потребности, и получают плату в соответствии со своими возможностями (потому что покупатель тоже эгоистичен). Маркс — архитектор коммунизма и социализма, считает, что в социалистическом обществе будущего мясник, пивовар и пекарь будут обеспечивать нас обедом из благожелательности или желания самореализации, иначе зачем им радостно выкладываться в меру своих способностей, а не в соответствии со своими потребностями?
Те, кто верит, что коммунизм или социализм — наиболее разумная форма общественного устройства, приходят в ужас от предположения, что она идет вразрез с нашей эгоистичной природой. Но если на то пошло, у каждого человека, независимо от его политических взглядов, должны вызывать негодование действия тех, кто заставляет общество оплачивать их личные интересы, — убивая редких животных, загрязняя реки, уничтожая исторические достопримечательности, чтобы построить на их месте торговый центр, обезображивая памятники своими граффити, изобретая оружие, которое не определяется детекторами металла. Кроме того, порой люди совершают действия, которые имеют смысл для них самих; однако, если так будут поступать все, это дорого обойдется обществу. В качестве примеров можно привести превышение квот вылова рыбы, сверхэксплуатацию общественных пастбищ, пробки на бесплатных автострадах или покупку внедорожника, чтобы защитить себя при аварии, потому что все вокруг водят внедорожники. Многим не нравится мысль, что люди склонны к эгоизму. Им кажется, это значит, что такие способы защиты своих интересов неискоренимы или что сдержать их можно только постоянным применением мер принуждения.
* * *
Страх, что улучшения невозможны, и вытекающее из него тяготение к «чистому листу» основаны на паре ложных заключений. Мы уже встречались с натуралистической ошибкой, убеждением, что все, что происходит в природе, — хорошо. Можно было бы подумать, что это убеждение безвозвратно скомпрометировано социал-дарвинизмом, но оно вернулось вместе с романтической идеей 1960–1970-х. Активисты энвайронменталистского направления, например, часто апеллируют к идее добродетельности природы, агитируя за сохранение естественной среды со всей ее кровожадностью. Например, чтобы убедить общество в том, что волки, медведи и акулы достойны усилий по сохранению и восстановлению популяции, этим хищникам был создан имидж санитаров природы, истребителей старых и больных особей. По этой логике, все, что мы вынесли из рая, — здраво и правильно, а заявление, что агрессия или изнасилование «естественно», в том смысле что оно поддерживается эволюцией, равнозначно утверждению, что это хорошо.
Натуралистическая ошибка быстро приводит к обратной, моралистической ошибке: если какая-то черта нравственна, она должна существовать в природе. Это значит, что не только «есть» подразумевает «должно быть», но и «должно быть» подразумевает «есть». Считается, что природа, включая человеческую, предполагает только добродетельные черты (никаких бессмысленных убийств, никакой эксплуатации, никакой жадности) либо никаких черт вообще, потому что альтернатива слишком ужасна, чтобы с ней соглашаться. Вот почему натуралистическая и моралистическая ошибки так часто связаны с «чистым листом» и «благородным дикарем».
Защитники натуралистической и моралистической ошибок — не соломенные чучела, это выдающиеся ученые и писатели. Например, в ответ на предыдущие работы Торнхилла об изнасилованиях ученая-феминистка Сьюзен Браунмиллер написала: «Кажется, совершенно ясно, что биологизация изнасилования и исключение социальных и "моральных" факторов может привести к легализации изнасилований… Отделять изнасилование от других форм жестокого асоциального поведения и облагораживать его адаптивным значением — реакционная и упрощенческая идея»[6]. Обратите внимание на ложное заключение: если нечто объясняется биологией, оно «легализуется», если какая-то черта названа адаптивной, она «облагорожена». Точно так же Стивен Гулд писал по поводу еще одной дискуссии об изнасилованиях у животных: «Неверно описывая врожденное поведение птиц старым названием преступного человеческого действия, мы неявно полагаем, что настоящее изнасилование — нашего собственного типа — для некоторых людей также может быть естественным поведением с эволюционными преимуществами»[7]. Подобный упрек косвенно предполагает, что описывать некоторое действие как «естественное» или имеющее «эволюционные преимущества» — значит каким-то образом оправдывать его.
Моралистическая ошибка, так же как и натуралистическая, — это действительно ошибка, и комиксы про Арло и Дженис напоминают нам об этом:
Дженис: Сынок человек — единственное животное, которое убивает для забавы!
Арло: Это неправда! Моржи убивают пингвинов без всякой причины, кроме развлечения!
Дженис: Еще одно заблуждение 60-х приказало долго жить!
Биология на стороне мальчика[8]. Джордж Уильямс, уважаемый эволюционный биолог, описывал мир природы как «в высшей степени аморальный»[9]. У естественного отбора нет ни предвидения, ни сострадания, он «может быть честно описан как процесс максимизации недальновидного эгоизма». Вдобавок ко всем страданиям, причиняемым хищниками и паразитами, представители одного и того же вида тоже не проявляют жалости друг к другу. Детоубийства, убийства братьев и сестер, изнасилования наблюдаются у многих видов животных; неверность широко распространена даже среди тех из них, что создают так называемые постоянные пары; каннибализм встречается повсеместно, кроме разве что строго травоядных; смерти в драках у большинства видов животных случаются чаще, чем в американских городах с самым высоким уровнем преступности[10]. Комментируя обычай биологов описывать убийство как акт милосердия (на примере убийства горными львами умирающего от голода оленя), Уильямс писал:
Очевидно, что и голод, и смерть в когтях хищника — болезненная перспектива для оленя, да и судьба львов так же незавидна. Возможно, биология была бы способна больше дать культуре, если бы не руководствовалась иудео-христианской теологией и романтической традицией. Ей бы больше пригодилась Первая благородная истина из Бенаресской проповеди [Будды]: «Рождение — страдание, старость — страдание, болезнь — страдание, смерть — страдание…»[11]
Как только мы поймем, что в результатах эволюции нет ничего похвального с точки зрения морали, мы сможем описать человеческую психологию честно, не опасаясь, что назвать «природные» черты — значит оправдать их. Кэтрин Хёпберн говорит Хамфри Богарту в фильме «Африканская королева»: «Природа, мистер Олнат, поместила нас в этот мир, чтобы мы превзошли ее».
Важно отметить, что такие заблуждения — палка о двух концах. Многие комментаторы от религиозных и культурных правых считают, что любое поведение, которое кажется им биологически нетипичным, — гомосексуальность, добровольная бездетность, принятие женщинами мужских ролей и наоборот — должно быть осуждено как «неестественное». Например, ведущая популярного ток-шоу Лаура Шлезингер заявила: «Я убеждаю людей прекратить грешить и начать поступать правильно». В рамках этого крестового похода она призвала геев пройти терапию, чтобы изменить их сексуальную ориентацию, потому что гомосексуальность — это «биологическая ошибка». Такое моральное суждение может высказать только человек, абсолютно далекий от биологии. Поведение, которое нравственные люди превозносят, — хранить верность супругу, подставлять другую щеку, относиться к каждому ребенку как к драгоценности, любить ближнего как самого себя — «биологические ошибки», и они совершенно неестественны для остальной части живого мира.
Признание натуралистической ошибки не равнозначно утверждению, что факты о человеческой природе не существенны для наших решений[12]. Политолог Роджер Мастерс отмечает, что натуралистическую ошибку легче всего сделать, пытаясь отрицать влияние биологии на человеческие дела. Он подчеркивает: «Когда доктор говорит, что пациенту необходима операция, так как данные показывают аппендицит, вряд ли пациент будет жаловаться на ложные логические выводы»[13]. Признание натуралистической ошибки предполагает только, что открытия о человеческой природе сами по себе не диктуют нам решения. Помимо фактов необходимо сформулировать ценности и методы разрешения конфликтов между ними. Располагая диагнозом, разделяя представления о ценности здоровья, о том, что боль и стоимость хирургического вмешательства менее значимы, чем будущая польза, пациент выберет операцию.
Предположим, изнасилование свойственно человеку от природы, как и то, что мужчины желают секса при более разнообразных обстоятельствах, чем женщины. Но то, что женщины хотят контролировать, с кем и когда им заниматься сексом, тоже свойство нашей природы, с такими же глубокими эволюционными корнями. Неотъемлемая часть нашей системы ценностей — то, что интересы женщин не должны ставиться ниже интересов мужчин и что контроль над собственным телом — фундаментальное право каждого, более важное, чем желания других людей. Так что изнасилование недопустимо, связано оно с природой мужской сексуальности или нет. Обратите внимание на то, что это рассуждение требует «детерминистского» и «эссенциалистского» утверждения о человеческой природе: женщины питают отвращение к изнасилованию. Без такового у нас бы не было способа сделать выбор между попытками препятствовать изнасилованиям и попытками приучить женщин смиряться с ними, что, кстати, должно быть вполне совместимо c якобы прогрессивной доктриной, что люди — сырой пластичный материал.
Но не во всех случаях наилучший способ разрешения конфликта так очевиден. Психологи Мартин Дейли и Марго Уилсон документально подтвердили, что приемные родители чаще склонны к насилию над детьми, чем биологические. Открытие было вовсе не очевидным: многие эксперты по детско-родительским отношениям настаивали, что жестокий приемный родитель — миф, порожденный сказками о Золушке, и что родительство — это «роль», которую может взять на себя кто угодно. Чтобы проверить предположения эволюционной психологии, Дейли и Уилсон исследовали статистику семейного насилия[14]. Родительская любовь формируется в процессе эволюции, потому что она побуждает людей защищать и кормить своих детей, которые, вероятно, тоже несут гены, отвечающие за родительскую любовь. У любых видов, у которых чужие дети имеют возможность войти в семейный круг, отбор поощряет тенденцию отдавать предпочтение собственным детям, потому что, согласно холодному расчету естественного отбора, инвестиции в чужих детей — бесполезные траты. Терпение родителя обычно иссякает с приемными детьми раньше, чем с родными, и в крайних случаях это может приводить к жестокому обращению.
Значит ли все это, что социальные службы должны наблюдать за приемными родителями более внимательно, чем за родными? Не торопитесь с ответом. Большинство и родных, и приемных родителей никогда не проявляют жестокости к детям, так что относиться к приемным родителям с подозрением было бы несправедливо по отношению к миллионам ни в чем не повинных людей. Юрист-теоретик Оуэн Джонс отмечает, что эволюционный анализ приемного родительства — или чего-либо другого — не влечет за собой политических последствий автоматически. Скорее это очерчивает компромисс и заставляет нас выбирать оптимальный вариант. В этом случае речь идет о компромиссе между снижением случаев насилия над детьми и предвзятым отношением к приемным родителям, с одной стороны, и максимально справедливым отношением к приемным родителям и проявлением терпимости к увеличению случаев насилия над детьми — с другой[15]. Если бы мы не знали о том, что люди предрасположены к тому, чтобы терять терпение с приемными детьми быстрее, чем с родными, мы по умолчанию выбрали бы только такой компромисс — игнорировать приемное родительство как фактор риска и мириться с дополнительными случаями насилия, даже не осознавая этого.
Понимание человеческой природы со всеми ее слабостями может обогатить не только социальные стратегии, но и личную жизнь. Семьи с приемными детьми, как правило, менее счастливы и менее прочны, чем семьи с детьми родными, в основном из-за напряжения, связанного с тем, сколько времени, терпения и денег приходится тратить на приемных детей. Многие приемные родители добры и щедры по отношению к детям своих супругов, распространяя любовь к ним на детей. Тем не менее существует разница между инстинктивной любовью, которую родители автоматически расточают своим родным детям, и взвешенной добротой и щедростью, которые мудрые родители дарят детям приемным. Понимание этой разницы, предполагают Дейли и Уилсон, может укрепить брак[16]. Браки, построенные на жестком принципе «ты — мне, я — тебе», обычно не бывает счастливыми, тогда так в хорошем браке супруги ценят взаимные жертвы на протяжении длительного времени. Признание сознательных усилий партнера, который старается благожелательно относиться к твоему ребенку, в конечном счете влечет меньше взаимного недовольства и непонимания, чем требование такой доброжелательности по умолчанию и раздражение из-за неоднозначных чувств, которые может испытывать партнер. Это один из множества случаев, когда понимание, что наши эмоции несовершенны, может принести больше счастья, чем иллюзии относительно тех идеальных чувств, которые нам хотелось бы иметь.
* * *
Так что если природа поместила нас в этот мир, чтобы мы возвысились над ней, то как нам это сделать? Где в обычной цепи эволюционировавших генов, создающих нейронный компьютер, найдется зазор, в который можно вставить такое, казалось бы, немеханическое событие, как «выбор ценностей»? И допуская саму возможность выбора, не приглашаем ли мы духа обратно в машину?
Сам этот вопрос — симптом «чистого листа». Если начинать рассуждение с мысли, что лист чист, то, предположив некое внутренне присущее желание, мы воображаем его на пустой поверхности и заключаем, что это непреодолимый порыв, так как на листе нет ничего, что могло бы ему противостоять. Эгоистичные мысли превращаются в эгоистичное поведение, агрессивные побуждения производят прирожденных убийц, а желание иметь больше сексуальных партнеров означает, что мужчина просто не может удержаться от постоянных измен. Например, когда приматолог Майкл Гиглиери пришел на программу Science Friday на Национальном общественном радио, чтобы поговорить о своей книге, посвященной насилию, ведущий спросил его: «Вы объясняете изнасилования, убийства и войны, а также прочие плохие вещи тем, что люди поступают так, потому что есть что-то — если говорить о самой сути — что-то, чему они не могут сопротивляться, так как оно записано в их эволюционных генах?»[17]
Однако если разум — система, состоящая из множества частей, тогда врожденное желание — это лишь один компонент из множества других. Некоторые дары природы наделяют нас алчностью, похотью или злобностью, но другие — состраданием, благоразумием, самоуважением, способностью относиться с уважением к другим и учиться на собственном опыте и опыте окружающих. Все это физические свойства нейронных сетей, расположенных в префронтальной коре и в других частях мозга, а не какие-нибудь оккультные силы; у них есть генетическая основа и эволюционная история не меньшая, чем у примитивных побуждений. Только «чистый лист» и «дух в машине» заставляют людей думать, что стимулы имеют отношение к «биологии», а мышление и принятие решений — к чему-то другому.
Способности, лежащие в основе эмпатии, благоразумия и самоуважения, — это системы обработки информации, которые реагируют на входные данные и управляют прочими частями мозга и тела. Эти комбинаторные системы, подобно умственной грамматике, лежащей в основе языка, способны производить бесконечное количество идей и способов действия. Когда люди обмениваются информацией, которая влияет на эти механизмы, могут происходить личные и социальные изменения — даже если мы не что иное, как марионетки из плоти, живые часовые механизмы или неуклюжие роботы, созданные эгоистичными генами.
Понимание человеческой природы не только совместимо с социальным и нравственным развитием, оно даже может помочь объяснить очевидный прогресс прошедшего тысячелетия. Обычаи, которые были нормой на протяжении истории и в доисторический период, — рабство, увечье как наказание, мучительные казни, геноцид как средство достижения цели, бесконечные кровавые междоусобицы, убийства чужаков, изнасилование как военный трофей, детоубийство как форма контроля рождаемости и владение женщинами как имуществом на законных основаниях — исчезли на большей части планеты.
Философ Питер Сингер показал, каким образом на основе устойчивого нравственного чувства может возникать неуклонный моральный прогресс[18]. Предположим, мы от природы обладаем сознанием, которое заставляет нас относиться к другим людям как к объектам сострадания и не дает нам причинять им вред или эксплуатировать их. Предположим также, что у нас есть механизм понимания, подсказывающий, должно ли то или иное живое существо классифицироваться как личность. (В конце концов, мы же не хотим считать личностями растения и умереть от голода, отказавшись их есть.) Сингер дает толкование нравственного совершенствования уже в названии своей книги: «Расширяющийся круг» (The Expanding Circle). Люди непрерывно отодвигают воображаемую линию, очерчивающую круг существ, признаваемых достойными того, чтобы их чувства и нужды принимались во внимание. Вначале этот круг включал семью, затем деревню, клан, племя, нацию, расу и в последнее время (например, во Всеобщей декларации прав человека) — все человечество. Он распространился с королей, аристократии и богатых собственников на всех людей. Он расширился и включает теперь не только мужчин, но и женщин, и детей, и новорожденных. Он расширился настолько, что включает и военнопленных, и заключенных, граждан неприятельских стран, умирающих и психически больных людей.
И возможности нравственного прогресса не исчерпаны. Сегодня некоторые хотят расширить круг до человекообразных обезьян, теплокровных животных и животных, обладающих центральной нервной системой. Другие хотят учитывать зиготы, бластоцисты, зародыши и людей, чей мозг уже мертв. А некоторые хотят ввести в круг все живые виды, экосистемы и всю планету. Эти принципиальные перемены в восприятии, движущая сила моральной истории нашего вида, не нуждаются в «чистом листе» или «духе в машине». Они могли развиться из морального устройства, состоящего из единственной кнопки или рычажка, который регулирует размер круга, вмещающего все существа, чьи интересы мы воспринимаем как сравнимые с собственными.
Движущие силы, расширяющие нравственный круг, — это не обязательно какие-то мистические побуждения к абстрактному добру. Расширение может порождаться взаимодействием эгоистичного процесса эволюции и закона комплексных систем. Биологи Джон Мейнард Смит и Эрш Сатмари и журналист Роберт Райт объяснили, как эволюция может приводить ко все большей и большей степени кооперации[19]. На протяжении всей истории существования жизни репликаторы постоянно объединяли усилия, специализировались в разделении труда и координировали свое поведение. Так происходит потому, что репликаторы часто оказываются участниками игр с ненулевой суммой, когда стратегии, принятые двумя игроками, могут принести выигрыш обоим (в противоположность играм с нулевой суммой, где один участник выигрывает, а другой проигрывает). Точную аналогию можно найти в пьесе Уильяма Йейтса, в которой слепой человек несет на плечах калеку, что позволяет передвигаться обоим. На протяжении эволюции подобная динамика привела к тому, что реплицирующиеся молекулы стали объединяться в хромосомы, органеллы — в клетки, клетки — в сложные организмы, а организмы — в сообщества. Судьба независимых агентов часто находилась в зависимости от общей системы, и не потому, что у них была врожденная гражданская позиция, а потому, что агентам, составляющим систему, были выгодны разделение труда и развитые способы разрешения конфликтов.
Человеческие общества, как и живые существа, стали более сложными и сплоченными со временем. И снова причина в том, что агенты живут лучше, если они кооперируются и специализируются в достижении общих целей, если обмениваются информацией и наказывают обманщиков. Если у меня есть больше фруктов, чем я могу съесть, а у тебя есть больше мяса, чем тебе нужно, нам обоим будет выгодно обменяться излишками. Если на нас нападает общий враг, тогда, как сказал Бенджамин Франклин, «мы должны держаться вместе, иначе нас точно перебьют поодиночке».
Райт утверждает, что к расширению круга кооперации людей привели три свойства человеческой природы. Одно — познавательные способности, необходимые, чтобы понять, как устроен мир. Благодаря им возникают знания и опыт, достойные того, чтобы делиться ими с другими, а также умение распространять товары и информацию на большие территории, а вместе они расширяют возможности взаимовыгодного обмена. Второе — язык, позволяющий делиться технологиями, заключать выгодные сделки и настаивать на исполнении договоренностей. Третье — наши эмоции (сочувствие, доверие, вина, гнев, самоуважение), заставляющие нас искать новых деловых партнеров, поддерживать отношения с ними и защищать эти отношения от возможных злоупотреблений. Эти способности издавна поместили наш вид на первую ступень нравственной лестницы. Воображаемый круг личностей, достойных уважения, расширился вместе с физическим кругом союзников и торговых партнеров. По мере того как аккумулируются технологии и люди на все большей части планеты становятся свободными, взаимная ненависть уменьшается по той простой причине, что нельзя одновременно убивать людей и торговать с ними.
Игры с ненулевой суммой появляются не только потому, что люди могут помогать друг другу, но и потому, что они способны удержаться от причинения друг другу вреда. Во множестве конфликтов обе стороны выигрывают, так как могут разделить прибыль, полученную благодаря тому, что драться больше нет необходимости. Это обеспечивает стимул к развитию методов разрешения конфликтов, таких как переговоры, меры по сохранению репутации, продуманная система возмещения убытков, а также своды законов. Приматолог Франс де Вааль утверждал, что зачатки разрешения конфликтов есть у многих видов приматов[20]. Человеческие способы разрешения конфликтов существуют во всех культурах и так же универсальны, как и сами конфликты, которые они призваны сглаживать[21].
Хотя эволюция расширяющегося круга (его ультимальная причина) может показаться прагматичной или даже циничной, психология этого круга (его проксимальная причина) совершенно не обязательно должна быть таковой. После того как механизм сочувствия, сформировавшийся в интересах взаимной выгоды от кооперации и обмена, уже есть, он может запускаться новыми видами информации о том, что другие — такие же, как ты. Слова и образы бывших врагов могут включить ответное сострадание. История предостерегает против самовоспроизводящихся кругов вендетты. Осознание общности культур часто приводит людей к мысли: «К чему я стремлюсь, если не только к богатству?» Расширение зоны сочувствия может происходить просто на основе требования логической сообразности. Когда кто-то просит другого поступить так или иначе, он понимает, что не может заставить его соблюдать правила, которые сам нарушает. Эгоистичный, сексистский, расистский и ксенофобский подход логически не соответствует требованию, чтобы все подчинялись одинаковым правилам поведения[22]. Следовательно, мирного сосуществования можно достичь, не только выбивая из людей их эгоистичные желания. Оно может стать продуктом столкновения желаний — желания безопасности, выгод кооперации, способности формулировать и распознавать универсальные коды поведения — с желанием немедленного удовлетворения. Это только некоторые из путей, которыми моральный и социальный прогресс может привести нас к светлому будущему — не вопреки неизменной человеческой природе, а благодаря ей.
* * *
Если задуматься, идея об эластичности человеческой природы не заслуживает своей репутации оптимистичной и вдохновляющей. В противном случае Скиннера прославляли бы как великого гуманиста, когда он утверждал, что общество должно применять технологии обусловливания к людям, обучая их пользоваться контрацептивами, беречь электроэнергию, жить мирно и избегать переполненных городов[23]. Скиннер был убежденным сторонником «чистого листа» и страстным идеалистом. Его необычайно ясное видение позволяет нам изучить следствия «оптимистического» отрицания человеческой природы. Из его посылки, что нежелательное поведение не записано в генах, а обусловлено влиянием окружающей среды, следует, что нам необходимо контролировать эту среду — и во всех наших делах мы должны заменить бессистемное подкрепление желаемого поведения запланированным.
Почему эта картина отпугивает людей? Критики скиннеровской книги «По ту сторону свободы и достоинства» (Beyond Freedom and Dignity) подчеркивали, что никто не сомневается в том, что поведение можно контролировать: например, приставить пистолет к голове или пригрозить пытками — приемы, проверенные временем[24]. Даже любимый метод Скиннера, оперантное обусловливание, лучше всего работает, если животное страдает от голода (и уже потеряло 20 % от своего обычного веса) и заперто в боксе, что позволяет строго придерживаться расписания подкреплений. Вопрос не в том, можем ли мы изменить поведение человека, а в том, какой ценой.
Так как мы не просто продукт среды, по счетам платить придется. У людей есть врожденные желания — комфорт, любовь, семья, достоинство, автономия, эстетика, самовыражение — независимо от того, подкрепляются они или нет, и люди страдают, если лишены свободы осуществлять свои желания. На самом деле трудно определить эту психологическую боль, не опираясь на понятие человеческой природы. (Даже Маркс в ранних работах для обоснования своей концепции отчуждения апеллировал к «видовым признакам» и стремлению к созидательной деятельности.) Иногда мы можем заставить других страдать, чтобы контролировать их поведение, например когда мы наказываем людей, причинивших другим страдания, которых можно было избежать. Но мы не должны притворяться, что можем изменить поведение, не посягая на свободу и счастье других людей. Человеческая природа — вот причина, по которой мы не уступим свою свободу поведенческим инженерам.
Врожденные человеческие желания — помеха для людей с утопическими и тоталитарными взглядами, которые часто сводятся к одним и тем же представлениям. Если что-то и стоит на пути большинства утопий, так это не эпидемии и наводнения, а человеческое поведение. Так что утопистам нужно придумывать способы контроля поведения, и, когда не справляется пропаганда, приходит очередь более впечатляющих методов. Как мы видели, марксистские утопии XX века нуждались в tabula rasa, людях, свободных от эгоизма и семейных уз, и использовали тоталитарные меры, чтобы очистить таблички до основания или начать все сначала с новыми. Как сказал Бертольд Брехт о правительстве Западной Германии: «Если народ не изменится к лучшему, правительство его уволит и выберет новый». Политические философы и историки, которые в последнее время «размышляли о нашем растерзанном столетии», такие как Исайя Берлин, Кеннет Миноуг, Роберт Конквест, Джонатан Гловер, Джеймс Скотт и Даниэль Широ, называли утопические мечты основной причиной кошмаров XX века[25]. В этом смысле революционная Франция Вордсворта, «полная радости», в то время как «возрождалась» человеческая природа, тоже оказалась вовсе не веселым пикником.
Но не только бихевиористы и сталинисты забыли, что отрицание человеческой природы может стоить людям свободы и счастья. Марксизм XX века был частью более широкого интеллектуального течения, названного «авторитарным высоким модернизмом», — концепции, подразумевавшей, что лидеры могут изменить общество сверху вниз, используя «научные» принципы[26]. Например, архитектор Ле Корбюзье утверждал, что градостроители не должны быть скованы вкусами и традициями, так как они только увековечивают хаос перенаселения в городах. «Мы должны строить пространство, где человечество возродится, — писал он. — Каждый человек будет жить в упорядоченной взаимосвязи с целым»[27]. В утопии Ле Корбюзье градостроители должны начинать с «чистой скатерти» (звучит знакомо?) и проектировать все здания и общественные места так, чтобы они служили «нуждам людей». Понимание этих нужд было минималистским: считалось, что каждому человеку необходимо определенное количество воздуха, тепла, света, а также пространство для еды, сна, работы, передвижения и некоторых других занятий. Корбюзье словно не догадывался, что встречи в узком кругу семьи и друзей тоже могут быть человеческой потребностью, и на смену кухням предлагал общественные столовые. Отсутствовало в его списке потребностей и стремление собираться небольшими группами в общественных местах, поэтому в его городах были скоростные автомагистрали, огромные здания и широкие открытые пространства, но не было скверов и уголков, где люди могли бы с комфортом проводить время. Дома представляли собой «машины для жизни», свободные от архаичных излишеств, таких как сады или украшения, и были рационально организованы в большие прямоугольные жилые кварталы.
Ле Корбюзье не удалось исполнить свою мечту: снести до основания Париж, Буэнос-Айрес и Рио-де-Жанейро и построить их заново в соответствии со своими научными принципами. Но в 1950-х он получил карт-бланш на постройку Чандигарха, столицы индийского штата Пенджаб, а одному из его учеников была предоставлена «чистая скатерть» под будущий Бразилиа, столицу Бразилии. Сегодня оба города известны как негостеприимные и заброшенные края, ненавидимые государственными служащими, вынужденными в них жить. Авторитарный высокий модернизм также привел к проектам «реновации» многих американских городов в 1960-е, заменившим уютные жилые районы автострадами, небоскребами и пустыми, продуваемыми ветром площадями.
Социологи тоже порой поддавались мечтам о социальной инженерии. Детский психиатр Брюс Перри, обеспокоенный тем, что матери в гетто не создают детям условий, необходимых для развития их пластичного мозга, верил, что мы должны «трансформировать нашу культуру»: «Нам необходимо изменить практику воспитания детей, нужно изменить пагубное и деструктивное убеждение, что дети — собственность их биологических родителей. Человеческие существа эволюционируют не как индивидуумы, а как сообщества… Дети принадлежат обществу, они только доверены своим родителям»[28]. Никто не возражает против спасения детей от заброшенности и жестокости, но, если бы трансформированная культура Перри воплотилась в реальность, люди с оружием могли бы врываться в любую семью, которая не удовлетворяет новейшим веяниям теории родительского воспитания. Как мы увидим в главе, посвященной детям, бо́льшая часть этих причуд основана на небезупречных исследованиях, считающих всякую корреляцию между родителями и детьми свидетельством причинно-следственной связи. Американские азиаты и родители афроамериканцы часто игнорируют советы гуру воспитания, используя более традиционные авторитарные стили, которые, по всей вероятности, не наносят их детям долговременного вреда[29]. Педагогическая полиция забрала бы у них детей.
Ничто в концепции человеческой природы не противоречит идеалам феминизма, и я попробую доказать это в главе, посвященной гендерным вопросам. Но некоторые теоретики феминизма поддерживают «чистый лист» и вместе с ним авторитарную политическую философию, которая выражает решимость дать правительству неограниченную власть претворять в жизнь их видение разума, свободного от половой принадлежности. В интервью 1975 года Симона де Бовуар сказала: «Ни одной женщине не позволительно оставаться дома, чтобы растить детей. Общество должно быть совершенно другим. Женщинам нельзя давать такой выбор, иначе слишком многие решат остаться дома»[30]. Глория Стайнем была чуть более либеральна; в 1970 году она писала в статье для журнала Time: «[Феминистская] революция не лишит женщину возможности оставаться домохозяйкой. Женщина, которая предпочитает быть экономкой и служанкой своего мужа, будет получать процент от его зарплаты, определенный судом по семейным отношениям»[31]. Бетти Фридан агитировала за «обязательные детские сады» для двухлетних детей[32]. Катарина Маккиннон (которая вместе с Андреа Дворкин лоббировала закон о запрете эротики) говорила: «Что нам нужно, так это люди, которые разбираются в литературе, вроде Андреа Дворкин, и люди, которые досконально знают законодательство, вроде меня, чтобы они разобрались с искусством и создали бескомпромиссный женский визуальный словарь»[33] — не обращая внимания на опасность, что несколько интеллектуалов присвоят себе право решать, каким искусством и литературой должна наслаждаться остальная часть общества.
В интервью журналу New York Times Кэрол Гиллиган рассказала о выводах из своей (абсурдной) теории, что в поведенческих проблемах мальчиков, таких как заикание и гиперактивность, виноваты культурные нормы, заставляющие их отделяться от матерей:
Вопрос: Вы утверждаете, что биология мужчин не настолько сильна, чтобы нельзя было изменить их культуру?
Ответ: Именно. Мы должны построить культуру, которая не вознаграждает отделение от человека, вырастившего их…
Вопрос: Все, что вы говорите, предполагает, что, пока мужчины коренным образом не изменятся, мы не можем ждать кардинальных изменений в культуре.
Ответ: Я в этом убеждена[34].
Один скептически настроенный читатель, услышав о попытках создания «нового социалистического человека», спросил: «Неужели кто-нибудь, особенно в академических кругах, до сих пор верит, что подобные вещи могут закончиться хорошо?»[35] Он был прав в своей обеспокоенности. Учителям во многих школах говорили (греша против истины), что существует некая «зона возможностей», в которой половая идентификация ребенка пластична. Они пытались использовать эту зону, чтобы задавить в мальчиках все мальчишеское: запрещая однополые игровые группы и праздничные вечеринки, заставляя детей заниматься нетипичной для их пола деятельностью, наказывая мальчиков, которые бегали на переменах или играли в полицейских и воров[36]. В своей книге «Война против мальчиков» (The War Against Boys) философ Кристина Хофф Соммерс верно назвала эту политику «назойливой, жестокой и выходящей за рамки прав, доверенных обществом педагогам»[37].
Феминизму вовсе не нужен «чистый лист», напротив, ему нужна ясная концепция человеческой природы. Одна из наиболее актуальных проблем современного феминизма — положение женщин в развивающемся мире. Во многих странах прерывают беременность, если плод женского пола, убивают новорожденных девочек, дочерей плохо кормят и не дают им образования, практикуется женское обрезание, молодых женщин закутывают в черные тряпки с ног до головы, подозреваемых в супружеской измене забивают камнями до смерти и вдов вынуждают заживо сгорать в погребальных кострах мужей. Релятивистская атмосфера многих академических кругов не позволяет даже критиковать эти ужасы, потому что они являются частью другой культуры, а культура — это суперорганизм, а суперорганизмы, подобно людям, имеют неотъемлемые права. Чтобы избежать этой ловушки, философ-феминистка Марта Нуссбаум ввела понятие «центральные функциональные возможности», которые все люди имеют право реализовать, такие как физическая неприкосновенность, свобода совести и участие в политической жизни. Ее, в свою очередь, критиковали за позицию колониальной «цивилизационной миссии» или «бремени белой женщины», согласно которой высокомерные европейцы учат бедных людей по всему миру тому, что нужно им самим. Но моральный аргумент Нуссбаум оправдан, если ее «возможности» основаны, прямо или косвенно, на универсальной человеческой природе. Человеческая природа дает нам критерий для определения страдания у любого представителя нашего вида.
Существование человеческой природы — не реакционная доктрина, приговаривающая нас к вечной тирании, насилию и алчности. Конечно, мы должны пытаться ограничивать вредное поведение, так же как мы боремся с бедствиями вроде голода, болезней и природных стихий. Но мы боремся с этими напастями не отрицанием фактов природы, а обращая одни из них против других. Чтобы усилия в области социальных изменений были эффективными, мы должны определить познавательные и нравственные ресурсы, которые могут сделать такие изменения возможными. А чтобы эти усилия оставались гуманными, мы должны признать существование универсальных удовольствий и страданий, которые делают эти изменения желаемыми.
Глава 10.Страх детерминизма
Эта глава не о том страшном слове, которым часто (и не к месту) бросаются при любом объяснении поведенческих склонностей в контексте эволюции или генетики. Она о детерминизме в его первоначальном смысле — концепции, которая во вводном курсе философии противопоставляется «свободе воли». Страх детерминизма в этом смысле отражен в лимерике:
Молодой человек из Судет Сокрушался, что выбора нет: Жизнь пройдет, на беду, Как написано на роду — На трамвай уже куплен билет.Согласно традиционной концепции «духа в машине», в нашем теле живет «Я», или душа: она выбирает поведение, а тело выполняет его. Ее решения не определены предыдущими событиями физического мира, вроде того как один бильярдный шар врезается в другой и посылает его в лузу. Идея, что наше поведение — результат физиологической активности генетически сформированного мозга, похоже, опровергает этот традиционный взгляд. Получается, что наше поведение — автоматическое следствие движения молекул, и тогда не остается места для того, кто это поведение свободно выбирает.
Один из страхов, связанных с детерминизмом, — леденящая душу экзистенциальная тревога, что по большому счету мы не контролируем наши собственные решения. Если все заранее предопределено состоянием нашего мозга, муки и страдания в попытках выбрать правильное решение окажутся бессмысленными. Если это вас тревожит, я предлагаю провести простой эксперимент. Следующие несколько дней не утруждайте себя размышлениями о своих действиях. В конце концов, это же пустая трата времени — они уже предопределены. Рубите сплеча, живите моментом и, если вам что-то нравится, делайте это. О нет, я не предлагаю вам поступить так на самом деле! Но даже мысленная картина того, что может случиться, если вы действительно попробуете отказаться от принятия решений, послужит успокоительным лекарством от экзистенциальной тревоги. Опыт выбора — не выдумка, независимо от того, как работает мозг. Это реальный нейронный процесс, с очевидной функцией выбора поведения в соответствии с его прогнозируемыми последствиями. Он реагирует на информацию от органов чувств, на воздействие со стороны других людей. Вы не можете дистанцироваться от этого процесса или позволить ему продолжаться без вас, потому что он и есть вы. Если верна самая жесткая форма детерминизма, вы все равно ничего не смогли бы с этим сделать, потому что ваше беспокойство насчет детерминизма и то, как вы с ним справляетесь, тоже было бы предопределено. Экзистенциальный страх детерминизма — вот что действительно пустая трата времени.
Более практические опасения, касающиеся детерминизма, отражены в высказывании Алана Милна: «Нет сомнений, что Джек-потрошитель оправдывал свои преступления своей человеческой природой». Люди боятся, что понимание человеческой природы может подорвать принцип личной ответственности. Согласно традиционному взгляду, когда все складывается плохо, «Я», или душа, выбравшая тот или иной поступок, берет на себя ответственность за него. Больше сваливать не на кого, как гласила табличка на столе президента Гарри Трумена. Но когда мы приписываем выбор действия мозгу человека, его генам или эволюционной истории, кажется, будто мы уже не принимаем в расчет самого человека. Биология становится идеальным алиби, пропуском «на-свободу-с-чистой-совестью», справкой от врача. Как мы видели, это обвинение было выдвинуто религиозными и культурными правыми, желающими сохранить душу, и учеными левыми, желающими сохранить «мы», которое может создавать наше собственное будущее даже в обстоятельствах, которые не мы выбирали.
Почему понятие свободы воли так тесно связано с понятием ответственности и почему считается, что биология угрожает и тому и другому? Логика вот в чем: мы виним людей за плохие поступки или неверные решения, только если они предвидели их последствия и могли сделать другой выбор. Мы не обвиняем охотника, который случайно застрелил друга, приняв его за оленя, или водителя автомобиля, доставившего Кеннеди к месту убийства, потому что они не могли предвидеть последствий своих действий и не желали их. Мы проявляем милосердие к тому, кто выдал товарищей под пытками, к пациенту психиатрической клиники, напавшему на медсестру, или к сумасшедшему, который ударил кого-то, приняв его за опасное животное, потому что мы чувствуем, что они не владеют собой. Мы не тащим в суд маленького ребенка, животное или неодушевленный предмет, ставший причиной чьей-то смерти, потому что знаем, что они не способны сделать сознательный выбор.
Кажется, что биология человеческой природы относит все больше и больше людей к категории тех, кого нельзя винить. Убийца может и не быть сумасшедшим лунатиком, но с помощью новомодных методов у него могут обнаружить уменьшенное миндалевидное тело, или сниженный метаболизм в лобных долях, или дефективный ген моноаминоксидазы А, который переводит его в разряд неконтролирующих свое поведение. Или проверка в лаборатории когнитивной психологии покажет, что у него хронически ограниченная дальновидность и он не способен предвидеть последствия своих поступков или что он не понимает психическое состояние людей и поэтому не может чувствовать страдания других. В конце концов, если в «машине» нет «духа», что-то в аппаратном обеспечении преступника должно отличать его от большинства людей, тех, кто в таких же обстоятельствах не пошел бы на убийство и не причинил бы вреда окружающим. Очень скоро мы найдем это «что-то», а боятся все того, что убийцы могут избежать наказания так же, как сейчас от него освобождены маленькие дети и сумасшедшие.
Хуже того, биология может показать, что вообще никого из нас нельзя винить. Теория эволюции гласит, что настоящий смысл наших побуждений в том, что они сохраняли гены наших предков в окружающей среде, в которой эволюционировал человек. А поскольку никто из нас не осознает этого, никого из нас нельзя винить за соответствующие действия, так же как мы не виним пациента, которому кажется, что он укрощает дикую собаку, когда нападает на медсестру. Мы чешем в недоумении голову, узнав о древних обычаях наказывать животных или неодушевленные предметы: об иудейском законе о забивании камнями быка, убившего человека, об афинской практике подвергать суду топор, нанесший рану (и выбрасывать за стены города, признав его виновным), о средневековом судебном деле во Франции, в котором свинью осудили на смерть за то, что она покалечила ребенка, и о приговоре церковному колоколу в 1685 году, звонившему для французских еретиков (колокол был бит плетьми и закопан в землю)[1]. Но эволюционные биологи настаивают, что принципиально мы ничем не отличаемся от животных, а молекулярные генетики и нейроученые считают, что фундаментально мы не отличаемся и от неживой материи. Если и у человека нет души, разве не так же глупо наказывать людей? Не должны ли мы прислушаться к креационистам, утверждающим, что, если вы учите детей, что они животные, они и будут вести себя как животные? Должны ли мы пойти дальше Национальной стрелковой ассоциации, чей лозунг: «Ружья не убивают, убивают люди», и сказать, что и люди тоже не убивают, потому что они такие же механизмы, как и ружья?
Эти опасения ни в коем случае не абстрактны. Время от времени когнитивистов осаждают адвокаты в надежде, что какой-нибудь случайный пиксель на томограмме мозга поможет оправдать их клиента (сценарий, остроумно разыгранный Ричардом Дулингом в романе «Мозговой штурм» (Brain Storm)). Когда группа генетиков обнаружила редкий ген, предрасполагающий мужчин одной семьи к вспышкам ярости, адвокат обвиняемого в убийстве, не имеющего отношения к этой семье, заявил, что его клиент тоже может быть носителем этого гена. Если так, убеждал защитник, «его действия могут и не быть проявлением абсолютной свободы воли»[2]. Когда Рэнди Торнхилл и Крейг Палмер заявили, что изнасилование — следствие мужской репродуктивной стратегии, другой адвокат планировал использовать эту теорию для защиты подозреваемых в изнасиловании[3]. (Подставьте сюда свою любимую шутку об адвокатах.) Биологически подкованные ученые-правоведы, такие как Оуэн Джонс, считают, что стратегии защиты, основанные на «гене изнасилования», скорее всего, провалятся, однако общая угроза использования биологических объяснений для оправдания преступников сохраняется[4]. Неужели именно так выглядит светлое будущее, обещанное науками о человеческой природе: это не я, это мое миндалевидное тело! Дарвин заставил меня сделать это! Гены съели мое домашнее задание!
* * *
Людей, которые надеются, что бесплотная душа может спасти личную ответственность, ждет разочарование. В книге «Пространство для маневра: Свобода воли, к которой стоит стремиться» (Elbow Room: The Varieties of Free Will Worth Wanting) философ Дэн Деннет отмечает, что последнее, чего мы хотим от души, — так это свободы делать все, чего она пожелает[5]. Если бы поведение было выбором исключительно свободной воли, тогда мы действительно не могли бы возлагать на людей ответственность за их поступки. Эту сущность невозможно остановить угрозой наказания или пристыдить возможностью бесчестья: она не почувствует укол совести, который мог бы сопровождать греховное искушение в будущем, потому что она всегда может проигнорировать подобные причины поведения. Мы бы не могли надеяться снизить количество зла, придавая силу закона нравственным и юридическим нормам, потому что свободный агент существует в плоскости, не пересекающейся с векторами причинно-следственных связей, и не подвластен этим нормам. Мораль и закон были бы бессмысленны. Мы могли бы наказать преступника, но только чтобы отомстить ему, ведь наказание не имело бы никакого предсказуемого влияния на его будущее поведение или на поведение других людей, осведомленных о наказании.
С другой стороны, если на душу предсказуемо влияет перспектива славы или позора, награды или наказания, она уже не истинно свободна, потому что вынуждена (по крайней мере, с той или иной вероятностью) учитывать эти обстоятельства. Что бы ни превращало стандарты ответственности в изменения в вероятности поведения — например, правило «Если окружающие сочтут тебя хамом за то, что ты сделаешь Х, то не делай Х», — оно может быть запрограммировано в алгоритм и внедрено в нейронные сети. Душа здесь лишняя.
Обороняясь, ученые иногда пытаются отклонить обвинения в детерминизме, уточняя, что поведение никогда невозможно полностью предсказать, оно всегда вероятностно, даже в заветных мечтах самых твердолобых материалистов. (В дни славы скиннеровского бихевиоризма его ученики сформулировали Гарвардский закон поведения животных: «В контролируемых экспериментатором условиях температуры, времени, света, питания и обучения организмы будут вести себя, как им заблагорассудится».) Даже идентичные близнецы, выросшие вместе, обладающие одинаковыми наборами генов и подвергающиеся практически одинаковому воздействию среды, не идентичны в личностных чертах и поведении, а только очень похожи. Возможно, мозг усиливает случайные события на молекулярном или квантовом уровне. Возможно, мозг — нелинейная динамическая система, подверженная непредсказуемому хаосу. Или, вероятно, переплетающиеся воздействия среды и генов настолько сложны, что ни один смертный никогда не сможет отследить его с точностью, достаточной для того, чтобы предсказать поведение.
Менее-чем-идеальная предсказуемость поведения явно демонстрирует лживость клише, что науки о человеческой природе «детерминистичны» в математическом смысле. Но этого недостаточно, чтобы развеять страх, будто наука подрывает принцип свободы воли и личной ответственности. Если вам скажут, что гены человека (или его мозг, или эволюционная история) предопределили, что он убьет хозяйку квартиры, которую снимает, с вероятностью в 99 против 100, это будет слабым утешением. Да, в этом случае поведение не строго предопределено, но почему 1 % вероятности того, что парень поступит по-другому, внезапно возлагает на него ответственность? На самом деле не существует значения вероятности, которое само по себе вернуло бы ответственность на место. Всегда можно считать, что есть вероятность 50 %, что молекулы в мозге Раскольникова свяжутся так, что это заставит его совершить убийство, и вероятность 50 %, что они свяжутся иначе, и Раскольников старушку не убьет. Здесь по-прежнему нет ничего похожего на свободную волю и нет принципа ответственности, дающего надежду на сокращение вредоносных действий. Юм сформулировал дилемму, изначально присущую приравниванию проблемы моральной ответственности и проблемы физической причины: либо наши действия предопределены, и в этом случае мы за них не отвечаем, либо они — результат случайных событий, и в этом случае мы за них не отвечаем.
* * *
Но самое большое разочарование ждет тех, кто надеется, что запрет биологических объяснений может восстановить личную ответственность. Самые смехотворные оправдания плохого поведения в последние десятилетия пришли не из биологического детерминизма, а из детерминизма средового: оправдание преступления предыдущим жестоким отношением, защита Твинки, гнев черных, отравление порнографией, болезни общества, телевизионная жестокость, рок-лирика и разные культурные обычаи (недавно использовавшиеся одним адвокатом в защите мошенника-цыгана и другим — в защите канадской индианки, убившей своего приятеля)[6]. В ту же неделю, что я писал эту главу, в газетах появилось два новых примера. Один — от клинического психолога, который «налаживал диалог» с убийцами-рецидивистами, чтобы помочь им добиться смягчения наказания, помилования или пересмотра дела. Он умудрился упаковать «чистый лист», «благородного дикаря», моралистическую ошибку и средовой детерминизм в один-единственный пассаж:
Большинство людей не совершают ужасных преступлений, если они не подвергались длительной разрушающей травматизации. Монстры не рождаются тут и там. Тут и там рождаются дети, с которыми происходят ужасные вещи. Как следствие, они заканчивают тем, что сами совершают ужасные вещи. И я предпочитаю именно такой мир, а не тот, в котором монстры сразу рождаются монстрами[7].
Другой пример касается инцидента, который случился на Манхэттене со студенткой факультета социальной помощи:
В этом месяце 25-летнюю Тиффани Голдберг из Мэдисона, штат Висконсин, незнакомец ударил по голове куском бетона. После этого она выразила беспокойство в отношении агрессора, рассуждая, что у него, должно быть, было тяжелое детство.
Студенты магистратуры факультета социальной помощи Колумбийского университета сказали, что подход мисс Голдберг соотносится с их взглядами на насилие: «Общество сваливает всю вину на отдельных людей — сказала Кристен Миллер, 27 лет, одна из студенток. — Но насилие передается детям от родителей»[8].
Эволюционных психологов часто упрекают за «оправдание» мужского промискуитета с помощью теории, что наши предки-гуляки вознаграждались бо́льшим количеством потомков. Их могли бы воодушевить недавно вышедшая биография Брюса Спрингстина, в которой говорится, что «неуверенность в себе заставляла его регулярно искать внимания фанаток»[9], книжный обзор, в котором утверждается, что сексуальное неблагоразумие Вуди Аллена «берет начало в травме» и «жестоком обращении» матери[10], и Хилари Клинтон, объясняющая сексуальные похождения мужа в скандальном интервью журналу Talk:
Ему было всего четыре года, когда он был травмирован жестоким обращением. Он был так мал, что не мог ни отреагировать, ни осознать происходящее. Между его матерью и бабушкой был ужасный конфликт. Психолог однажды сказал мне, что для мальчика ничего не может быть хуже, чем оказаться в центре конфликта двух женщин. Он всегда пытается угодить обеим[11].
Миссис Клинтон досталось от критиков за попытку оправдать сексуальные эскапады мужа, хотя она ни слова не сказала о мозге, генах или эволюции. Похоже, они рассуждали так: если вы пытаетесь объяснить какое-то действие как следствие какой-либо причины, значит, вы подразумеваете, что действие не было свободным выбором и тот, кто его совершил, не может нести ответственность.
Средовой детерминизм настолько обычное явление, что даже породил отдельный жанр сатиры. В комиксах журнала New Yorker женщина говорит, давая показания в суде: «Да, мой муж бил меня из-за своего ужасного детства; а я убила его из-за своего». В комиксе «Околесица» (Non Sequitur), в справочнике психиатрической клиники написано: «Первый этаж — виновата мать. Второй этаж — виноват отец. Третий этаж — виновато общество». И кто не помнит банду Ракет из «Вестсайдской истории», которые объясняли местному сержанту полиции: «Мы испорчены, потому что мы обездолены»?
Наш добрый мистер Крапке, Ну как вам не понять: Росли мы в жутком мраке, Так что ж теперь с нас взять? Ширялись с детства мамки, Отцы — сплошь алкаши, Генотип наш, стало быть — паршив!* * *
Что-то пошло совсем не так, как ожидалось. И это что-то — путаница между объяснением и оправданием. Критики биологической и средовой теорий подразумевают, что объяснить поведение — значит оправдать его, но это не так. Хилари Клинтон, может, и придумала глупейшее объяснение за всю историю психотрёпа, но она не заслуживает обвинений в попытке оправдать поведение президента. (Статья в журнале New York Times так описывает ответ Билла Клинтона критикам его жены: «"Я не искал никаких оправданий тому, что нельзя оправдать, и поверьте, она тоже", — сказал он, выразительно подняв брови»[12].) Если поведение не совсем случайно, у него будут какие-то объяснения; а если бы поведение было совершенно случайным, мы все равно не смогли бы возложить на человека ответственность. Таким образом, если мы вообще считаем, что человек несет ответственность за свое поведение, он будет нести ее независимо от любых объяснений, которые, как нам кажется, его оправдывают, будут ли это гены, мозг, эволюция, средства массовой информации, неуверенность в себе, детство в жутком мраке или мать-скандалистка. Разница между объяснением поведения и его оправданием отражена в высказывании: «Понять не значит простить», и это не раз подчеркивали такие философы, как Юм, Кант и Сартр[13]. Большинство философов полагают, что, если человека в буквальном смысле не принудили (например, приставив ему пистолет к голове), мы должны считать его действия личным выбором, даже если они были вызваны какими-то процессами внутри его черепа.
Но как мы можем иметь и объяснение, с его требованием причинно-следственной связи, и ответственность, с ее требованием свободы выбора? Чтобы иметь и то и другое, нам не нужно разрешить древнее и, возможно, неразрешимое противоречие между свободой воли и предопределенностью. Нам нужно только ясно понимать, чего мы хотим добиться с помощью понятия ответственности. При всей теоретической ценности понятия ответственности у него есть и важная практическая функция: сдерживать вредоносное поведение. Когда мы говорим, что возлагаем на кого-то ответственность за преступное действие, мы ожидаем, что он сам каким-то образом накажет себя — компенсирует нанесенный жертве вред, примет бесчестие, понесет наказание или выразит чистосердечное раскаяние, — при этом мы оставляем за собой право самим наказать его. Если же человек не согласен пострадать от каких-то неприятных (и, следовательно, отпугивающих его) последствий, то заявления о том, что он принимает на себя ответственность, пусты. Ричарда Никсона осмеяли, когда он поддался давлению и наконец «взял на себя ответственность» за Уотергейтское дело, но при этом не поплатился ничем — будь то извинение, уход в отставку или увольнение замешанных в этом деле подчиненных.
Одна из причин возложить на человека ответственность — удержать его от подобных действий в будущем. Но этого мало, поскольку от отрицательного подкрепления, которое использовали бихевиористы, чтобы изменить поведение животных, отличие здесь только в степени воздействия. Что же касается социального, думающего и использующего язык существа, то стратегия возложения ответственности может удержать от общественно опасных действий не только самого преступника, но и других людей, которые узнают о последствиях и стремятся контролировать свое поведение, чтобы не понести наказания. Именно в этом кроется истинное объяснение того, что мы считаем своим долгом наказать старых нацистских преступников, хотя и не велика опасность, что они устроят новый холокост, если мы позволим им умереть в собственной постели в Боливии. Возлагая на них ответственность — публично проводя политику искоренения и наказания зла где бы то ни было, — мы надеемся удержать других от совершения подобных преступлений в будущем.
Я не хочу сказать, что принцип ответственности — это рекомендация теоретиков от политики, недорогое средство для предотвращения роста числа опасных действий. Даже если бы эксперты доказали, что наказание нацистских преступников не может предотвратить будущие зверства или что для сохранения большего числа жизней полезнее было бы, если бы полиция ловила пьяных водителей, а не дряхлых нацистов, мы все равно желали бы наказать их. Требование ответственности порождается жгучим желанием возмездия, а не только скрупулезными выкладками в поисках наилучшего способа предотвратить определенные поступки.
Но наказание, даже исходя из чувства справедливости, в конечном счете есть политика устрашения. Это следует из парадокса, присущего логике сдерживания: хотя угроза наказания может предотвратить преступление, само наказание, если преступление уже совершено, не служит никакой цели, кроме чистого садизма или иррационального желания осуществить угрозу задним числом. «Это не вернет жертву», — говорят противники смертной казни, но то же самое относится и к любой другой форме наказания. В момент, когда наказание должно быть применено, оно выглядит как бессмысленное действие «назло» — оно затратно для того, кто наказывает, болезненно для того, кого наказывают, и в то же время никому не приносит прямой пользы. В середине XX века «парадокс наказания», а также развитие психологии и психиатрии подтолкнуло некоторых интеллектуалов к идее, что уголовное наказание — это пережиток варварских времен и должно быть заменено терапией и реабилитацией. Эта позиция отражена в названии книг Бернарда Шоу «Преступление тюремного заключения» (The Crime of Imprisonment) и Карла Меннингера «Преступление наказания» (The Crime of Punishment). Ее формулировали и ведущие юристы, такие как Уильям Дуглас, Уильям Бреннан, Эрл Уоррен и Дэвид Базелон. Эти радикальные последователи сержанта Крапке не страдали от страха детерминизма; они встречали его с распростертыми объятиями.
Мало кто сегодня утверждает, что уголовное наказание устарело, даже если понимает, что оно бессмысленно в краткосрочной перспективе (не учитывая обезглавливания злостных рецидивистов). Это потому, что, если мы станем просчитывать непосредственные результаты, решая, есть ли смысл наказывать, потенциальные преступники могут предвосхитить эти расчеты в своем поведении. Они могут предвидеть, что мы сочтем наказание бессмысленным, поскольку предотвращать преступление уже поздно, и, раскусив наш блеф, станут действовать безнаказанно. Единственный выход — применять решительную политику наказания правонарушителей вне зависимости от немедленных результатов. Если, угрожая наказанием, мы не блефуем, никто этим блефом не воспользуется. Как говорил Оливер Уэнделл Холмс, «если бы я вел философскую беседу с человеком, которого собирался повесить (или отправить на электрический стул), я бы сказал: "Я не сомневаюсь в том, что ты не мог поступить иначе, но для того, чтобы другие могли избежать этого, мы решили принести тебя в жертву общему благу. Можешь считать себя солдатом, умирающим за свою страну. Но закон должен держать свои обещания"»[14]. Это выполнение обещаний лежит в основе стратегии применения правосудия как «вопрос принципа», независимо от его издержек или даже от здравого смысла. Если приговоренный к смерти предпримет попытку самоубийства, мы доставим его в реанимацию, будем бороться за его жизнь, обеспечим лучшее современное лечение, чтобы помочь ему выжить, а затем убьем его. Это часть стратегии, которая пресекает любые попытки «обмануть правосудие».
Смертная казнь — яркая иллюстрация парадоксальной логики сдерживания посредством устрашения, но эта логика действует и в случаях более мягкого уголовного наказания, в случаях личной мести и в случае неосязаемых социальных наказаний вроде остракизма и презрения. Эволюционные психологи и специалисты по теории игр считают, что парадокс сдерживания привел к эволюции эмоций, лежащих в основе желания справедливости: неумолимая жажда возмездия, жгучее чувство, что злодейский поступок нарушает баланс вселенной и его можно искупить только соответствующим наказанием. Люди, которые, поддаваясь эмоциям, отвечают ударом на удар, даже если им придется за это поплатиться, — более честные соперники и реже подвергаются социальной эксплуатации[15]. Многие теоретики права говорят, что уголовный кодекс — это просто управляемое воплощение человеческого желания расплаты, предназначенное удерживать нас от бесконечной вендетты. Джеймс Стивен, известный британский юрист XIX века, говорил, что «уголовное законодательство имеет такое же отношение к жажде мести, как брак — к сексуальному желанию»[16].
Религиозная концепция греха и ответственности просто удлиняет этот рычаг воздействия, предполагая, что любой нераскрытый и ненаказанный проступок будет раскрыт и наказан Богом. Мартин Дейли и Марго Уилсон объясняют глубинную подоплеку нашего представления об ответственности и Божественном возмездии:
С точки зрения эволюционной психологии этот почти мистический и, кажется, неподдающийся упрощению вид нравственного императива — продукт психического механизма с однозначно адаптивной функцией: назначать справедливое наказание и отправлять правосудие с тем расчетом, чтобы нарушители не могли получить выгоды от своих преступлений. Огромный объем мистико-религиозной абракадабры об искуплении вины, раскаянии, Божественной справедливости и подобном — это переадресация высшей беспристрастной инстанции прозаической, прагматической задачи: отбить охоту поступать эгоистично, снижая выгоду от подобных действий до нуля[17].
* * *
Парадокс сдерживания также лежит в основе той части логики ответственности, которая заставляет нас расширять или сужать зону ответственности человека в зависимости от состояния ее психики. Современные общества не только выбирают наиболее эффективную политику сдерживания правонарушителей. Например, если бы единственной целью было только снизить преступность, можно было бы всегда делать наказания особенно жестокими, и до последнего времени эта стратегия использовалась повсеместно. Можно было бы осудить человека на основании доноса, его виноватого вида или выбитого силой признания. Можно было бы казнить всю семью преступника, весь клан или деревню. Можно было бы говорить своим врагам, как в «Крестном отце» говорил Вито Корлеоне главам других преступных кланов: «Я суеверный человек. Если с моим сыном произойдет несчастный случай, если его вдруг молния ударит, я обвиню в этом кое-кого из присутствующих».
Причина, по которой подобные практики шокируют нас и кажутся варварскими, в том, что они наносят больше вреда, чем необходимо для предотвращения зла в будущем. Как сказал публицист Гарольд Ласки: «Цивилизация означает, прежде всего, нежелание причинять лишнюю боль». Проблема со столь широко применяемыми средствами устрашения — в том, что они ловят в свои сети невиновных, людей, которых не нужно удерживать от совершения нежелательных действий (например, родственники нарушителя или случайный свидетель гибели сына Корлеоне от удара молнии). Так как наказание этих невиновных предположительно не может удержать других людей, нанесенный им вред не компенсируется даже в долгосрочной перспективе и мы считаем его неоправданным. Мы пытаемся настроить нашу систему наказаний так, чтобы она воздействовала только на людей, которых можно таким образом сдержать. Это те, кого мы считаем ответственными за преступление, те, кого считаем «заслуживающими» наказания.
Тонко настроенная политика сдерживания объясняет, почему некоторых виновников мы освобождаем от ответственности. Мы не наказываем тех, кто не мог знать, что их действия способны нанести вред, потому что такая политика не поможет предотвратить подобные действия в будущем. (Мы не можем помешать водителю доставить президента к линии огня, если он понятия не имеет, где окажется эта линия.) Мы не применяем уголовных наказаний к сумасшедшим, невменяемым, маленьким детям, животным и неодушевленным предметам, так как понимаем, что они — и субъекты, подобные им, — не обладают когнитивным аппаратом, необходимым для их осведомленности о политике наказания и соответствующего предотвращения нежелательного поведения. Мы снимаем с них ответственность не потому, что они следуют предсказуемым законам биологии, в то время как остальные руководствуются мистической свободой воли, не подчиняющейся законам. Мы освобождаем их, поскольку, в отличие от большинства взрослых, в их мозге недостаточно исправно функционирует система, способная реагировать на общественную обусловленность наказания.
И это объясняет, почему освобождение от ответственности не должно быть гарантировано всем представителям мужского пола, или всем жертвам жестокого обращения, или всему человечеству, даже если мы думаем, что можем объяснить причины, по которым они совершили то, что совершили. Объяснения могут помочь нам понять те отделы мозга, которые делают подобное поведение привлекательным, но они ничего не расскажут нам о других отделах мозга (расположенных в основном в префронтальной коре), которые могли бы удержать от подобного поведения, с учетом предполагаемой реакции общества. Мы — это общество, и наш основной рычаг влияния — обращение к этой сдерживающей системе мозга. Разве мы должны отказаться от этого средства влияния на систему сдерживания только потому, что начали понимать, как работает система побуждений? Если мы считаем, что не должны, этого достаточно, чтобы возложить на людей ответственность за их действия — не обращаясь к понятиям воли, души, «Я» или какого угодно другого «духа в машине».
Этот аргумент вторит давнишним спорам о самом очевидном примере психологического объяснения, обнуляющего ответственность, — защите на основании невменяемости[18]. Многие законодательные системы англоязычного мира следуют правилу Макнотена, сформулированному в XIX веке:
Во всех случаях необходимо предупреждать присяжных, что каждый человек считается психически нормальным, обладающим достаточным уровнем интеллекта, чтобы нести ответственность за свои преступления, если убедительно не доказано обратное; и что, для того чтобы строить защиту на основании невменяемости, должно быть четко доказано, что во время совершения преступления обвиняемый действовал под влиянием такого расстройства мышления из-за психического заболевания, что не осознавал характер и качество своего поступка, или, если и сознавал, то не знал, что это неправильно.
Это безупречная характеристика человека, которого невозможно удержать от наказуемых действий в будущем. Если кто-то не в себе настолько, что не понимает, что то или иное действие нанесет вред, его не удержишь приказанием: «Не вреди людям, или пеняй на себя!» Цель правила Макнотена — отказаться от наказания из мести — наказания, которое наносит вред виновному, но не способно остановить его или людей, подобных ему.
Защита на основании невменяемости печально известна дуэлями наемных психоаналитиков и изобретательными оправданиями в связи с тяжелым детством, после того как от практических тестов, проверяющих, работает ли когнитивная система, реагирующая на устрашение, защита обратилась к сомнительным поискам того, что можно было бы назвать причиной поведения. В 1954 году в деле Дарема Базелон обратился к «науке психиатрии» и к «науке психологии», чтобы создать новую основу для защиты по невменяемости:
Правило, которым мы сейчас пользуемся, простое — обвиняемый не несет уголовной ответственности, если его противозаконные действия были результатом психического заболевания или умственного дефекта.
Если вы не думаете, что обычные поступки — следствие выбора «духа в машине», то очевидно, что все они — результат работы когнитивных и эмоциональных систем мозга. Криминальные действия довольно редки — если бы каждый на месте обвиняемого вел себя так же, как он, то закон, запрещающий подобные действия, утратил бы силу — так что действия злоумышленника — продукт мозга, который как-то отличается от нормального, и его можно толковать как «результат психического заболевания или умственного дефекта». Правило Дарема и подобные ему, разделяющие поведение на то, которое является продуктом мозга, и то, которое представляет собой что-то другое, угрожают превратить любой наш прогресс в понимании разума в размывание понятия ответственности.
Да, некоторые открытия в области разума и мозга действительно могут повлиять на наше отношение к ответственности — но они могут привести к расширению зоны ответственности, а не к сужению ее. Предположим, многих мужчин обуревают желания, способные повлечь за собой оскорбления и избиения женщин. Значит ли это, что наказания за подобные преступления необходимо смягчить, поскольку мужчины просто не могут от них удержаться? Или, наоборот, их нужно наказывать более сурово, так как это лучший способ противостоять сильному и широко распространенному желанию? Предположим, у жестокого психопата обнаружен дефект способности к сочувствию и поэтому ему труднее представить себе страдания жертв. Должны ли мы смягчить наказание из-за этого его недостатка? Или же мы должны сделать наказание более строгим, чтобы преподать ему урок на единственном языке, который он понимает?
Почему интуиция ведет людей в противоположных направлениях: и «если у него трудности с самоконтролем, наказание нужно смягчить», и «если у него трудности с самоконтролем, наказание нужно сделать более строгим»? Причина в парадоксе сдерживания. Предположим, некоторым достаточно пригрозить одним щелчком в нос, чтобы они перестали парковаться перед пожарным гидрантом. А другим, с дефектным геном, недоразвитым мозгом или плохим детством, требуется пригрозить 10 щелчками. Наказание за неправильную парковку девятью щелчками причинит ненужное страдание и не решит проблему: девяти щелчков более чем достаточно для того, чтобы удержать обычных людей, и менее, чем необходимо, чтобы удержать людей с отклонениями. Только наказание в 10 щелчков может снизить и количество щелчков, и количество неправильно припаркованных автомобилей: все будут напуганы, никто не будет блокировать пожарные гидранты, и никого не придется щелкать. Поэтому, как ни парадоксально, две крайние стратегии (жестокое наказание и отсутствие наказания) оправданны, а промежуточные — нет. Конечно, в реальности пороговые величины для разных людей не привязаны к двум значениям, а распределены по всей шкале вероятностей (один щелчок для одних людей, два — для других и т. д.), так что многие промежуточные стратегии будут обоснованны в зависимости от того, как соотносятся выигрыши от сдерживания правонарушителей и цена, в которую обходится обществу наказание.
Но даже если речь идет о тех, кто совершенно неукротим из-за повреждения лобных долей, генов психопатии или других гипотетических причин, мы не должны позволять адвокатам делать им послабления в ущерб нам. У нас уже есть механизм для тех, кто может навредить себе или другим, но не реагирует ни на кнут, ни на пряник уголовного законодательства: принудительная госпитализация в психиатрическое отделение. В этом случае мы обмениваем некоторые гарантии гражданских свобод на безопасность и защиту от потенциальных агрессоров. Во всех этих решениях науки о человеческой природе могут помочь оценить разброс величин, отражающих реакцию на меры сдерживания, однако они не смогут разрешить ценностный конфликт и сказать, что важнее — максимально снизить количество ненужных наказаний или предотвратить как можно больше преступлений[19].
Я не утверждаю, что решил проблему свободы воли, я лишь хочу показать, что нам и не нужно решать ее для того, чтобы сохранить концепцию личной ответственности сейчас, когда мы все ближе подходим к пониманию причин поведения. И я не говорю, что устрашение — это единственный способ поощрить добродетель, я говорю только, что мы должны понимать его как лекарство, которое делает ответственность стоящей сохранения. Но более всего я надеюсь, что разоблачил две ошибки, из-за которых науки о природе человека вызывают необоснованный страх. Первая ошибка — что биологическое толкование размывает ответственность, а средовое — нет. Вторая ошибка — что объяснение причин поведения (как биологических, так и обусловленных влиянием среды) подрывают ответственность, а вера в свободную волю и душу — нет.
Глава 11. Страх нигилизма
Последнее опасение, связанное с биологическим толкованием разума, — то, что оно может лишить нашу жизнь смысла и цели. Если мы всего лишь копировальные машины для генов, если наши радости и удовольствия — только биохимические процессы, которые однажды исчерпаются безвозвратно, если жизнь не была создана для высокого предназначения и благородной цели, зачем продолжать жить? Жизнь, которую мы ценим, будет пустой профанацией, потемкинской деревней с фасадом из целей и ценностей.
У этого страха есть две версии — религиозная и светская. Утонченная версия беспокойства со стороны церкви была сформулирована папой Иоанном Павлом II в 1996 году в обращении к Папской академии наук: «Истина не может противоречить истине»[1]. Папа признал, что теория эволюции Дарвина «больше чем просто гипотеза», потому что сходящиеся в одной точке открытия многих независимых областей науки «не подтасованы и не сфабрикованы» и свидетельствуют в ее пользу. Но границу дозволенного он провел перед «Божественной душой», точкой перехода в эволюции человека, равносильного «онтологическому скачку», не подвластному науке. Душа не могла возникнуть из «сил живой материи», потому что материя не может служить «основой для достоинства личности»:
Человек — единственное существо на Земле, которое Господь создал ради него самого… Другими словами, человек, индивидуум, не может быть отодвинут на второй план как просто средство или просто инструмент, служащий интересам вида или общества; он ценен сам по себе. Он — личность. Его ум и воля позволяют ему строить отношения с другими, основанные на единении, солидарности и самопожертвовании… Человек призван войти в отношения познания и любви с самим Богом, отношения, которые достигнут своей полноты вне времени, в вечности…
Именно благодаря бесплотной душе цельная личность обладает таким достоинством даже в своем теле… Если тело человека происходит от ранее существовавшей живой материи, то его душа создана непосредственно Богом… Отсюда следует, что теории эволюции, которые в соответствии с вдохновившей их философией считают душу порождением сил живой материи или простым побочным эффектом этой материи, несовместимы с истиной о человеке. И не способны стать опорой для человеческого достоинства.
Другими словами, если ученые правы, считая, что разум — плод живой материи, нам придется отказаться от ценностей и достоинства личности, сплоченности и самоотречения в пользу наших близких и от высшей цели постижения этих ценностей через Божественную любовь и познание путей Его. Ничто не удержит нас от жизни в бесчеловечной эксплуатации и циничном эгоизме.
Нечего и говорить, спорить с папой — абсолютно бессмысленное занятие. Цель этой главы не в том, чтобы опровергнуть его убеждения, осудить религию или оспорить существование Бога. Религия обеспечивает комфорт, чувство общности и нравственные ориентиры бесчисленному количеству людей, и некоторые биологи считают, что развитый деизм, к которому движутся многие религии, со временем может стать совместимым с эволюционным пониманием разума и человеческой природы[2]. Моя цель — защита: я хочу развеять обвинение, что материалистический взгляд на разум по природе своей аморален и что религиозные концепции предпочтительны, потому что они изначально более гуманны.
Даже наиболее атеистически настроенные ученые, разумеется, не пропагандируют бесчувственную аморальность. Мозг может быть физической системой, построенной из обычной материи, но эта материя организована таким образом, что дает начало чувствующему организму, способному ощущать удовольствие и боль. И это, в свою очередь, готовит почву для появления морали. Это соображение вкратце изложено в комиксе «Кальвин и Гоббс».
Кот Гоббс, как и его человеческий однофамилец, демонстрирует, почему аморальный эгоист находится в проигрышной позиции. Для него было бы лучше, если бы его не швыряли в лужу, но вряд ли он может удержать окружающих от этого действия, если сам будет толкать их в грязь. И так как для каждого лучше, когда и ты не толкаешься, и тебя не толкают, чем когда и ты толкаешься, и тебя толкают, то есть смысл придерживаться морального кодекса, даже если приходится соблюдать правила самому. Как веками подчеркивали мыслители, жизненная философия, основанная на принципе «Не все, а только я!», разваливается в момент, когда человек видит себя объективно, как личность, подобную всем прочим. Нелепо думать, что та часть пространства, которую ты занимаешь в данный момент, — особое место во Вселенной[3].
Противостояние между Кальвином и Гоббсом (персонажами комикса) присуще всем социальным животным, и есть основания считать, что решение — чувство морали — развито у нашего вида в целом, его не нужно изобретать заново каждому, выбравшись из грязи[4].
Дети в возрасте всего полутора лет по собственному желанию делятся игрушками, предлагают помощь и пытаются успокоить взрослых и других детей, если те выглядят расстроенными[5]. Люди всех культур отличают добро от зла, обладают чувством справедливости, помогают друг другу, назначают права и обязанности, считают, что зло должно быть наказано, запрещают изнасилования, убийства и другие виды насилия[6]. Эти нормальные чувства особенно заметны по контрасту с их отсутствием у девиантных личностей, которых мы называем психопатами[7]. Таким образом, альтернатива религиозным представлениям об источниках ценностей в том, что эволюция наделила нас нравственным чувством, и на протяжении нашей истории мы увеличивали радиус ее действия благодаря рассудку (осознавая логическую равноценность интересов других людей и наших собственных), знаниям (постигая выгоды кооперации в долгосрочном периоде) и сочувствию (имея опыт, который позволяет нам чувствовать боль других людей).
Как мы можем решить, какая теория предпочтительна? Мысленный эксперимент поможет нам сравнить их. Какие поступки были бы правильными, если бы Бог приказал людям быть эгоистичными и жестокими, а не щедрыми и добрыми? Тем, кто основывают свои ценности на религии, пришлось бы признать, что тогда мы должны были бы стать жестокими и эгоистичными. Те же, кто полагается на нравственное чувство, сказали бы, что мы должны отказаться выполнять приказы такого Бога. Это показывает, я надеюсь, что именно наше нравственное чувство заслуживает приоритета[8].
Этот мысленный эксперимент не просто логический парадокс из тех, что нравятся 13-летним атеистам в духе вопроса, почему Бог беспокоится, как мы себя поведем, ведь он же видит будущее и уже все знает. В истории религии Бог приказывал людям совершать всяческие эгоистичные и жестокие поступки: истреблять мадианитян и забирать их женщин, забивать проституток камнями, казнить гомосексуалов, сжигать ведьм, убивать еретиков и неверных, выкидывать протестантов из окон, не давать лекарств умирающим детям, расстреливать людей в клиниках абортов, преследовать Салмана Рушди, взрывать себя в многолюдных местах и направлять самолеты в небоскребы. Вспомните, даже Гитлер считал, что он выполняет волю Божью[9]. То, что жестокие преступления, совершенные во имя Бога, регулярно повторяются, показывает, что это не случайные искажения. Всемогущий верховный авторитет, которого никто не видел, — полезный покровитель для недобросовестных лидеров, тех, кто надеется навербовать воинов, готовых на смерть во славу Божью. А поскольку непроверяемые воззрения передаются от родителей или распространяются в среде сверстников, а не обнаруживаются в процессе исследования мира, то у разных групп они разные и становятся их отличительным признаком.
И кто сказал, что доктрина души более человечна, чем понимание разума как физического органа? Я не вижу никакого достоинства в том, чтобы позволять людям умирать от гепатита или быть разрушенными болезнью Паркинсона, когда излечение может быть найдено в исследованиях стволовых клеток, которые религиозные движения хотят запретить, так как в них используются группы клеток, совершившие «онтологический скачок» к «Божественной душе». Колоссальные страдания, такие как болезнь Альцгеймера, клиническая депрессия и шизофрения, можно облегчить, если воспринимать мысли и эмоции не как проявления нематериальной души, а как проявления психологии и генетики[10].
В конце концов, идея души, живущей после смерти тела, не может быть справедливой, потому что она неизбежно обесценивает жизнь, которую мы ведем на этой земле. Когда Сьюзан Смит утопила двоих маленьких сыновей в озере, она нашла способ успокоить свою совесть: «Мои дети заслуживают лучшего, и теперь оно у них будет». Ссылки на счастливую загробную жизнь обычны в предсмертных записках родителей, убивающих своих детей перед тем, как покончить с собой[11], а недавно нам напомнили, как эта вера воодушевляет террористов-смертников и камикадзе, угоняющих самолеты. Вот почему мы должны отвергнуть аргумент, что, если люди перестанут верить в Божественное воздаяние, они будут безнаказанно творить зло. Да, неверующих, надеющихся, что они смогут ускользнуть от правосудия, осуждения общества и собственной совести, не удержит угроза провести вечность в аду. Но зато их не соблазнит идея уничтожить тысячи людей, чтобы заслужить вечность в раю.
Даже эмоциональный комфорт, который дарит вера в загробную жизнь, имеет обратную сторону. Теряет ли жизнь смысл, если мы не можем продолжать ее после смерти мозга? Скорее напротив, ничто так не наполняет жизнь, как осознание, что каждый ощущаемый момент — ценный дар. Сколько схваток было остановлено, сколько дружб возобновлено, сколько часов не потрачено впустую, сколько знаков внимания оказано только потому, что мы иногда напоминаем себе: «Жизнь коротка»!
* * *
Но почему светские мыслители боятся, что биология лишает жизнь смысла? Потому что им представляется, будто биология ставит под сомнение ценности, которыми мы больше всего дорожим. Если причина, по которой мы любим наших детей, — всплеск окситоцина в мозге, заставляющий нас защищать свои генетические инвестиции, не будет ли благородный ореол родительства развеян, а жертвы обесценены? Если сочувствие, доверие и жажда справедливости эволюционировали как способ получить преимущества и остановить обманщиков, не будет ли это значить, что такие вещи, как альтруизм и справедливость, сами по себе не существуют? Мы презираем филантропа, который занимается благотворительностью ради налоговых льгот, телепроповедника, который громогласно обличает грех и тайно посещает проституток, политика, который защищает обездоленных, только пока включены камеры, и парня, который держит нос по ветру и поддерживает феминизм, так как это помогает ему привлекать женщин. Кажется, эволюционная психология утверждает, что все мы точно так же постоянно лицемерим.
Страх, что научные знания разрушат человеческие ценности, напоминает мне начальную сцену в фильме «Энни Холл» (Annie Hall), в которой юного Элви Сингера ведут к семейному врачу:
Мать: Ни с того ни с сего впал в депрессию. Он просто ничего не может делать.
Доктор: Почему ты в депрессии, Элви?
Мать: Скажи доктору Фликеру. (Обращаясь к доктору.) Это из-за того, что он читает.
Доктор: Из-за того, что он читает, хм?
Элви (опустив голову): Вселенная расширяется.
Доктор: Вселенная расширяется?
Элви: Да, Вселенная — это все, и если она расширяется, однажды она разлетится на части, и это будет конец всего!
Мать: Да как это тебя касается? (Доктору.) Он перестал делать домашние задания.
Элви: А какой смысл?
Сцена забавна, потому что Элви перепутал два уровня анализа: шкалу в миллиарды лет, которой мы измеряем Вселенную, и шкалу десятилетий, лет и дней, которой измеряется наша жизнь. Как заметила мать Элви: «При чем здесь Вселенная? Ты в Бруклине! Бруклин не расширяется!»
Люди, которых выбивает из колеи мысль, что все наши побуждения — эгоистичны, ошибаются так же, как Элви. Они путают ультимальную причину (почему нечто появилось и эволюционировало с помощью естественного отбора) с проксимальной причиной (как это нечто работает здесь и сейчас). Такая ошибка естественна, потому что эти два объяснения могут выглядеть очень похожими.
Ричард Докинз показал, что хороший способ понять логику естественного отбора — представить гены в качестве субъектов, движимых эгоистичными мотивами. Такой удачной метафоре можно позавидовать, но излишне доверчивые люди могут попасть в ловушку. Можно считать, что у генов есть метафорические мотивы — делать копии самих себя, но у организмов, которые они создают, есть мотивы реальные. И это не те же самые мотивы. Иногда самое эгоистичное, что может сделать ген, — внедрить неэгоистичные мотивы в человеческий мозг: искренность, щедрость, неподдельное бескорыстие. Любовь к детям (передающим наши гены будущим поколениям), верность супругу (чья генетическая судьба идентична нашей), друзьям и союзникам (доверяющим тебе, если ты достоин доверия) может быть бескрайней и несомненной, когда касается нас, людей (проксимальный уровень), даже если это метафорически эгоистично, когда касается генов (ультимальный уровень).
Я подозреваю, есть и другая причина того, почему эти толкования так часто путают. Все мы знаем, что иногда бывают и тайные мотивы. Можно быть на людях щедрым, а в душе жадным, на людях набожным, а в душе циничным, на людях целомудренным, а на самом деле похотливым. Фрейд приучил нас к мысли, что скрытые мотивы могут влиять на поведение, проникая из недоступной сознанию части мозга. Соедините эту мысль с типичным ложным представлением, что гены — это что-то типа сути, сердцевины человека, и вот перед нами причудливая смесь Докинза и Фрейда: идея, что метафорические мотивы генов — это и есть глубокие, бессознательные, скрытые мотивы личности. Это ошибка. Бруклин не расширяется.
Даже те, кто понимает разницу между людьми и их генами, могут прийти в уныние. Психология учит нас, что некоторая часть нашего опыта может быть плодом воображения, побочным эффектом того, как информация обрабатывается в нашем мозге. Качественное различие между красным и зеленым цветом, как мы их воспринимаем, не отражает существенного различия между световыми волнами физического мира — длины световых волн, которые служат источником нашего восприятия цвета, формируют гладкий континуум и качественно друг от друга не отличаются. Красный и зеленый, воспринимаемые как абсолютно разные, — конструкты, созданные химией и связями нашей нервной системы. Организмы с отличными от наших фотопигментами или связями в мозге могут и не обладать ими; очевидный пример — люди с самой распространенной формой дальтонизма. А эмоциональная окраска восприятия объектов еще большая фикция, чем физическая. Сладость фрукта, страх высоты, отвращение к падали — иллюзии, порожденные нервной системой, развившей такую реакцию на эти объекты в качестве адаптации.
Науки о человеческой природе, кажется, предполагают, что то же самое верно и в отношении правильного и неправильного, ценного и бесполезного, красоты и уродства, святого и низменного. Все это — нервные конструкты, фильм, который мы показываем сами себе внутри собственного черепа, способ пощекотать центры удовольствия, и они не более реальны, чем разница между красным и зеленым. Когда призрак Марли спросил Скруджа, почему он не верит собственным чувствам, тот ответил: «Потому что любой пустяк воздействует на них. Чуть что неладно с пищеварением, и им уже нельзя доверять. Может быть, вы вовсе не вы, а непереваренный кусок говядины, или лишняя капля горчицы, или ломтик сыра, или непрожаренная картофелина. Может быть, вы явились не из царства духов, а из духовки, почем я знаю!» Похоже, наука говорит, что то же самое верно для всего, что мы ценим.
Но только из того, что устройство нашего мозга предопределяет способ мышления, не следует, что объектов, о которых он думает, не существуют. Многие из наших способностей эволюционировали, чтобы взаимодействовать с реально существующими в мире вещами. Наше восприятие глубины — продукт сложной системы мозга, системы, отсутствующей у других видов. Но это не значит, что в мире нет реальных деревьев и скал или что мир плоский, как блин. И так же может быть с более абстрактными понятиями. Люди, как и другие животные, оказывается, обладают врожденным чувством числа, что можно объяснить преимуществами, которое давало представление о численности в истории нашей эволюции. (Например, если в пещеру вошли три медведя, а вышли два, безопасно ли заходить туда?) Но тот факт, что способность считать эволюционировала, не значит, что сами числа — галлюцинации. Согласно платоновской концепции чисел, любимой многими математиками и философами, такие категории, как числа и формы, существуют независимо от разума. Число три не является чистой выдумкой; у него есть реальные свойства, которые могут быть открыты и исследованы. Ни одно разумное существо, обладающее нервной системой, необходимой для того, чтобы осмыслить понятие «два» и принцип сложения, не может обнаружить, что два плюс один равно не трем, а чему-нибудь другому. Именно поэтому мы ожидаем, что математические системы разных культур или даже разных планет будут похожими. Если это так, то чувство числа развивалось, чтобы овладеть абстрактными истинами о мире, истинами, которые существуют независимо от умов, овладевающих ими.
Возможно, тот же самый аргумент применим и к морали. В соответствии с теорией морального реализма правильное и неправильное существует и обладает внутренней логикой, которая допускает одни нравственные доказательства, а не другие[12]. Мир предлагает нам игры с ненулевой суммой, в которых обе стороны выигрывают, если не ведут себя эгоистично, и проигрывают, если думают только о себе (лучше не кидать других в грязь и самому в нее не падать). Некоторые требования неизбежно вытекают из задачи улучшить свое положение. Любое существо, обладающее нервной системой, необходимой, чтобы понять аморальность чужого поступка, причиняющего вред ему, неизбежно поймет, что, если он кому-то вредит, это тоже аморально. Так же как и с числами и с чувством числа, мы ожидаем, что системы морали будут развиваться в направлении одних и тех же выводов в различных культурах или даже на различных планетах. И в самом деле, «Золотое правило» было открыто много раз: авторами книги Левит и Махабхараты; еврейским мудрецом Гиллелем, Христом и Конфуцием; философами-стоиками Римской империи; теоретиками общественного договора Гоббсом, Руссо и Локком; и такими представителями нравственной философии, как Кант с его категорическим императивом[13]. Возможно, наше нравственное чувство эволюционировало, чтобы справиться с запутанной логикой этики, а не зародилось в наших головах из ничего.
Но даже если платоновская версия нравственной логики для вас неприемлема, вы можете смотреть на нравственность как на нечто большее, чем общественная норма или религиозная догма. Нравственное чувство, каким бы ни был его онтологический статус, — часть стандартного оснащения человеческого разума. Это единственный разум, какой у нас есть, и у нас нет выбора, кроме как принимать его ощущения всерьез. Если мы так устроены, что не можем не думать на языке морали (по крайней мере, какое-то время и в отношении каких-то людей), значит, мораль реальна для нас, как если бы она была провозглашена Всемогущим или записана на небесных скрижалях. Точно так же обстоит дело и с другими человеческими ценностями, такими как любовь, истина и красота. Сможем ли мы когда-нибудь узнать, реальны они на самом деле, или мы только так думаем, так как человеческий мозг не может не думать, что они существуют на самом деле? И насколько плохо, если они и в самом деле присущи человеческому способу мышления? Возможно, мы должны относиться к собственному состоянию, как Кант в своей «Критике чистого разума»: «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, — это звездное небо надо мной и нравственный закон во мне».
* * *
В предыдущих четырех главах я показал, почему новые идеи в науках о человеческой природе не ставят под сомнение человеческие ценности. Напротив, они дают возможность отточить наши этические рассуждения и поставить эти ценности на более прочное основание. Кратко:
• Говорить, что дискриминация — это зло, только потому, что люди не отличаются друг от друга, — плохая идея.
• Говорить, что насилие и эксплуатация — зло, только потому, что люди не склонны к ним по своей природе, — плохая идея.
• Говорить, что люди ответственны за свои поступки только потому, что причины этих поступков непостижимы, — плохая идея.
• И говорить, что наши мотивы ценны для нас только потому, что их нельзя объяснить в биологическом смысле, — тоже плохая идея.
Эти идеи никуда не годятся — они превращают наши ценности в заложников случая, потому что однажды научные открытия могут объявить их недействительными. И это плохие идеи, потому что они скрывают негативные аспекты отрицания человеческой природы: преследование успешных, агрессивную социальную инженерию, списание со счетов страданий людей других культур, непонимание логики справедливости и обесценивание земной жизни человека.
ЧАСТЬ IV. ПОЗНАЙ СЕБЯ
Теперь, когда я попытался вызвать уважение к самой идее человеческой природы, пришло время объяснить, что это такое и какое значение она имеет для нашей личной и общественной жизни. В четвертой части представлены некоторые актуальные идеи о конструктивных особенностях основных человеческих свойств. Эти идеи не просто темы из учебного курса психологии, они влияют на разные стороны общественного дискурса. Идеи, касающиеся содержания познания — понятий, слов, образов, — проливают свет на происхождение предубеждений, на средства массовой информации, на искусство. Идеи о мыслительных способностях могут повлиять на наши образовательные стратегии и применение технологий. Идеи об общественных отношениях касаются семьи, сексуальности, структуры общества и преступности. Идеи о нравственном чувстве помогают понять, как мы оцениваем политические движения и почему мы жертвуем одной ценностью ради другой.
Люди постоянно обращаются к тем или иным представлениям о человеческой природе, признают они это или нет. Проблема в том, что эти представления часто основаны на инстинктивных ощущениях, народных поверьях и устаревших биологических учениях. Моя цель — прояснить эти понятия, высказаться о том, что в них соответствует и не соответствует истине, и сформулировать, что из этого следует. Соображения о человеческой природе сами по себе не могут разрешить разногласия или определить социальную политику. Но без этих идей мы играем неполной колодой и блуждаем в потемках. Как заметил биолог Ричард Александр, «эволюция действительно самая детерминистическая идея для тех, кто до сих пор ничего о ней не знает»[1].
Глава 12.В контакте с реальностью
Что за мастерское создание — человек!
Как благороден разумом!
Как беспределен в своих способностях, обличьях и движениях!
Как точен и чудесен в действии!
Как он похож на ангела глубоким постижением!
Как он похож на некоего бога!
Уильям Шекспир. ГамлетОтправная точка в признании человеческой природы — благоговейный трепет и смирение перед лицом ошеломительной сложности ее источника — мозга. Организованный тремя миллиардами нуклеотидов нашего генома и сформированный сотнями миллионов лет эволюции, мозг — это невообразимое хитросплетение: сотни миллиардов нейронов связаны сотнями триллионов связей, образуя извилистые трехмерные структуры. Ошеломляет и сложность того, что мозг делает. Даже обыденные умения, свойственные и другим приматам — ходьба, хватание, узнавание, — это решения инженерных задач на грани или за гранью способностей искусственного интеллекта. Таланты, присущие человеку по праву рождения, — речь и понимание, здравый смысл, обучение детей, угадывание мотивов других людей — машины, скорее всего, не смогут повторить на протяжении жизни нашего поколения, а возможно, и никогда. Все это может служить опровержением образа мозга как бесформенного сырого материала, а людей — как ничтожно малых атомов, составляющих сложное существо, которое мы называем «обществом».
Человеческий мозг позволяет нам преуспевать в мире объектов, живых существ и других людей. Эти сущности сильно влияют на наше благополучие, и естественно предположить, что мозг должен уметь распознавать их и их возможности. Неумение опознать крутой обрыв, голодную пантеру или ревнивого супруга может повлечь за собой, мягко говоря, неблагоприятные последствия для биологической приспособляемости. Фантастическая сложность мозга существует в том числе и для того, чтобы регистрировать важные факты о мире вокруг нас.
Но во многих областях современной интеллектуальной жизни этот трюизм отвергается. В соответствии с релятивистской философией, превалирующей сегодня в академических кругах, реальность социально сконструирована использованием языка, стереотипами и медийными образами. Идея, что людям доступны знания о мире, наивна, говорят сторонники таких течений, как социальный конструкционизм, научные исследования, культурные исследования, критическая теория, постмодернизм и деконструкционизм. Согласно их воззрениям, наблюдения всегда подвержены влиянию теорий, а теории идеологизированы и политизированы, так что любой, кто заявляет, что владеет фактами или знает истину, просто пытается захватить власть над остальными.
Релятивизм связан с доктриной «чистого листа» двояким образом. Во-первых, у релятивистов есть убогая психологическая теория, согласно которой разум не оснащен механизмами, предназначенными для того, чтобы отражать реальность; все, что он может делать, — это пассивно загружать слова, образы и стереотипы из окружающей культуры. Во-вторых, доктрину «чистого листа» использует релятивистский подход к науке. Большинство ученых считают свою работу продолжением обычной способности понимать, что нас окружает и как все устроено. Телескопы и микроскопы усиливают зрительную систему, теории формализуют наши интуитивные представления о причинах и следствиях, эксперименты помогают реализовать наше стремление собрать данные о событиях, которые мы не можем наблюдать непосредственно. Релятивисты признают, что наука — это восприятие и познание в широком смысле, но они приходят к противоположному заключению: ученые, как и обычные люди, не имеют инструментов для отражения объективной реальности. Вместо этого, говорят их сторонники, «западная наука — это лишь один из способов описывать реальность, природу и как все устроено — определенно, очень эффективный способ для производства товаров и извлечения прибыли, но неудовлетворительный во многих отношениях. Империалистическое чванство игнорирует науки и достижения большинства других культур и эпох»[1]. И наиболее сильно это заметно в исследованиях таких политически окрашенных тем, как раса, пол, насилие и устройство общества. Апелляция к «фактам» или «истине» в этих областях просто лукавство, говорят релятивисты, потому что «истины» в смысле объективного критерия, независимого от культурных и политических предпосылок, не существует.
Сомнение в надежности умственных способностей человека также определяет, стоит ли уважать вкусы и мнения обычных людей (даже те, что не очень нам нравятся) или лучше считать их жертвами обмана со стороны коварной коммерческой культуры. Релятивистские доктрины вроде «ложного сознания», «адаптивных предпочтений» и «интернализованного авторитета» предполагают, что люди могут ошибаться относительно собственных желаний. Если так, то это может подорвать допущения, лежащие в основе демократии, дающей абсолютную власть тем, кого предпочитает бо́льшая часть населения, и предположения, лежащие в основе рыночной экономики, согласно которым люди сами способны решать, как им лучше распорядиться своими ресурсами. Возможно, не случайно такой подход вдохновляет ученых и людей искусства, анализирующих использование языка и образов, потому что только они могут разоблачать способы, которыми такие информационные средства манипулируют людьми.
Эта глава посвящена предположениям о познании, в частности концепциям, словам и образам, которыми руководствуются современные релятивистские движения. Лучший способ представить мои аргументы — подкрепить их примерами из исследований восприятия, самой непосредственной связи с окружающим миром. Эти примеры убедительно демонстрируют, что вопрос, является ли реальность социально сконструированной или доступна непосредственно, неправильно поставлен. Ни одна из этих альтернатив не верна.
Да, у релятивистов есть основания утверждать, что мы не просто открываем глаза и воспринимаем реальность, словно восприятие — окно, сквозь которое душа смотрит на мир. Идея, что мы видим вещи такими, какие они есть, называется наивным реализмом и была развенчана философами-скептиками тысячи лет назад с помощью простого феномена — оптических иллюзий. Наша зрительная система может обмануть нас, и это убедительно доказывает, что она только инструмент, а не проводник к истине. Вот две мои любимые иллюзии. В иллюзии Роджера Шепарда «Поворачивая столы»[2](сверху) два параллелограмма идентичны по форме и размеру. В иллюзии Эдварда Адельсона «Тень на шахматной доске»[3] (ниже) светлая клетка в тени (В) точно такого же оттенка серого, как и темная клетка за пределами тени (А) (см. рис. ниже).
Но только из того, что образ мира, который мы знаем, смоделирован нашим мозгом, не следует, что это случайная модель — фантазм, порожденный ожиданиями или социальным контекстом. Наши системы восприятия приспособлены регистрировать свойства внешнего мира, важные для выживания, — формы, размеры, материалы, из которых состоят объекты. Для выполнения этой задачи им требуется сложный дизайн, потому что образ на сетчатке не есть точная копия мира. Проекция объекта на сетчатке увеличивается, сокращается и деформируется, когда объект движется. Цвет и яркость меняются в зависимости от освещения — солнечно сейчас или облачно, в помещении мы или снаружи. Но каким-то образом мозг решает эти сводящие с ума проблемы. Он работает, как будто размышляет в обратном порядке: от образа на сетчатке к гипотезам о реальности, используя геометрию, оптику, теорию вероятности и предположения о мире. Бо́льшую часть времени система работает: люди, как правило, не врезаются в деревья и не пытаются есть камни.
Но иногда мозг обманывается. Поверхность земли, простирающаяся от наших ног, проецируется на зрительное поле снизу по направлению к центру. В результате мозг часто интерпретирует низ-верх в зрительном поле как близко-далеко в мире, особенно если образ подкреплен другими сигналами перспективы, такими как перекрытые части (например, ножки стола). Объекты, простирающиеся в направлении от зрителя, в проекции укорачиваются, и мозг компенсирует это, так что мы обычно видим вертикальную линию как более длинную, чем ту же самую линию, расположенную горизонтально. И поэтому параметры одних и тех же столов в разных положениях нам кажутся разными. По той же логике затененные объекты отражают меньше света на нашу сетчатку, чем хорошо освещенные. Мозг компенсирует и это, заставляя нас видеть один и тот же оттенок серого светлее в тени и темнее на свету. В каждом примере мы можем видеть линии и пятна на странице неправильно, но происходит это только потому, что наши зрительные системы работают изо всех сил, чтобы показать их такими, какие они есть в реальном мире. Словно полицейские, очерняющие подозреваемого, Шепард и Адельсон сфабриковали свидетельства, которые подталкивают разумного, но доверчивого наблюдателя к ошибочному заключению. Если бы мы действительно находились в мире обычных 3D объектов (а не просто видели их нарисованными на бумаге), наше восприятие было бы точным. Адельсон объясняет: «Так же, как и во многих так называемых иллюзиях, этот эффект демонстрирует скорее успех, чем провал нашей зрительной системы. Зрительная система не очень хороша в измерении интенсивности света, но это и не является ее целью. Ее задача — разделять визуальную информацию на значимые компоненты и таким образом воспринимать характер объектов, находящихся в поле зрения»[4].
Это не значит, что ожидания, порожденные прошлым опытом, не важны для восприятия. Но влияние опыта должно сделать нашу систему восприятия более точной, а не более субъективной. На рисунке ниже мы воспринимаем одну и ту же форму как «Н» в первом слове и как «А» во втором[5]:
Мы видим формы именно так, потому что опыт подсказывает нам, — правильно — что, скорее всего, в середине первого слова это действительно «Н», а в середине второго — «А», даже если в каком-то нестандартном случае это будет не так. Механизмы восприятия проходят через множество трудностей, чтобы то, что мы видим, соответствовало тому, что мы чаще всего встречаем во внешнем мире.
Итак, примеры, которые решительно развенчивают наивный реализм, заодно опровергают и идею, что разум оторван от реальности. Есть третья альтернатива: что мозг развил небезошибочные, однако разумные механизмы, работающие, чтобы держать нас в контакте с теми свойствами реальности, которые были важны для выживания и размножения наших предков. И это верно не только для восприятия, но и для познавательных способностей. То, что наши познавательные способности (как и способности восприятия) настроены на реальный мир, наиболее очевидно из их реакции на иллюзии: они учитывают возможность нарушения связи с реальностью и находят способ отыскать истину за ложным впечатлением. Когда нам кажется, что весло разрезано поверхностью воды, мы знаем, как определить, действительно ли это так или нам просто кажется: мы можем потрогать весло, направить вдоль него какой-нибудь прямой предмет или вытащить его, чтобы посмотреть, не отделится ли погруженная в воду часть. Концепция истины и реальности, лежащая в основе таких проверок, кажется, универсальна. Люди во всех культурах отличают истину от лжи и внутреннюю психическую жизнь от внешней реальности и пытаются определить присутствие невидимых объектов через следы, которые те оставляют[6].
* * *
Визуальное восприятие — наиболее интересная форма познания мира, но релятивисты больше озабочены не тем, как мы видим объекты, а тем, как мы классифицируем их: как мы разделяем опыт согласно понятийным категориям, таким как птицы, инструменты и люди. Казалось бы, безобидное предположение, что умственные категории соответствуют чему-то в реальности, в XX веке стало спорной идеей, потому что некоторые категории — стереотипы расы, пола, национальности и сексуальной ориентации — могут нанести вред, если используются для дискриминации и подавления.
Слово «стереотип» первоначально относилось к определенному виду печатной пластины. Его современное значение как неодобрительного и неточного образа, представляющего категорию людей, было предложено в 1922 году журналистом Уолтером Липпманом. Липпман был известным интеллектуалом, который, кроме всего прочего, помог основать политический еженедельник The New Republic, влиял на политику Вудро Вильсона в конце Первой мировой войны и одним из первых обрушился с критикой на тесты IQ. В своей книге «Общественное мнение» (Public Opinion) Липпман с беспокойством рассуждал о трудностях достижения настоящей демократии в эпоху, когда обычные люди не могут больше обоснованно судить о важных для общества вопросах, поскольку располагают лишь обрывочной информацией. В связи с этим Липпман предположил, что представления обычных людей о социальных группах — это стереотипы: умственные картинки, которые неполны, пристрастны, невосприимчивы к изменениям и устойчивы к опровергающей их информации.
Идеи Липпмана напрямую повлияли на социальные науки (хотя тонкости и оговорки его первоначального рассуждения были забыты). Психологи предложили людям списки этнических групп и списки черт и попросили сопоставить их. И конечно, люди соединили евреев с «расчетливый» и «корыстный», немцев — с «трудолюбивый» и «националист», негров — с «суеверный» и «беззаботный» и т. д.[7] Такие обобщения вредны, когда относятся к отдельным личностям, и, хотя они все еще, к сожалению, распространены по всему миру, сейчас образованные люди и влиятельные публичные фигуры активно их избегают.
К 1970-м годам многие мыслители уже не довольствовались утверждением, что стереотипы о категориях людей могут быть неточны. Они стали настаивать, что сами категории могут существовать только в наших стереотипах. По их мнению, отрицать, что понятийные категории, касающиеся людей, имеют какое-то отношение к объективной реальности, — это эффективный способ борьбы с расизмом, сексизмом и другими видами предубежденности. Нельзя считать, что гомосексуалы женственны, черные суеверны, а женщины пассивны, если таких категорий, как гомосексуалы, черные или женщины, просто не существует. Например, философ Ричард Рорти писал: понятия «гомосексуал», «негр» и «женщина» лучше рассматривать не как строгую классификацию человеческих существ, а как вымысел, принесший больше вреда, чем пользы[8].
Раз так, думают многие авторы, зачем на этом останавливаться? Тогда уж лучше заявить, что все категории социально сконструированы и, стало быть, являются плодом воображения, потому что такой подход действительно делает несправедливые стереотипы фикцией. Рорти одобрительно заметил, что многие мыслители сегодня «дошли до предположения, что кварки и гены, возможно, такие же выдумки». Постмодернисты и другие релятивисты нападают на истину и объективность не столько потому, что озабочены философскими проблемами онтологии и эпистемологии, а потому, что чувствуют: это лучший способ выбить почву из-под ног расистов, сексистов и гомофобов. Философ Ян Хакинг составил список из почти 40 категорий, которые недавно были названы «социально сконструированными». Яркие примеры — «раса», «пол», «мужественность», «природа», «факты», «реальность» и «прошлое». Но список расширяется и сегодня включает авторские права, СПИД, братство, выбор, опасность, деменцию, болезнь, индийские леса, неравенство, спутниковую систему Landsat, медицинскую иммиграцию, национальное государство, кварки, школьный успех, серийные убийства, технологические системы, преступления «белых воротничков», женщин-беженцев и национализм племени зулу. По Хакингу, связующая нить здесь — убеждение, что категория не определена природой вещей и потому не постоянна. Вывод — нам было бы гораздо лучше, если б мы покончили с ними или решительно пересмотрели[9].
Вся эта затея основана на негласной теории о том, как формируются человеческие понятия: что понятийные категории не связаны с вещами и явлениями внутренне, а сконструированы обществом (и таким же образом могут быть сконструированы заново). Верна ли эта теория? В некоторых случаях она содержит зерно истины. Как мы видели в главе 4, некоторые категории действительно являются социальными конструктами: они существуют только потому, что люди пришли к негласному соглашению действовать так, словно они существуют. Например, деньги, собственность, гражданство, награды за храбрость и должность президента Соединенных Штатов[10]. Но это еще не значит, что все понятийные категории социально сконструированы. Когнитивные психологи десятилетиями изучали формирование понятий и пришли к заключению, что большинство понятий отражают категории объектов, которые обладали своего рода реальностью еще до того, как мы впервые о них задумались[11].
Да, каждая снежинка уникальна, и ни одна категория не описывает полностью все свои составляющие. Но наш интеллект должен уметь обобщать вещи, обладающие одинаковыми свойствами, иначе каждый новый объект, с которым мы столкнемся, будет сбивать нас с толку. Как писал Уильям Джеймс: «Любой полип обладал бы абстрактным мышлением, если бы в его разуме когда-нибудь мелькнуло ощущение: "Ого! Опять такая же штуковина!"» Мы воспринимаем какие-то свойства нового объекта, помещаем его в умственную категорию и предполагаем, что другие его свойства — те, которые сейчас от нас скрыты, будут такими же, как и у прочих объектов в этой категории. Если это ходит, как утка, и крякает, как утка, вероятно, это утка. Если же это утка, она, скорее всего, плавает, летает, с нее скатывается вода, у нее вкусное мясо, особенно если его завернуть в блинчик с зеленым луком и соевым соусом.
Этот вид умозаключений работает, потому что в мире действительно существуют утки и у всех них есть общие черты. Если бы мы жили в мире, в котором крякающие и передвигающиеся объекты содержали бы мясо с вероятностью не большей, чем любой другой объект, категория «утка» была бы бесполезной и, вероятно, способность формировать ее у нас бы не развилась. Если бы вам понадобилось составить гигантскую сводную таблицу, в которой строчки и столбцы были бы свойствами, на которые люди обращают внимание, и в ячейках были объекты, обладающие комбинацией этих свойств, структура заполненных ячееек получилась бы несуразной. Было бы много данных в пересечении столбца «крякает» и строчки «ходит», но ни одного — в пересечении столбца «крякает» и строчки «скачет». Значения столбцам и строчкам присваиваете вы, но несуразность привносится реальным миром, а не обществом и не языком. Не случайно одни и те же живые объекты классифицируются одинаково словами европейской культуры, словами для растений и животных в других (даже дописьменных) культурах и системой классификации Линнея, которой пользуются профессиональные биологи, имеющие в своем распоряжении кронциркули, скальпели и приборы для секвенирования генома. Утки, говорят биологи, — это несколько десятков видов подсемейства Anatinae с общей анатомией, способностью скрещиваться с другими представителями вида и общим предком в эволюционной истории.
Большинство когнитивных психологов считают, что понятийные категории складываются в ходе двух умственных процессов[12]. Один из них отмечает группы входных данных в воображаемой сводной таблице и воспринимает их как категории с размытыми границами, классическими представителями и общими чертами, вроде членов одной семьи. Вот почему умственная категория «утка» может включать и отличающихся уток, которые не совпадают с образцовой, например увечных, не способных плавать или летать, или мускусных уток, на ногах которых есть когти и шпоры, или Дональда Дака, который говорит и носит одежду. Второй процесс — поиск жестких правил и определений и включение их в цепь рассуждений. Эта система может учитывать, что настоящие утки линяют дважды в сезон, что их ноги покрыты перекрывающимися чешуйками и что, хотя некоторые птицы выглядят как гуси и называются гусями, на самом деле это утки. Даже если люди не знакомы с этими биологическими фактами, они чувствуют, что виды определяются их внутренней сутью или скрытыми свойствами, которые закономерно проявляются в их внешних чертах[13].
Каждый, кто преподавал психологию категоризации, сталкивался с таким вопросом озадаченного студента: «Вы говорите нам, что делить вещи на категории — целесообразно и что именно это делает нас умными. Но нас всегда учили, что относить к разным категориям людей — неправильно, и это делает нас сексистами и расистами. Если категоризация — это так здо́рово, когда мы думаем об утках или стульях, почему это так ужасно, когда мы думаем о гендере и этнических группах?» Как и многие другие простодушные вопросы студентов, этот скорее говорит о недостатке информации, чем о недостатке понимания.
Идея, что стереотипы изначально иррациональны, обязана скорее высокомерному отношению к обычным людям, чем хорошему психологическому исследованию. Многие исследователи, обнаружив, что у людей есть стереотипы, решили, что они, должно быть, нерациональны. Ученые чувствовали себя неуютно при мысли, что некоторые черты могут быть статистически верны для некоторых групп. Они никогда это не проверяли на самом деле. Ситуация начала меняться в 1980-х, и сегодня существует достаточно убедительных подтверждений точности стереотипов[14].
За некоторыми важными исключениями, на самом деле стереотипы достаточно верны, когда оцениваются по объективным критериям, таким как данные статистики или сообщения самих людей, которых касаются эти стереотипы. Люди, которые считают, что афроамериканцы чаще живут на пособия, чем белые; что евреи имеют больший средний доход, чем белые протестанты англосаксонского происхождения; что студенты бизнес-школ более консервативны, чем студенты институтов искусств; что женщины больше мужчин озабочены своим весом; и что мужчины чаще женщин убивают мух голыми руками, — не иррациональны и не узколобы. Эти представления верны. Людские стереотипы обычно соответствуют статистике и во многих случаях склонны недооценивать реальную разницу между полами и этническими группами[15]. Это, конечно, не значит, что стереотипизируемые черты нельзя изменить или что люди думают, что их нельзя изменить, просто сегодня люди воспринимают эти особенности довольно точно.
Более того, даже когда люди полагают, что у этнических групп есть характерные черты, они не клеят ярлыки бездумно и не считают, что эти черты свойственны абсолютно каждому члену группы. Люди могут думать, что немцы в среднем более трудолюбивы, чем не немцы, но никто не думает, что каждый немец более трудолюбив, чем любой не немец[16]. И люди с легкостью отказываются от своих стереотипов, когда у них есть достоверная информация о конкретной личности. В противоположность типичным обвинениям, впечатления учителей об отдельных учениках не портят стереотипы о расе, поле или социоэкономическом статусе. Впечатление учителя об учениках отражает успехи учеников, измеренные объективными тестами[17].
А сейчас о важных исключениях. Стереотипы бывают явно ошибочными, если человек совсем не сталкивался, или очень мало знаком со стереотипизируемой группой, или сам принадлежит к группе, открыто враждебной к первой. Во время Второй мировой войны, когда американцы и русские были союзниками, а немцы — врагами США, американцы приписывали русским больше положительных черт, чем немцам. Несколько позже, когда союзниками стали немцы, американцы обнаружили в них больше положительных черт, чем в русских[18].
Кроме того, умение отказаться от стереотипов при оценке конкретного индивидуума достигается сознательным, взвешенным размышлением. Когда люди рассеяны или их заставляют отвечать, не дав времени подумать, они с большей вероятностью решают, что член какой-то этнической группы обладает всеми обычно приписываемыми этой группе чертами[19]. Это происходит из-за свойственной человеку двухфазной системы категоризации, упомянутой раньше. Когда мы встречаемся с человеком впервые, наша сеть неясных ассоциаций прежде всего обращается к стереотипам. Но наш категоризатор, руководствующийся правилами, может блокировать эти ассоциации и сделать вывод на основе фактов, касающихся конкретного индивидуума. Он может поступить так из практических соображений, если информация о среднегрупповом значении менее прогностична, чем информация о личности, или по социальным и моральным причинам — из уважения к требованию, что мы должны игнорировать среднегрупповые значения, когда судим о конкретной личности.
Суть этого рассуждения не в том, что стереотипы всегда точны, а в том, что они не всегда ложные и даже, как правило, они не ложные. Именно этого можно ожидать, если склонность человека к категоризации — как и другие проявления интеллекта — это адаптация, отражающая свойства мира, важные для нашего благополучия в долгосрочной перспективе. Как подчеркивал социальный психолог Роджер Браун, основное различие между делением на категории людей и делением на категории других объектов в том, что, когда вы используете характерный пример какого-то предмета для иллюстрации всей категории, никто не обидится. Когда словарь Вебстера иллюстрирует понятие «птица» рисунком воробья, «эму, страусы, пингвины и орлы не бросаются в атаку». Но только представьте, что произошло бы, если бы Вебстеровский словарь использовал изображение домохозяйки, чтобы проиллюстрировать категорию «женщина», и изображение топ-менеджера, чтобы проиллюстрировать понятие «мужчина». Браун замечает: «Конечно, люди обиделись бы и были бы правы, потому что типичный образец никогда не сможет отразить все вариации, существующие в естественных категориях. Это только птицам все равно, а людям — нет»[20].
Что же следует из того факта, что многие стереотипы статистически верны? Например, то, что новейшие научные исследования о межполовых различиях нельзя признать недействительными только потому, что некоторые из открытий подтверждают традиционные стереотипы о женщинах и мужчинах. Какие-то детали этих стереотипов могут быть ложными, но сам факт, что это стереотипы, еще не доказывает, что они неверны по всем статьям.
Конечно, из того, что стереотипы бывают точными, не следует, что приемлемы расизм, сексизм и этнические предубеждения. Помимо демократического принципа, что в общественной сфере людей нужно оценивать индивидуально, есть еще одна убедительная причина относиться к стереотипам с осторожностью. Стереотипы, основанные на враждебных описаниях, а не на личном опыте, заведомо неверны. А некоторые стереотипы верны только потому, что представляют собой самосбывающиеся пророчества. Сорок лет назад мнение, что немногие женщины или афроамериканцы достаточно компетентны, чтобы стать президентом компании или кандидатом в президенты, было фактически верным. Но оно было верным только из-за барьеров, которые не давали им получить необходимую квалификацию: в университеты они не допускались, потому что считалось, что они не годны к обучению. Ситуация изменится, только когда эти организационно-правовые барьеры будут разобраны. Хорошая новость: когда меняются факты, стереотипы людей меняются вместе с ними.
А как насчет политики, которая идет еще дальше и активно компенсирует предвзятость, например, раздает квоты и преференции, которые ставят недостаточно представленные группы в привилегированное положение? Некоторые защитники таких стратегий считают, что блюстители социальных лифтов безнадежно поражены безосновательными предубеждениями и что квоты нужно сохранить навсегда, чтобы нейтрализовать этот эффект. Исследования адекватности стереотипов опровергают этот аргумент. Тем не менее они могут предложить другой довод в пользу преференций и прочих стратегий, чувствительных к полу или цвету кожи. Стереотипы, даже когда они правильные, могут быть самореализующимися, и не только в очевидном случае организационно-правовых барьеров вроде тех, что мешали женщинам и афроамериканцам получать образование и профессию. Многие слышали об эффекте Пигмалиона, согласно которому люди ведут себя так, как этого от них ожидают другие (например, учителя). Как оказалось, эффект Пигмалиона невелик и незначителен, однако есть и неявные формы самосбывающихся пророчеств[21]. Если субъективные решения, такие как доступ в учебные заведения, наем на работу, банковские кредиты и зарплаты, будут хотя бы частично основываться на среднегрупповых значениях, они приведут к тому, что богатые станут еще богаче, а бедные — еще беднее. Женщины отчуждались от высшего образования, и это делало их еще менее влиятельными, что, в свою очередь, усиливало их отчуждение. Афроамериканцы считались ненадежными заемщиками, им отказывали в кредитах, и это снижало для них возможность преуспеть, что делало их ненадежными заемщиками. Как считают психолог Вирджиния Вэлиан, экономист Глен Лоури и философ Джеймс Флинн, чтобы разорвать порочный круг, нам могут потребоваться расово и гендерно чувствительные стратегии[22].
Открытие, что стереотипы менее точны, когда относятся к враждебным и конкурирующим коалициям, разворачивает нас лицом к другой проблеме. Оно должно заставить нас задуматься о политике идентичности, в рамках которой публичные институты определяют своих членов с точки зрения расы, пола и этнической группы. Мы должны оценить, как такие стратегии ставят одну группу выше других. Во многих университетах, например, студенты, принадлежащие к меньшинствам, посещают специальные собрания, где их поощряют рассматривать весь учебный опыт с точки зрения своей группы и того, как их подвергают гонениям. Настраивая одни группы против других, такие стратегии могут способствовать формированию еще более отрицательных стереотипов, чем те, которые складываются при личном общении. Как и в других политических вопросах, которые я рассматриваю в этой книге, научные данные и не одобряют, и не порицают расово- и гендерно-чувствительные стратегии. Но выявляя, на какие свойства нашей психологии опираются те или иные стратегии, научные открытия могут сделать компромиссы яснее, а споры содержательнее.
* * *
Из всех способностей, присущих созданию, зовущемуся человеком, самая впечатляющая, вероятно, язык. «Не забывайте, что вы человеческое существо, наделенное душой и Божественным даром членораздельной речи», — заклинал Генри Хиггинс Элизу Дулиттл. Альтер эго Галилея, склоняя голову перед искусством и изобретениями своего времени, говорит о языке в его письменной форме:
Но разве не выше всех изумительных изобретений возвышенность ума того, кто нашел способ сообщать свои самые сокровенные мысли любому другому лицу, хотя бы и весьма далекому от нас по месту и времени, говорить с теми, кто находится в Индии, говорить с теми, кто еще не родился и родится только через тысячу и десять тысяч лет? И с такой легкостью, путем различных комбинаций всего двадцати значков на бумаге![23]
Однако странная вещь случилась с языком в интеллектуальной жизни. Вместо того чтобы испытывать к нему признательность за его способность передавать мысли, язык порицали за его власть ограничивать мысль. Известные слова двух философов отражают эту тревогу: «Мы вынуждены прекратить мыслить, если мы отказываемся делать это в тюрьме языка», — писал Фридрих Ницше. «Границы моего языка обозначают границы моего мира», — писал Людвиг Витгенштейн.
Как мог язык захватить такую власть? Так могло бы случиться, если бы слова и фразы были непосредственными носителями мыслей — идея, которая естественно следует из концепции «чистого листа». Если в разуме нет ничего, чего не было прежде в ощущениях, тогда слова, услышанные ухом, — очевидный источник любой абстрактной мысли, которая не может быть сведена к образам, запахам или другим звукам. Уотсон пытался объяснить мышление как микродвижения рта и гортани; Скиннер надеялся, что его книга 1957 года «Речевое поведение» (Verbal Behavior), которая объясняла язык как набор положительно подкрепленных реакций, перекинет мост от голубей к людям.
Другие социальные науки также были склонны приравнивать язык и мысль. Ученик Боаса Эдвард Сапир обратил внимание на различия в том, как в разных языках мир делится на категории, а ученик Сапира Бенджамин Уорф развил эти наблюдения в известную гипотезу лингвистического детерминизма: «Мы препарируем природу, организуем ее в концепции и приписываем значения именно так, как мы это делаем, в основном потому, что пришли к соглашению организовать это таким образом — соглашению, которое поддерживается всем нашим говорящим сообществом и закодировано в языковых структурах. Соглашение это, конечно, неявное и негласное, но его условия строго обязательны для исполнения!»[24] Позже антрополог Клиффорд Гирц написал, что «мышление состоит не из "событий в голове" (хотя те или иные события необходимы, чтобы оно возникло), но из движения того, что названо… значимыми символами — в основном, слов»[25].
Как и многие другие идеи в социальных науках, центральное положение языка было доведено до максимума в деконструкционизме, постмодернизме и других релятивистских доктринах. Работы таких прорицателей, как Жак Деррида, усыпаны афоризмами вроде: «Убежать от языка невозможно», «Текст ссылается сам на себя», «Язык — это власть» и «Нет ничего вне текста». Подобным образом Дж. Хиллис Миллер писал, что «язык — это не инструмент или орудие в руках человека, не послушное средство мышления. Скорее язык изобретает человека и его "мир"… если он позволит ему сделать это»[26]. Но приз за наиболее экстремальное утверждение вручается Роланду Барту, заявившему: «Человек не существует прежде языка ни как вид, ни как личность»[27].
Считается, что эти идеи пришли из лингвистики, хотя большинство лингвистов считают, что деконструкционисты заходят слишком далеко. Первоначальное наблюдение состояло в том, что многие слова частично определены их отношениями к другим словам. Например, «он» определяется в противопоставлении с «я», «ты», «они» и «она», а «большой» имеет смысл только как противоположность к «маленький». И если полистать словарь, видно, что одни слова определены через другие, которые толкуются с помощью третьих, и так пока круг не замкнется и вы не вернетесь к определению, содержащему первоначальное слово. Таким образом, говорят деконструкционисты, язык — автономная система, в которой слова могут и не иметь отношения к реальности. И так как язык — произвольный инструмент, а не посредник для выражения мыслей или описания реальности, облеченные властью люди могут использовать его, чтобы манипулировать другими и подавлять их. Что, в свою очередь, превращается в агитацию за лингвистические реформы: предлагаются неологизмы, которые должны служить в качестве гендерно-нейтральных местоимений, все новые термины для обозначения расовых меньшинств, а также отказ от стандартов ясности в критике и в научных исследованиях (потому что если язык теперь не окно в наши мысли, а сама суть мысли, то метафора «ясности» больше не подходит).
Как все теории заговора, идея, что язык — это тюрьма, недооценивает сам язык, переоценивая его власть. Речь — чудесная способность, которую мы используем, чтобы перенести мысль из одной головы в другую, и мы можем применять ее по-разному, чтобы продвигать наши идеи. Но язык — это не то же самое, что мысль, и не единственное, что отличает человека от других животных, не основа всей культуры и не изолированная тюрьма, соглашение, обязательное к исполнению, границы нашего мира или решающий фактор постижимости[28].
Мы видели, как восприятие и категоризация обеспечивают нас понятиями, помогающими находиться в контакте с миром. Язык расширяет эту жизненно важную артерию, соединяя понятия со словами. Дети слышат звуки из уст членов семьи, используют свою интуитивную психологию и умение понять контекст, чтобы догадаться, что пытается сказать говорящий, и соединяют в уме слова с понятиями и грамматические правила с отношениями между ними. Собака роняет стул, сестра кричит: «Собака опрокинула стул!» — и малыш приходит к выводу, что «собака» значит «собака», «стул» значит «стул», а подлежащее, относящееся к глаголу «опрокинула», сообщает о том, кто произвел действие[29]. Теперь ребенок может говорить о других собаках, других стульях и других опрокидываниях. И в этом нет ничего самореферентного или ограничивающего свободу. Как колко заметил писатель Уокер Перси, деконструктивист — это ученый, который заявляет, что текст не соотносится с реальностью, а затем оставляет на автоответчике своей жены сообщение с просьбой заказать на обед пиццу пеперони.
Язык, безусловно, влияет на наши мысли, а не просто обозначает их ради обозначения. Очевидно, что язык — это канал, через который люди обмениваются мыслями и намерениями, перенимая знания, обычаи и ценности тех, кто их окружает. В песне «Рождество» группа The Who описала трудное положение мальчика, не владеющего языком: «Томми не знает, какой сегодня день, он не знает, кто такой Иисус и что такое молитва».
Язык позволяет нам делиться мыслями не только прямо, передавая буквальный смысл, но и косвенно, через метафоры и метонимы, помогающие слушателю уловить связи, которые он мог и не заметить до этого. Например, многие выражения описывают время как ценный ресурс: тратить время, беречь время, драгоценное время, время — деньги[30]. Возможно, когда кто-то в первый раз употребил одно из этих выражений, его слушатели удивились, почему он использовал слово «деньги» применительно ко времени; ведь невозможно буквально тратить время так, как тратят деньги. Затем, поняв, что это не оговорка, они задумались о том, что в некоторых отношениях время действительно имеет нечто общее с деньгами и именно это и хотел сообщить говорящий. Заметьте, что даже в этом ясном примере того, как язык влияет на мысли, язык — не то же самое, что мысль. Автор метафоры должен был увидеть аналогию, ранее не отраженную в речевых оборотах, а первые слушатели должны были понять ее, размышляя о типичных намерениях рассказчиков и свойствах, общих для денег и времени.
Язык — средство общения, но, кроме того, он может служить носителем информации, которую хранит и обрабатывает мозг[31]. Прекрасно описывает эту идею психолог Алан Бэддли, автор ведущей теории оперативной памяти человека[32]. Разум использует «фонологическую петлю»: беззвучную артикуляцию слов или чисел, которая длится несколько секунд и может восприниматься как мысленный звук. Петля работает как «вспомогательная система» на службе у «центрального управления». Описывая самим себе какие-то вещи при помощи языка, мы можем временно хранить результат умственного вычисления или воспроизводить фрагменты данных, которые хранятся в виде речевых оборотов. Например, вызывая в памяти словесные формулы типа «семью восемь — пятьдесят шесть», можно мысленно оперировать большими числами[33]. Но, как ясно из терминологии, язык здесь служит помощником управляющих систем, а не носителем всех мыслей.
Почему практически все когнитивные ученые и лингвисты убеждены, что язык — вовсе не тюрьма для мышления?[34] Во-первых, в ходе многих экспериментов, посвященных разуму невербальных созданий, таких как младенцы и приматы, оказалось, что у них существуют основные категории мышления: объекты, пространство, причина и следствие, число, вероятность, действие (инициация поведения человеком или животным) и функции инструментов[35].
Во-вторых, очевидно, что наши обширные знания не хранятся в виде слов и предложений, из которых мы узнали те или иные факты. Что вы прочли на предыдущей странице? Я надеюсь, вы сможете дать достаточно точный ответ на этот вопрос. А теперь попытайтесь точно записать слова, которые вы там прочли. Скорее всего, вы не сможете воспроизвести дословно ни одного предложения и даже ни одной фразы. Вы помните суть прочитанного — содержание, значение, смысл, но не конкретные слова. По прошествии долгого времени мы помним не слова и выражения, а содержание истории или разговора — это подтверждено множеством экспериментов над человеческой памятью. Когнитивисты моделируют эту «семантическую память» в виде сети логических суждений, образов, двигательных программ, звуковых рядов и других структур данных, соединенных друг с другом в мозге[36].
Третий способ поставить язык на его законное место — подумать о том, как мы его используем. Письмо и речь — это не перенос внутреннего монолога на бумагу и не озвучивание его в микрофон. Скорее мы заняты постоянным поиском компромисса между мыслями, которые пытаемся выразить, и средствами, которые предлагает нам для этой цели язык. Мы часто подыскиваем слова, недовольные написанным, поскольку оно не выражает то, что мы хотели сказать, или обнаруживаем, что ни одна комбинация слов не подходит, потому что на самом деле мы сами не знаем, что хотим сказать. И когда мы не удовлетворены тем, что наши слова не соответствуют нашим мыслям, мы не сдаемся, признав поражение и умолкнув, а меняем язык. Мы придумываем неологизмы (кварк, мем, клон или глубинная структура), изобретаем сленг (спам, слив, троллинг, бродить по сети, имиджмейкер), заимствуем подходящие слова из других языков (дольче вита, нуб, мачизм) или создаем новые метафоры (убивать время, голосовать ногами). Вот почему любой язык вовсе не тюрьма, он постоянно обновляется. Несмотря на жалобы блюстителей чистоты языка и возмущение языковых инспекторов, языки безостановочно меняются, потому что людям необходимо говорить о новых вещах и передавать новые взгляды[37].
В конце концов, сам язык не мог бы функционировать, если бы в его основе не лежала огромная база неформализованных знаний о мире и о намерениях других людей. Чтобы понять язык, мы должны читать между строк, отсеивая неверные прочтения неясных предложений, собирать вместе разрозненные реплики, пропускать мимо ушей оговорки и заполнять бесчисленные непроговоренные моменты в связной цепи мыслей. Если на бутылочке шампуня написано: «Намыльте, смойте, повторите», мы не проводим остаток жизни в ванной; мы понимаем, что имеется в виду «повторите один раз». И мы знаем, как интерпретировать двусмысленные заголовки вроде: «Дети составляют питательную закуску», «Известных футболистов вывесили на набережной» или «Топить в больницах начнут в октябре», потому что мы без усилий используем свои представления о том, какие мысли люди обычно передают посредством газет. На самом деле само существование двусмысленных предложений, в котором один и тот же ряд слов может передавать две разные мысли, доказывает, что мысль — это не то же самое, что набор слов.
* * *
Язык часто становится предметом обсуждения именно потому, что может расходиться с мыслями и взглядами. В 1998 году Билл Клинтон сыграл на неоднозначной трактовке фраз, чтобы ввести в заблуждение тех, кто расследовал его связь с Моникой Левински. Он использовал все слова формально оправданно, но таким образом, что их реальное значение не совпадало с тем, что люди обычно понимают под этими словами. Например, он заявил, что они с Левински не оставались наедине (хотя в комнате их было только двое), потому что в это время в здании находились и другие люди. Он сказал, что не занимался с ней «сексом», потому что полового акта в обычном понимании не было. Его слова, как и любые слова вообще, весьма расплывчаты. Насколько далеко должны находиться люди, чтобы считалось, что два человека уединились? В какой момент телесного контакта — от случайного касания в лифте до тантрического наслаждения — можно сказать, что секс все-таки случился? Обычно мы избегаем такой неопределенности, предполагая, как наш собеседник может интерпретировать слова в контексте, и подбираем выражения соответственно. Мастерство Клинтона в манипулировании этими предположениями и скандал, который разразился, когда его заставили рассказать, как все было на самом деле, показали, что у людей есть четкое понимание разницы между словами и мыслями, которые они должны выражать.
Язык выражает не только буквальное значение, но также и отношение говорящего. Подумайте о разнице между словами «жирная» и «пышная», «стройный» и «тощий», «экономный» и «скаредный», «красноречивый» и «болтливый». Расовые эпитеты, связанные с неприятными ассоциациями, справедливо табуированы среди сознательных людей, так как их использование подразумевает оскорбительный смысл для тех, к кому этот эпитет имеет отношение. Но стремление ввести новые термины для ущемленных групп — это больше чем обычный знак уважения; часто предполагается, что слова и отношение настолько неразделимы, что можно изменить мнение, подправив слова. В 1994 году газета Los Angeles Times приняла издательский стандарт, запрещающий использование около 150 слов и выражений, включая «врожденный дефект», «кэнак», «китайская пожарная тревога», «черный континент», «разведенка», «голландское угощение» , «физические недостатки», «незаконнорожденный», «инвалид», «антропогенный», «Новый Свет», «пасынок» и «поступать по-валлийски». Редакторы решили, что слова воспринимаются мозгом исключительно в их прямом значении, так что «инвалид» понимается как «невалидный» (негодный), а «голландское угощение» — как оскорбление современным голландцам. (На самом деле в английском языке множество выражений, в которых «голландский» означает эрзац: «голландская плита» (полевой очаг), «голландская дверь» (дверь, горизонтально разделенная на две половины, каждая из которых открывается по отдельности), «голландский дядюшка» (критикан), «голландская отвага» (пьяная удаль), «голландский аукцион» (аукцион на понижение) — напоминание о давно забытом соперничестве между англичанами и голландцами.)
Но и самые разумные попытки лингвистических реформ основаны на сомнительной теории лингвистического детерминизма. Многих озадачивает замена ранее приемлемых терминов новыми: «негр» — на «черный», а «черный» — на «афроамериканец»; «испано-американец» — на «латиноамериканец», а затем на «латинос»; «искалеченный» — на «с физическими недостатками», затем на «инвалид», «с ограниченными возможностями» и «нетрудоспособный»; «трущобы» — на «гетто», на «внутренний город» и (согласно журналу Times) снова на «трущобы». Иногда такая замена имеет смысл. В 1960-х слово «негр» было заменено словом «черный», потому что параллель между словами «черный» и «белый» должна была подчеркнуть равенство рас. Точно так же «коренной американец» напоминает нам, кто был здесь первым, и позволяет избежать географически неточного слова «индеец». Но часто новыми терминами заменяют прежние, идеально подходившие для своего времени, как в названиях старых учреждений, которые явно доброжелательны к называемым в них людям: Объединенный фонд негритянских колледжей, Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения, Шрайнеровский госпиталь для детей-инвалидов. Иногда название может приобрести негативные коннотации или стать немодным, но маленькое изменение снова делает его приемлемым: сравните «цветные люди» и «небелые», «афроамериканцы» и «американцы африканского происхождения», «негр», что по-испански значит «черный», и просто «черный». Так или иначе уважение к буквальному значению не требует поиска новых слов для потомков европейцев, которые и не «белые», и не «европеоиды». Видимо, процессом замен управляют другие мотивы.
Лингвисты знакомы с феноменом, который можно назвать беговой дорожкой эвфемизмов. Люди изобретают новые слова для эмоционально заряженных понятий, но затем эвфемизм обрастает нежелательными ассоциациями и нужно опять искать новое слово, которое вскоре обретает собственные негативные коннотации, и т. д. Ватерклозет становится туалетом (слово, ранее обозначавшее всякий уход за телом, как в словосочетаниях «туалетные принадлежности» и «туалетная вода»), затем ванной, затем комнатой отдыха, а затем санузлом. Гробовщик превращается в сотрудника бюро ритуальных услуг, а затем в распорядителя похорон. Уборка мусора становится санитарным надзором, а затем экологическими услугами. Гимнастика (от «гимназия», высшая школа) превращается в физическое воспитание, которое становится (в Беркли) биодинамикой человека. Даже слово меньшинство — максимально нейтральное обозначение, описывающее исключительно количество, — в 2001 году было запрещено муниципалитетом Сан-Диего (и чуть было не запрещено муниципалитетом Бостона), потому что считается, что оно принижает небелых. «Неважно, как вы это подаете, но меньшинство — это значит не слишком», — заявил в Бостонском колледже чиновник с ограниченными семантическими возможностями. Теперь там предпочитают термин AHANA (акроним для African-American, Hispanic, Asian and Native American)[38].
Беговая дорожка эвфемизмов показывает, что для разума первичны понятия, а не слова. Дайте понятию новое название, и название приобретет окраску понятия; понятие не становится новым при смене названия, а если и обновляется, то ненадолго. Названия для меньшинств продолжат меняться до тех пор, пока у людей будет сохраняться негативное к ним отношение. И когда изменения перестанут требоваться, мы поймем, что достигли настоящего взаимного уважения.
* * *
«Имидж — ничто. Жажда — все» — гласит реклама газированного напитка, пытающаяся создать новый имидж для своего продукта, подшучивая над рекламой компаний, пытающихся создать имидж для своих газированных напитков. Как и слова, образы — заметная составляющая нашей психической жизни. Считается, что, как и слова, образы имеют тайную власть над нашим сознанием, видимо потому, что они записываются непосредственно на «чистом листе». Согласно постмодернистскому и релятивистскому подходу, образы либо формируют наш взгляд на реальность, либо отражают наш взгляд на реальность, либо они и есть реальность. Это особенно верно для образов звезд, политиков, женщин и AHANA. И как в случае с языком, научные исследования образов показывают, что этот страх надуман.
Хорошее описание стандартного взгляда на образы в культурных исследованиях и других близких дисциплинах можно найти в Кратком словаре теории культуры (Concise Glossary of Cultural Theory). Образ в нем определяется как «мысленная или зрительная репрезентация объекта или события, как оно представлено в сознании, картине, фотографии или фильме». Уравнивая образы, существующие в реальности (такие, как картины) и существующие в сознании, статья обосновывает центральное положение образа в постмодернизме, культурологических исследованиях и научном феминизме.
Сначала в статье сообщается, и небезосновательно, что имидж может отображать реальность неверно и тем самым служить интересам идеологии. Расистские карикатуры, очевидно, ярчайший пример. Но затем мысль получает дальнейшее развитие:
Даже при так называемом «кризисе репрезентации», вызванном… постмодернизмом, все-таки часто возникает вопрос, можно ли считать, что образ просто отражает или искажает реальность, предположительно первичную, внешнюю и свободную от образов. Скорее реальность видится как вторичная, как продукт разных типов репрезентаций. Согласно этой точке зрения, мы живем в мире образов и представлений, а не в «реальном мире», отраженном в истинных или ложных образах.
Другими словами, если дерево падает в лесу, в котором нет художника, чтобы запечатлеть это событие, дерево не только не производит шума, но и не падает, да и нет никакого дерева.
Далее… считается, что мы существуем в мире гиперреальности, в котором образы самогенерируются и полностью отделены от любой предполагаемой реальности. Это согласуется с общим взглядом на современную политику и индустрию развлечений как на вопрос «имиджа», или внешних проявлений, а не смыслового содержания.
На самом деле доктрина гиперреальности противоречит общепринятому взгляду на современную политику и индустрию развлечений как на вопрос имиджа и внешних проявлений. Суть общепринятого мнения в том, что реальность, отдельная от образов, существует и что именно это позволяет нам подвергать сомнению недостоверные образы. Например, мы можем критиковать старый фильм, показывающий счастливую жизнь рабов, или рекламу, в которой коррумпированный политик демонстрирует, как он защищает окружающую среду. Если бы не существовало такой вещи, как смысловое содержание, у нас не было бы базы, опираясь на которую мы могли бы отдать предпочтение документальному фильму о рабстве, а не его воспеванию; честному изображению политика, а не его хитрой рекламной кампании.
В статье отмечается, что образы связаны с миром рекламы, моды и пиара и, значит, с бизнесом и прибылью. Следовательно, образ может быть соотнесен с «навязанным стереотипом, или субъективной альтернативой, или с культурной идентичностью». Медийные образы становятся ментальными образами: люди не могут не думать, что женщины, или политики, или афроамериканцы таковы, какими предстают в кино и рекламе. И это превращает культурологические исследования и постмодернистское искусство в силу, способную освободить личность и общество.
Изучение «образов женщин» или «женских образов» показывает, что именно на этом поле стереотипы о женщинах могут быть как усилены, так и высмеяны или же активно оспорены с помощью критического анализа, альтернативных историй или творческих усилий по созданию позитивного образа в литературе и СМИ[39].
Не скрою, я считаю, что вся эта цепь размышлений — путаница понятий. Если мы хотим разобраться, как манипулируют нами политики и рекламщики, последнее, что мы должны делать, — это отрицать разницу между вещами в мире, нашим восприятием этих вещей в момент, когда они находятся у нас перед глазами, мысленными образами этих вещей, которые мы конструируем в памяти, и физическими образами, такими как фотографии и рисунки.
Как мы видели в начале этой главы, зрительный мозг — невероятно сложная система, созданная силами эволюции, чтобы дать нам способность к точному восприятию важных объектов и событий, появляющихся в поле нашего зрения. «Умный глаз», как называют это психологи, занимающиеся проблемами восприятия, не просто вычисляет очертания и движения людей. Он также способен догадаться об их мыслях и намерениях, отмечая, как они смотрят, приближаются, избегают, помогают или мешают другим объектам и людям. И эти догадки затем сравниваются со всем тем, что мы знаем о людях, — что мы узнали из слухов, из слов и дел человека, а также с помощью дедукции в духе Шерлока Холмса. Результат — база знаний или семантическая память, которая также лежит в основе нашего использования языка.
Физические образы, такие как фотографии и картины, — это механизмы, отражающие свет подобно тому, как отражает свет реальный объект, что заставляет зрительную систему реагировать так же, как если бы она действительно этот объект видела. Хотя люди долго мечтали об иллюзиях, способных полностью обмануть мозг (например, злой гений Декарта — мысленный эксперимент философа, в котором личность не осознает, что она — мозг в банке, или пророчество писателя-фантаста об идеальной виртуальной реальности, как в фильме «Матрица»), в действительности иллюзии, навязанные нам материальными образами, всегда эффективны только частично. Наши системы восприятия улавливают недостатки изображения — следы кисти, пиксели или рамку, и наши понятийные системы решают, что мы наблюдаем воображаемый мир, оторванный от реального. Да, люди не всегда отличают выдумку от реальности: они могут увлечься выдумкой или ошибочно «помнить» что-то, о чем читали в художественной литературе как нечто, о чем они читали в газетах, или как то, что якобы случилось со знакомым, или ошибочно считать, что стилизованное изображение времени или места есть его точное изображение. Но все мы способны отличать выдуманные миры от реального. Даже двухлетний ребенок, который играет с бананом, представляя, что это телефон, понимает, что в действительности это две разные вещи[40]. Когнитивные ученые убеждены, что способность рассматривать предположения, не обязательно веря в них, — отличать «Джон верит в Санта-Клауса» от «Санта-Клаус существует» — фундаментальная способность человеческого познания[41]. Существует мнение, что в основе нарушения мышления при шизофрении лежит нарушение именно этой способности[42].
Наконец, существуют и мысленные образы, визуализация объектов и явлений в уме. Психолог Стивен Косслин показал, что мозг обладает системой, способной извлекать из памяти воспоминания о прежнем опыте и манипулировать ими, словно используя фотошоп с его инструментами для соединения, поворота и раскрашивания изображений[43]. Подобно языку, воображение тоже может быть использовано в качестве подсистемы — «пространственно-визуального альбома для зарисовок», — подчиненной «центральному управлению» мозга, что делает его важной формой ментальной репрезентации. Мы используем мысленные образы, когда, например, прикидываем, как впишется кресло в гостиную и подойдет ли родственнику купленный в подарок свитер. Воображение — бесценный инструмент писателей, представляющих себе сцену перед тем, как описать ее словами, и ученых, которые в своем воображении вращают молекулы или проигрывают взаимодействие сил.
Хотя мысленные образы позволяют нашим впечатлениям (включая впечатления от медиаобразов) влиять на наши мысли и отношения еще долго после того, как сам объект исчез из поля зрения, думать, что сырые образы загружаются в наш разум и составляют содержание психической жизни, — ошибка. Образы не хранятся в мозгу, как семейный архив в коробке из-под обуви; если бы это было так, как бы вы отыскали нужную картинку? Скорее они промаркированы и связаны с обширной базой знаний, что позволяет вызывать их из памяти и истолковывать в зависимости от того, что они обозначают[44]. Гроссмейстеры, например, знамениты своей способностью запоминать все детали в ходе игры, но их мысленные образы шахматной доски не просто фотографии. Они обогащены теоретической информацией об игре, например, какая фигура угрожает какой и какая конфигурация фигур создает эффективную защиту. Это известно точно, потому что, если фигуры на шахматной доске расставлены наугад, гроссмейстеры запоминают их порядок не лучше любителей[45]. Когда дело касается реальных людей, а не только шахматистов, существует еще больше возможностей для систематизации образов и добавления к ним комментариев о целях и мотивах людей, например, притворяется ли человек или ведет себя искренне.
Образы не могут составлять содержание наших мыслей, потому что образы, как и слова, по природе своей многозначны. Изображение Лесси (собаки-колли из известного телесериала) может относиться как к Лесси, так и к колли, к собакам, животным, телезвездам или семейным ценностям. Какая-то другая, более абстрактная форма информации должна подобрать понятие, которое этот образ призван иллюстрировать. Или, например, возьмем предложение: «Вчера мой дядя уволил своего адвоката» (пример, предложенный Дэном Деннетом). Вникая в его смысл, Брэд может вспомнить, как провел вчерашний день, и увидеть ячейку «дядя» на генеалогическом древе, а затем вообразить здание суда и разгневанного человека. А в воображении Ирены может и не всплыть картинка для «вчера», но она может представить лицо своего дяди Боба, хлопнувшую дверь и женщину в деловом костюме. И при всей разнице возникших в их головах образов и Брэд, и Ирена поняли сообщение одинаково, и это можно проверить, задавая им вопросы или попросив перефразировать предложение. «Воображение не может быть ключом к пониманию, — подчеркивает Деннет, — потому что вы не можете нарисовать картинку дяди, или вчерашнего дня, или увольнения, или адвоката. У "дяди", в отличие от клоунов и пожарных, нет отличительных особенностей, которые можно изобразить визуально, а "вчера" не похоже вообще ни на что»[46].
Так как мы воспринимаем образы в контексте более глубокого понимания людей и отношений между ними, «кризис репрезентации» с его паранойей относительно медийных изображений, манипулирующих нашим сознанием, преувеличен. Люди не беспомощны перед образами; они могут оценивать и интерпретировать то, что видят, используя остальные свои знания, в том числе данные о надежности и мотивах самого источника информации.
Постмодернизм, отождествляя образы и мысли, не только превратил некоторые гуманитарные дисциплины в бессмыслицу, но и опустошил мир современного искусства. Если образы — это болезнь, то искусство — это лекарство. Художники могут нейтрализовать силу медиаобразов, искажая их или помещая в случайный контекст (как пародии в журнале Mad или в телепрограмме Saturday Night Live, только не смешные). Любой, кто знаком с современным искусством, видел бесчисленные работы, в которых стереотипы о женщинах, меньшинствах, геях «поддерживаются, пародируются или активно оспариваются». Типичный пример — выставка 1994 года в Музее Уитни в Нью-Йорке, названная «Черный мужчина: изображение мужественности в современном искусстве». Ее целью было разрушить социально сконструированные образы афроамериканцев в таких демонизирующих и маргинализирующих визуальных стереотипах, как секс-символ, спортсмен, самбо и фотография на плакате «Разыскивается преступник». Согласно описанию в проспекте, «настоящая борьба разворачивается за контроль над образами». Искусствовед Адам Гопник (чьи мать и сестра — ученые-когнитивисты) привлек внимание к упрощенческой теории познания, лежащей в основе этой громоздкой формулы:
У выставки социально-терапевтическая цель: показать вам социально сконструированные образы черных мужчин, так, чтобы стоя перед ними, — или, скорее, видя, как вместо вас с ними лицом к лицу встречается художник, — вы могли избавиться от них. Проблема в том, что вся затея с «демонтажем социальных образов» базируется на неоднозначности трактовки слова «образ». Мысленные образы — это отнюдь не настоящие изображения, они образованы сложными мнениями, позициями, сомнениями и страстно подавляемыми убеждениями, укорененными в опыте и изменяемыми посредством аргументов, другого опыта или принуждения. Наши мысленные образы черных мужчин, белых судей, прессы и т. д. не принимают форму картинок, которые можно повесить или снять со стены в музее… Гитлер ненавидел евреев не потому, что изображения смуглых семитов с большими носами были запечатлены в его мозжечке; расизм существует в Америке не потому, что О. Джей Симпсон на обложке журнала Time выглядит слишком темным. Мнение, что визуальные клише формируют убеждения, одновременно и слишком пессимистично, потому что предполагает, что люди беспомощны перед навязанными стереотипами, и слишком оптимистично, так как предполагает, что, меняя образы, вы можете изменить и убеждения[47].
Признавая, что мы владеем сложными способностями, которые связывают нас с реальностью, мы не должны игнорировать приемы, с помощью которых они могут быть обращены против нас. Люди лгут — иногда прямо, иногда через намеки и предположения (как в вопросе: «Когда вы перестали бить свою жену?»). Люди распространяют дезинформацию об этнических группах, и не только неодобрительные стереотипы, но и небылицы о притеснениях и вероломстве, вызывающие «праведный» гнев. Люди пытаются манипулировать социальной реальностью, например статусом (существующим в воображении его обладателя), чтобы создать себе хороший имидж или продать что-нибудь.
Лучший способ защитить себя от таких манипуляций — выявить слабые места в наших способностях к категоризации, языку, воображению, а не отрицать их сложность. Мнение, что люди — пассивные приемники стереотипов, слов и образов, унизительно для обычного человека и незаслуженно возвеличивает культурную и научную элиту. А экзотические заявления о том, что наши способности ограниченны, что нет ничего вне текста или что мы живем в мире образов, а не в реальном мире, мешают даже увидеть ложь и искажение, а тем более понять, как они распространяются в обществе.
Глава 13. То, что нам не по плечу
Человек должен знать свои пределы.
Клинт Иствуд в фильме «Высшая сила»Большинство из нас знакомы с идеей, что некоторые из человеческих бед случаются из-за несовпадения предмета наших страстей в эволюционной истории и целей, которые мы ставим перед собой сегодня. Люди объедаются, упреждая голод, который им не грозит, вступают в опасные связи, зачиная нежеланных детей, и подстегивают организм в ответ на стрессоры, от которых не могут убежать.
То, что верно для эмоций, может быть верно и для интеллекта. Какие-то вещи вызывают затруднения, потому что наши когнитивные способности развивались для того, чтобы решать одни задачи, а сегодня мы пытаемся использовать их для решения совершенно других. Это явно видно на примере обработки первичной информации. Люди не пытаются умножать в уме шестизначные числа или запоминать телефонные номера всех, кого встречают, потому что знают, что их ум не приспособлен для такой работы. Но это не так очевидно, когда речь идет о способах осмысления мира. Разум обеспечивает нам контакт с теми аспектами реальности (предметами, животными, людьми), с которыми наши предки имели дело на протяжении миллионов лет. Но когда наука и технологии открывают новые, неведомые миры, наши интуитивные представления оказываются в тупике.
Что это за интуитивные представления? Многие когнитивные ученые считают, что человеческое мышление не осуществляется единственным многоцелевым компьютером в голове. Мир — неоднороден, и у нас есть различные виды интуиции и логики, каждый из которых соответствует той или иной стороне реальности. Эти пути познания именовались системами, модулями, установками, способностями, органами мышления, множественным интеллектом, машинами формирования рассуждений[1]. Они возникают на раннем этапе жизни, есть у каждого нормального человека и, по-видимому, функционируют в частично обособленных узлах связи в мозге. Они вводятся в действие различными комбинациями генов или же появляются, когда ткани мозга самоорганизуются в ответ на разные паттерны сенсорного ввода и на различные требующие решения задачи. Но, скорее всего, они развиваются под воздействием некоторой комбинации этих сил.
Наши мыслительные способности представляют собой не просто широкие области знаний, анализируемые с помощью подходящих инструментов. Каждая способность основана на внутреннем чутье, подходящем для понимания мира, в котором мы эволюционировали. Хотя когнитивные ученые и не согласны с греевской анатомией разума, вот предварительный, но обоснованный список когнитивных способностей и интуитивных представлений, на которые они опираются:
• Интуитивная физика. Мы используем ее, чтобы проследить траектории объектов, которые падают, подпрыгивают, гнутся. Базовое интуитивное представление здесь — концепция объекта, который занимает определенное место, существует в непрерывном диапазоне времени и подчиняется законам движения и взаимодействия сил. Это не законы Ньютона, но что-то близкое к средневековой идее движущей силы, «энергии», которая заставляет объекты двигаться и постепенно рассеивается[2].
• Интуитивная версия биологии или естественной истории, необходимая для понимания живого мира. Соответствующее интуитивное представление говорит, что живые объекты хранят в себе некую скрытую суть, определяющую их форму и возможности и управляющую их развитием и телесными функциями[3].
• Интуитивная механика, которую мы используем, чтобы делать инструменты и другие вещи. Ее интуитивное представление состоит в том, что инструмент — это предмет, имеющий свое назначение, объект, созданный человеком для достижения цели[4].
• Интуитивная психология. Ею мы пользуемся для понимания других людей. В ее основе лежит интуитивное представление о том, что люди не объекты и не машины, но движимы невидимой сущностью, которую мы зовем разумом или душой. Разум содержит убеждения и желания и непосредственно определяет поведение.
• Чувство пространства, которое мы используем, чтобы ориентироваться в мире и следить за передвижением объектов. Оно основано на «навигаторе», который обновляет координаты местоположения тела в процессе его движения, и сети ментальных карт. Каждая карта соотносится со своей системой координат — глаза, голова, тело, привлекающие внимание объекты и области окружающего мира[5].
• Чувство числа, с помощью которого мы осмысливаем количества и объемы. Оно основано на способности замечать точное количество небольшого числа объектов (один, два и три) и давать приблизительную оценку большим числам[6].
• Чувство вероятности, помогающее рассуждать о вероятности неопределенных событий. Оно основано на способности отслеживать относительную частоту — долю событий определенного типа, которые привели к тому или же иному результату[7].
• Интуитивная экономика, которую мы используем в процессе обмена товарами и услугами. Она основана на концепции взаимного обмена, в котором одна сторона обеспечивает другой некую выгоду и имеет право на равную услугу в ответ.
• Умственная база данных и логика, которая нужна нам, чтобы предлагать новые идеи и выводить новые идеи из старых. Она основана на суждениях о том, что есть что, что где находится, кто, что, кому, когда, где и зачем сделал. Суждения связаны в сеть, охватывающую весь разум, и могут комбинироваться с помощью логических и причинных операторов, таких как И, ИЛИ, НЕ, ВСЕ, НЕКОТОРЫЕ, НЕОБХОДИМО, ВЕРОЯТНО и ПРИЧИНА[8].
• Язык, который мы используем, чтобы делиться идеями, сформулированными нашей умственной логикой. Он основан на мысленном словаре, хранящемся в памяти, и на мысленной грамматике — правилах комбинирования. Правила организуют согласные и гласные в слова, слова — в составные слова и фразы, а фразы — в предложения таким образом, что значение этих комбинаций может быть выведено из значения частей и способов, которыми те соединены[9].
Есть в разуме и компоненты, про которые трудно сказать, где заканчивается мысль и начинается чувство. Это касается системы оценки уровня опасности, действующей в паре с эмоцией, называемой «страх»; системы оценки вероятности заражения, связанной с эмоцией, называемой «отвращение»; и нравственного чувства, настолько сложного, что оно заслуживает отдельной главы.
Эти способы познания и интуитивные представления соответствуют образу жизни небольшой группы неграмотных, не имеющих государственности людей, пользующихся дарами земли, выживающих благодаря своей смекалке и рассчитывающих только на то, что имеют при себе. Наши предки отказались от этого образа жизни в пользу оседлости всего несколько тысячелетий назад, слишком недавно, чтобы эволюция успела что-то сделать с нашим мозгом. Особенно заметно отсутствие способностей, подходящих для ошеломляющего нового понимания мира, отточенного наукой и технологией. Для многих областей знаний мозг не смог развить специализированных механизмов, мозг и геном не демонстрируют ни намека на специализацию, и люди не обнаруживают спонтанного интуитивного понимания их ни в колыбели, ни после. Это относится к современной физике, космологии, генетике, эволюции, нейронаукам, эмбриологии, экономике и математике.
Дело не в том, что мы должны ходить в школу или читать книги, чтобы понять эти предметы. Просто у нас нет психических инструментов, позволяющих ухватить их смысл интуитивно. Мы опираемся на аналогии, чтобы использовать старые умственные способности, или наскоро изобретаем новые ментальные приспособления, связывающие вместе обрывки и кусочки других способностей. Наше понимание этих наук будет, скорее всего, неравномерным, неглубоким и зараженным примитивными интуитивными представлениями. И это может существенно влиять на дебаты в пограничных областях, в которых наука и технологии вступают в контакт с жизнью людей. Суть этой главы в том, что вместе с моральными, эмпирическими и политическими факторами, которые обсуждаются в этих дебатах, мы должны учитывать и когнитивный фактор: способ, которым наш мозг естественным образом ставит вопросы. Наши когнитивные особенности — недостающий фрагмент многих головоломок, включая образование, биоэтику, безопасность пищи, экономику и сам разум.
* * *
Очевидно, что место, где мы прежде всего мы сталкиваемся с интуитивными способами мышления, — это школа. Любая теория образования должна быть основана на теории человеческой природы, а в XX веке это был, как правило, «чистый лист» или «благородный дикарь».
Традиционное образование по большей части опирается на «чистый лист»: дети приходят в школу пустыми, их там наполняют знаниями, а потом они воспроизводят их на экзаменах. (Критики традиционного образования называют это «ссудно-сберегательной» моделью.) Теория «чистого листа» лежит и в основе общепринятых представлений о том, что ранние школьные годы — это зона возможностей, период, когда социальные ценности формируются на всю жизнь. Поэтому уже в младших классах детям внушают «правильное» отношение к окружающей среде, полу, сексуальности и этническому многообразию.
Прогрессивные же образовательные практики, в свою очередь, основаны на «благородном дикаре». Как писал А. Нилл в своей оказавшей значительное влияние книге «Саммерхилл» (Summerhill), «ребенок изначально умен и практичен. Если оставить его в покое, без всякого давления со стороны взрослого, он будет развиваться до тех пределов, до которых вообще способен развиваться»[10]. Нилл и другие прогрессивные теоретики 1960-х и 1970-х убеждали, что школы должны отказаться от экзаменов, классов, расписания и даже книг. Хотя так далеко зашли не многие, это движение оставило свой след в образовательных методиках. В технике обучения чтению под названием «Язык как целое» (Whole Language), детям не говорят, какому звуку соответствует та или иная буква, а погружают их в обогащенную книгами среду, рассчитывая, что навыки чтения будут развиваться спонтанно[11]. Метод преподавания математики, известный как конструктивизм, предлагает не мучить детей арифметическими таблицами, а поощряет их открывать математические правила самостоятельно, решая задачи в группах[12]. Когда знания учеников оцениваются объективно, становится ясно, что оба метода не оправдывают себя, но их защитники воротят нос от стандартизированных тестов.
Понимание разума как сложной системы, сформированной эволюцией, не согласуется с подобными взглядами. Когнитивные ученые Сьюзан Кэри, Говард Гарднер и Дэвид Гири в своих работах представили альтернативный подход[13]. Образование — это не записи на чистой табличке и не предоставление возможности способностям ребенка расцветать без всякого вмешательства. Скорее, образование — это технология, которая пытается компенсировать то, в чем человеческий мозг изначально неуспешен. Детям не нужно посещать школу, чтобы научиться ходить, говорить, узнавать объекты или запоминать индивидуальные особенности своих друзей, хотя эти задачи намного сложнее, чем чтение, сложение или зазубривание исторических дат. Дети должны ходить в школу, чтобы обучаться письму, арифметике и наукам, потому что эти области знаний и умений были изобретены слишком недавно для того, чтобы навыки овладения ими эволюционировали на уровне вида.
Ребенок не пустой сосуд и не универсальный ученик, он обладает набором инструментов мышления и научения определенными способами, и мы должны грамотно использовать эти инструменты в решении задач, для которых они не были предназначены. Чтобы добиться этой цели, нужно не просто наполнять детские головы новыми знаниями и умениями, но исправлять или блокировать старые. Невозможно научить детей ньютоновской физике, пока они не перестанут воспринимать физику на основе интуитивного обращения с предметами[14]. Они не могут научиться современной биологии, пока не отучатся от интуитивной биологии, описывающей мир в терминах жизненной субстанции. И они не могут понять эволюцию, пока будут пользоваться интуитивной механикой, которая приписывает дизайн намерениям дизайнера[15].
Учеба требует от учеников осознания и развития навыков, обычно спрятанных в «черных ящиках» бессознательного. Например, когда дети учатся читать, необходимо научить их разделять непрерывный речевой поток на гласные и согласные звуки еще до того, как они смогут связать их с загогулинами на странице[16]. Эффективное образование приспосабливает старые способности к новым требованиям. Язык можно поставить на службу математике, например когда мы вспоминаем мантру «пятью пять — двадцать пять», выполняя вычисления[17]. Логику грамматики можно использовать, чтобы уловить смысл больших чисел: грамматическая структура выражения четыре тысячи триста пятьдесят семь в английском языке подобна грамматической структуре перечисления: шапка, пальто и варежки. Когда ученик анализирует фразу, описывающую число, он пользуется мыслительной операцией обобщения, подобной математической операции сложения[18]. Пространственное мышление служит для понимания математических отношений: графики превращают данные и равенства в геометрические формы[19]. Интуитивная механика помогает осваивать анатомию и психологию (органы понимаются как устройства с присущими им функциями), а интуитивная физика подкрепляет изучение химии и биологии (объекты, включая живые, сделаны из крошечных, прыгучих, липких деталей)[20].
Гири приходит к следующему выводу: то, чему мы учим детей, неестественно для когнитивных процессов, и поэтому овладение знаниями не всегда может быть легким и приятным вопреки часто повторяемому девизу «учение с развлечением». Дети хотят заводить друзей, повышать свой статус в группе, оттачивать моторные навыки и исследовать материальный мир, но вовсе не обязательно желают применять собственные когнитивные способности к неестественным задачам вроде формальной математики. Семья, референтная группа и культура, которая высоко ценит школьные достижения, — вот что необходимо, чтобы ребенок стремился прикладывать значительные усилия для овладения знаниями, отдача от которых станет заметна только по прошествии многих лет[21].
* * *
Одна из наиболее удивительных способностей мозга — интуитивная психология, или «теория разума». Мы не считаем других людей заводными игрушками, а полагаем, что ими движет разум: нематериальная сущность, которую мы не можем увидеть или потрогать, но которая так же реальна, как тела и объекты. Теория разума не только позволяет нам прогнозировать поведение людей, исходя из их убеждений и желаний, она связана со способностью к сопереживанию и с нашим представлением о жизни и смерти. Разница между мертвым телом и живым в том, что мертвое тело больше не содержит жизненной силы, которую мы называем разумом. Наша теория разума — источник понятия души. «Дух в машине» имеет глубокие корни в самом нашем образе мышления о людях.
Вера в душу, в свою очередь, переплетается с нашими нравственными убеждениями. Суть морали — в признании того, что и у других людей есть свои потребности, как у Шекспира в монологе Ричарда II: «Как вы, ем хлеб я, немощам подвержен, ищу друзей», и значит, у них тоже есть право на жизнь, свободу и преследование собственных интересов. Но кто эти «другие»? Нам нужен разграничительный принцип, позволяющий бесчувственно относиться к камням или растениям, но заставляющий обращаться с людьми как с «личностями», обладающими неотъемлемыми правами. Кажется, что в противном случае мы встанем на скользкий путь и докатимся до уничтожения неудобных для нас людей или до нелепых размышлений о ценности отдельной жизни. И по словам папы Иоанна Павла II, принцип, что каждый человек бесконечно ценен в силу обладания душой, кажется, способен провести эту границу.
До недавнего времени интуитивная концепция души служила нам неплохо. Считалось, что живые люди обладают душой, которая появляется в момент зачатия и оставляет тело после смерти. Животные, растения, неодушевленные объекты не имеют души вовсе. Но, как показывает наука, то, что мы зовем душой, — локус сознания, мышления и воли — состоит из процессов обработки информации в мозге, органе, подчиняющемся законам биологии. У отдельного человека это появляется постепенно, путем дифференциации тканей, развивающихся из одной-единственной клетки. У вида в целом это был постепенный процесс, по мере того как мозг более простых животных изменялся под действием сил эволюции. И хотя наша концепция души не противоречила естественным феноменам — женщина либо беременна, либо нет, человек либо жив, либо мертв, — биомедицинские исследования сегодня демонстрируют нам случаи, когда все не так очевидно. Это не просто научные курьезы, они неразрывно связаны с острыми вопросами контрацепции, абортов, убийства младенцев, прав животных, клонирования, эвтаназии и исследований человеческих эмбрионов — особенно тех, для которых необходимы стволовые клетки.
Перед лицом таких сложных решений весьма соблазнительно требовать от биологии определения или подтверждения важных границ, например, той, за которой «начинается жизнь». Но это требование только подчеркивает противоречие между двумя несопоставимыми способами постижения жизни и разума. Интуитивную и нравственно полезную концепцию нематериальной души просто невозможно примирить с научной концепцией мозговой активности, появляющейся постепенно как в онтогенезе, так и в филогенезе. Неважно, где мы попытаемся провести границу между жизнью и нежизнью или между разумом и неразумностью, все равно найдется неоднозначный случай, который поставит наше нравственное чувство в тупик.
Можно считать, что событие, подобно громовому раскату возвещающее о явлении души в мир, — это зачатие. В этот момент определен геном нового человека и уже есть нечто реально существующее, чему предстоит стать уникальной личностью. Католическая церковь и некоторые другие христианские конфессии считают зачатие моментом одухотворения и начала жизни (что, конечно, делает аборт убийством). Но подобно тому, как микроскоп обнаруживает, что кажущаяся абсолютно ровной поверхность на самом деле шероховатая, так и исследования процесса размножения человека показывают, что «момент зачатия» — это вообще не момент. Иногда сквозь внешнюю мембрану яйцеклетки проникает несколько сперматозоидов сразу, и яйцеклетке требуется время, чтобы произвести дополнительные хромосомы. Что здесь душа и где она находится в это время? Даже когда яйцеклетка имеет дело с единственным сперматозоидом, его гены не соединяются с генами яйцеклетки в течение дня или даже дольше, и требуется еще день или около того, чтобы новый геном начал контролировать клетку. Так что «момент» зачатия на самом деле промежуток длительностью от 24 до 48 часов[22]. Да и оплодотворенное яйцо вовсе не обязательно станет ребенком. От двух третьих до трех четвертых их так и не прикрепляется к стенкам матки и спонтанно абортируется, некоторые из-за генетических дефектов, другие по неясным причинам.
Кто-то все же может сказать, что, в какой бы момент этой интерлюдии ни сформировался новый геном, его и можно считать моментом появления уникальных характеристик новой личности. По этой логике, душа может быть идентифицирована с геномом. Но в течение нескольких следующих дней, когда клетки эмбриона начинают делиться, они могут разделиться на несколько эмбрионов, которые разовьются в идентичных двойняшек, тройняшек и т. д. И что, идентичные близнецы делят и душу? Неужели известные сестры Дион обладали лишь одной пятой души каждая? Если нет, откуда взялись остальные четыре? На самом деле любая клетка в развивающемся эмбрионе при определенных манипуляциях способна стать новым эмбрионом, из которого вырастет ребенок. Может, в многоклеточном эмбрионе каждая клетка обладает душой, но куда деваются лишние души, когда эмбрион теряет эту способность? И не только один эмбрион способен дать начало двум жизням, но и два эмбриона могут стать одним человеком. Иногда две оплодотворенные яйцеклетки, которые обычно становятся неидентичными близнецами, сливаются в один эмбрион, из которого вырастает человек — генетическая химера: одни его клетки содержат один геном, а другие — другой. Может быть, в этом теле живут две души?
Если уж на то пошло, если клонирование человека когда-нибудь станет возможно (и, кажется, технических препятствий этому нет), каждая клетка его тела будет обладать этой уникальной способностью, свойственной, предположительно, только эмбриону, а именно — развиться в человеческое существо. Да, гены в клетке, взятой со щеки, могут стать человеком только после неестественного вмешательства, но это верно и в отношении искусственного оплодотворения. Однако никто не отрицает, что дети, зачатые в пробирке, обладают душой.
Идею, что одухотворение происходит в момент оплодотворения, не только трудно примирить с биологией, она к тому же не имеет того морального превосходства, которое ей приписывается. Она подразумевает, что мы должны привлекать к ответственности за убийство лиц, использующих внутриматочные контрацептивы и таблетки для посткоитальной контрацепции, потому что они мешают оплодотворенному яйцу прикрепиться к стенке матки. Она предполагает, что мы должны отказаться от медицинских обследований при лечении рака и сердечных заболеваний, чтобы не спровоцировать самопроизвольные выкидыши огромного числа микроскопических оплодотворенных клеток. Из этой идеи следует, что надо срочно искать суррогатных матерей для огромного количества эмбрионов, хранящихся в холодильниках перинатальных центров после процедуры искусственного оплодотворения. Она делает незаконными научные исследования, посвященные зачатию и раннему эмбриональному развитию, которые могут снизить количество случаев бесплодия, врожденных дефектов и детского рака, и исследования стволовых клеток, которые могут помочь нам найти лекарство от болезней Альцгеймера, Паркинсона, диабета и травм спинного мозга. И это звучит как насмешка над основным принципом интуитивной морали: другие люди стоят того, чтобы принимать их в расчет, потому что они способны чувствовать — любить, думать, планировать, наслаждаться и страдать, — а для всего этого необходима функционирующая нервная система.
Огромные моральные издержки приравнивания зародыша к личности и умственная эквилибристика, которая требуется, чтобы отстаивать это убеждение перед лицом достижений современной биологии, могут иногда приводить к мучительному пересмотру самых глубоких убеждений. В 2001 году Оррин Хэтч, сенатор от штата Юта, после знакомства с исследованиями в области репродукции и размышлений о своей мормонской вере прекратил многолетнее сотрудничество с движением против абортов и высказался в поддержку изучения стволовых клеток. «Я прислушался к своему внутреннему голосу, — сказал он. — Я просто не могу приравнять ребенка, живущего в матке, чье сердце бьется, а пальчики шевелятся, к эмбриону в холодильнике»[23].
Вера, что в теле обитает душа, не просто навязана нам религией, она встроена в человеческую психологию и всплывает всегда, когда люди не воспринимают открытий биологии. Реакция общества на клонирование — живой тому пример. Одни боятся, что клонирование явит нам возможность стать бессмертными, другие — что оно произведет на свет армию послушных зомби или что клоны станут источником органов для пересадки по требованию. В фильме с Арнольдом Шварценеггером «Шестой день» клонов называют заготовками, их ДНК определяет только их физическую форму, но не разум; разум они обретают, только когда в них загружают данные нервной системы оригинала. Когда в 1997 году была клонирована овечка Долли, журнал Spiegel поместил на обложку изображение процессии, состоящей из множества копий Клаудии Шиффер, Гитлера и Эйнштейна, как будто вместе с ДНК можно скопировать и личность супермодели, фашистского диктатора или научного гения.
На самом деле клоны — это просто идентичные близнецы, рожденные в разное время. Будь у Эйнштейна брат-близнец, он не был бы зомби и не смог бы продолжить поток сознания Эйнштейна, если бы пережил его; он не отдал бы свои органы без борьбы и, вероятно, не был бы Эйнштейном (поскольку интеллект лишь отчасти наследуется). То же самое было бы верно и для человека, клонированного из клетки Эйнштейна. Дикие заблуждения насчет клонирования — порождение упрямой веры в то, что в теле обитает душа. Люди, испытывающие страх перед армией зомби, «заготовками» и фермами по выращиванию запасных органов, считают, что клонирование — это копирование тела без души. Другие, приходящие в ужас при мысли о фаустовских попытках обрести бессмертие или перед возможностью воскрешения Гитлера, представляют себе клонирование как копирование тела вместе с душой. Эта же концепция заставляет некоторых родителей мечтать о клонировании умершего ребенка, как будто это может вернуть их дитя к жизни. На самом же деле клон не только будет расти в мире, отличном от того, в котором рос его умерший брат или сестра, но и ткани его мозга будут отличаться и выпавший на его долю чувственный опыт будет другим.
Открытие, что «личность», как мы ее понимаем, возникает в развивающемся мозге постепенно, заставляет нас переформулировать проблемы биоэтики. Было бы очень удобно, если бы биологи определили момент, в который мозг уже полностью собран и, наконец, включен, но мозг работает не так. Нервная система появляется у эмбриона в виде простой трубки, которая затем разделяется на головной и спинной мозг. Мозг начинает функционировать еще в утробе, но продолжает формировать новые связи в детстве и даже в юности. Требование, выдвигаемое религиозными и светскими этиками — чтобы мы определили «критерии личности», — предполагает, что этот рубеж в развитии мозга может быть найден. Но любые заявления об обнаружении такой границы приводят к моральному абсурду.
Если мы будем считать границей появления личности момент рождения, мы должны быть готовы разрешить аборты за минуту до рождения, несмотря на то что разницы между плодом на последних сроках и новорожденным практически нет. Кажется, что логичнее говорить о жизнеспособности плода. Но жизнеспособность — это континуум, зависящий от состояния современных биомедицинских технологий и от риска нарушений, на который родители готовы пойти. И это вызовет очевидное возражение: если позволительно абортировать 24-недельный плод, то почему нельзя сделать это с плодом, которому 24 недели и один день? А если можно, то почему нельзя в 24 недели и два дня, и три дня и т. д. вплоть до момента рождения? С другой стороны, если нельзя абортировать плод за день до рождения, то как насчет аборта за два, три, четыре дня до рождения и т. д. до самого зачатия?
Мы сталкиваемся с той же проблемой, только с противоположной стороны, когда размышляем об эвтаназии и волеизъявлении относительно конца жизни. Человек не развеивается, подобно облачку дыма, он страдает в процессе постепенного и неравномерного отказа различных частей тела и мозга. Между живым и мертвым лежит множество видов и уровней существования, и с развитием технологий это будет все более очевидно.
Эта же проблема встает перед нами в трудных вопросах борьбы за права животных. Активисты, признающие право на жизнь за любым чувствующим существом, должны считать, что человек, съевший гамбургер, — соучастник убийства, а дезинсектор, избавляющий дом от крыс, виновен в геноциде. Они должны бороться за запрещение медицинских исследований, которые принесут в жертву нескольких мышей, чтобы спасти миллионы детей от болезненной смерти (так как никто не согласился бы пожертвовать несколькими людьми для таких экспериментов, а согласно этой логике, мыши обладают теми же правами). С другой стороны, те, кто не согласен, что у животных есть права, те, кто считает, что личность — исключительная прерогатива представителей вида Homo sapiens, — просто видовые ксенофобы, мыслящие не более широко, чем ксенофобы расовые, которые ценят жизни белых больше, чем жизни черных. В конце концов, другие млекопитающие тоже борются за жизнь, испытывают удовольствие и преодолевают боль, страх и стресс, когда их благополучию угрожает опасность. Человекообразные приматы разделяют наши высшие удовольствия любознательности и любви к ближним и наши глубочайшие печали вроде одиночества, скуки и горя. Почему эти интересы у нашего вида нужно уважать, а у других видов — нет?
Некоторые философы-этики пытаются провести границу по этому ненадежному ландшафту, ставя знак равенства между личностью и когнитивными способностями, свойственными человеку. К ним относят способность размышлять о себе как о постоянном локусе сознания, строить планы и мечтать о будущем, бояться смерти и выражать желание жить[24]. На первый взгляд граница заманчивая, потому что она помещает людей с одной стороны, а животных и человеческие эмбрионы — с другой. Но из этого следует, что нет ничего плохого в убийстве нежеланных новорожденных, выживших из ума стариков и умственно неполноценных, не удовлетворяющих квалификационным требованиям. Практически никто не согласится принять критерий с подобными следствиями.
Эти сложные вопросы не имеют решения, потому что возникают из-за фундаментальной несоизмеримости нашей интуитивной психологии с ее концепцией личности или души по принципу «все или ничего» с грубыми биологическими фактами, которые говорят нам, что мозг человека эволюционировал постепенно, развивается постепенно и умирать может тоже постепенно. А это значит, что такие нравственные ребусы, как аборт, эвтаназия и права животных, никогда окончательно не разрешатся так, чтобы удовлетворить нашим интуитивным представлениям. Это не значит, что ни одна стратегия не годится и что все эти вопросы нужно оставить на совести личных предпочтений, политических сил или религиозных догм. Как подчеркивает биоэтик Ричард Грин, это значит, что мы должны переосмыслить проблему: нужно не искать границу в природе, а выбрать границу, которая в каждой подобной дилемме будет наилучшим компромиссом между добром и злом[25]. В каждом случае мы должны принимать решение, которое практически осуществимо, принесет максимум счастья и сведет к минимуму нынешние и будущие страдания. Многие из наших сегодняшних стратегий уже представляют собой компромиссы такого же рода: исследования на животных разрешены, но с ограничениями; плод на последних сроках беременности по закону не обладает правами человека, но абортировать его можно, только если это совершенно необходимо для сохранения жизни и здоровья женщины. Грин замечает, что сдвиг от поиска границы к ее выбору — это концептуальная революция, сравнимая по значимости с открытиями Коперника. И старые концептуальные представления, которые сводятся к попыткам определить, в какое мгновение «дух» вселяется «в машину», научно несостоятельны и не должны руководить социальной политикой XXI века.
Традиционный аргумент против прагматических, конкретных в каждом случае решений — то, что они толкают нас на скользкий путь. Если мы допускаем аборты, скоро мы разрешим убийство младенцев, если мы разрешаем исследования стволовых клеток, мы откроем дверь в «дивный новый мир» людей, выращиваемых государством в инкубаторах. Но я думаю, что здесь сама природа человеческого мышления уводит нас от этой дилеммы, а не сталкивает с нею. Опасность есть, когда понятийные категории имеют жесткие границы, когда ответ может быть только «да» или «нет», а иначе, мол, вообще все дозволено. Но человеческие понятия устроены не так. Как мы видели, многие житейские представления имеют размытые границы, но мозг различает, где граница размыта, а где ее вовсе нет. «Взрослый» и «ребенок» — расплывчатые категории, и поэтому мы могли бы повысить возраст, с которого можно покупать алкоголь, до 21 года, или понизить возраст, с которого можно голосовать, до 18 лет. Но это не заставило нас встать на опасный путь и довести в конечном счете возраст разрешенного употребления алкоголя до 50 лет или возраст голосования до пяти. Подобные стратегии не соответствуют нашим представлениям о «взрослом» и «ребенке», какими бы размытыми ни были их границы. Точно так же мы можем привести в соответствие с биологической реальностью наши понятия жизни и разума, не рискуя оступиться и упасть.
* * *
Когда в 1999 году разрушительный ураган поставил миллионы людей в Индии на грань голода, некоторые активисты осудили общества милосердия за поставки в страну питательной зерновой пищи, потому что та содержала генетически модифицированные сорта кукурузы и сои (сорта, которые без всякого вреда едят в США). Эти активисты также протестовали против «золотого риса», генетически модифицированного сорта, тогда как он мог бы предотвратить слепоту у миллионов детей в развивающемся мире и снизить дефицит витамина А еще у четверти миллиарда[26]. Другие активисты оскверняли исследовательские лаборатории, в которых проверяется безопасность генетически модифицированной еды и выводятся новые сорта растений. Эти люди не допускают даже возможности, что такая еда может быть безопасной.
В 2001 году Европейский союз проанализировал отчет, в котором рассматривался 81 исследовательский проект из числа реализованных в последние 15 лет, и никаких новых рисков для здоровья человека или для окружающей среды со стороны генетически модифицированного зерна не было найдено[27]. Это не сюрприз для биологов. Генетически модифицированная пища вредна не более, чем «натуральная», потому что по существу ничем от нее не отличается. Практически любое животное или растение, продающееся в магазинах «здоровой еды», было генетически модифицировано в ходе тысячелетий селекционного разведения и гибридизации. Дикий предок моркови — тонкий, белый, горький корешок; у предка кукурузы початок был длиной в дюйм, он легко осыпался и содержал очень мало крошечных, твердых как камень зернышек. Растения — создания эволюции, у них нет желания быть съеденными, и они не лезли из кожи вон, чтобы стать вкусными, полезными и удобными для выращивания и сбора урожая. Напротив — они изо всех сил старались помешать нам съесть их, вырабатывая токсины, раздражающие вещества или химические соединения с горьким вкусом[28]. Так что никакой особой безопасностью натуральная пища не обладает. «Натуральный» метод селекционного разведения растений, устойчивых к вредителям, только увеличивает концентрацию в растениях их собственного яда; один из сортов натурального картофеля был отозван с рынка, потому что он оказался токсичен для человека[29]. Точно так же натуральные ароматизаторы — которые один ученый, занимающийся вопросами питания, назвал «ароматизаторами, полученными с использованием устаревших технологий», — часто химически неотличимы от их искусственных аналогов, а если и отличимы, иногда натуральный ароматизатор даже более опасен. Когда «натуральный» ароматизатор миндаля, бензальдегид, добывается из персиковых косточек, он содержит следы цианида; когда он синтезирован искусственным путем, цианида в нем нет[30].
Слепой страх перед любой искусственной и генетически модифицированной пищей очевидно иррационален с точки зрения здоровья, к тому же отказ от такой пищи может сделать продукты в целом более дорогими и, значит, менее доступными для бедных. Откуда берутся эти необоснованные опасения? Частично в этом виновата современная школа журналистики, которая бездумно освещает любые исследования, показывающие рост случаев рака у крыс, которых пичкают огромными дозами химикалий. Но частично эти страхи берут начало в нашем интуитивном представлении о живых существах, которое впервые было описано антропологом Джеймсом Фрейзером в 1890 году и недавно исследовано в лабораториях Пола Розина, Сьюзан Гельман, Франка Кейла, Скотта Атрана и других когнитивистов[31].
Наша интуитивная биология начинается с понятия невидимой сущности, которая присутствует в живых объектах и определяет их облик и возможности. Такие эссенциалистские представления возникают в раннем детстве и в традиционных культурах доминируют в восприятии животных и растений. Обычно интуитивные знания служат людям исправно. Они, например, позволяют дошкольникам делать умозаключения о том, что детеныши енота, который похож на скунса, будут енотами, что из яблочного зернышка, посаженного в цветочный горшок, вырастет яблоня и что поведение животных определяется его внутренними свойствами, а не внешним видом. Они позволяют людям традиционных культур прийти к выводу, что создания, которые выглядят по-разному (такие, как бабочка и гусеница), могут принадлежать к одному виду, подсказывают им, как готовить настойки и порошки из живых организмов и использовать их в качестве лекарств, ядов или пищевых добавок. Они оберегают людей от отравления, вызванного употреблением в пищу того, что было в контакте с источниками инфекции — экскрементами, больными людьми, испорченным мясом[32].
Но интуитивный эссенциализм может приводить и к ошибкам[33]. Дети верят, что ребенок англоговорящих родителей будет говорить по-английски, даже если вырос во франкоговорящей семье, что у мальчиков будут короткие волосы, а девочки будут носить платья, даже если они воспитываются в семьях без единого представителя своего пола, от которого могли бы перенять эти привычки. Нецивилизованные люди верят в магию сходства, известную как вуду. Они считают, что похожие объекты обладают похожими свойствами и поэтому растолченный рог носорога — отличное лекарство от эректильной дисфункции. И они думают, что части тела животных могут передать свои свойства всему, с чем соединяются, так что, если кто-то ест или носит на себе часть свирепого животного, он сам становится свирепым.
Но и образованным представителям западной культуры нечем особенно гордиться. Розин показал, что и у нас есть заблуждения, подобные вуду. Большинство американцев не прикоснутся не только к простерилизованному таракану, но даже и к пластиковому, и не будут пить сок, которого на долю секунды коснулся таракан[34]. Даже студенты университетов, принадлежащих к Лиге плюща , верят, что ты — это то, что ты ешь. Они полагают, что члены племени, которое охотится на черепах ради мяса и на диких свиней ради щетины, — хорошие пловцы, а члены племени, которое охотится на черепах ради панциря и на диких свиней ради мяса, — стойкие бойцы[35]. В своей истории биологии Эрнст Майр писал, что многие биологи первоначально отвергали теорию естественного отбора из-за своего убеждения, что биологический вид — это чистый тип, определяемый своей сущностью. Мысль, что виды — это популяции, состоящие из изменчивых особей, и что одни виды могут превратиться в другие в процессе эволюции, просто не умещалась в их головах[36].
В этом контексте страх перед генетически модифицированной едой уже не кажется таким странным: это просто обычное интуитивное представление, что у каждого живого организма есть своя сущность. Считается, что натуральная еда содержит чистую сущность растения или животного и несет с собой обновляющую силу природной среды, в которой они росли. Генетически модифицированная пища или пища, содержащая искусственные добавки, считается преднамеренно приправленной посторонними примесями, которые недостойны доверия уже из-за того, что произведены в лабораториях и на фабриках. И даже если противопоставить этому глубоко укоренившемуся способу мышления аргументы, опирающиеся на генетику, биохимию, эволюцию и анализ рисков, они, вероятно, не будут услышаны.
Эссенциалистские представления не единственная причина ошибок при оценке степени опасности. Специалисты, занимающиеся анализами рисков, к своему удивлению, обнаружили, что людские страхи часто совершенно не соответствуют объективным угрозам. Огромное количество людей избегает полетов на самолетах, хотя путешествовать на машине в 11 раз опаснее. Люди боятся нападения акулы, хотя шансы утонуть в собственной ванной в четыре раза выше. Они прибегают к дорогостоящим мерам, чтобы избавиться от хлороформа и трихлорэтилена в питьевой воде, хотя вероятность заработать рак, ежедневно съедая бутерброд с арахисовым маслом, выше в сотни раз (арахис может содержать крайне канцерогенный грибок)[37]. Некоторые из этих рисков оцениваются неправильно, потому что они активизируют врожденные страхи высоты, замкнутых пространств, хищников и отравлений[38]. Но даже когда людей знакомят с объективной информацией об опасности, они порой не принимают ее во внимание, потому что наш мозг оценивает вероятности по-своему.
Утверждения вроде «Шансы умереть от отравления ботулотоксином в заданном году равны 0,000001» практически непостижимы. Прежде всего, числа с большим количеством нулей в начале или в конце неподвластны нашему чувству количества. Психолог Пол Словик и его коллеги обнаружили, что людей невозможно переубедить лекциями об опасности, грозящей тем, кто не пользуется ремнем безопасности, если сказать, что на каждые 3,5 млн человеко-поездок приходится одно ДТП со смертельным исходом. Однако, если переформулировать высказывание и сообщить, что для непристегнутого пассажира вероятность погибнуть в аварии в течение жизни равна 1 %, это производит впечатление и люди обещают пристегиваться[39].
Данные статистики не воспринимаются еще и потому, что вероятность единичного события, такого как моя гибель в авиакатастрофе (в противоположность частоте событий, касающихся других, например общему проценту пассажиров, погибших в авиакатастрофах) — поистине неразрешимая загадка даже для математиков. Какой смысл мы можем извлечь из того, какие ставки предлагают эксперты-букмекеры на вероятность конкретных событий, например: архиепископ Кентерберийский подтвердит, что второе пришествие наступит в текущем году (1000 к 1), что мистер Брахам из Лутона, Англия, изобретет вечный двигатель (250 к 1) или что Элвис Пресли жив и здоров (1000 к 1)?[40] Элвис либо жив, либо нет, тогда что имеется в виду под словами: вероятность того, что он жив, равна 0,001? И что мы должны думать, когда специалисты по авиационной безопасности говорят, что в среднем одно приземление пассажирского самолета снижает ожидаемую продолжительность жизни пассажира на 15 минут? Когда самолет идет на посадку, моя ожидаемая продолжительность жизни или снизится сразу до нуля, или же не снизится вовсе. Некоторые математики говорят, что оценка вероятности единичного события больше похожа на внутреннее чувство уверенности, выраженное по шкале от 0 до 1, чем на значимое математическое количество[41].
Разуму проще оценивать вероятности с точки зрения относительной частоты припоминаемых или воображаемых событий[42]. Поэтому редкие, но запоминающиеся происшествия — крушение самолета, атака акулы, заражение сибирской язвой — могут принимать угрожающие размеры и пугать сильнее, чем привычные и неинтересные события, о которых пишут на последних страницах газет, вроде автокатастроф или падений с лестницы. В результате аналитики рисков говорят одно, а люди слышат совсем другое. В рамках обсуждения места для захоронения радиоактивных отходов эксперт может представить публике дерево отказов (диаграмму всех возможных последствий несрабатывания или аварии системы). Оно демонстрирует все возможные последовательности событий, из-за которых может произойти утечка радиации. Например, эрозии, трещины в скальном основании, случайное бурение или некачественная герметизация могут стать причиной утечки радиоактивных веществ в грунтовые воды. В свою очередь, движение грунтовых вод, вулканическая активность, или столкновение с крупным метеоритом могут стать причиной попадания радиоактивных отходов в биосферу. Каждой цепи событий приписывается вероятность, затем можно оценить общую, суммарную вероятность катастрофы. Тем не менее подобные аргументы людей не переубеждают, они начинают бояться еще больше — они и не представляли себе, сколько рисков, что одно или другое пойдет не так! Они мысленно подсчитывают количество ужасных сценариев, а не суммируют вероятности их осуществления[43].
Это не значит, что люди тупы или что «эксперты» должны навязывать им технологии, которые те не хотят. Даже полностью понимая риски, разумные люди могут отказываться от каких-то технологических достижений. Если что-то вызывает внутреннее отвращение, демократия должна позволять людям отвергать это, пусть это и нерационально по некоторым критериям, игнорирующим нашу психологию. Многие люди отказываются от овощей, выращенных на обеззараженных человеческих экскрементах, и избегают лифтов со стеклянным полом не потому, что считают их опасными, а просто сама мысль о таком для них нестерпима. Если они так же реагируют на генетически модифицированную еду или соседство с атомной электростанцией, у них должна быть возможность избежать этого — при условии, что они не попытаются навязать свои предпочтения другим или добиваться своего за их счет.
И даже если технократы представят понятные каждому оценки рисков (что само по себе сомнительное предприятие), они не имеют права диктовать людям, какой уровень риска те должны принимать. Люди могут протестовать против атомной электростанции, риск взрыва реактора которой минимален, не только потому, что переоценивают опасность, но потому, что чувствуют: цена катастрофы — пусть и маловероятной — пугающе высока. И конечно, никакие компромиссы неприемлемы, когда люди понимают, что все риски достанутся им, а все выгоды — богатым и властным.
Тем не менее понимание различий между современной наукой и нашим древним образом мыслей поможет сделать личные и коллективные решения более взвешенными. Ученые и журналисты смогут лучше объяснить новые технологии и развеять самые распространенные заблуждения. Это поможет всем нам в понимании достижений науки и техники: мы будем принимать их или отказываться от них по причинам, которые, по крайней мере, сможем объяснить себе и другим.
* * *
В книге «Исследование о природе и причинах богатства народов» Адам Смит писал, что есть «в человеческой природе некоторая склонность… к мене, торговле и обмену одного предмета на другой». Обмен товарами и услугами — это человеческая универсалия, которая, возможно, имеет очень давнюю историю. На стоянках древнего человека, жившего десятки тысяч лет назад, симпатичные ракушки и заостренные камни обнаруживаются в местах, отстоящих на сотни миль от места их происхождения, а это подразумевает, что они попали туда по торговым путям[44].
Антрополог Алан Фиск изучил литературу по этнографии и обнаружил, что практически все взаимодействия между людьми укладываются в четыре типа, каждый со своей особой психологией[45]. Первый — общинное распределение: группа людей, например члены одной семьи, пользуется вещами совместно, не отслеживая, кому что принадлежит. Второй — распределение на основе авторитета: доминирующие личности конфискуют у низкоранговых членов сообщества все, что захотят. А два других типа взаимодействия характеризуются обменом.
Наиболее распространенная форма обмена, как назвал ее Фиск, — соблюдение паритета. Два человека в разное время обмениваются идентичными, или по крайней мере очень похожими, или легко сравнимыми товарами и услугами. Обменивающиеся стороны оценивают свои обязательства, используя простые операции сложения и вычитания, и когда выгоды одинаковы, они удовлетворены. Партнеры чувствуют, что обмен вовлекает их в отношения, и часто люди совершают сделки только ради самих этих отношений. Например, на островах Тихого океана подарки циркулируют от вождя к вождю, и первый даритель может неожиданно получить свой подарок обратно. (Многие американцы подозревают, что то же самое происходит с их рождественскими подарками.) Когда кто-то нарушает баланс в отношениях, получая выгоды, но не возвращая их обратно, вторая сторона чувствует себя обманутой и может жестоко отомстить. Паритетный обмен — единственный механизм торговли в большинстве сообществ охотников-собирателей. Фиск отмечает, что в его основе лежит менталитет взаимности «баш на баш», а Леда Космидес и Джон Туби показали, что этот способ мышления вполне характерен и для американцев[46]. Похоже, это основа нашей интуитивной экономики.
Фиск противопоставляет соблюдение паритета совершенно иной системе, называемой рыночной оценкой, системе рентных платежей, цен, оплаты труда и процентных ставок, лежащей в основе современной экономики. Рыночная оценка основывается на математике умножения, деления, дробей и больших чисел, а также на социальных институтах денег, кредита, письменных договоров и сложного разделения труда. Рыночной оценки нет у охотников-собирателей, и мы знаем, что она не играла никакой роли в нашей эволюционной истории — она основывается на технологиях вроде письма, денег и формальной математики, которые появились относительно недавно. Даже сегодня обмены на основе рыночной оценки могут подразумевать причинно-следственные цепочки, которые невозможно постичь. Сегодня я нажимаю клавиши компьютера, набирая текст этой книги, и рассчитываю, что она обеспечит меня пропитанием на долгие годы — но не потому, что я собираюсь обменивать экземпляры «Чистого листа» на бананы, а в силу сложной сети третьих, четвертых, пятых сторон (издателей, книготорговцев, водителей грузовиков и торговых агентов), от которых я завишу, даже не понимая до конца, чем они занимаются.
Если люди по-разному представляют себе, в какой из этих четырех типов взаимодействия они вступают, результат может варьировать от полного непонимания до крайнего дискомфорта и явного конфликта. Представьте себе гостя, который предлагает хозяину дома заплатить за съеденный им обед, или человека, который обращается к другу в приказном тоне, или подчиненного, позволяющего себе угоститься креветками с тарелки работодателя. Взаимонепонимание, когда один человек рассматривает транзакцию с точки зрения паритета, а другой — с точки зрения рыночной оценки, еще глубже и может быть даже более опасным. Их подходы опираются на абсолютно разные психологии, одна — интуитивная и универсальная, другая — искусственная и выученная, и столкновения между ними — обычное дело в экономической истории.
Экономисты ссылаются на так называемую «физическую ошибку» (physical fallacy): представление, что объект имеет справедливую и постоянную стоимость, хотя на самом деле она определяется тем, сколько покупатель готов заплатить здесь и сейчас[47]. Это просто разница между менталитетом соблюдения паритета и менталитетом рыночной оценки. Такое заблуждение, скорее всего, не может возникнуть при обмене трех цыплят на один нож, но, когда в качестве посредников при обмене выступают деньги, кредиты и третьи стороны, оно может иметь неприятные последствия. Уверенность, что товар имеет «справедливую цену», подразумевает, что просить за него больше несправедливо, и это приводит к жесткому регулированию ценообразования. Так было в Средние века, при коммунистических режимах и во многих странах третьего мира. Подобные попытки обойти закон спроса и предложения обычно приводят к убыткам, дефициту и черному рынку. Еще одно следствие «физической ошибки» — широко распространенная практика запрета процентов, порожденная внутренним ощущением, что требовать дополнительных денег от того, кто уже вернул ровно столько, сколько взял, — это грабеж. Конечно, единственная причина, по которой люди занимают деньги сейчас, а возвращают позже, состоит в том, что сейчас деньги нужны им сильнее, а значит, стоят больше, чем в момент возврата. Так что, когда государство запрещает давать деньги в рост, те люди, которые способны продуктивно их использовать, не могут их получить и уровень жизни снижается для всех[48].
Так же как стоимость чего-либо может меняться со временем, открывая возможности для заимодавцев, перемещающих ценные вещи во времени, она может меняться и в пространстве, создавая нишу для посредников, перемещающих ценные вещи из одного места в другое. Я предпочитаю покупать бананы в магазинчике рядом с домом, а не на складе, расположенном на расстоянии в 100 миль, и я готов заплатить зеленщику большую сумму, чем импортеру, даже если, «избавившись от посредника», я мог бы покупать бананы дешевле. По той же причине импортер продает бананы зеленщику по более низкой цене, чем потребовал бы с меня.
Но так как заимодавцы и посредники не производят никаких материальных объектов, их вклад сложно осознать, и поэтому их часто считают жуликами и паразитами. На протяжении всей истории посредники, часто этнические меньшинства, выбравшие посредничество своей специализацией, постоянно подвергались изоляции и конфискациям, становились жертвами погромов и изгнаний[49]. Самый известный пример — евреи в Европе, но и китайские экспатриаты, и ливанцы, и армяне, и гуджаратцы и четьяры в Индии подвергались подобным гонениям.
Один экономист в необычной ситуации показал, что такое экономическое заблуждение не зависит от каких-то особых исторических обстоятельств, а легко выводится из человеческой психологии. Он наблюдал этот синдром, когда находился в лагере для военнопленных во время Второй мировой войны. Каждый месяц все пленники получали одинаковые посылки от Красного Креста. Некоторые из заключенных курсировали по лагерю, обменивая шоколад, сигареты и другие товары среди тех пленных, кому одно было нужнее, чем другое, или продавая тем, кто использовал свою норму раньше времени. Посредники получали небольшую выгоду от каждой транзакции, и в результате к ним относились с глубоким отвращением — всеобщая трагедия посреднических меньшинств. Экономист писал: «Их деятельность, их неблагодарная работа по координации продавца и покупателя игнорировалась; доход воспринимался не как плата за труд, а как результат мошенничества. Несмотря на факт, что само его существование есть доказательство обратного, посредника считали лишним»[50].
Очевидный способ преодолеть трагические недостатки человеческой интуиции в мире высоких технологий — образование. И это определяет приоритеты образовательной политики: обеспечить учащихся познавательными инструментами, наиболее важными для понимания современного мира и в корне отличными от тех, с которыми они были рождены. Опасные заблуждения, с которыми мы познакомились в этой главе, показывают, как важно преподавать экономику, эволюционную биологию, теорию вероятности и статистику в каждом колледже и институте. К несчастью, большинство курсов практически не изменилось со времен Средневековья, и вряд ли изменится, поскольку никто не хочет стать врагом рода человеческого, который скажет, что учить иностранные языки, или английскую литературу, или тригонометрию, или античную классику не так уж и важно. Но как бы ни был важен учебный предмет, в сутках всего 24 часа, и решение преподавать одну дисциплину идет в ущерб другой. Вопрос не в том, важна ли тригонометрия, а в том, важнее ли она статистики; не в том, должен ли образованный человек знать античную литературу, а в том, что́ образованный человек должен знать в первую очередь — античную литературу или элементарную экономику. В мире, сложность которого постоянно бросает вызов нашим интуитивным представлениям, избегать решения этих вопросов безответственно.
* * *
«Наша природа — безграничный космос, через который движется разум, никогда не иссякая», — писал поэт Уоллес Стивенс в 1951 году[51]. Разум безграничен благодаря возможностям комбинаторной системы. Так же как из нескольких нот можно составить любую мелодию, а из нескольких букв — любой письменный текст, несколько идей — личность, место, предмет, причина, изменение, движение, и, или, нет — можно соединить в безграничный космос мыслей[52]. Способность постичь бесконечное количество новых комбинаций понятий — источник мощи человеческого интеллекта и ключ к нашему успеху как вида. Десятки тысяч лет назад наши предки усвоили новые последовательности действий: как преследовать добычу, как приготовить яд, как лечить недомогания, как сделать сотрудничество безопасным. Сегодня наш разум может представить химическое вещество как комбинацию атомов, план жизни — как комбинацию нуклеотидов ДНК, а отношение между количествами — как комбинацию математических символов. Язык, сам по себе комбинаторная система, позволяет нам делиться этими плодами разума друг с другом.
Комбинаторная мощь человеческого разума может помочь объяснить парадокс, связанный с тем, какое место занимает наш вид на планете. Два столетия назад экономист Томас Мальтус (1766–1834) привлек внимание к двум непреходящим чертам человеческой природы. Одна — что «для существования человека необходима пища». Другая — что «страсть между полами необходима и будет сохраняться в нынешнем виде без изменений». Из этих посылок он вывел свое известное заключение:
Рост населения бесконечно больше, чем возможность земли производить средства существования для человека. Если численность населения не контролировать, она растет в геометрической прогрессии. Средства существования увеличиваются только в арифметической прогрессии. Даже поверхностное знание математики покажет превосходство первой силы над второй.
Мальтус приходит к безрадостному заключению, что растущее народонаселение будет голодать, а попытки помочь ему приведут только к еще большей нищете, потому что бедные будут рождать детей, в свою очередь обреченных на голод. Современные пессимисты частенько повторяли его аргументы. В 1967 году Уильям и Пол Пэддоки написали книгу «Голод 1975!» (Famine 1975!), а в 1970 году биолог Пол Эрлих, автор книги «Демографическая бомба» (The Population Bomb), предсказал, что 65 млн американцев и 4 млрд жителей других стран умрут от голода в 1980-х. В 1972 году группа крупных интеллектуалов, известных как Римский клуб, предсказала, что либо природные ресурсы пострадают от катастрофического истощения в ближайшие десятилетия, либо мир захлебнется в собственных отходах.
Мальтузианские предсказания 1970-х не подтвердились. Эрлих был не прав и насчет 4 млрд жертв, и насчет истощения ресурсов. В 1980 году он поспорил с экономистом Джулианом Саймоном, что к концу десятилетия запасы пяти стратегически важных металлов будут постоянно уменьшаться и, соответственно, вырастут в цене. Он проиграл пять пари из пяти. Голода и дефицитов не случилось, несмотря на рост населения Земли (сейчас 6 млрд, и рост продолжается) и увеличение количества энергии и ресурсов, потребляемых каждым человеком[53]. Страшный голод и теперь возможен, но не по причине растущего разрыва между количеством ртов и количеством пищи. Экономист Амартиа Сен показала, что причина голода — это почти всегда какие-то временные обстоятельства или политические и военные перевороты, которые препятствуют доставке продуктов тем, кто в ней нуждается[54].
Состояние планеты жизненно важно для нас, и, чтобы направить усилия в нужную сторону, мы должны предельно ясно понимать, где кроется корень наших проблем. Раз за разом несостоятельность мальтузианской теории показывает, что это не лучший способ анализа экологических проблем. При этом логика кажется безупречной. Где же ошибка в рассуждениях?
Основная беда мальтузианских пророчеств в том, что они недооценивают роль технического прогресса в наращивании ресурсов, поддерживающих комфортную жизнь[55]. В XX веке пищевые ресурсы росли экспоненциально, а не линейно. Фермеры выращивали больший урожай на одном и том же участке земли. Большее количество урожая стало перерабатываться в продукты питания. Грузовики, корабли, самолеты доставляли пищу большему количеству людей прежде, чем она портилась или уничтожалась вредителями. Запасы нефти и полезных ископаемых не снизились, а выросли, так как инженерам удалось найти новые месторождения и придумать новые способы добычи.
Но многие не спешат признать, казалось бы, чудодейственную роль технологий. Поборник технологий слишком напоминает усердного зазывалу на какой-нибудь вульгарной футуристической выставке на международной ярмарке. Возможно, технологии и дали нам временную отсрочку, но их волшебное могущество ограничено. Они не могут отменить законы математики, которые противопоставляют экспоненциальный рост популяции конечным или, в лучшем случае, растущим арифметически ресурсам. Чтобы поверить в то, что круг можно сделать квадратным, нужен оптимизм.
Однако недавно экономист Пол Ромер обратился к комбинаторной природе когнитивной обработки информации, чтобы показать, как можно сделать круг квадратным[56]. Он начал с замечания, что физическое существование человека ограничено идеями, а не вещами. Люди не нуждаются в угле, медных проводах или в бумаге как таковых; им нужны способы обогрева дома, коммуникации с другими людьми и хранения информации. Эти потребности не обязательно должны быть удовлетворены повышением доступности материальных ресурсов. Их можно удовлетворить, используя новые идеи — рецепты, схемы или методы, — чтобы перераспределить существующие ресурсы и произвести больше нужных нам вещей. Например, нефть, которую долго считали просто веществом, загрязняющим колодцы, стали использовать как источник топлива, заменив сокращающиеся запасы китового жира. Из песка раньше делали стекло, теперь из него делают микрочипы и оптоволокно.
Второй момент, на который обратил внимание Ромер, — то, что идеи, как говорят экономисты, «неконкурентные блага». Конкурентные блага, такие как пища, топливо, инструменты, делаются из материалов и энергии. Если их использует один человек, другие сделать этого уже не могут, что отражено в поговорке «Невозможно и съесть пирог, и сохранить его». А идеи делаются из информации, которую можно размножить практически бесплатно. Рецепт хлеба, чертежи здания, метод выращивания риса, формулу лекарства, полезный научный закон или компьютерную программу можно отдать другим, ничего не потеряв самому. Казалось бы, волшебное распространение неконкурентных благ недавно поставило перед нами новые проблемы, касающиеся интеллектуальной собственности. Мы пытаемся приспособить правовую систему, основанную на владении вещами, к проблеме владения информацией — такой, как музыкальные записи, которые могут легко распространяться через интернет.
Сила неконкурентных товаров, возможно, обнаруживала себя на всем протяжении эволюционной истории человека. Антропологи Джон Туби и Ирвен Девор считают, что миллионы лет назад наши предки заняли «когнитивную нишу» в мировой экосистеме. Развив способность к умственным вычислениям, которые могут моделировать причинно-следственную структуру окружающего мира, гоминиды научились разыгрывать в уме различные сценарии развития событий и придумывать новые способы использования камней, растений и животных. Вероятно, практический интеллект человека эволюционировал вместе с языком (позволяющим делиться знаниями) и социальным интеллектом (позволяющим людям взаимодействовать так, чтобы не быть обманутыми), создав вид, который буквально живет силой идей.
Ромер указывает, что комбинаторный процесс создания новых идей может обойти мальтузианскую логику:
Каждое поколение достигает пределов роста, которые конечные ресурсы и нежелательные побочные эффекты развития поставили бы перед ними, если бы не были открыты новые идеи и рецепты. И каждое поколение недооценивает свою способность отыскать новые рецепты и идеи. Мы постоянно ошибаемся в оценке того, сколько еще идей осталось открыть. Загвоздка здесь та же, что и в комбинировании элементов. Возможности не складываются. Они умножаются[57].
Например, из сотни химических элементов, если соединять их по четыре в десяти различных пропорциях, можно получить 330 млрд вариантов смесей. Если бы ученые создавали их по тысяче в день, потребовался бы миллион лет, чтобы проработать все возможности. Количество способов соединить команды в компьютерную программу или собрать механизм из деталей также поразительно. По крайней мере, в принципе, экспоненциальная сила человеческого разума развивается в соответствии со шкалой роста человеческой популяции, и здесь лежит разгадка парадокса мальтузианской катастрофы, которая так и не произошла. Это, конечно, не дает нам права безалаберно использовать природные ресурсы. То обстоятельство, что пространство возможных идей поразительно велико, еще не значит, что решение конкретных проблем лежит именно там или что мы обязательно найдем его к моменту, когда оно нам понадобится. Это значит лишь, что осмысление человеческих отношений с материальным миром должно учитывать не только наши тела и ресурсы, но и наш разум.
* * *
Банальная истина, что все хорошие вещи имеют свою цену, полностью применима и к комбинаторной силе человеческого разума. Если разум — биологический орган, а не окно в реальность, должны существовать истины, которые буквально непостижимы для нас, и пределы того, насколько мы вообще способны осмыслить открытия науки.
Вероятность, что мы когда-нибудь до дна исчерпаем наши когнитивные возможности, наглядно демонстрирует современная физика. У нас есть все причины верить, что современные физические теории верны, но они рисуют нам картину реальности, которая недоступна для нашего интуитивного восприятия пространства, времени и материи, сформировавшегося еще в мозге некрупных приматов. От странных идей физики — например, что время появилось в момент Большого взрыва, что Вселенная искривляется в четырех измерениях и, возможно, конечна, что частица может вести себя как волна, — голова идет кругом, стоит только задуматься обо всем этом. Невозможно не задавать себе совершенно бестолковые вопросы: «Что было до Большого взрыва?», или «Что лежит за краем Вселенной?», или «Как эта чертова частица умудряется проскочить в две щели одновременно?» Даже физики, открывшие природу реальности, клянутся, что не понимают собственных теорий. Как описывал квантовую механику Мюррей Гелл-Манн, это «загадочная, сбивающая с толку научная дисциплина, которую никто из нас в действительности не понимает, но которую мы можем использовать»[58]. Ричард Фейнман писал: «Думаю, я могу смело сказать, что никто не понимает квантовую механику… Не спрашивайте себя: "Но как так может быть?"… Никто не знает, как так может быть»[59]. В другом интервью он добавил: «Если вы думаете, что понимаете квантовую теорию, значит, вы не понимаете квантовой теории!»[60]
Наши интуитивные представления о жизни и разуме, как и представления о материи и пространстве, могут вступить в противоречие со странным миром, открытым современной наукой. Мы видели, что концепция жизни как магического духа, соединенного с нашим телом, не согласуется с нашим пониманием разума как активности постепенно развивающегося мозга. Интуитивные представления о разуме тоже оказываются неподходящими для погони за удаляющейся границей знаний в когнитивной нейронауке. У нас есть все основания считать, что сознание и мышление порождаются электрохимической активностью нейронных связей в мозге. Но как движущиеся молекулы могут дать начало субъективным ощущениям (в противоположность просто разумному расчету) и как эти ощущения диктуют нам выборы, которые мы делаем свободно (в противоположность поведению, обусловленному какой-то причиной), остается непостижимой загадкой для нашей психики, рожденной в плейстоцене.
Это загадки холистического свойства. Сознание и свобода воли, похоже, присутствуют в нейробиологических феноменах на каждом уровне и не могут быть отнесены к той или иной комбинации частей или их взаимодействию. Самый тщательный анализ, на который способен наш комбинаторный интеллект, не дает никаких зацепок, за которые можно было бы ухватиться, чтобы объяснить эти странные сущности, и мыслителям, как кажется, не остается ничего другого, как либо отрицать их существование, либо скатываться в мистицизм. К добру или к худу, наш мир, вероятно, навсегда сохранит покров тайны и наши потомки будут бесконечно размышлять над древними головоломками религии и философии, которые в конечном счете опираются на концепции материи и разума[61]. В «Словаре Сатаны» (The Devil's Dictionary) Амброза Бирса есть такая статья:
Разум (сущ.) — загадочная форма вещества, выделяемого мозгом. Его основная деятельность состоит в попытках дознаться до своей собственной природы, а тщетность этих попыток обусловлена фактом, что он не имеет других средств познания себя, кроме самого себя.
Глава 14. Корни наших страданий
Первое издание «Эгоистичного гена» Ричарда Докинза открывалось предисловием биолога Роберта Триверса, положившего начало некоторым ключевым идеям этой книги. Завершается оно эффектным высказыванием:
Социальная теория Дарвина дала нам некоторое представление о базовой симметрии и логике социальных отношений, которая, будучи полностью нами усвоена, должна оживить наши политические представления и обеспечить интеллектуальную поддержку науки и психологии. В дальнейшем она также должна дать нам более глубокое понимание многих корней наших страданий[1].
Это было смелое заявление для книги по биологии, но Триверс знал, о чем говорил. Социальная психология, наука о том, как люди ведут себя по отношению друг к другу, часто выглядит как странная смесь интересных феноменов, которые принято «объяснять», давая им причудливые названия. В ней не хватает присущей другим наукам богатой дедуктивной структуры, когда несколько основополагающих принципов могут стать почвой для множества проницательных предсказаний, — не хватает свойства, делающего теорию, как это называют ученые, «красивой» или «элегантной». Триверс создал первую в социальной психологии теорию, которая заслуживает названия «элегантной». Он показал, что обманчиво простой принцип — следуй за генами — может объяснить логику каждого из главных видов человеческих отношений: как мы относимся к своим родителям, детям, братьям и сестрам, супругам, друзьям и к самим себе[2]. Но Триверс знал, что эта теория дает нам кое-что еще. Она предлагает научное объяснение трагедии человеческого существования.
«Природа — карающий судия», гласит старая поговорка. Множество наших несчастий — следствие нашего физического и интеллектуального устройства. Человеческий организм — невероятная физическая система, у которой гораздо меньше шансов оставаться исправной, чем наоборот. Мы все совершенно точно умрем и достаточно умны, чтобы это понимать. Наш разум приспособлен к миру, которого больше не существует, склонен к заблуждениям, которые может скорректировать только упорное просвещение, и обречен на беспомощность при рассмотрении самых важных для нас вопросов.
Но некоторые из наиболее болезненных наших потрясений связаны с миром социума — с манипуляциями и предательством со стороны других людей. В одной басне скорпион просит лягушку перевезти его через реку, обещая, что он ее не ужалит, ведь если он это сделает, он тоже утонет. Но на полпути скорпион все-таки жалит ее, и, когда тонущая лягушка спрашивает зачем, скорпион отвечает: «Такова уж моя натура». Строго говоря, скорпион с такой натурой не смог бы эволюционировать, но Триверс объясняет, почему иногда кажется, будто человеческая природа, обрекающая нас на очевидно бессмысленные конфликты, подобна природе скорпиона из басни.
Хорошо известно, почему организмы иногда вредят друг другу. У эволюции нет сознания, и если одно создание к своей выгоде причиняет боль другому, например съедает, парализует, пугает или наставляет рога, его потомки будут численно доминировать вместе с этими неприятными привычками. Все это нам хорошо знакомо по расхожему представлению, что «дарвиновский» — синоним «безжалостного» и по высказыванию Теннисона: «У природы окровавленные зубы и когти». Если бы в эволюции природы человека не было ничего большего, нам пришлось бы согласиться со словами одной рок-песни: «Жизнь — дерьмо, а потом ты умираешь».
Но конечно, жизнь не всегда настолько плоха. Многие создания природы сотрудничают, заботятся о потомстве, сохраняют мир, а люди, в частности, находят покой и радость в семье, друзьях и обществе. Это должно быть знакомо читателям «Эгоистичного гена» и более поздних книг об эволюции альтруизма[3]. Есть несколько причин, почему организмы могут развивать стремление делать добро. Они помогают другим, одновременно преследуя собственные интересы, скажем, когда собираются в стадо, чтобы сбить с толку хищника, или когда питаются отходами жизнедеятельности друг друга. Это называется мутуализмом, симбиозом или кооперацией. И у людей друзья, имеющие общие вкусы, хобби или врагов, представляют собой нечто похожее на симбиотическую пару. Отец и мать семейства — даже лучший пример. Их гены соединены в общем наборе — в их детях, и то, что хорошо для одного, будет хорошо и для другого, и каждый заинтересован в том, чтобы другой был жив и здоров. Эти общие интересы — фундамент для развития партнерской и супружеской любви.
А в некоторых случаях организмы могут приносить пользу другим за свой счет — биологи называют это альтруизмом. В этом смысле развитие альтруизма может идти двумя основными путями. Во-первых, поскольку у родственников общие гены, каждый ген, который стимулирует организм помогать родне, увеличивает шансы на выживание своей собственной копии внутри родственника, даже если тот, кто помогает, жертвует в этом акте щедрости своим благополучием. В среднем такие гены со временем станут доминирующими, при условии что затраты помощника будут меньше, чем польза для реципиента, уменьшенная на степень родства. Семейная любовь — забота о детях, братьях и сестрах, родителях, бабушках и дедушках, тетях и дядях, племянниках и племянницах, кузенах и кузинах — может эволюционировать. Это называется непотическим альтруизмом.
Альтруизм также может эволюционировать, когда организмы обмениваются услугами. Один помогает другому в груминге, кормежке, защите или прикрывает его от опасности, и когда он сам нуждается в помощи, то получает ее в ответ. Это называется взаимным альтруизмом, и он появляется, когда стороны узнают друг друга, постоянно взаимодействуют, могут оказать значительную помощь другому, не теряя многого сами, запоминают оказанные услуги или же просьбы, в которых было отказано, и склонны отвечать соответствующим образом. Взаимный альтруизм эволюционирует, потому что животные, которые сотрудничают, добиваются больших успехов, чем отшельники и мизантропы. Они получают выгоду от обмена излишками, взаимного груминга, спасая друг друга от утопления или голода, по очереди присматривая за детенышами. Кроме того, те, кто честно обменивается услугами, в долгосрочной перспективе достигают большего, чем мошенники, которые пользуются помощью, но не помогают в ответ, потому что взаимные альтруисты научаются распознавать обманщиков и наказывают или избегают их.
Требования взаимного альтруизма могут объяснить, как эволюционировали социальные и нравственные эмоции. Сочувствие и доверие подталкивают человека сделать что-то хорошее для другого первым. Благодарность и верность заставляют его отплатить услугой за услугу. Вина и стыд удерживают от причинения вреда или неблагодарности. Гнев и презрение заставляют избегать или наказывать обманщиков. Причем, чтобы узнать, склонен человек к взаимным отношениям или к жульничеству, нам не обязательно наблюдать его поведение лично, эта информация может передаваться с помощью языка. Поэтому нам так интересна репутация других людей, о которой мы узнаем из сплетен, из общественного одобрения или порицания, поэтому так беспокоимся о собственной репутации. Эти эмоции и интересы служат цементом, скрепляющим партнерство, дружбу, союзы и сообщества.
В этом месте многие начинают нервничать, но причина дискомфорта не в трагедиях, описанных Триверсом, а скорее в двух ложных представлениях, с каждым из которых мы уже встречались. Первое — все эти разговоры о генах, влияющих на поведение, не означают, что мы — часы с кукушкой или механическое пианино, бездумно подчиняющееся диктату ДНК. Гены, о которых идет речь, наделяют нас нервной системой, обеспечивающей сознание, мышление и волю, и, когда мы говорим об отборе генов, мы говорим о путях, какими эти способности могли эволюционировать. Ошибка исходит из теорий «чистого листа» и «духа в машине»: если кто-то думает, что высшие умственные способности штампуются обществом или присущи душе, то, когда биологи упоминают влияние генов, первое, что приходит на ум, — ниточки марионетки или троллейбусные провода. Но если высшие дары — способность учиться, рассуждать, делать выбор — результат неслучайной организации мозга, то должны существовать гены, которые помогают его организовать, и тогда возникает вопрос, как эти гены были отобраны в процессе эволюции человека.
Вторая ошибка — воображать, будто разговор об издержках и выгодах подразумевает, что люди — циники вроде Макиавелли, хладнокровно рассчитывающие генетические преимущества дружбы и брака. Беспокоиться по этому поводу или выступать против этих ужасов — значит путать проксимальную причину с ультимальной. Люди не думают о своих генах; они беспокоятся о счастье, любви, власти, уважении и тому подобных вещах. Расчет затрат и выгод — это метафорический способ описания отбора альтернативных генов на протяжении тысячелетий, а не буквальное описание процессов, происходящих в мозге человека в реальном времени. Ничто не мешает аморальному процессу естественного отбора создать мозг, способный на истинно добрые чувства. Как говорится, любителям колбасы и тем, кто уважает закон, лучше не смотреть, как их делают. То же самое верно для человеческих эмоций.
Итак, если любовь и сознание могут эволюционировать, в чем же трагедия? Триверс заметил, что генетические интересы, стимулировавшие развитие социальных эмоций, совпадают у людей только частично. Мы не клоны и даже не социальные насекомые (у которых до трех четвертей генов общие), и то, что безусловно хорошо для одного, не обязательно так же хорошо для другого. Поэтому любые отношения между людьми, даже самые близкие и глубокие, содержат зерна конфликта. В мультфильме «Муравей Антц» муравей голосом Вуди Аллена жалуется своему психоаналитику:
Я просто никак не могу понять этот энтузиазм насчет суперорганизма. Я пытаюсь, но просто не понимаю. Что это значит: я должен делать все для колонии и… а где же мои желания?
Это смешно из-за сравнения психологии муравья, которая берет начало в генетической системе, делающей муравьев-работников ближе друг к другу, чем к собственным потомкам, и психологии человека, которого наше генетическое своеобразие заставляет спрашивать: «А где же мои желания?» Триверс, следуя по стопам Уильяма Гамильтона и Джорджа Уильямса, произвел некоторые вычисления, предсказывающие степень, до которой людям стоит задаваться этим вопросом[4].
Остальная часть этой главы посвящена такой обманчиво простой математике и тому, как ее выводы опрокидывают многие концепции человеческой природы. Она подрывает авторитет теории «чистого листа», предполагающей, что отношение людей к своим близким определено их «ролью», как будто это партия, произвольно назначенная актеру. Но заодно она дискредитирует и некоторые наивные представления об эволюции, широко распространенные среди людей, которые не верят в «чистый лист». У многих есть интуитивные представления о естественном положении вещей. Люди думают, что, если бы мы вели себя так, как того «хочет» от нас природа, семья функционировала бы как гармоничное целое, индивидуумы действовали бы во благо всего вида, люди демонстрировали бы настоящих себя, избавившись от социальных масок, или, как сказал Ньют Гингрич в 1995 году, мужчины нашего вида охотились бы на жирафов и валялись в канавах, как поросята[5]. Понимание особенностей сочетания генов, которые связывают и разделяют нас, может заменить упрощенческие подходы более тонким пониманием сути человеческого существования. На самом деле оно способно прояснить удел человеческий, дополняя озарения художников и философов, на протяжении тысячелетий размышлявших о нем.
* * *
Наиболее очевидная трагедия человека исходит от разницы между нашими чувствами к родным и нашими чувствами к тем, кто не связан с нами узами крови, одного из глубочайших в живом мире разделения. Когда дело касается любви и солидарности людей, то, что кровь людская не водица, заметно везде — и в кланах и династиях традиционных обществ, и в аэропортах, которые во время праздников переполнены людьми, готовыми объехать вокруг света, только чтобы встретиться с родными[6]. Многочисленные исследования это подтверждают. В традиционных обществах охотников-собирателей генетические родственники часто живут вместе, помогают друг другу в огороде, защищают, усыновляют бедствующих или осиротевших детей, реже враждуют, нападают, убивают друг друга[7]. Даже в современных обществах, в которых родственные связи ослабляются, чем ближе генетическое родство двоих людей, тем чаще они приходят на помощь друг другу, особенно в угрожающих жизни ситуациях[8].
Но любовь и сплоченность — близкие понятия. Утверждение, что люди больше заботятся о своих родственниках, подразумевает, что они менее чутки ко всем остальным. В качестве эпиграфа к своей книге по эволюционной психологии Роберт Райт взял отрывок из романа Грэма Грина «Сила и слава», в котором главный герой волнуется о своей дочери: «Он сказал: "О, Господи, помоги ей. Черт со мной, я это заслужил, но она пусть живет вечно". Вот любовь, какую он должен был питать к каждой живой душе, но все его страхи и все желание спасения сосредоточились не по справедливости на этом одном ребенке. Он начал плакать… Он подумал: "Вот что я должен бы чувствовать все время к каждому человеку"» .
Семейная любовь действительно идет вразрез с идеальным представлением о том, что мы должны чувствовать к каждой живой душе в мире. Философы-моралисты рассматривали гипотетическую дилемму, в которой людям надо было выбрать: выбежать через левую дверь горящего здания, чтобы спасти нескольких детей, или через правую дверь — и спасти собственного ребенка[9]. Если у вас есть дети, подумайте: существует ли вообще какое-то количество чужих детей, ради которого вы выбрали бы левую дверь? На самом деле о наших предпочтениях яснее всего говорят наши кошельки: мы тратим деньги на необязательные вещи для собственных детей (велосипед, ортодонт, учеба в частной школе или университете), вместо того чтобы спасти жизнь посторонним детям в развивающемся мире, пожертвовав деньги на благотворительность. Точно так же обычай завещать состояние своим детям — одно из основных препятствий к созданию общества, основанного на принципах экономического равенства. Не многие готовы позволить государству забрать 100 % их собственности — люди считают детей своим продолжением, и потому подходящими наследниками всего, что они скопили за свою жизнь.
Непотизм — универсальная человеческая склонность и бич всех больших корпораций. В нем печальная причина отставания стран, управляемых наследственными династиями, и неэффективности правительств и деловых предприятий третьего мира. В истории часто пытались справиться с непотизмом, назначая на должности в органах местной власти людей, не имеющих родственных связей, — евнухов, монахов, рабов или тех, чей дом далеко[10]. Более свежее решение — запрет или контроль непотизма, хотя и здесь не обойтись без компромиссов и исключений. Мелкий бизнес — или, как его часто называют, «семейный бизнес» или «мамин-папин бизнес» — весьма подвержен непотизму и, таким образом, может конфликтовать с принципами равных возможностей и вызывать неодобрение общества.
Беррес Фредерик Скиннер, тот еще маоист, в 1970-х писал, что нужно поощрять людей обедать в больших коммунальных столовых, а не дома с родными, потому что на нагрев одной большой кастрюли тратится меньше энергии, чем на нагрев нескольких маленьких, и это более энергоэффективно. Логика безупречна, но этот образ мыслей не единожды вступал в конфликт с человеческой природой в XX веке — с ужасными последствиями при насильственной коллективизации в Советском Союзе и Китае и довольно мирно в израильских кибуцах, которые быстро отказались от идеи растить детей отдельно от родителей. Героиня романа израильской писательницы Батьи Гур описывает, какое чувство привело к таким изменениям: «Я хочу сама укладывать своих детей спать… и если им приснится кошмар, я хочу, чтобы они приходили в мою кровать, а не плакали в переговорное устройство, и не хочу, чтобы они крались ночью в темноте, отыскивая нашу комнату, спотыкаясь о камни, пугаясь каждой тени, чтобы в конце концов оказаться перед запертой дверью, или чтобы их силком волокли обратно в дом для детей»[11].
Родственная солидарность опрокидывала не только коллективистские мечты нового времени. Журналист Фердинанд Маунт приводит документальные подтверждения того, что семья во все времена вступала в конфликт с другими социальными институтами. Семейные узы мешают отношениям, связывающим «товарищей» или братию, и поэтому они всегда были помехой правительствам, культам, бандам, революционным движениям и официальным религиям. Но даже Ноам Хомский, ученый, поддерживающий идею человеческой природы, не признает, что чувства людей к своим детям отличны от тех, что они испытывают к приятелям или незнакомцам. Вот отрывок из его беседы с соло-гитаристом рэп-метал-группы Rage Against the Machine:
Rage: Еще одна неоспоримая идея — что люди по природе своей склонны соперничать и поэтому капитализм — единственный правильный способ организации общества. Вы согласны?
Хомский: Оглянитесь вокруг. В семье, например, если родители голодны, разве они отбирают еду у своих детей? А ведь отбирали бы, если были бы склонны к соперничеству. В большинстве социальных групп мало-мальски здравомыслящие люди поддерживают друг друга, сочувствуют, помогают и заботятся о других и т. д. Это нормальные человеческие эмоции. Чтобы вытравить подобные чувства из человеческих голов, требуется довольно много усилий, и все равно они проявляются повсюду[12].
Такой ответ не бессмыслица, только если люди относятся к прочим членам общества так же, как к собственным детям, но ведь они могут всем сердцем беспокоиться о своем потомстве, а к миллионам других людей, из которых состоит общество, относиться иначе. Сама постановка вопроса и ответа предполагает, что люди, если уж конкурируют или сочувствуют, то всем без исключения, а не испытывают разные эмоции по отношению к людям, с которыми у них разные генетические связи.
Хомский предполагает, что люди рождаются с братскими чувствами к своей социальной группе и что воспитанием эти чувства можно вытеснить из их голов. Но, похоже, дело обстоит совершенно иначе. Всегда и везде, когда лидеры пытались сплотить социальную группу, они побуждали ее членов думать о группе как о семье и перенаправлять свои семейные чувства на группу[13]. Имена, которыми называют себя группы, добивающиеся сплоченности, и метафоры, заключенные в них, — братия, братство, братские народы, сестринская община, клан, семья народов — подтверждают, что именно родство — та парадигма, на которую они претендуют. (Ни одно общество не пытается укрепить семью, сравнивая ее с торговым союзом, политической партией или церковным приходом.) И похоже, эта тактика эффективна. В нескольких экспериментах было показано, что политические речи больше убеждают людей, если оратор обращается к их сердцам и умам, используя метафоры родства[14].
Речевые метафоры — неплохой способ подтолкнуть людей относиться к знакомым как к членам семьи, но обычно требуются более мощные приемы. В своем этнографическом обзоре Алан Фискпоказал, что культура общинного распределения (один из описанных им четырех видов универсальных социальных взаимодействий) среди членов одной семьи возникает спонтанно, но перенести его на другие группы можно только с помощью тщательно продуманных обычаев и идеологии[15]. Неродственники, которые хотят распределять собственность по семейному принципу, создают мифологию общей плоти и крови, общего предка или мистической связи с территорией (слова говорят сами за себя — родная земля, Отечество, Родина-мать). Они подкрепляют мифы освященной едой, кровавыми жертвоприношениями, повторяющимися ритуалами, которые растворяют индивидуальность в группе и создают впечатление единого организма, а не объединения индивидуумов. Их религиозные россказни об одержимости бесами и других видах слияния разумов, по мысли Фиска, «предполагают, что люди часто стремятся к более глубоким или полным отношениям общинного распределения, чем они способны осознать»[16]. Темная сторона этого слияния — групповое мышление, ментальность культа и мифы о расовой чистоте — ощущение, что чужаки — это грязь, оскверняющая святость группы.
Все это не значит, что неродственники безжалостно конкурируют друг с другом, это значит только, что они не склонны спонтанно объединяться так, как это делает родня. И как ни парадоксально, после всех этих разговоров о солидарности и сочувствии и общей крови мы сейчас узнаем, что семья тоже не такое уж гармоничное целое.
* * *
Известная ремарка Толстого о том, что все счастливые семьи счастливы одинаково, но каждая несчастливая несчастна по-своему, на ультимальном (эволюционном) уровне не верна. Триверс показал, что в каждой семье ростки несчастья появляются из одних и тех же зерен[17]. Хотя родственники и имеют общие гены, а значит, и общие интересы, степень их совпадения не одинакова в каждой отдельно взятой паре, учитывая все сочетания и комбинации членов семьи. Родители состоят в родстве со всеми своими отпрысками одинаково — на 50 %, но каждый ребенок сам себе родственник на все 100. И это имеет малозаметное, но принципиальное значение для валюты семейной жизни — родительских инвестиций в детей.
Родительские инвестиции — ограниченный ресурс. В сутках всего 24 часа, краткосрочная память удерживает только четыре единицы информации, и как часто говорят измученные матери: «У меня только две руки!» В начале жизни дети усваивают, что поток материнского молока не бесконечен, потом — что родительское наследство не безразмерно.
Если чувства, связывающие людей, отражают их генетическое родство, рассуждает Триверс, тогда члены семьи, как правило, будут не согласны с тем, как должны распределяться родительские инвестиции. Родители будут стремиться разделить свои инвестиции поровну между детьми — если не на абсолютно равные части, то в соответствии со способностью каждого ребенка использовать этот вклад к собственному благу. Но каждый ребенок будет хотеть, чтобы ему досталось в два раза больше, чем другим детям, потому что с братьями и сестрами у него общая только половина генов, а с самим собой — все. На примере семьи с двумя детьми и одним пирогом каждый ребенок захочет взять себе две трети, а родители захотят разделить пирог пополам. В результате никакой способ дележа не сделает счастливыми всех сразу. Конечно, это не значит, что родители и дети в буквальном смысле дерутся за пирог, или молоко, или наследство (хотя и так случается), и они совершенно точно не враждуют из-за генов. В нашей эволюционной истории родительские инвестиции влияли на выживание ребенка, а оно влияло на вероятность того, что гены для различных семейных чувств родителей и детей передадутся нам, живущим сегодня. Поэтому с уверенностью можно предсказать, что ожидания членов семьи никогда не будут совпадать полностью.
Конфликт отцов и детей и другую его сторону — конфликт братьев и сестер — можно наблюдать и в царстве животных[18]. Детеныши одного помета или выводка дерутся между собой, иногда до смерти, и дерутся с матерью за доступ к пище, молоку и заботе. (Как заметил герой Вуди Аллена в мультфильме «Муравей Антц»: «Если вы средний ребенок в семье из пяти миллионов, много внимания вы не получите».) Этот конфликт разыгрывается еще в процессе внутриутробного развития. Эмбрионы встраиваются в круг материнского кровообращения, пытаясь забрать максимум питательных элементов из ее тела, в то время как оно сопротивляется, чтобы сохраниться в хорошей форме для вынашивания других младенцев[19]. И эта борьба продолжается после появления ребенка на свет. В большинстве культур до недавних пор матери, которые не особенно надеялись вырастить новорожденного до возраста самостоятельности, оставляли младенца умирать, пытаясь обойтись, так сказать, малой кровью[20]. Пухлые щечки малыша и его эмоциональная реакция на мать могут быть рекламой здоровья, призванной изменить решение в его пользу[21].
Но самые интересные конфликты, разыгрывающиеся на семейных сценах, — психологические. Триверс расхваливал освободительную природу социобиологии, обращаясь к «базовой симметрии наших социальных отношений» и «скрытым акторам социального мира»[22]. Как мы увидим в следующих главах, он имел в виду женщин и детей. Теория конфликта отцов и детей говорит, что семьи вовсе не состоят из всемогущих и всезнающих родителей и пассивных благодарных детей. Естественный отбор должен был обеспечить детей тактиками, позволяющими им добиваться своего в борьбе с родителями, таким образом, чтобы ни одна из сторон не одержала окончательной победы. У родителей есть краткосрочное преимущество в размерах и силе, но дети наносят ответный удар, вызывая умиление, рыдая и ноя, закатывая истерики, играя на чувстве вины, мучая братьев и сестер, влезая в отношения между родителями, и становятся заложниками собственного поведения, угрожающего нанести вред им самим[23]. Как говорится, умопомешательство передается по наследству — мы получаем его от своих детей.
И менее всего дети позволяют родителям формировать их личность нотациями, упрашиваниями или попытками предложить себя в качестве ролевой модели[24]. Как мы увидим в главе о детях, эффект от воспитания определенной парой родителей в определенной культуре удивительно мал: дети, которые выросли в одном доме, имеют общих личностных черт не больше, чем дети, разлученные при рождении; приемные братья и сестры вырастают не более похожими друг на друга, чем незнакомцы. Эти открытия прямо противоречат предсказаниям всех существующих психологических теорий, кроме одной. Триверс — единственный, кто заявлял:
Потомки не могут рассчитывать на беспристрастное руководство со стороны родителей. Можно ожидать, что ребенок будет склонен не поддаваться одним родительским манипуляциям, но будет открыт другим. Но когда родитель устанавливает произвольную систему подкреплений (наград и наказаний), чтобы заставить ребенка действовать против его собственных интересов, естественный отбор на стороне тех детей, которые противостоят таким схемам обусловливания[25].
То, что дети вырастают не такими, как мечтали их отцы и матери, для многих — один из горчайших уроков родительства. «Ваши дети — не ваши дети», — писал поэт Халиль Джебран. «Вы можете дать им свою любовь, но не свои мысли, потому что у них есть свои собственные»[26].
Исходя из теории конфликта отцов и детей, логично предположить, что родители и дети по-разному воспринимают отношение родителей к каждому ребенку. Действительно, опросы родителей и их уже взрослых детей показывают: большинство родителей клянутся, что относились к детям одинаково, а большинство детей утверждают, что им всегда доставалось меньше[27]. Исследователи назвали это «эффектом братьев Смозерс» — так назывался комический дуэт, излюбленная фраза одного из участников которого была: «Мама всегда любила тебя больше».
Но логика конфликта отцов и детей присуща не только отношениям братьев и сестер, которые растут в семье в одно время. Дети любого возраста неосознанно конкурируют с нерожденными детьми, которых их родители могли бы иметь, если бы хватило времени и энергии. Так как мужчина может стать отцом в любой момент (особенно в полигамных системах, до недавнего времени свойственных большинству обществ) и так как оба пола могут щедро инвестировать во внуков, угроза конфликта интересов висит над родителями и детьми всю жизнь. Когда родители вступают в брак, они могут договориться о том, что пожертвуют интересами ребенка в пользу другого ребенка или отца. Дети и взрослые могут не прийти к согласию в вопросе, должен ли выросший ребенок оставаться в семье, чтобы помогать родителям, или же ему стоит заняться собственной репродуктивной карьерой. Женатые сыновья и замужние дочери должны решить, как распределять время и силы между нуклеарной семьей, которую они создали, и родительской семьей, в которой рождены. Родители должны решить, разделить ли ресурсы на равные части или передать все тому ребенку, который сможет наилучшим образом их использовать.
Логика конфликта детей и родителей, братьев и сестер заставляет под другим углом взглянуть на доктрину «семейных ценностей», которой придерживаются современные религиозные и культурные правые. В соответствии с ней семья — приют заботы и великодушия, позволяющий родителям передавать свои ценности детям, что наилучшим образом служит их интересам. Предполагается, что современные культурные тенденции, позволяя женщине тратить меньше времени на уход за маленькими детьми, выводя подросших детей за пределы семейного круга, бросают гранату в гнездо, вредят детям и обществу в целом. Частично эта теория верна; родители и другие родственники заинтересованы в благополучии ребенка намного больше, чем любая третья сторона. Но конфликт родителей и детей предполагает, что это еще не полная картина.
Если можно было бы спросить маленького ребенка, чего он хочет, без сомнения, ответ был бы — исключительного внимания матери 24 часа в сутки. Но это не значит, что подобное изматывающее материнство — биологическая норма. Необходимость отыскать баланс между инвестированием в ребенка и сохранением здоровья (в конечном счете — чтобы инвестировать в других детей) присуща всем живым существам. Человеческие матери — не исключение, и им часто приходится противостоять требованиям крошечных тиранов, чтобы не ставить под угрозу собственное выживание и выживание других рожденных и нерожденных детей. Антрополог Сара Блаффер Хрди показала, что выбор между работой и материнством не был изобретен в 80-е годы, в эпоху яппи в деловых костюмах. Женщины в примитивных обществах используют разнообразные приемы, чтобы вырастить детей и не умереть от голода в процессе: например, повышение статуса в группе (что обеспечивает детям лучшие условия) и разделение обязанностей по уходу за детьми среди других женщин группы. Конечно, отцы обычно главные добытчики, но, к несчастью, они имеют обыкновение умирать, бросать семью или приносить недостаточно, поэтому матери никогда не полагаются на них полностью[28].
Ослабление власти родителей над взрослыми детьми тоже не просто результат действия современных деструктивных сил. Подобные перемены — заслуга все расширяющейся свободы западной цивилизации, которая помогает детям получить автономии больше, чем готовы уступить родители, — желание, свойственное детям всегда. В традиционных обществах дети были прикованы к семейному участку земли, вступали в устроенные родителями браки и жили под властью патриарха[29]. Перемены начались в средневековой Европе, и некоторые историки считают, что именно они стали первой ступенью в расширении прав человека, которое мы связываем с эпохой Просвещения и которое привело к падению феодализма и рабовладения[30]. В свободе есть свои опасности, и некоторые дети сегодня действительно сбиваются с пути под влиянием дурной компании или поп-культуры. Но у других есть шанс спастись от жестоких и манипулятивных семей с помощью друзей, соседей и учителей. Многие дети пользуются преимуществами законов, которые могут одержать верх над предпочтениями их родителей, в том числе закона об обязательном образовании и запрета принудительных браков. Другие могут получить пользу от доступа к информации, которой родители не спешат с ними делиться, например о карьере или контрацепции. А некоторые могут убежать из удушливых культурных гетто и открыть для себя все удовольствия современного мира. Роман Исаака Башевис-Зингера «Шоша» начинается с воспоминаний детства героя, которое он провел в еврейском районе Варшавы в начале XX века:
С детства знал я три мертвых языка: древнееврейский, арамейский и идиш … и воспитывался на культуре еврейского Вавилона — на Талмуде. Хедер, где я учился, — это была просто комната, в которой ели и спали, а жена учителя готовила еду. Меня не обучали ни арифметике, ни географии, ни истории, физике или химии, но зато учили, как поступить с яйцом, если оно снесено в субботу, и как следует совершать жертвоприношение в храме, разрушенном два тысячелетия тому назад. Предки мои поселились в Польше за шесть или семь столетий до моего рождения, однако по-польски я знал лишь несколько слов… Я представлял собой анахронизм во всех отношениях, но не знал этого .
Воспоминания Зингера скорее ностальгические, чем горькие, и, конечно, в большинстве семей гораздо больше заботы, чем наказаний или раздоров. На проксимальном уровне Толстой был однозначно прав — действительно, существуют счастливые и несчастливые семьи, и несчастливые несчастны по-разному, в зависимости от черт людей, которых генетика или судьба бросила в объятия друг друга. Конфликт, присущий семьям, не делает семейные узы менее важными для человеческого существования. Он лишь предполагает, что борьба соперничающих интересов, управляющая всеми человеческими отношениями, не заканчивается у входа в дом.
* * *
Триверс изучал разные союзы людей, в частности пару, состоящую из мужчины и женщины. Логика их отношений уходит корнями в фундаментальную разницу между полами: и это не хромосомы и не половые органы, а родительские инвестиции[31]. У млекопитающих минимальные родительские инвестиции мужской и женской особи различаются разительно. Самец может обойтись ложкой семени и парой минут на копуляцию, в то время как самка месяцами вынашивает детеныша внутри своего тела и питает его до и после рождения. Как говорят об относительном вкладе курицы (яйцо) и свиньи (бекон): в одном случае — это участие, во втором — жертва. Так как для рождения ребенка требуется по одному представителю каждого пола, для самцов доступ к самкам с целью размножения — ограниченный ресурс. Чтобы увеличить количество своих потомков, самец должен совокупляться с максимально возможным количеством самок. Самка, чтобы увеличить количество своих потомков, должна совокупляться с лучшим из доступных самцов. Это объясняет две типичные для животного мира характеристики межполовых различий: самцы соревнуются, самки выбирают; самцам важно количество, самкам — качество.
Люди — млекопитающие, и наше сексуальное поведение соответствует нашей классификации по системе Линнея. Дональд Саймонс сделал следующий вывод из этнографических записей, касающихся межполовых различий в сексуальности: «У людей по большей части именно мужчина ухаживает, добивается, предлагает, соблазняет, задействует любовные чары и любовную магию, дарит подарки в обмен на секс и пользуется услугами проституток»[32]. Исследования среди людей, принадлежащих к западной цивилизации, показали, что мужчины стремятся к большему числу сексуальных партнеров, чем женщины, менее придирчивы в своем выборе партнера на короткое время, и среди мужчин гораздо больше потребителей порнографической продукции[33]. Но мужчины вида Homo sapiens принципиально отличаются от самцов большинства прочих млекопитающих: мужчины тоже инвестируют в своих детей, не возлагая эту миссию целиком на женщину. Тем не менее из-за отсутствия органов, позволяющих вскармливать ребенка непосредственно, мужчина может помогать ему опосредованно — обеспечивая пропитание, защищая, обучая, заботясь. Минимальные инвестиции мужчины и женщины все равно не одинаковы, потому что женщина может родить ребенка, даже если отец малыша ее покинул, а мужчина, которого бросила жена, — нет. Но мужские инвестиции не равны нулю, и значит, можно предположить, что женщины тоже будут конкурировать на брачном рынке, но конкурировать они будут за мужчин, которые, вероятнее всего, готовы инвестировать в детей (а также за мужчин с лучшими генами), а не за тех, кто активнее ищет пару.
Генетическая экономика секса также предполагает, что у обоих полов есть генетические стимулы для измены, хотя и по несколько разным причинам. Муж-ловелас, зачав ребенка на стороне, может увеличить количество своих потомков. Неверная жена может зачать ребенка более высокого качества от мужчины с лучшим генным набором, в сравнении с ее мужем, и в то же время пользоваться его поддержкой и помощью в заботе о ребенке. Изменяющая женщина со всех сторон в выигрыше, мужчина же проигрывает по всем статьям, потому что вынужден инвестировать в гены другого мужчины, которые заняли место его собственных. Так мы получаем обратную сторону эволюции отцовских чувств: эволюцию мужской сексуальной ревности, призванной не позволить жене зачать ребенка от другого мужчины. Женская же ревность скорее предназначена для того, чтобы предотвратить охлаждение любовных чувств со стороны мужчины, означающее его готовность инвестировать в детей другой женщины за счет ее собственных[34].
Биологическая трагедия полов в том, что генетические интересы мужчины и женщины могут быть так близки, что они почти считаются единым организмом, но возможность, что их интересы разойдутся, всегда где-то рядом. Биолог Ричард Александер подчеркивал, что, если пара создает семью на всю жизнь, совершенно моногамна и отдает предпочтение своей нуклеарной семье перед родительскими, их генетические интересы идентичны, и заключаются они в общих детях[35]. В этой радужной картинке любовь между мужчиной и женщиной должна быть сильнейшей эмоциональной связью в мире — «два сердца бьются как одно», — и, конечно, для некоторых счастливых пар так оно и есть. Но, к сожалению, в этой цепи размышлений соблюдение всех этих «если» под большим вопросом. Сила непотизма означает, что супругов всегда будут рвать на части их родители и пасынки, если они есть. А так как у обоих есть мотивация к изменам, всегда существует угроза, что найдется разрушитель семьи, который разъединит супругов. Поэтому эволюционных биологов не удивляет, что неверность, родительские семьи и неродные дети — главные причины семейных раздоров.
Не удивительно и то, что уже сам половой акт отягощен конфликтом. Секс — источник наибольшего физического наслаждения, какое только способна обеспечить нам нервная система, так почему же он вызывает столь противоречивые эмоции? Во всех обществах секс так или иначе считается «грязным». Им занимаются без свидетелей, люди одержимы мыслями о сексе, он регулируется обычаями и табу, он предмет слухов и шуток и спусковой крючок для яростной ревности[36]. На короткий период в 1960-х и 1970-х люди мечтали об эротической утопии, в которой мужчины и женщины могли бы дарить друг другу секс без комплексов и ограничений. Героиня книги Эрики Йонг «Страх полета» (Fear of Flying) фантазировала о «случайном сексе»: анонимном, непринужденном и свободном от вины и ревности. «Если ты не можешь быть с тем, кого любишь, люби того, с кем ты сейчас», — пел Стивен Стиллз. «Если ты любишь кого-то, сделай его свободным», — пел Стинг.
Но в другой песне он же пел: «Я буду следить за каждым твоим движением». Изадора Винг пришла к заключению, что секс без обязательств встречается «реже, чем единороги». Даже во времена, когда позволено, кажется, все что угодно, для большинства людей секс не такое обыденное занятие, как еда или беседа. И это касается даже студенческих кампусов, которые сегодня считаются раем для любителей мимолетных сексуальных приключений, известных как «перепихон». Психолог Элизабет Пол подвела итог своим исследованиям этого феномена. «Случайный секс вовсе не безобиден. Очень немногие остаются невредимыми»[37]. Причины так же глубоки, как и все в биологии. Одна из опасностей секса — ребенок, а ребенок — это не просто семифунтовый объект, но, с эволюционной точки зрения, смысл нашего существования. Каждый раз, когда женщина занимается сексом, у нее есть шанс обречь себя на годы материнства, к тому же всегда есть риск, что непостоянство партнера сделает ее матерью-одиночкой. Она вверяет бо́льшую часть своих ограниченных репродуктивных ресурсов генам и намерениям этого мужчины, лишаясь возможности использовать их с каким-нибудь другим человеком, более состоятельным в этих отношениях. Мужчина же, в свою очередь, может быть готов посвятить себя без остатка будущему ребенку, но может и обманывать женщину насчет своих намерений.
И это мы говорим только о непосредственных участниках. Как сетовала Йонг, в постели никогда не бывает только два человека. Им всегда составляют мысленную компанию их родители, бывшие любовники, настоящие и воображаемые соперники. Проще говоря, другие люди так или иначе заинтересованы в вероятных исходах сексуального контакта двоих. Соперники, которым они наставляют рога, или обрекают на воздержание, или обкрадывают своим актом любви, имеют причины желать оказаться на их месте. Интересы третьих лиц объясняют, почему сексом почти повсеместно занимаются вдали от посторонних глаз. Саймонс подчеркивает, что, так как мужской репродуктивный успех строго ограничен доступом к женщинам, с мужской точки зрения секс — это всегда ценный ресурс. Может быть, люди занимаются сексом без свидетелей по той же причине, по которой в голодные времена едят без свидетелей — чтобы не возбуждать опасной зависти[38].
Мало того, каждый ребенок мужчины и женщины еще и внук двух других мужчин и двух других женщин. Родители заинтересованы в размножении своих детей, потому что по большому счету это и их продолжение тоже. Хуже того, важность женских репродуктивных возможностей делает их ценным ресурсом для мужчин, контролирующих ее в традиционных патриархальных обществах, — а конкретно, для ее отца и братьев. Они могут обменять дочь или сестру на дополнительных жен и прочие активы для себя и поэтому защищают свои инвестиции и охраняют родственницу от других мужчин, чтобы ее не наградил ребенком не тот, которому они хотят ее продать. Поэтому не только муж или любовник питает собственнический интерес к женской сексуальной активности, но и ее отец и братья[39]. Люди на Западе были шокированы отношением к женщинам в талибском Афганистане с 1995 по 2001 год, когда женщин заставляли носить паранджу, запрещали работать, учиться и выходить из дома без сопровождения мужчины. Уилсон и Дейли показали, что законы и обычаи, цель которых — передать мужчинам контроль над сексуальностью их жен и дочерей, на протяжении истории были присущи многим обществам, в том числе западному[40]. Да и сегодня отцам девочек-подростков порой приходит на ум мысль, что паранджа — это, в конце концов, не такая уж плохая идея.
Со строго рациональной точки зрения то, что секс так отягощен эмоционально, — парадокс, потому что в эпоху контрацепции и женских прав все эти архаические сложности вроде бы не должны влиять на наши чувства. Нам следовало бы свободно любить тех, кто рядом, и секс, как еда и общение, не должен становиться темой слухов, музыки, книг, вульгарных шуток или сильных эмоций. То, что люди изводят себя дарвиновской экономикой младенцев, которых они больше не рождают, показывает, что у человеческой природы довольно длинные руки.
* * *
А как насчет людей, не связанных детьми или кровным родством? Никто не сомневается, что люди приносят жертвы не только ради родственников. Но почему они это делают? Теоретически здесь есть две возможности.
Люди, подобно муравьям, могли бы быть частью суперорганизма, заставляющего их делать для колонии все что угодно. Мысль, что люди инстинктивные коллективисты, — важный принцип романтической доктрины «благородного дикаря». Она фигурирует в теории Маркса и Энгельса, гласящей, что «примитивный коммунизм» был первой формой общественного существования, в идеях анархиста Петра Кропоткина (писавшего, что «муравьи и термиты отреклись таким образом от "Гоббсовой войны" и только выиграли от этого»), в утопическом представлении о «роде человеческом» в 1960-х и в сочинениях современных радикальных ученых, таких как Левонтин и Хомский[41]. Некоторые из радикальных ученых воображают, что единственная альтернатива — это индивидуализм в стиле Айн Рэнд, согласно которому каждый человек — отдельный остров. Стивен Роуз и социолог Хилари Роуз, например, называют эволюционную психологию «правой либертарианской атакой на коллективизм»[42]. Но эти обвинения некорректны фактически (как мы увидим в главе, посвященной политике, многие эволюционные психологи принадлежат к политическим левым), а также некорректны концептуально. Настоящая альтернатива романтическому коллективизму не «правое либертарианство», а признание, что социальная щедрость порождается комплексом мыслей и чувств, уходящих своими корнями в логику взаимности. Такая психология сильно отличается от психологии общинного распределения, свойственного социальным насекомым, человеческим семьям и культам, которые пытаются претендовать на статус семьи[43].
Триверс отталкивался от утверждения Уильямса и Гамильтона, что чистый общественный альтруизм — желание принести пользу группе или виду за свой счет — вряд ли может возникнуть среди неродственников, потому что в таком случае велика вероятность появления мошенников, пользующихся добрыми делами других, не давая ничего взамен. Но, как я уже упоминал, Триверс показал, что умеренный взаимный альтруизм может эволюционировать. Стороны, которые помогают тем, кто помогает им, и избегают или наказывают тех, кто не отвечает добром на добро, будут получать выгоды от обмена и превзойдут индивидуалистов, обманщиков и чистых альтруистов[44]. У людей есть все необходимое для взаимного альтруизма. Они запоминают индивидуальные особенности каждого (возможно, с помощью специально предназначенных для этого областей мозга), у них наметанный глаз и прочная память на мошенников[45]. Люди испытывают моралистические эмоции — симпатию, сочувствие, благодарность, вину, стыд и гнев (поразительно, но в компьютерных симуляциях и математических моделях именно в них воплощаются стратегии взаимного альтруизма). Эксперименты подтвердили предположение, что люди наиболее склонны помогать незнакомцам, когда это не сопряжено с большими издержками, когда незнакомец в беде и когда он готов оказать ответную услугу[46]. Нам нравятся люди, которые оказывают услуги нам и нашим близким, мы чувствуем себя виноватыми, отказывая в посильной для нас помощи, и наказываем тех, кто не желает отвечать добром на добро[47].
Принцип взаимности относится не только к парным обменным операциям, но и к вкладу в общественное благо, например: охота на животных, которые слишком велики для того, чтобы съесть их в одиночку, строительство маяка, который оберегает корабли всех судовладельцев, совместное нападение на соседей или защита от их атак. Внутренняя проблема общественного блага описана в басне Эзопа «Кто повесит колокольчик на кота?». Домашние мыши решили, что, если кот будет носить на шее колокольчик, звон которого предупреждает о его приближении, это пойдет на пользу всем, но ни одна мышка не пожелала рисковать жизнью и здоровьем, выполняя опасную миссию. Готовность повесить колокольчик коту на шею — в смысле внести вклад в общее дело — тем не менее способна развиться, при условии что она сопровождается готовностью награждать тех, кто взваливает бремя на свои плечи, или наказывать желающих переложить ответственность на других[48].
Трагедия взаимного альтруизма в том, что готовность идти на жертвы в пользу неродственников не может не сопровождаться неприятными эмоциями вроде тревоги, недоверия, вины, стыда и гнева. Как сказал журналист Мэтт Ридли в своем обзоре, посвященном эволюции сотрудничества:
Взаимность висит как дамоклов меч над головой каждого человека. «Он пригласил меня на вечеринку, только чтобы я написал хороший отзыв о его книге. Они приходили к нам на обед дважды, но нас ни разу к себе не пригласили. Как он мог так поступить после всего, что я для него сделал? Если ты сделаешь это для меня, я тебе потом отплачу. Что я сделал, чтобы заслужить такое? Ты должен мне». Обязательство, долг, одолжение, торг, контракт, обмен, сделка… Наш язык и наша жизнь буквально пронизаны идеями взаимного обмена[49].
Исследования альтруизма, проведенные поведенческими экономистами, позволили лучше понять, что это за дамоклов меч, показав, что люди не аморальные эгоисты, какими их видит классическая экономическая теория, но и не коммуналисты из утопических фантазий, чей девиз «Один за всех и все за одного». В экспериментальной игре «Ультиматум», например, один из участников получает крупную сумму денег и должен разделить ее между собой и вторым участником, а его партнер по игре имеет право взять предложенное или отказаться. Если он отказывается, никто не получает ни цента. Если бы люди были аморальными эгоистами, первый игрок оставил бы себе львиную долю денег; второй принял бы оставшиеся жалкие крохи, потому что это уже лучше, чем ничего. Но в действительности тот, кто делит, как правило, предлагает почти половину всей суммы, а его партнер отказывается от своей доли, если она намного меньше половины, хотя отвергать такое предложение назло — значит лишить выгоды обоих участников. Похоже, принимающая сторона руководствуется чувством справедливого гнева и наказывает эгоистичного партнера, а тот, предвидя подобный поворот событий, делает предложение достаточно щедрое, чтобы оно было принято. Результаты второго варианта этого эксперимента доказывают, что первый игрок так щедр именно потому, что опасается враждебной реакции. В игре, которая называется «Диктатор», получатель денег имеет право разделить их как угодно, а второй никак не может на это повлиять. Не опасаясь ответных мер, игрок делает гораздо менее выгодное предложение. И все же оно щедрее, чем в принципе могло бы быть, потому что тот, кто делит деньги, опасается, что приобретет репутацию скупца, которая может навредить ему в дальнейшем. А это мы знаем из результатов игры «Двойной слепой диктатор», в которой предложения от нескольких игроков анонимны и ни респондент, ни экспериментатор не знают, кто сколько предложил. В этом варианте уровень щедрости резко падает; бо́льшая часть участников оставляет все себе[50].
А еще есть игра «Общественное благо», в которой каждый участник делает добровольное пожертвование в общую копилку, затем экспериментатор удваивает сумму и она делится поровну между всеми участниками независимо от того, кто сколько вложил. Оптимальная стратегия для каждого игрока, если исходить исключительно из личных интересов — и ничего не вкладывать, рассчитывая на то, что это сделают остальные и он сможет получить свою долю. Конечно, если так будет думать каждый, копилка останется пустой и никто не получит ничего. Оптимальная стратегия для группы — чтобы каждый внес все, что имеет, и тогда все смогут удвоить свои деньги. Тем не менее при нескольких раундах подряд, когда каждый из игроков пытается сжульничать, сумма в копилке уменьшается до безнадежного нуля. С другой стороны, если правила позволяют не только вкладывать в общий котел, но и штрафовать тех, кто этого не делает, осознание последствий превращает людей в трусов, и практически все жертвуют на общественное благо, что позволяет каждому получить прибыль[51]. Тот же феномен был независимо документирован социальными психологами — они назвали его «социальная леность». Когда человек — часть группы, он и работает с прохладцей, и в ладоши хлопает без особого энтузиазма и высказывает меньше идей в мозговых штурмах — если только не подозревает, что его вклад в групповые усилия оценивается[52].
Возможно, эти эксперименты искусственны, но мотивы, которые они демонстрируют, проявляются и в экспериментах, имевших место в реальной жизни — в утопических общинах. В XIX веке и в первые десятилетия XX в Соединенных Штатах повсеместно возникали изолированные коммуны, основанные на философии общинного распределения. И все они развалились под давлением внутренних противоречий: те, что опирались на социалистическую идеологию, — года через два, а религиозные — через 20 [53]. Израильские кибуцы, первоначально спаянные социализмом и сионизмом, со временем постепенно отошли от коллективистской философии. Причиной было желание их членов жить со своими семьями, иметь собственную одежду, хранить накопленные деньги и предметы роскоши вне кибуца. И кибуцы были малопродуктивны из-за проблемы «зайцев» — кибуц был, по словам одного из его членов, «раем для паразитов»[54].
В других культурах за щедростью и великодушием тоже стоят сложные расчеты в уме. Вспомните этнографический обзор Фиска, который показал, что этика общинного распределения спонтанно возникает главным образом внутри семьи (и в особых случаях, таких как праздники и пиры). Соблюдение равенства (что, по сути, представляет собой взаимный альтруизм) — норма повседневного взаимодействия между дальними родственниками и неродственниками[55]. Возможны и исключения, например, когда группы охотников объединяют риски охоты на крупную дичь (с ее крупными, однако непредсказуемыми плодами), чтобы потом разделить добычу[56]. Но и здесь этика далека от безграничной щедрости, и дележка описывается как имеющая «оттенок враждебности»[57]. У охотников обычно нет возможности спрятать свою добычу от других, так что они не столько делятся своей добычей, сколько не сопротивляются конфискации. Прилагаемые ими усилия, как правило, считаются усилиями на общественное благо, и, если они отказываются делиться, их подвергают осуждению и остракизму, если же они не сопротивляются, они вознаграждаются высоким статусом (который обеспечивает им сексуальных партнеров) и правом на долю чужой добычи. Подобная психология обнаруживается и среди последних охотников-собирателей нашей собственной культуры — профессиональных рыбаков. Себастьян Юнгер в книге «Идеальный шторм» (The Perfect Storm), писал:
Капитаны судов, добывающих рыбу-меч, помогают друг другу в шторм как только могут; они одалживают запасные детали для двигателя, дают технические советы, делятся пищей и топливом. Конкуренция между дюжиной лодок, доставляющих скоропортящийся товар на рынок, к счастью, не убила внутреннее чувство ответственности друг за друга. Это может звучать ужасно благородно, но на самом деле это не так — по крайней мере, не совсем. Здесь замешаны и собственные интересы. Каждый капитан знает, что в следующий раз у него самого может замерзнуть инжектор или отказать гидравлика[58].
Начиная с Эшли Монтегю в 1952 году ученые, симпатизировавшие коллективизму, пытались отыскать место для безграничной щедрости, обращаясь к групповому отбору и дарвиновской конкуренции, но не между индивидуумами, а между группами организмов[59]. Они надеялись, что группы, члены которых жертвовали своими интересами ради общественного блага, превзойдут те, в которых каждый сам за себя, и, как результат, склонность к щедрости будет преобладать у вида в целом. Уильямс развеял эти мечты в 1966 году, отметив, что, если группа нестабильна генетически и полностью изолирована, в нее постоянно проникают мутировавшие особи и пришельцы[60]. Эгоистичный диверсант вскоре должен заполонить группу своими потомками в огромных количествах, поскольку они извлекали выгоду из чужих жертв, не жертвуя ничем сами. Это произошло бы задолго до того, как группа смогла бы воспользоваться преимуществами своего единства, чтобы одержать победу над соседними и дать начало новым группам, которые могли бы повторить процесс.
Термин «групповой отбор» сохранился в эволюционной биологии, но обычно он используется не в том значении, какое имел в виду Монтегю. Группы определенно были частью нашего эволюционного окружения, и наши предки развили черты, такие как озабоченность репутацией, которые позволили им процветать в группах. Иногда интересы индивидуума и интересы группы могут совпадать: например, всем лучше, если группу не уничтожат враги. Некоторые теоретики обращаются к групповому отбору, чтобы объяснить стремление наказывать халявщиков, не жертвующих ничем ради общего блага[61]. Биолог Дэвид Слоан Уилсон и философ Эллиот Собер недавно дали новое определение понятию «группа» — они описали ее как круг взаимных альтруистов, предложив другой язык для теории Триверса, но не альтернативу самой теории[62]. Однако в первоначальную идею, что отбор между группами привел к эволюции безграничного самопожертвования, не верит больше никто. Даже не принимая во внимание теоретические трудности, описанные Уильямсом, мы по опыту знаем, что люди всех культур совершают поступки, которые помогают им процветать за счет группы, к которой они принадлежат, — они врут, конкурируют за партнеров, изменяют, ревнуют и борются за власть.
Так или иначе групповой отбор не заслуживает своей положительной репутации. Неважно, ему ли мы обязаны великодушием по отношению к членам собственной группы, но чем он точно способен нас одарить — это ненавистью к членам других групп, потому что он благоприятствует развитию признаков, которые помогают группе взять верх над соперниками. (Я уже упоминал, что групповой отбор был нацистской версией теории Дарвина.) Это не значит, что говорить о групповом отборе некорректно, это значит, что поддержка какой-то научной теории за ее явную политическую привлекательность может быть чревата неожиданными выводами. Как сказал Уильямс, «из утверждения, что [естественный отбор на уровне конкурирующих групп] морально превосходит естественный отбор на уровне конкурирующих индивидуумов, в приложении к человеку следует, что систематический геноцид морально превосходит беспорядочные убийства»[63].
* * *
Люди делают друг для друга больше, чем просто платят услугой за услугу и наказывают мошенников. Они часто совершают великодушные поступки без малейшей надежды на выгоду для себя — давая чаевые в ресторане, в который они больше никогда не придут, или бросаясь на готовую разорваться гранату, чтобы спасти товарищей по оружию. Триверс в сотрудничестве с экономистами Робертом Франком и Джеком Хиршлейфером показал, что чистое великодушие может эволюционировать в среде людей, желающих отделить ненадежных друзей от верных союзников[64]. Знаки искренней верности и великодушия служат гарантией выполнения обещаний, успокаивая опасения союзника, что ты не выполнишь своих обязательств. Лучший способ убедить скептика, что ты щедр и достоин доверия, — это быть щедрым и достойным доверия.
Конечно, такие добродетели не могут быть основной моделью человеческих отношений, в противном случае мы давно бы избавились от гигантского аппарата, созданного, чтобы отслеживать справедливость обмена, — денег, кассовых аппаратов, банков, аудиторов, бухгалтерских отделов, судов — и основали бы нашу экономику на принципах честности и доверия. Но с другой стороны, люди совершают и отъявленные вероломства — воровство, мошенничество, пытки, убийства и другие способы разжиться за чужой счет. Психопаты, лишенные и намека на совесть, — самый яркий пример, но социальные психологи наблюдали то, что они называют макиавеллианскими чертами, у многих из тех, кто недотягивает до настоящей психопатии[65]. Большинство людей, конечно, находятся где-то посередине, демонстрируя смесь взаимного альтруизма, чистого бескорыстия и жадности.
Почему люди распределяются по такому широкому спектру? Вероятно, каждый из нас способен стать святым или грешником, в зависимости от соблазнов и угроз, которые нас окружают. Вероятно, выбрать путь нам помогает воспитание в раннем детстве или нравы нашей референтной группы. Вероятно, мы выбираем свой путь в начале жизни, потому что владеем набором условных стратегий развития личности: если ты обнаруживаешь, что привлекателен и обаятелен, становись манипулятором, если ты большой и любишь господствовать, попробуй стать тираном, если ты окружен великодушными людьми, будь великодушен в ответ, и т. д. Вероятно, нам на роду написано быть милыми или неприятными в зависимости от генного набора. Вероятно, развитие человека — лотерея, и судьба одаряет нас личностными чертами, как ей заблагорассудится. Но скорее всего, своей непохожестью друг на друга мы обязаны сразу нескольким из этих причин или какому-то их сочетанию. Например, может быть, мы все способны развить в себе щедрость, если достаточное количество наших друзей и соседей щедры, но входной порог или коэффициент этой функции может различаться генетически или случайно: некоторым нужно всего несколько милых соседей, чтобы вырасти милыми, другим — большинство.
Гены — безусловно важный фактор. Совестливость, покладистость, невротизм, психопатия и криминальные наклонности существенно (хотя и не полностью) наследуемы, и, возможно, альтруизм — тоже[66]. Но это только заменяет первоначальный вопрос — «Почему в отношении эгоизма люди так разнятся?» — другим. Естественный отбор стремится уравнять всех представителей вида в их адаптивных чертах, потому что, какая бы черта ни оказалась лучше других, сохранится только она, а все прочие исчезнут. Вот почему многие эволюционные психологи считают, что систематическими различиями между людьми мы обязаны среде и лишь случайными — генам. Так называемый «генетический шум» может исходить как минимум из двух источников. Из самого генома, внутри которого постоянно возникают случайные мутации, а отбор избавляется от них медленно и неравномерно[67]. Кроме того, отбор может сохранять молекулярную изменчивость ради нее самой, чтобы мы всегда были на шаг впереди паразитов, которые постоянно эволюционируют, отыскивая новые пути в наши клетки и ткани. Различия в функционировании мозга или тела целиком могут быть побочным эффектом этого постоянного изменения в последовательностях протеинов[68].
Но теория взаимного альтруизма предполагает и иную возможность: что некоторые из генетических различий между людьми в их социальных эмоциях системны. Единственное исключение из правила, гласящего, что отбор снижает вариативность, проявляется, когда лучшая стратегия выживания зависит от поведения других организмов. Это похоже на детскую игру «камень-ножницы-бумага» или на ситуацию выбора дороги на работу. Когда люди начинают избегать запруженных автомагистралей и выбирают менее популярные дороги, движение на них становится более интенсивным, так что многие возвращаются на магистрали, и тогда там снова появляются пробки, заставляя людей выбирать второй маршрут, и т. д. В итоге автомобилисты распределяются в некоторой пропорции между двумя дорогами. Когда подобное случается в эволюции, это называется частотно-зависимым отбором.
Еще одно естественное следствие взаимного альтруизма, продемонстрированное в большом числе симуляций, — то, что частотно-зависимый отбор может вызывать временное или постоянное смешивание стратегий. Например, если в популяции преобладают взаимные альтруисты, меньшинство, состоящее из обманщиков, иногда может выживать, пользуясь преимуществами их щедрости до тех пор, пока обманщиков не станет так много, что они начнут слишком часто наталкиваться друг на друга или взаимные альтруисты не научатся их распознавать и наказывать. Станет ли популяция гомогенной или в ней будут присутствовать и те и другие стратегии, зависит от того, какие стратегии конкурируют, какая преобладала вначале, насколько легко они входят в популяцию и покидают ее, и от того, какие выгоды приносит сотрудничество, а какие — обман[69].
Интригующая параллель: в реальном мире люди генетически различаются в своих эгоистичных склонностях, и в компьютерных моделях эволюции альтруизма акторы способны развивать такие различия. Это может быть совпадением, но, скорее всего, это не так. Некоторые биологи приводят данные, что психопатия — это стратегия обмана, эволюционировавшая под влиянием частотно-зависимого отбора[70]. Статистический анализ показывает, что психопат, вместо того чтобы обнаруживать крайние проявления одной-двух черт характера, демонстрирует явно выраженный особый набор черт (внешнее обаяние, импульсивность, безответственность, бездушие, бесстыдство, лживость, стремление использовать других в своих интересах), которые отличают его от остальной популяции[71]. К тому же у многих психопатов нет мелких физических недостатков, продуцируемых биологическим шумом, а это позволяет предположить, что психопатия — не всегда биологическая ошибка[72]. Психолог Линда Мили утверждает, что частотно-зависимый отбор породил как минимум два вида психопатов. Один вид — люди, чья психопатия генетически предопределена и не зависит от того, как они росли. Другой — люди, предрасположенные к психопатии только при определенных условиях, в частности если чувствуют, что неконкурентоспособны в обществе или если принадлежат к группе асоциальных ровесников.
То, что некоторые люди, возможно, уже рождаются со слабой совестью, резко противоречит концепции «благородного дикаря». Сразу приходит на ум старомодное представление о прирожденных преступниках и дурном семени, разрушенное интеллектуалами XX века. Его заменило убеждение, что все преступники — жертвы бедности или дурного воспитания. В конце 1970-х годов Норман Мейлер получил письмо от заключенного по имени Джек Генри Эббот, который провел бо́льшую часть жизни за решеткой за различные преступления — от подделки чека до убийства сокамерника. Мейлер писал тогда книгу об убийце Гэри Гилморе, и Эббот предложил помочь ему проникнуть в образ мыслей убийцы, поделившись с ним своими тюремными дневниками и жесткой критикой системы уголовного права. Прочтя дневники, Мейлер был заворожен талантом Эббота и объявил его новым выдающимся писателем и мыслителем — «интеллектуал, радикал, потенциальный лидер, человек, одержимый образом более развитых человеческих отношений в том лучшем мире, какой может выковать революция». Он организовал публикацию писем Эббота в журнале New York Review of Books, а затем издание их в 1980 году отдельной книгой «В брюхе зверя» (In the Belly of the Beast). Вот отрывок, в котором Эббот описывает, на что это похоже — зарезать человека:
Через нож в руке тебе передается трепет его жизни. Нежность этого ощущения посреди жестокого акта убийства тебя буквально переполняет… Ты опускаешься на пол, чтобы прикончить его. Это как резать теплое масло — вообще никакого сопротивления. Они всегда шепчут одно и то же слово в конце: «Пожалуйста». И почему-то кажется, что это не мольба о пощаде, а просьба сделать это правильно.
Вопреки возражениям тюремных психиатров, которые говорили, что у Эббота большими буквами на лбу написано «психопат», Мейлер и другие нью-йоркские литераторы помогли ему досрочно выйти на свободу. Вскоре Эббота чествовали на литературных обедах, сравнивали с Солженицыным и Якобо Тимерманом, интервью с ним печатались в журналах Good Morning America и People. Но не прошло и двух недель, как он повздорил с талантливым начинающим драматургом, который подрабатывал официантом в ресторане и попросил Эббота не пользоваться туалетом для сотрудников. Эббот предложил ему выйти на улицу, ударил его ножом в грудь и оставил истекать кровью на тротуаре[73]. Молодой человек скончался.
Психопаты могут быть умными и очаровательными, и Мейлер был далеко не первым среди интеллектуалов всех политических взглядов, которые в 60-х и 70-х годах были подобным же образом одурачены. В 1973 году Уильям Бакли помог добиться досрочного освобождения Эдгару Смиту, отбывающему наказание за нападение на 15-летнюю чирлидершу — он проломил ей голову камнем. Смит выторговал освобождение в обмен на чистосердечное признание, но затем в интервью, которое он дал Бакли на национальном телевидении, отказался от своих слов. Тремя годами позже его арестовали за то, что он обрушил камень на голову еще одной молодой женщины. Сейчас Смит отбывает пожизненное наказание за попытку убийства[74].
Но не все были так доверчивы. Комик Ричард Прайор так описывал свои впечатления от посещения тюрьмы штата Аризона во время съемок фильма «Буйнопомешанные»:
Вы знаете, мне было больно видеть всех этих прекрасных черных мужчин в тюрьме. Черт возьми, где же герои, которые освободят эти страдающие массы? Я действительно так чувствовал, и как же я был наивен. Я был там шесть недель и говорил с моими черными братьями. Я говорил с ними, и… [Оглядывается в ужасе] … Слава Богу, у нас есть тюрьмы! Я спросил одного: «Почему ты убил всех, кто был в доме?» Он ответил: «Потому что они там были». Я познакомился с парнем, который похитил и убил четырех человек. И я подумал: три раза — но уж этот-то, надеюсь, будет последним? Я спросил: «Что случилось?» [Отвечает фальцетом] «Я просто не могу сделать это дерьмо как надо! Но через два года я выйду по амнистии».
Конечно, Прайор не отрицал неравенство, из-за которого продолжает попадать в тюрьмы несоразмерное количество афроамериканцев. Он просто противопоставил здравый смысл обычного человека романтическим взглядам интеллектуалов — и, возможно, вытащил на свет их снисходительное высокомерие: мол, от бедняков нельзя ожидать, что они перестанут убивать друг друга, но уж в их-то благополучной среде убийцы появиться не могут.
Романтическое представление, что все преступники испорчены, потому что обездолены, уже не популярно ни среди экспертов, ни среди обычных людей. Конечно, у многих психопатов была нелегкая жизнь, но это еще не значит, что нелегкая жизнь превращает человека в психопата. Есть старая шутка о двух социальных работниках, обсуждающих трудного ребенка: «Джонни вырос в неблагополучной семье». — «Да уж, Джонни любую семью может сделать неблагополучной». Лживые и бесчестные личности обнаруживаются в любых социальных стратах — существуют клептократы, жестокие эксплуататоры, военные диктаторы и финансисты-мошенники, а некоторые психопаты, вроде каннибала Джеффри Дамера, происходят из приличных семей, принадлежащих к сливкам среднего класса. Это не значит, что все люди, прибегающие к насилию и совершающие преступления, психопаты, но некоторые из худших — определенно.
Насколько нам известно, психопатов нельзя «вылечить». На самом деле психолог Марни Райс показала, что некоторые сомнительные идеи терапии (например, повысить самооценку психопатов, обучить их социальным навыкам) могут сделать их еще опаснее[75]. Но это не значит, что мы совсем ничего не можем сделать. Мили, например, продемонстрировала, что из двух охарактеризованных ею типов истинные психопаты не поддаются исправлению в программах, цель которых — заставить осознать причиненный вред, но они могут реагировать на более жесткие наказания, принуждающие их вести себя более ответственно исключительно в собственных интересах. Условные психопаты, в свою очередь, лучше реагируют на социальные изменения, которые не позволяют им остаться незамеченными. Неважно, насколько хороши эти рецепты, они пример того, как наука и политика могут решительно взяться за проблему, которую интеллектуалы XX века пытались игнорировать и которая всегда привлекала внимание церкви, философии и литературы, — существование зла.
* * *
По мысли Триверса, в основе всех отношений между людьми — наших связей с родителями, братьями и сестрами, романтическими партнерами, друзьями и соседями — лежит психология, сформированная совпадающими и расходящимися интересами. Но что можно сказать об отношениях, которые, согласно одной популярной песне, есть «величайшая любовь на свете», — отношениях с самим собой? В выразительном и довольно известном сегодня пассаже Триверс писал:
Если… обман — основа коммуникации у животных, значит, должен существовать мощный механизм отбора умения обнаруживать обман, и это, в свою очередь, должно привести к эволюции самообмана, переводящего некоторые факты и мотивы в бессознательное, чтобы они не выдали — слабыми знаками самопонимания, — что мы обманываем. Таким образом, общепринятое мнение, что естественный отбор благоволит нервной системе, которая дает нам максимально точное изображение мира, должно быть очень наивным взглядом на эволюцию разума[76].
Это общепринятое мнение может быть по большей части верным, когда касается материального мира, где ошибки могут повредить наблюдателю и реальность которого можно проверить с помощью свидетелей. Но, как замечает Триверс, оно может быть неверно, когда касается себя самого, той сущности, с которой человек соприкасается так, как у других никогда не получится, — здесь ошибки могут быть полезны. Иногда родители пытаются убедить ребенка в том, что они делают все для его же блага; дети хотят убедить родителей, что они не эгоисты, им просто нужно больше внимания; любовники хотят заставить друг друга поверить, что всегда будут хранить верность, а люди, не связанные родством, хотят убедить один другого, что они достойные партнеры. Порой это преувеличение, если не чистая выдумка, и, чтобы ускользнуть от чуткого радара собеседника, тот, кто произносит эти слова, должен сам верить в них, чтобы не заикаться, не потеть и не запутаться в противоречиях. Хладнокровным лжецам может, конечно, сойти с рук самая развесистая клюква, которой они потчуют незнакомцев, но человеку, чьим обещаниям нельзя верить, было бы трудно удержать друзей. Цена, которую мы платим за умение выглядеть достойными доверия, — это наша неспособность лгать с честным лицом. Значит, какая-то часть мозга должна верить собственной пропаганде, в то время как другая его часть должна удерживать достаточную долю правды, чтобы представление о себе не расходилось с реальностью.
Теория самообмана была предсказана социологом Эрвингом Гоффманом в его книге 1959 года «Самопрезентация в повседневной жизни» (The Presentation of Self in Everyday Life), которая оспаривала романтический взгляд, что под масками, которые мы демонстрируем, прячется истинное «Я». Нет, сказал Гоффман, там нет ничего, кроме масок. В последующие десятилетия его мнение было подтверждено рядом открытий[77].
Хотя современные психологи и психиатры склонны отвергать ортодоксальную теорию Фрейда, многие признают, что Фрейд был прав насчет защитных механизмов эго. Любой терапевт расскажет вам, что люди слишком часто оспаривают, отрицают или вытесняют из сознания неприятные факты, проецируют свою вину на других, превращают беспокоящие чувства в абстрактные философские проблемы, отвлекают себя занятиями, убивающими время, и рационализируют свои мотивы. Психиатры Рэндольф Несс и Алан Ллойд утверждают, что эти навыки нужны не для того, чтобы охранять свое «Я» от странных сексуальных желаний и страхов (вроде секса с собственной матерью), но представляют собой тактики самообмана: они подавляют свидетельства, что мы не настолько добры и мудры, как нам хотелось бы думать[78]. Как сказал Джефф Голдблюм в фильме «Большое разочарование»: «Рационализация важнее, чем секс». Когда его друг выразил сомнение, он спросил его: «А ты можешь хоть неделю без рационализации?»
Как мы видели в главе 3, когда человек страдает неврологическими расстройствами, здоровая часть мозга пускается во все тяжкие, чтобы объяснить ошибки, совершенные поврежденными частями(которые незаметны для эго, потому что они его часть), и представить себя как полноценного, здравомыслящего человека. Пациент, не способный узнать свою жену, когда видит ее, но при этом признает, что эта женщина выглядит и ведет себя в точности, как его жена, может решить, что в его доме живет великая притворщица. Пациентка, которая считала, что находится дома, увидев больничный лифт, не моргнув глазом заявила: «Вы не поверите, во сколько нам обошлась его установка»[79]. После того как судья Верховного суда Уильям Дуглас перенес инсульт, парализовавший одну сторону тела и приковавший его к коляске, он пригласил репортеров на прогулку и сообщил им, что собирается пробоваться в команду по американскому футболу Washington Redskins. Вскоре его заставили уйти в отставку после того, как он отказался признать, что с его суждениями что-то не в порядке[80].
В экспериментах по социальной психологии люди постоянно переоценивают собственные умения, честность, щедрость и самостоятельность. Они переоценивают свой вклад в общие усилия, считают, что успехами обязаны своим умениям, а провалами — случайностям, и всегда чувствуют, что другому участнику повезло больше[81]. Люди сохраняют эти выгодные для них иллюзии, даже когда их проверяют на, как им говорят, «точном детекторе лжи». Это доказывает, что они лгут не экспериментатору, они лгут самим себе. Каждый студент-психолог знает о «редуцировании когнитивного диссонанса» — процессе, в котором люди, чтобы создать себе позитивный образ в собственных глазах, с готовностью меняют свое мнение[82].
Хотя, если бы иллюстрация была полностью точной, жизнь стала бы какофонией щелчков.
Самообман — одна из глубочайших причин человеческих распрей и безумств. А отсюда следует, что способности, которые могли бы помочь уладить наши разногласия — поиск истины и ее рациональное обсуждение, — расстроены настолько, что каждая сторона считает себя более мудрой, способной и благородной, чем она есть в действительности. В споре каждый может искренне верить, что логика и доказательства на его стороне и что оппонент заблуждается, или нечестен, или и то и другое сразу[83]. Самообман — одна из причин того, что наше нравственное чувство нередко может, как это ни парадоксально, принести больше вреда, чем пользы, эту тему мы исследуем в следующей главе.
* * *
Выявленные Триверсом корни наших страданий не повод для жалоб и стенаний. Генетическая общность, которая соединяет и разделяет нас, трагична не в бытовом смысле, как катастрофа, но в более глубоком смысле, как стимул, который поощряет нас обдумывать условия нашего существования. В соответствии с определением в Кембриджской энциклопедии «основная цель трагедии… как утверждал Аристотель, — пробудить жалость и страх, ощущение чуда и благоговение перед возможностями человека, в том числе перед его способностью страдать; она провозглашает ценность человека перед лицом враждебной Вселенной». Взгляд Триверса на внутренние конфликты, присущие семье, паре, обществу и личности, может способствовать этой цели.
Возможно, природа сыграла с нами жестокую шутку, настроив эмоции самых близких друг другу людей вразлад, но этим она обеспечила стабильной работой поколения писателей и драматургов. Бесконечно число драматических ситуаций, когда два человека связаны самыми сильными эмоциональными узами и в то же время не всегда желают добра друг другу. Возможно, Аристотель был первым, кто заметил, что трагические сюжеты фокусируются именно на семейных отношениях. История двух незнакомцев, дерущихся насмерть, подчеркивал он, далеко не так интересна, как история двух братьев, вступивших в смертельную схватку. Каин и Авель, Иаков и Исав, Лай и Эдип, Майкл и Фредо Корлеоне, Джей Ар и Бобби , Фрейзер и Найлз , Иосиф и его братья, король Лир и его дочери, Ханна и ее сестры … Как неустанно подчеркивают составители каталогов драматических сюжетов, «вражда родственников» и «соперничество между родней» — сюжеты вечные[84].
В своей книге «Антигона» литературный критик Джордж Стaйнер показал, что легенда об Антигоне занимает особое место в западной литературе. Антигона была дочерью царя Эдипа и его жены Иокасты, но тот факт, что ее отец был одновременно братом, а бабушка — матерью Антигоны, был только началом ее семейных неприятностей. Проявив непокорность царю Креону, она похоронила своего убитого брата Полиника, и, когда царь об этом узнал, то приказал живьем замуровать ее в пещере. Антигона обманула его, успев покончить жизнь самоубийством раньше, из-за чего сын царя, безумно в нее влюбленный, не в силах вымолить для нее прощения, убил себя на ее могиле. Стайнер пишет, что «Антигона», по широко распространенному мнению, «не только прекраснейшая греческая трагедия, но произведение искусства, наиболее близкое к совершенству из всех творений человеческого духа»[85]. Пьеса не сходит со сцены уже больше двух тысячелетий и служит источником вдохновения для бесчисленных ремейков и вариаций. Стайнер объясняет ее вечную актуальность:
Я убежден, что из всех литературных текстов только этот описывает все главные составные части конфликта, присущего природе человека. Их пять: противостояние между мужчиной и женщиной, между стариками и молодежью, между обществом и личностью, между живым и мертвым, между человеком и богом (богами). Конфликты, порождаемые этими противостояниями, неизбежны. Мужчина и женщина, старик и молодой человек, личность и общество или государство, живой и мертвый, смертный и бессмертный определяют себя в конфликтном процессе определения друг друга[86]. В греческих мифах зашифрованы главные биологические и социальные противоречия и самовосприятие человека в истории, и поэтому они сохраняются как живое наследие в коллективной памяти и сознании[87].
Горькая радость самопознания через конфликты с другими не только тема для художественной литературы — этот процесс может пролить свет на природу наших эмоций и содержание сознания. Если бы джинн из бутылки предложил нам выбор между принадлежностью к виду, способному достичь идеального равенства и солидарности, и принадлежностью к виду вроде нашего, для которого самая большая ценность — отношения с родителями, детьми, братьями и сестрами, нетрудно догадаться, что бы мы выбрали. Близкие родственники занимают у нас особое место в сердце именно потому, что место для других человеческих существ по определению уже не такое особенное, и мы видим, что многие из социальных несправедливостей вытекают из этого обстоятельства. Социальные трения тоже продукт нашей особости и нашего стремления к счастью. Мы можем завидовать гармонии, царящей в колонии муравьев, но когда муравей Антц жалуется своему психоаналитику, что чувствует себя незаметным, тот отвечает: «Это большое достижение для тебя, Антц. Ты и есть незаметный».
Дональд Саймонс утверждал: за то, что мы вообще испытываем какие-то чувства к другим людям, нужно сказать спасибо генетическому конфликту[88]. Сознание — это проявление нейронных процессов обработки данных, необходимых, чтобы придумать, как получить все те редкие и непредсказуемые вещи, в которых мы нуждаемся. Мы чувствуем голод, смакуем пищу, наслаждаясь бесчисленными восхитительными вкусами, потому что еду на протяжении большей части нашей эволюционной истории было трудно добыть. В обычном состоянии мы не испытываем желания дышать или удовольствия от дыхания, не ощущаем прелести кислорода (хотя для нашего выживания он критически важен), потому что кислород всегда был в достатке. Мы просто дышим.
То же самое может быть верно для конфликтов с родственниками, партнерами и друзьями. Я уже упоминал, что, если бы мужчина и женщина в паре гарантированно соблюдали верность, отдавали друг другу предпочтение перед всеми родственниками и умирали в один день, их генетические интересы были бы идентичны и вложены в общих детей. Представьте себе вид, в котором каждая пара всю жизнь живет в изоляции на отдельном острове, а выросшие дети покидают их, чтобы никогда не вернуться. Так как генетические интересы в подобной паре были бы идентичны, на первый взгляд кажется, что эволюция должна одарить их блаженством идеальной сексуальной, романтической и партнерской любви.
Но Саймонс убежден, что ничего подобного бы не случилось. Отношения между партнерами превратились бы в нечто вроде отношений между клетками одного тела, чьи генетические интересы полностью совпадают. Клетки сердца или легких не обязаны влюбляться друг в друга, чтобы сосуществовать в идеальной гармонии. Пары у подобного вида занимались бы сексом только с целью размножения (зачем терять энергию?), и секс приносил бы им не больше удовольствия, чем все остальные репродуктивные физиологические процессы, такие как высвобождение гормонов или формирование гамет:
Не было бы никакой влюбленности, потому что не было бы никаких других вероятных партнеров, доступных для выбора, и влюбленность была бы совершенно лишней. Вы бы буквально любили партнера как самого себя, но вот в чем дело: на самом деле вы не любите самого себя, разве что метафорически; вы — это вы. Вдвоем вы были бы, с точки зрения эволюции, одна плоть, и ваши отношения управлялись бы простой физиологией… вы могли бы почувствовать боль, если бы увидели, что ваш партнер порезался, но все чувства к партнеру, которые делают отношения такими прекрасными, если все идет как надо (и такими болезненными, если нет), никогда бы не возникли. Даже если бы вид обладал такими чувствами до того, как выбрал подобный образ жизни, они были бы отбракованы эволюцией точно так же, как глаза рыбы, живущей в непроницаемом мраке пещеры, потому что цена их была бы высока, а никакой пользы они бы не приносили[89].
То же самое касается и наших чувств к семье и друзьям: для нас богатство и интенсивность испытываемых эмоций — доказательство ценности и хрупкости этих связей в нашей жизни. Короче говоря, без возможности страдания все, что у нас было бы, не гармония и счастье, а, скорее всего, отсутствие сознания вообще.
Глава 15. Лицемерное животное
Одна из глубочайших причин страха перед биологическим толкованием разума — то, что оно приведет к нравственному нигилизму. Если мы не созданы Богом для высшей цели, говорят критики правого толка, или если мы продукт эгоистичных генов, говорят критики левого толка, что же помешает нам стать аморальными эгоистами, каждый из которых заботится только о себе? Не должны ли мы тогда считать себя продажными корыстолюбцами, от которых не стоит ожидать заботы о тех, кому повезло меньше? И обе стороны приводят в пример нацизм как следствие взятых на вооружение биологических теорий человеческой природы.
В предыдущей главе показано, что эти страхи не оправданны. Ничто не мешает безбожному и аморальному процессу естественного отбора создать разумный социальный вид с развитым нравственным чувством[1]. На самом деле, возможно, беда Homo sapiens не в том, что у нас слишком мало морали. Возможно, проблема в том, что у нас ее слишком много.
Что заставляет людей расценивать какое-то действие как аморальное («убивать неправильно») в противоположность тому, что просто не нравится («терпеть не могу брокколи»), не модно («полоску в сочетании с клеткой не носят») или безрассудно («не стоит употреблять алкоголь в долгих перелетах»)? Люди чувствуют, что нравственные правила универсальны. Например, запрет на убийство и изнасилование — это не дело вкуса или моды, а безусловное и универсальное предписание. Люди чувствуют, что те, кто совершает аморальные поступки, должны быть наказаны не только потому, что это правильно — причинять вред людям, нарушившим моральные законы, но и потому, что неправильно не наказывать их, позволить, чтобы проступок сошел им с рук. Можно с легкостью сказать: «Я не люблю брокколи, но ты ешь, если хочешь, мне все равно», но никто не скажет: «Мне не нравятся убийства, но, если хочешь убить кого-нибудь, я не возражаю». Вот почему сторонники права на выбор не учитывают главного, когда клеят на бампер стикер: «Если вы против абортов, не делайте их». Если кто-то считает, что аборт аморален, тогда позволять другим людям делать аборты — недопустимый выбор, так же как нельзя позволять людям насиловать и убивать. Поэтому люди чувствуют себя вправе требовать божественного возмездия или силового вмешательства государства, чтобы добиться наказания. Бертран Рассел писал: «Причинение страдания с чистой совестью — удовольствие для моралистов, вот почему они придумали ад».
Наше нравственное чувство разрешает агрессию против других как способ предотвратить аморальные действия или наказать за них. Все идет хорошо, если действие, названное аморальным, действительно аморально по любой мерке, как убийство или изнасилование, и если агрессия применяется честно и служит средством сдерживания. Главная мысль этой главы в том, что нравственное чувство человека не всегда надежная опора для решений о том, какие поступки должны быть выбраны в качестве мишени для справедливого негодования. Нравственное чувство — это устройство, точно такое же, как стереоскопическое зрение или интуитивные представления о числах. Это совокупность нейронных сетей, собранная наспех из более старых частей мозга, доставшихся нам в наследство от приматов, и приспособленная к этой работе естественным отбором. Это не значит, что нравственность — обман воображения. Ведь эволюция восприятия глубины не значит, что трехмерное пространство — обман зрения. (Как мы видели в главах 9 и 11, морали присуща внутренняя логика, и, возможно, она даже соответствует внешней реальности, которую может определить сообщество вдумчивых мыслителей, так же как сообщество математиков может выявить истины о числах и формах.) Но это значит, что нравственное чувство подвержено причудам и склонно к систематическим ошибкам — моральным иллюзиям, так же как и прочие наши способности.
Вот вам история:
Джулия и Марк — брат и сестра. На летних каникулах в колледже они вместе путешествуют по Франции. Однажды ночью они были одни в палатке на пляже. Они решили, что будет интересно и забавно попробовать заняться любовью. По крайней мере, это будет новый опыт для каждого из них. Джулия уже принимала противозачаточные таблетки, но Марк использовал и презерватив тоже, просто для безопасности. Им обоим понравилось, но они решили никогда больше не делать этого. Они сохранили эту ночь как свой особый секрет, что сделало их еще ближе друг к другу. Что вы думаете по этому поводу: было ли это нормально для них — заниматься любовью?
Психолог Джонатан Хайдт и его коллеги рассказывали эту историю множеству людей[2]. Большинство из них моментально заявляли: то, что сделали Марк и Джулия, было неправильно, и затем начинали подыскивать причины почему. Они говорили об опасности близкородственного скрещивания, но им напомнили, что брат и сестра использовали два вида контрацепции. Они предполагали, что Джулия и Марк должны быть эмоционально травмированы, но в истории ясно сказано, что этого не случилось. Они доказывали, что это действие могло оскорбить общество, но затем вспоминали, что пара решила держать все в секрете. Они считали, что это может навредить будущим отношениям, но признавали, что Джулия и Марк договорились никогда не делать этого снова. В итоге многие респонденты признавались: «Я не знаю, я не могу объяснить почему, но я просто знаю, что это неправильно». Хайдт назвал это «нравственным потрясением» и вызывал его другими раздражающими, но безвредными сценариями:
Женщина наводила порядок в шкафу и нашла старый флаг своей страны. Он ей не был нужен, так что она разрезала его на кусочки, которые использовала для уборки туалета.
Собаку, любимицу семьи, перед домом сбила машина. Хозяева слышали, что собачье мясо — это деликатес, поэтому разделали собаку, приготовили и съели на обед.
Мужчина раз в неделю ходит в супермаркет и покупает сырую курицу. Сначала он использует ее для сексуального удовлетворения. Затем готовит из нее еду.
Многие философы, занимающиеся вопросами морали, сказали бы, что в этих действиях нет ничего страшного, потому что акты частной жизни, совершенные взрослыми людьми по согласию и не причиняющие вреда другим чувствующим существам, не аморальны. Некоторые могут критиковать эти действия, используя более тонкие аргументы, касающиеся верности принципам, но и тогда эти проступки минимальны в сравнении с действительно ужасными преступлениями, на которые способны люди. Но для всех прочих такая аргументация неубедительна. У людей есть внутреннее чутье, из которого произрастают страстные моральные убеждения, и они изо всех сил пытаются рационализировать их задним числом[3]. Эти убеждения имеют мало общего с моральными суждениями, которые можно обосновать с точки зрения принесенного ими счастья или страдания. Они — продукт нейробиологического и эволюционного устройства, которое мы называем нравственным чувством.
* * *
Некоторое время назад Хайдт свел воедино данные о естественной истории эмоций, составляющих нравственное чувство[4]. Они делятся на четыре основных семейства — как раз такие, как можно было ожидать, учитывая теорию Триверса о взаимном альтруизме и результаты компьютерного моделирования эволюции сотрудничества. Эмоции порицания других — презрение, гнев и отвращение — побуждают наказывать обманщиков. Эмоции восхваления других — благодарность и эмоции, которые можно назвать поклонением, восхищением и признательностью, — побуждают вознаграждать альтруистов. Эмоции сопереживания другим — сочувствие, сострадание и эмпатия — побуждают помогать нуждающемуся. И наконец, эмоции, направленные на себя, — вина, стыд и смущение — побуждают избегать обмана или исправлять его последствия.
Наряду с этими видами эмоций мы обнаруживаем три области морали, в каждой из которых моральные суждения формулируются по-своему. Этика независимости относится к индивидуальным интересам и правам. В качестве главной добродетели здесь выступает справедливость. Этика независимости — самая суть морали, как ее понимают неверующие образованные представители западной культуры. Этика общности свойственна обычаям социальной группы; она включает в себя ценности вроде долга, уважения, соблюдения договоренностей и почтение к иерархии. Этика Божественности касается чувства высшей чистоты и святости, которое противопоставляется чувству загрязнения и осквернения.
Трихотомия независимость-общность-Божественность впервые была сформулирована антропологом Ричардом Шведером, который заметил, что в незападных традициях сформированы богатые системы убеждений и ценностей со всеми отличительными чертами морали, однако без западной концепции прав личности[5]. Сложная система представлений и ритуалов, сопровождающая очищение у индусов, — яркий тому пример. Хайдт и психолог Пол Розин продолжили работу Шведера, однако они интерпретировали области морали не как случайные культурные вариации, а как универсальные умственные способности, различающиеся своими функциями и эволюционным происхождением[6]. Они показали, что области морали отличаются когнитивным содержанием, наличием аналогов у других животных, психологическими коррелятами и нейронной основой.
Гнев, например, представляет собой эмоцию порицания в сфере независимости. Она развилась из систем агрессии и задействуется в стратегии наказания обманщиков, которая используется для нужд взаимного альтруизма. Отвращение — эмоция порицания в сфере Божественности, выросшая из систем избегания биологического заражения — болезней и испорченной пищи. Эту систему можно использовать, чтобы очертить нравственный круг, отделяющий существ, к которым мы относимся морально (люди), от тех, к которым мы относимся инструментально (животные), и тех, кого мы активно избегаем (люди с инфекционными заболеваниями). Смущение, эмоция из сферы общности, направленная на себя, — это аналог жеста примирения и подчинения, наблюдаемого у других приматов. Власть смешалась здесь с моралью, потому что взаимность зависит не только от желания человека дарить и возвращать блага, но и от его возможности делать это, а у доминирующей личности она есть.
Релятивисты могут интерпретировать эти три области морали как доказательство того, что права личности — это исключительно западная традиция и что мы должны уважать этику общности и Божественности других культур как равно приемлемые альтернативы. Но я считаю, что устройство нравственного чувства заставляет представителей любых культур путать оправданные моральные суждения с неуместными страстями и предубеждениями. Этика независимости, или справедливости, на самом деле не исключительно западная; Амартиа Сен и ученый-правовед Мэри Энн Глендон показали, что она имеет глубокие корни и в азиатском образе мыслей[7]. И наоборот, этика общности и Божественности свойственна и Западу. Этика общности, которая ставит знак равенства между нравственностью и соответствием местным нормам, лежит в основе культурного релятивизма, повсеместно распространившегося в студенческих кампусах. Профессора не раз замечали, что их ученики не в состоянии объяснить, почему нацизм — это плохо. Студенты считают, что критиковать ценности других культур непозволительно[8]. (Я и сам могу подтвердить, что студенты сегодня автоматически защищают свои моральные суждения, сообщая что-то вроде: «Наше общество придает большое значение хорошему отношению к другим людям».) Суждения людей выворачиваются наизнанку, когда они переключаются с морали независимости на мораль общности, и вот как это прокомментировал Дональд Саймонс:
Если какой-то один человек схватит до смерти перепуганную, сопротивляющуюся, кричащую маленькую девочку, отрежет ее гениталии грязным лезвием и зашьет рану, оставив только маленькое отверстие для мочи и менструальной крови, единственный вопрос будет — насколько сурово он должен быть наказан и будет ли достаточным наказанием смертная казнь. Но когда это делают миллионы, то ненормальность происходящего не кажется в миллион раз большей, а явление внезапно превращается в «культуру» и волшебным образом становится менее, а не более ужасающим, и в его защиту даже выступают некоторые западные «моральные философы», в том числе феминистки[9].
Соблюдение существующей иерархии тоже часть этики общности, и разум (включая западный) легко объединяет авторитет с моралью. Это можно видеть на примере слов, которые подразумевают равнозначность статуса и добродетели, — рыцарский, классный, джентльменский, знатный, благородный, и низкий ранг приравнивают к греху — низкий, голодранец, дешевка, убожество, деревенщина. Миф о «благородстве благородных» прослеживается и в поклонении современным знаменитостям. Члены королевских семей — принцесса Диана или ее американский эквивалент, Джон Кеннеди-младший, увенчаны атрибутами святости, хотя они и не были исключительными людьми с точки зрения морали (да, Диана занималась благотворительностью, но это на самом деле скорее профессиональная обязанность принцесс в наши дни). Внешняя привлекательность подсвечивала их нимб еще сильнее, потому что люди воспринимают красивых мужчин и женщин как более добродетельных[10]. Принца Чарльза, который также занимается благотворительностью, никогда не увенчают атрибутами святости, даже если он трагически погибнет.
И даже на светском Западе люди путают нравственность с чистотой. Вспомним главу 1, где говорилось, что многие слова, обозначающие чистоту и грязь, символизируют добродетель и грех (чистый, незапятнанный, грязный и т. д.). Испытуемые в экспериментах Хайдта подобным же образом связывали понятия загрязнения и греха, когда осуждали обед из собаки, секс с сырой курицей и инцест по договоренности (что отражает наше инстинктивное отвращение к сексу с братьями и сестрами, эмоцию, которая сформировалась в ходе эволюции, чтобы предотвращать близкородственное скрещивание).
Мысленное уравнивание чистого и хорошего может иметь ужасные последствия. Расизм и сексизм часто проявляются как желание избежать загрязнения. В этом же ряду стоят остракизм, которому подвергается каста неприкасаемых в Индии, изоляция женщин в период менструации в ортодоксальном иудаизме, страх заразиться СПИДом при бытовом контакте с геем, отдельные помещения для приема пищи, мытья и сна для чернокожих в период действия сегрегационных «законов Джима Кроу» в США и режима апартеида и законы о «расовой гигиене» в нацистской Германии. Одна из самых мучительных загадок XX века — почему так много обычных людей совершали военные преступления? Философ Джонатан Гловер обнаружил, что общий знаменатель здесь — унижение: снижение статуса или чистоты жертвы либо и того и другого. Если кто-то лишает человека достоинства, отпуская шуточки по поводу его страданий, выставляет в унизительном виде (дурацкий колпак, нелепая тюремная роба, грубо обритая голова) или заставляет жить в грязи, сострадание обычных людей может испариться и они с легкостью начнут относиться к нему как к животному или неодушевленному объекту[11].
Наше нравственное чувство путает справедливость, статус и чистоту, и поэтому доверять ощущениям в решении сложных нравственных вопросов нужно с осторожностью. В знаменитом эссе, озаглавленном «Мудрость отвращения» (The Wisdom of Repugnance), Леон Касс (председатель Совета по биоэтике при администрации Джорджа Буша) утверждал, что мы должны отказаться от рассуждений на темы морали, когда дело касается клонирования, и довериться нашему внутреннему чутью:
Перспектива клонирования человека отталкивает нас не только своей новизной и необычностью, но потому, что мы интуитивно чувствуем надругательство над вещами, которые нам безоговорочно дороги. Отвращение здесь, как и везде, восстает против неумеренности человеческого своеволия, предупреждая нас не переходить границы того, что невероятно велико и значительно. На самом деле в наше время, когда все позволено, пока делается добровольно, когда наша человеческая природа больше не внушает уважения, когда наши тела считаются просто инструментами нашей автономной рациональной воли, отвращение, возможно, единственный оставшийся голос, выступающий в защиту самой сути гуманизма. Мелки те души, которые не способны содрогнуться[12].
Против клонирования человека можно было бы привести веские аргументы, но тест на содрогание — не из их числа. Люди содрогаются перед всеми видами нарушений стандартов чистоты, принятых в их культуре, пусть и не имеющими никакого отношения к морали: прикосновение к неприкасаемому, питье из фонтанчика, из которого пил чернокожий, смешение еврейской крови с арийской, сексуальные отношения между мужчинами на добровольной основе. Не так давно, в 1978 году, многие люди (включая Касса) содрогались перед новой технологией искусственного оплодотворения, или, как тогда говорили, «детей из пробирки». Но сегодня это приемлемо с точки зрения морали, и искусственное оплодотворение стало источником величайшего счастья для сотен тысяч людей.
Разница между обоснованной нравственной позицией и атавистическим внутренним чутьем состоит в том, что в первом случае мы можем привести доводы, почему наши убеждения верны. Мы можем объяснить, почему пытки, убийства и изнасилования — это плохо или почему мы должны противостоять дискриминации и несправедливости. С другой стороны, убедительной причины для дискриминации гомосексуалов или для расовой сегрегации привести невозможно. Убедительную причину для обоснования какой-либо моральной позиции не высосешь из пальца: она всегда касается того, что приносит людям добро или же причиняет им вред, и опирается на логику, согласно которой мы должны относиться к другим так же, как хотим, чтобы они относились к нам.
* * *
Еще одна странная особенность моральных эмоций — то, что их можно включать и выключать, словно тумблер. Такие переключения в уме называются морализацией и аморализацией, и некоторое время назад их стали изучать в лаборатории Пола Розина[13]. Суть процесса — смена образа мыслей, который судит о поведении с точки зрения предпочтений, на образ мыслей, который судит о поведении с точки зрения ценностей.
Существует два вида вегетарианцев: те, кто отказывается от мяса из соображений здоровья, а именно снижает содержание жира и токсинов в рационе, и те, кто избегает мяса по моральным причинам — из уважения к правам животных. Розин показал, что по сравнению с вегетарианцами, которых волнует здоровье, моральные вегетарианцы называют больше причин для отказа от мяса, более эмоционально на него реагируют и склонны воспринимать его как загрязняющее вещество: например, они отказываются есть суп, в который попала капля мясного бульона. Моральные вегетарианцы чаще считают, что другие люди тоже должны быть вегетарианцами, и склонны приписывать своим пищевым предпочтениям странные достоинства: например, они убеждены, что мясоеды более агрессивны и ведут себя, как животные. Но не только вегетарианцы ассоциируют пищевые привычки с нравственными ценностями. Когда студентам колледжа предложили описания двух человек и попросили оценить их характер, они решили, что тот, кто предпочитает гамбургеры и милкшейки, менее добрый и отзывчивый, чем тот, кто ест курицу и салат!
Как отмечает Розин, некоторое время назад курение стало морализованно. Многие годы решение, курить или нет, считалось вопросом предпочтений или благоразумия — некоторым просто не нравится курить или они избегают курения из соображений здоровья. Но после того, как были обнаружены вредные последствия пассивного курения, курение стало считаться аморальным. Курильщиков изгоняют и демонизируют — в игру вступила психология отвращения и заражения. Некурящие избегают не только самих курильщиков, но и всего, что когда-либо было с ними в контакте: в гостиницах они требуют комнату или даже этаж для некурящих. Схожим образом возникает желание покарать: суды назначают табачным компаниям огромные штрафы, которые именуются, соответственно, «штрафными убытками». Это не значит, что такие решения несправедливы, просто мы должны понимать, какие эмоции приводят их в действие.
В то же время многие виды поведения были аморализованы, переведены (в глазах многих) из разряда порока в выбор стиля жизни. Эти акты аморализации распространяются на развод, внебрачных детей, работающих матерей, курение марихуаны, гомосексуальность, мастурбацию, анальный секс, оральный секс, атеизм и любые проявления незападной культуры. Точно так же некоторые невзгоды стали считаться не расплатой за грех, а превратностями судьбы и соответственно именоваться. Бездомных раньше называли босяками и бродягами, а заболевания, передающиеся половым путем, — венерическими. Многие специалисты, работающие сегодня с наркозависимыми, настаивают, что это не пагубный выбор, а своего рода болезнь.
С точки зрения правых, как в случае секты, называющей себя «Моральное большинство», все это показывает, что мораль находится под угрозой со стороны культурной элиты. Левые же считают, что желание стигматизировать личный выбор людей архаично и репрессивно, как сформулировал определение пуританства Г. Менкен: «Это изматывающий страх, что кто-то где-то может быть счастлив». Обе стороны не правы. Словно в качестве компенсации за все то поведение, что было аморализовано в последние десятилетия, сегодня набирает силу кампания по морализации новых его видов. Обывателей и пуритан сменили сторонники государства-няньки и университетских городков с собственной внешней политикой, но психология морализации та же самая. Вот несколько примеров вещей, которые совсем недавно приобрели нравственную окраску:
• реклама, адресованная детям • автомобильная безопасность • куклы Барби • сетевые гипермаркеты • эротические фото • одежда, сшитая на фабриках третьего мира • безопасность товаров широкого потребления • фермы, принадлежащие корпорациям • научные исследования на средства военных ведомств • одноразовые подгузники • одноразовая упаковка • шутки о национальности • зарплаты топ-менеджеров • фастфуд • флирт на рабочем месте • пищевые добавки • мех • дамбы гидроэлектростанций • тесты IQ • заготовка леса • горное дело • ядерная энергия • добыча нефти • владение некоторыми акциями • птицефабрики • государственные праздники (День Колумба, День Мартина Лютера Кинга) • исследования СПИДа • исследования рака груди • физические наказания • пригороды • сахар • сокращение налогов • игрушечные пистолеты • телевизионная жестокость • вес фотомоделей
Конечно, многое из перечисленного может повлечь за собой нежелательные последствия, и никто не хочет, чтобы они считались обычным делом. Вопрос в том, как лучше с ними обходиться: в рамках психологии морализации (с ее поисками виноватых, возвышением обвинителей и привлечением официальных лиц для наложения взысканий) или с точки зрения затрат и выгод, осторожности и риска, хорошего и плохого вкуса. Загрязнение окружающей среды, например, часто воспринимается как осквернение святыни — в песне рок-группы Traffic говорится: «Почему бы … не попытаться сохранить эту землю, почему бы не пообещать не причинять ей вреда». Этому отношению можно противопоставить подход экономистов вроде Роберта Франка, который, ссылаясь на затраты по очистке, сказал: «Так же, как существует приемлемое количество грязи в вашем доме, существует и оптимальный уровень загрязнения окружающей среды».
Более того, любая человеческая деятельность имеет свои последствия, и частенько разным ее участникам достается разное количество вреда и пользы, но не все последствия считаются аморальными. Мы не выказываем презрения человеку, который, не поменяв батарейки в системе пожарной сигнализации, отправился с семьей в отпуск на автомобиле (повышая риск случайной гибели) или переехал жить в отдаленное место (увеличивая загрязнение среды и расход топлива при поездках на работу и по магазинам). Водить прожорливый спорткар считается сомнительным с точки зрения морали, а такой же неэкономичный «Вольво» — нет; тот, кто ест бигмак, вызывает подозрения, а тот, кто ест импортный сыр и тирамису, — нет. Знание психологии морализации не сделает нас нравственно невосприимчивыми. Наоборот, это может настроить нас на то, что решения судить какой-то поступок с точки зрения греха и добродетели, а не с точки зрения затрат и выгод принимались не на основе нравственности, а, например, исходя из принадлежности предполагаемых святых и грешников к дружеской или же противоборствующей коалиции. Примечательно, что движение, которое сегодня называют «социальным критицизмом», состоит по большей части из представителей высших классов, осуждающих вкусы низших классов (вульгарные развлечения, фастфуд, неразумное потребление), считая себя при этом поборниками равенства.
* * *
Есть еще одна особенность нравственной психологии, которая обычно ассоциируется с примитивным мышлением, но она прекрасно прижилась и в современном сознании: понятие святости и табу. Некоторые ценности считаются не просто важными, они сакрализуются и обретают бесконечную и сверхъестественную важность, перевешивающую любые другие соображения. Запрещено даже думать о том, чтобы отдать предпочтение другим ценностям, потому что сама мысль об этом очевидно греховна и заслуживает только осуждения и негодования.
Психолог Филип Тетлок пытался понять психологию святости и табу у студентов американских университетов[14]. Он спрашивал их, можно ли разрешить людям покупать и продавать органы для трансплантации, продавать разрешения на усыновление сирот на аукционах, платить за право стать гражданином, продавать голос на выборах или платить человеку, чтобы тот отслужил за кого-то в армии или отбыл чужой срок тюремного заключения. Неудивительно, что большинство студентов считали, что такие действия неэтичны и должны быть запрещены. Но они демонстрировали больше, чем просто несогласие: они были возмущены, что кто-то может раздумывать над легализацией подобных практик, были оскорблены самим вопросом и хотели наказать каждого, кто не высказывался против. Когда их попросили обосновать свое мнение, все, что они могли сказать: «Это деградация и дегуманизация, это абсолютно неприемлемо». В негодовании студенты даже собрались участвовать в кампании против (выдуманного) движения за легализацию продажи права на усыновление. Их возмущение чуть поутихло, но полностью не исчезло, когда им представили аргументы в защиту табуированных стратегий, например, что рынок сирот позволит большему количеству детей обрести любящую семью и что людям с низким доходом будут давать бесплатные ваучеры на участие в аукционах.
В другом исследовании людей спрашивали об администраторе больницы, который должен решить, на что потратить $1 млн — на пересадку печени больному ребенку или на нужды медицинского учреждения. (Руководители по умолчанию постоянно сталкиваются с подобным выбором, так как некоторые спасающие жизнь процедуры стоят астрономически дорого и их невозможно проводить всем, кому они необходимы.) И участники опроса не только хотели наказать администратора, если он потратил деньги на больницу, они хотели наказать его и в том случае, если он слишком долго думал, прежде чем принять решение в пользу ребенка (как сделал скуповатый герой комика Джека Бенни, когда грабитель сказал ему: «Кошелек или жизнь!»).
Табу на размышления о главных ценностях не абсолютно иррационально. Мы судим о человеке не только по поступкам, но и по личностным качествам: не просто дает ли кто-то больше, чем берет, но и не из тех ли он, кто продаст с потрохами или воткнет тебе нож в спину, если когда-нибудь это будет ему выгодно. Чтобы определить, насколько человек тебе предан и можно ли на него положиться, нужно выяснить, как он думает: либо твои интересы для него святы, либо он оценивает их в сравнении с выгодами, которые может получить, предав тебя. Понятие «характер» дополняет нравственный портрет, а вместе с ним и понятие нравственной идентичности: представление человека о самом себе, которое устойчиво присутствует в сознании и которое он проецирует на других.
Тетлок подчеркивает: сама природа наших обязательств перед другими предполагает отрицание того, что мы способны наклеивать на других людей ценники. «Нарушить эти нормативные границы, приписать денежную ценность чьей-то дружбе, или ребенку, или верности собственной стране — значит лишить себя права играть определенные социальные роли, показать, что ты просто не понимаешь, что значит быть настоящим другом, родителем или гражданином»[15]. Компромиссы в отношении табу, которые противопоставляют священные ценности секулярным (таким, как деньги), «морально разлагают: чем дольше человек обдумывает неподобающие предложения, тем больше он компрометирует собственную нравственную идентичность»[16].
К несчастью, отношение к чему-то желаемому как к беспрекословной ценности может привести к абсурду. Тетлок рассматривает некоторые примеры. В 1958 году поправка Делани к Закону о продуктах питания и лекарствах в интересах здоровья населения запретила новые пищевые добавки, вызывающие малейшие подозрения в канцерогенности. Звучало хорошо, но на самом деле все обстояло иначе. Эта стратегия оставила людей незащищенными перед более опасными пищевыми добавками, которые уже присутствовали на рынке, это мотивировало производителей выпускать новые опасные добавки при условии, что они не канцерогенны, и это привело к запрету продуктов, которые могли спасти больше жизней, чем поставить под угрозу, например сахарин, необходимый диабетикам. Точно так же после обнаружения опасных сбросов в Лав-Канал в 1978 году Конгресс подписал Общий закон о воздействии на окружающую среду (Superfund Act), компенсациях и ответственности, который требовал полной расчистки всех свалок вредных отходов. Но оказалось, что удаление последних 10 % загрязнений в конкретном месте стоит миллионы долларов — деньги, которые можно было бы потратить на расчистку других свалок или на снижение других угроз здоровью. Так что богатые фонды исчерпались полностью еще до того, как хотя бы часть этих мест была обеззаражена, и неясно, как все это повлияло на здоровье американцев. После разлива нефти из танкера Exxon Valdez четыре пятых респондентов одного опроса сказали, что страна должна стремиться к большей защите окружающей среды, «невзирая на затраты». Если понимать их слова буквально, это означало, что они были готовы закрыть все школы, больницы, полицейские участки и пожарные станции, перестать финансировать социальные программы, медицинские исследования, помощь другим государствам и национальную безопасность или повысить налоги до 99 %, если бы именно столько стоила защита окружающей среды.
По словам Тетлока, такого рода фиаско случаются, потому что любого политика, честно обсуждающего неизбежные компромиссы, распнут за нарушение табу. Он будет объявлен виновным в том, что «мирится с ядами в наших еде и питье» или, того хуже, что «измеряет стоимость человеческой жизни деньгами». Политические аналитики отмечают, что мы зашли в тупик со своими разорительными и несправедливыми программами социальной защиты, потому что любой политик, который попытается реформировать их, совершит политическое самоубийство. Ушлые оппоненты преподнесут реформы на языке табу: «разрушают нашу веру в мудрость старших», «предают священное доверие ветеранов, рисковавших жизнью за свою страну», «экономят на медицине и образовании для молодежи».
В предисловии я назвал «чистый лист» священной доктриной, а идею человеческой природы — современным табу. Сейчас это можно принять в качестве рабочей гипотезы. Задачей радикального научного движения было морализировать научные исследования разума и задействовать менталитет табу. Вспомним описанные в части II негодование и гнев, наказание еретиков, отказ рассматривать утверждения в той форме, в которой они были сформулированы, и нравственное очищение через демонстрации, манифесты и публичные разоблачения. Вейценбаум осуждал идеи, «само обдумывание которых должно вызывать чувство отвращения», и объявил нелюдями ученых, которые «могут даже думать о подобных вещах». Но конечно, это работа ученых — думать о разных вещах хотя бы для того, чтобы доказать, что они неверны. Поэтому мораль и наука часто приходят в противоречие.
* * *
Безжалостное препарирование человеческого нравственного чувства не доказывает, что мораль — это притворство или что каждый моралист — лицемерный резонер. Возможно, нравственная психология чересчур сосредоточена на эмоциях, но в то же время многие философы доказывают, что мораль не может строиться только на рассудке. Как писал Юм, «готовность предпочесть разрушение целого мира царапине на моем пальце разуму не противоречит»[17]. Эмоции сочувствия, благодарности и вины — источник бесчисленных добрых поступков, больших и малых, и на протяжении истории умеренный праведный гнев и этическая твердость придавали сил великим моральным лидерам.
Гловер отмечает, что ужасы и зверства XX века пришли в движение, когда ослабели нравственные чувства. Приличных людей втягивали в совершение кошмарных преступлений всяческими аморализациями — утопической идеологией, пошаговыми решениями (в которых цель бомбометания постепенно смещается от отдельно стоящих заводов к заводам рядом с жилыми районами, а затем и на сами жилые районы) и бюрократическим распылением ответственности. Именно простые нравственные чувства — сопереживание жертвам, нравственные вопросы, обращенные к самому себе: «Такой ли я человек, который способен сделать это?» — останавливали человека на полпути к преступлению. Нравственное чувство, подкрепленное рассуждением и знанием истории, — это то, что стоит между нами и безжалостным психопатическим кошмаром в стиле «Безумного Макса».
Тем не менее в морализации есть много такого, чего следует опасаться: путаница понятий нравственности, статуса и чистоты; соблазн морализаторства в оценочных суждениях, тем самым оправдывающих агрессию против тех, с кем мы не согласны; табу на размышления о неизбежных компромиссах; а также всеобщий порок самообмана, которому всегда удается поставить самого себя на сторону добра. Гитлер был моралистом (и даже вегетарианцем по моральным причинам) и, по многим свидетельствам, был убежден в высокой нравственности своих мотивов. Как писал историк Ян Бурума: «Это еще раз показывает, что те, кто верит искренно, могут быть опаснее циничных манипуляторов. С последними можно заключить сделку, первые пойдут до конца — и утащат за собой весь мир»[18].
ЧАСТЬ V. ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ
Некоторые споры так прочно увязаны с нравственной идентичностью человека, что возникает страстное желание, чтобы они когда-нибудь были разрешены с помощью размышлений и доказательств. Социальные психологи обнаружили, что в спорных вопросах морали, особенно тех, по которым не могут прийти к согласию либералы и консерваторы, каждый участник дискуссии интуитивно уверен, что прав именно он и что его противники руководствуются скрытыми низкими мотивами. Они приводят аргументы в поддержку своей позиции из уважения к общественным нормам, предписывающим обосновывать свое мнение, но, когда их доводы опровергаются, они не меняют свою точку зрения, а стараются найти новые. Дебаты по моральным вопросам, вместо того чтобы разряжать атмосферу, только накаляют ее, потому что, когда люди, принадлежащие к другому лагерю, не сдаются немедленно, для их оппонентов это лишь свидетельство того, что они невосприимчивы к доводам рассудка[1].
И нет более ярких тому подтверждений, чем темы, которые я буду рассматривать в этой части книги. Мнения людей по вопросам политики, насилия, пола, детей и искусства помогают определить, какими они себя представляют и какими хотели бы быть. Они должны демонстрировать, что люди выступают против подавления, насилия, сексизма, ханжества и не согласны мириться с жестоким отношением к детям. К несчастью, эти убеждения подразумевают некоторые допущения о психологическом портрете Homo sapiens. Так что мыслящие люди могут обнаружить, что, сами того не подозревая, придерживались определенных позиций по эмпирическим вопросам биологии и психологии. Новые научные данные редко полностью соответствуют нашим ожиданиям; если бы соответствовали, зачем вообще была бы нужна наука? Но когда на пути фактов встает какая-нибудь «священная корова», люди склонны замалчивать их и подавлять споры, потому что факты угрожают святым для них вещам. И это может оставить нас беззащитными как раз перед теми проблемами, для решения которых больше всего нужны новые данные и подходы.
Ландшафт наук о человеческой природе усыпан опасными вопросами, горячими точками, черными дырами и радиоактивными зонами. Для изучения в следующих главах я выбрал пять из них, от многих других (например, расы, сексуальная ориентация, образование, наркотики, психические заболевания) по необходимости пришлось отказаться. Социальные психологи обнаружили, что даже в самых горячих идеологических баталиях есть возможность нащупать общую почву[2]. Для этого каждая сторона должна признать, что оппоненты тоже дискутируют, опираясь на искренние убеждения, и что обе стороны разделяют определенные ценности и спорят только о том, какие из них важнее в том или ином случае. Цель моего дальнейшего исследования — отыскать эту общую почву.
Глава 16. Политика
Смешно — я думаю порой, Что так природой нам дано: С рождения малыш любой Девчонка, мальчик — все равно, Иль мини-либерал какой, Иль консерватор — вот чудно![1]Гилберт и Салливан в 1882 году были по большей части правы: либеральные или консервативные политические предпочтения в основном, хотя и не полностью, передаются по наследству. Когда опрашивают взрослых близнецов, разлученных в детстве, их политические взгляды оказываются сходными, с коэффициентом корреляции 0,62 (по шкале от –1 до +1)[2]. Либеральные и консервативныевзгляды наследуются, конечно, не потому, что синтезируются прямиком из ДНК, а в силу того, что они свойственны людям с разными темпераментами. Консерваторы, в частности, обычно более авторитарны и добросовестны и склонны придерживаться традиций и правил. Но каким бы образом ни осуществлялось наследование, преемственность политических взглядов может объяснить, почему между консерваторами и либералами то и дело проскакивают электрические разряды. Когда дело касается унаследованных установок, люди реагируют быстрее и эмоциональнее, реже меняют свое мнение и тяготеют к людям с похожими взглядами[3].
Конечно, либерализм и консерватизм имеют не только генетические корни, но и исторические, и интеллектуальные. Эти две политические идеологии были изложены еще в XVIII столетии в терминах, которые показались бы знакомыми любому читателю газет и сегодня, и их корни можно проследить на тысячелетия назад, до политических дебатов в Древней Греции. На протяжении последних трех столетий немало копий было сломано вокруг этих философий, то же самое происходит и сегодня, на выборах в органы управления в демократических странах.
Эта глава посвящена тому, как науки о человеческой природе связаны с политическим расколом между правой и левой философиями. Эта связь не секрет. Как давно заметили философы, и та и другая точки зрения представляют собой систему не только политических, но и эмпирических убеждений, опирающихся на различные концепции человеческой природы. Не удивительно, что науки о человеческой природе настолько взрывоопасны. Идеи эволюционной психологии, поведенческой генетики и некоторых разделов когнитивной нейронауки часто воспринимаются как высказывания в поддержку политических правых, а в современных университетах это, пожалуй, худшее, что можно о ком-либо сказать. Но невозможно постичь смысл жарких споров на темы мозга, разума, генов и эволюции, не понимая их связи с давними политическими расхождениями. Эдвард Уилсон осознал это слишком поздно:
Я был ослеплен атакой [на «Социобиологию»]. Ожидая некоторого фронтального огня со стороны социологов — преимущественно на доказательных основаниях, я вместо этого подвергся нападению с политического фланга. Некоторые наблюдатели даже были удивлены моему удивлению. Джон Мейнард Смит, ведущий британский эволюционный биолог и бывший марксист, утверждал, что ему самому не понравилась последняя глава «Социобиологии», и сказал: «Мне также было абсолютно ясно, — я не мог поверить, что Уилсон этого не знал, — что она спровоцирует большую враждебность со стороны американских марксистов и марксистов в общем». Но это было правдой… В 1975 году я был политически наивен: я не знал практически ничего о марксизме ни как о политическом убеждении, ни как о методе исследования, я не обращал внимания на деятельность левых активистов и никогда не слышал о движении «Наука для народа». Я даже не был интеллектуалом в том смысле, который вкладывают в это слово в Европе, Нью-Йорке и Кембридже[4].
Как мы скоро увидим, новые науки о человеческой природе действительно перекликаются с идеями, которые исторически были ближе правым, чем левым. Но сегодня расстановка сил не так очевидна. Обвинения, что эти науки безнадежно консервативны, исходят от левого полюса, мифического места, откуда все дороги идут направо. Политические объединения, придерживающиеся веры в человеческую природу, сегодня пересекаются с либерально-консервативной системой координат, и многие политологи обращаются к эволюции и генетике, отстаивая левые стратегии.
* * *
Науки о человеческой природе нажимают одновременно на две горячие политические клавиши, а не на одну. Первая — это наше осмысление сущности, известной как «общество». Политический философ Роджер Мастерс показал, как социобиология и связанные с ней теории, обращающиеся к эволюции, генетике и наукам о мозге, ненамеренно заняли противоположные позиции в древнем споре двух традиций понимания общественного устройства[5].
В социологической традиции общество — это спаянная органическая сущность, а отдельный индивидуум — всего лишь ее часть. Считается, что люди по природе социальны и функционируют как элементы крупного суперорганизма. Это традиция Платона, Гегеля, Маркса, Дюркгейма, Вебера, Крёбера, социолога Толкотта Парсонса и антрополога Клода Леви-Стросса, а также постмодернизма в гуманитарных и социальных науках.
В экономической традиции, или традиции общественного договора, общество — это результат соглашения, достигнутого разумными индивидами, действующими в собственных интересах. Общество возникает, когда люди согласны пожертвовать частью своей автономии в обмен на безопасность от нападения других людей, обладающих собственной автономией. Это традиция Фрасимаха из платоновской «Республики», Макиавелли, Гоббса, Локка, Руссо, Адама Смита и Иеремии Бентама. В XX веке она стала фундаментом для модели рационального экономического поведения или «экономического человека» в экономических и политических науках и для анализа издержек и результатов правительственных решений.
Современная теория эволюции прекрасно согласуется с традицией общественного договора. Она отстаивает мысль, что сложные адаптации, в том числе поведенческие стратегии, эволюционируют в интересах индивидуума (действительно, гены этих черт находятся внутри него), а не для блага общества, вида или экосистемы[6]. Социальная организация развивается, когда долгосрочные выгоды для индивида перевешивают непосредственные затраты. На Дарвина оказал влияние Адам Смит, и многие из его последователей анализируют эволюцию социальности, используя инструменты, заимствованные у экономики, такие как теория игр и другие методы оптимизации.
Взаимный альтруизм, в частности, — это та же традиционная концепция общественного договора, переформулированная в терминах биологии. Конечно, люди никогда не были отшельниками (как ошибочно предполагали Руссо и Гоббс), и они не учреждали совместную жизнь, обсуждая условия общественного договора в определенном месте в определенное время. Банды, кланы, племена и другие социальные группы — основа человеческого бытия и существуют столько, сколько существует человек как вид. Но возможно, именно логика общественных договоров способствовала эволюции умственных способностей, которые удерживают нас в этих группах. Социальные образования обусловлены эволюционными обстоятельствами и возникают тогда, когда преимущества совместного существования перевешивают издержки[7]. Будь экосистема или эволюционная история немного другой, мы могли бы закончить подобно нашим кузенам орангутангам, которые почти поголовно одиночки. И в соответствии с эволюционной биологией все общества — у животных и у людей — охвачены конфликтами интересов и удерживаются вместе непостоянными комбинациями доминирования и сотрудничества.
На протяжении всей книги мы наблюдали, как науки о человеческой природе сталкиваются с социологической традицией. Социальные науки придерживались доктрины, что социальные явления живут в собственной вселенной, отдельно от вселенной индивидуальных разумов. В главе 4 мы познакомились с альтернативной концепцией, согласно которой культуры и общества возникают, когда отдельные люди объединяют свои открытия и заключают неявные соглашения, которые лежат в основе социальной реальности. Мы видели, что отступление от социологической парадигмы считалось главной ересью уилсоновской «Социобиологии» и что приоритет общества был основополагающей идеей марксизма, повинной в его пренебрежении интересами отдельного человека.
Расхождение социологической и экономической традиций соотносится с разделением между политическими левыми и политическими правыми. Марксизм явно принадлежит социологической традиции, а консерватизм свободного рынка очевидно — экономической. В либеральных 1960-х Линдон Джонсон хотел выковать «великое общество», Пьер Трюдо — «справедливое общество». В консервативных 1980-х Маргарет Тэтчер сказала: «Нет такой вещи, как общество. Есть отдельные мужчины и женщины, и есть семьи».
Но, как указывает Мастерс, Дюркгейм и Парсонс придерживались социологической традиции, хотя и были консерваторами. Нетрудно увидеть, как консервативные убеждения могут приветствовать сохранение общества как самостоятельной сущности, тем самым обесценивая желания индивидуумов. С другой стороны, Локк придерживался традиции общественного договора, а ведь он — святой покровитель либерализма, и Руссо, автор выражения «общественный договор», тоже вдохновлял либералов и революционеров. Общественный договор, как любой контракт, может стать несправедливым для некоторых подписавших его сторон и, возможно, должен постоянно пересматриваться или заново переписываться в ходе революций.
Так что столкновение социологической и экономической традиций отчасти может объяснить напряженность, вызванную науками о человеческой природе, но все же оно не идентично жарким перестрелкам между политическими левыми и политическими правыми. В остальной части главы я внимательно рассмотрю вторую — более горячую клавишу.
* * *
На оси правый-левый размещается поразительный набор убеждений, которые, как кажется на первый взгляд, не имеют ничего общего. Например, если вы узнаете, что кто-то выступает за сильную армию, вы с уверенностью сможете предположить, что он будет высказываться в пользу судебного ограничения, а не судебного активизма . Если кто-то верит в важность религии, велики шансы, что он будет поддерживать ужесточение уголовных наказаний и снижение налогов. Сторонники свободного рынка, как правило, ценят патриотизм и семью, и, скорее всего, это пожилые, а не молодые люди, прагматики, а не идеалисты, они критичны, а не снисходительны, меритократы, а не эгалитаристы, сторонники постепенного развития в противоположность революции, и, с большей вероятностью, это бизнесмены, а не ученые или госслужащие. Кластер противоположных позиций столь же предсказуем: если кто-то сочувствует реабилитации правонарушителей, или политике равных возможностей, или щедрым социальным программам, или толерантности к гомосексуальности, велики шансы, что он пацифист, защитник окружающей среды, активист, эгалитарист, антиклерикал, профессор или студент.
Почему, ради всего святого, должны убеждения человека относительно секса предсказывать его убеждения относительно размеров вооруженных сил? Что общего имеют религия и налоги? Каким образом возникает связь между буквальным толкованием конституции и неприятием скандальных перформансов современного искусства? Прежде чем мы сможем понять, почему убеждения относительно врожденной человеческой природы могут объединяться с либеральными или консервативными взглядами, мы должны понять, почему одни либеральные убеждения группируются с другими либеральными убеждениями, а консервативные — с консервативными.
Значения слов нам здесь не помогут. В Советском Союзе и странах социалистического блока марксистов считали консерваторами, а Рейгана и Тэтчер называли революционерами. Либералы ратуют за свободу сексуального поведения, но против свободного рынка; консерваторы хотят законсервировать землячества и традиции, но в то же время выступают за экономику свободного рынка, которая разрушает их. Людей, считающих себя «классическими либералами», приверженцев левой политики, известной как «политкорректность», скорее всего, назовут консерваторами.
Большинство современных либералов и консерваторов не могут даже сформулировать суть своей системы убеждений. Либералы думают, что консерваторы просто аморальные плутократы, а консерваторы считают, что, если ты не либерал, пока тебе нет 20 лет, у тебя нет сердца, но если ты либерал после того, как тебе исполнилось 20, — у тебя нет мозгов (авторство фразы приписывалось Жоржу Клемансо, Уильяму Инге, Бенджамину Дизраэли и Морису Метерлинку). Стратегические альянсы (например, между религиозными фундаменталистами и технократами, поддерживающими свободный рынок, — справа или между сторонниками политики идентичности и гражданскими либертарианцами — слева) вряд ли помогут отыскать какой-нибудь общий знаменатель. Каждодневные политические дебаты, на которых обсуждается вопрос, должны ли налоги быть такими, какие они сейчас, либо на несколько пунктов выше или ниже, точно так же неинформативны.
Самая серьезная попытка исследовать глубинный подтекст предпринята в книге Томаса Сауэлла «Конфликт воззрений» (A Conflict of Visions)[8]. Не каждая идеологическая борьба вписывается в его схему, но, как мы, социологи, говорим, он определил фактор, который может дать объяснение большей их части. Сауэлл рассматривает два «воззрения» на природу человека, которые в самом чистом виде были изложены Эдмундом Бёрком (1729–1797), отцом секулярного консерватизма, и Уильямом Годвином (1756–1836), британским «эквивалентом» Руссо. В те времена о них можно было говорить как о разных взглядах на совершенствование человека. Сауэлл назвал их «ограниченное видение» и «свободное видение»; я буду называть их «трагическое видение» (этот термин Сауэлл использовал в более поздней работе) и «утопическое видение»[9].
Согласно трагическому видению, люди по своей природе ограничены в знаниях, мудрости и добродетели, и любое социальное устройство должно учитывать эти ограничения. «Смертному — смертное!», — писал Пиндар. «Из кривого дерева человечества ничего прямого не сделаешь», — писал Кант. Трагическое видение ассоциируется с Гоббсом, Бёрком, Смитом, Александром Гамильтоном, Джеймсом Мэдисоном, юристом Оливером Уэнделлом Холмсом (младшим), экономистами Фридрихом Хайеком и Милтоном Фридманом, философами Исайей Берлином и Карлом Поппером и ученым-правоведом Ричардом Познером.
Согласно утопическому видению, психологические ограничения — это артефакты, порожденные социальным устройством, и мы не должны позволять им мешать нам разглядывать то, что возможно в лучшем мире. Кредо утопического видения могло бы быть таким: «Некоторые люди видят вещи такими, какие они есть, и спрашивают: почему? Я мечтаю о вещах, которые никогда не существовали, и спрашиваю: почему нет?» Эту фразу часто приписывают иконе либерализма 1960-х Роберту Кеннеди, но на самом деле она принадлежит перу фабианского социалиста Джорджа Бернарда Шоу (он еще написал: «Нет ничего, что можно было бы поменять настолько кардинально, как человеческую природу, — если взяться за дело достаточно рано»)[10]. Утопическое видение ассоциируется с Руссо, Годвином, Кондорсе, Томасом Пейном, юристом Эрлом Уорреном, экономистом Джоном Гэлбрейтом и в меньшей степени с политическим философом Рональдом Дворкином.
Согласно трагическому видению, наши нравственные чувства, даже самые благодетельные, покоятся на скальном основании эгоизма. Этот эгоизм — не жестокость и не агрессия психопата, а беспокойство за собственное благополучие, которое настолько присуще нашему внутреннему устройству, что мы редко замечаем его, и, сокрушаясь по этому поводу или пытаясь от него избавиться, только зря потеряли бы время. В книге «Теория нравственных чувств» (The Theory of Moral Sentiments) Адам Смит рассуждает так:
Предположим, что обширная Китайская империя с ее миллионным населением внезапно проваливается вследствие землетрясения, и посмотрим, какое впечатление произведет это ужасное бедствие на самого человеколюбивого европейца, не находящегося ни в каких отношениях с этой страной. Я полагаю, что он прежде всего опечалится таким ужасным несчастьем целого народа; он сделает несколько грустных размышлений о непрочности человеческого существования и суете всех замыслов и предприятий человека, которые могут быть уничтожены в одно мгновение. Если он одарен философским складом ума, то может высказать свои соображения о последствиях такого события для европейской торговли и даже для торговли прочих стран мира. По окончании же своих философских рассуждений, выразив все, что было вызвано его человеколюбием, он опять обратится к своим делам и к своим удовольствиям или же отдастся отдохновению с таким спокойствием и равнодушием, как будто катастрофы вовсе и не случилось. Малейший случай, касающийся его лично, оказал бы на него большее впечатление: если бы на следующий день ему должны были отрезать палец, то он не спал бы целую ночь; и если только землетрясение угрожает не той стране, в которой он живет, то погибель многих миллионов людей не нарушит его сна и менее опечалит его, нежели самая ничтожная личная неудача[11] .
Более того, согласно трагическому видению, человеческая натура не меняется. Такие традиции, как религия, семья, социальные обычаи, сексуальные нравы и политические институты, — квинтэссенция проверенных временем техник, позволяющих нам обойти изъяны человеческой природы. Они так же пригодны для человека сегодня, как и тогда, когда появились, даже если никто сейчас не сможет дать им разумного объяснения. Как бы ни было несовершенно нынешнее общество, мы должны соизмерять его с жестокостью и лишениями реального прошлого, а не с гармонией и изобилием воображаемого будущего. Нам повезло жить в обществе, которое так или иначе работает, и главный приоритет для нас — не проморгать его, потому что человеческая природа всегда заставляет нас балансировать на грани варварства. А поскольку нет такого умника, который смог бы предсказать поведение даже одного человека, а уж тем более миллионов, взаимодействующих в обществе, нам не стоит доверять никаким рецептам изменения общества сверху вниз, потому что это, скорее всего, повлечет за собой нежелательные последствия, худшие, чем проблемы, для решения которых они были придуманы. Самое большее, на что мы можем надеяться, — это постепенные изменения, которые постоянно контролируются с помощью обратной связи, отражающей сумму хороших и плохих последствий. Это также значит, что мы не должны ставить себе целью окончательное решение таких проблем общества, как преступность или бедность, потому что в мире конкурирующих индивидов выигрыш одного человека может быть проигрышем другого. Лучшее, что мы можем делать, — это сравнивать издержки того или иного выбора. Говоря известными словами Бёрка, написанными о последствиях Великой французской революции:
Необходимо, чтобы к ошибкам государства относились с таким же благоговением и трепетом, как к ранам отца. Благодаря этому мудрому предрассудку мы научились с ужасом смотреть на детей своей страны, которые с легкостью и быстротой рубят престарелого отца на куски и бросают их в кипящий котел в надежде, что их ядовитые зелья и дикие заклинания восстановят тело родителя и вдохнут в него новую жизнь[12] .
Согласно же утопическому видению, человеческая природа меняется вместе с социальными условиями, так что традиционные институты не представляют собой вечной ценности. Тогда было тогда, а сейчас — это сейчас. Традиции — мертвая рука прошлого, попытка управлять из могилы. Они должны быть четко охарактеризованы и критически изучены, чтобы убедиться в их целесообразности и моральном статусе. И многие традиции не проходят этот экзамен: домашнее заточение женщин, клеймо позора на гомосексуальности и добрачном сексе, религиозные предрассудки, апартеид и сегрегация, опасности патриотизма, представленные безумным слоганом: «Права она или нет — это моя страна». Такие практики, как абсолютная монархия, рабство, войны и патриархат, когда-то казались неизбежными, но исчезли или поблекли во многих регионах мира благодаря изменениям в институтах, казавшихся когда-то неотделимыми от человеческой природы. Более того, существование страдания и несправедливости ставит перед нами нравственный императив, отрицать который невозможно. Мы не знаем, чего можем добиться, пока не попытаемся, и альтернатива покориться злу как общепринятой норме — немыслима. На похоронах Роберта Кеннеди его брат Эдвард процитировал одну из речей Роберта:
Каждого из нас обязательно будут судить, и по прошествии лет мы точно будем судить себя сами, оценивая те усилия, которые мы посвятили строительству нового мирового сообщества, и то, до какой степени наши цели и идеалы определяли эти усилия.
Будущее принадлежит не тем, кто довольствуется сегодняшним днем, одинаково равнодушен к другим людям и к общим проблемам, робок и нерешителен перед лицом новых идей и смелых проектов. Скорее оно будет принадлежать тем, кто может соединить предвидение, здравый смысл и мужество в личной преданности идеалам и великим делам американского общества.
Наше будущее может лежать за пределами нашего видения, но оно не полностью вне нашего контроля. Именно созидательный импульс Америки — не рок, не природа, не непреодолимый прибой истории, а работа наших собственных рук, наш разум и принципы — вот что будет определять нашу судьбу. В этих словах есть гордость и даже высокомерие, но есть и опыт, и истина. И так или иначе, это единственный путь для нас[13].
Тех, кому присуще трагическое видение, не впечатлишь громкими декларациями от первого лица во множественном числе: «мы», «наше» и «нас». Скорее они используют местоимения так, как это делал герой комиксов опоссум Пого: «Мы встретили врага, и он — это мы». Мы все — представители одного и того же несовершенного вида. Претворять наши моральные воззрения в жизнь — значит диктовать нашу волю другим. Человеческая жажда власти и признания, склонность к самообману и самооправданию превратят подобные действия в приглашение к гибели, и хуже всего, когда власть нацеливается на такую нереальную задачу, как искоренение личной заинтересованности человека. Как писал философ-консерватор Майкл Оукшотт: «Пытаться сделать то, что в принципе невозможно сделать, — всегда развращающее занятие».
В результате эти два вида мыслителей занимают противоположные позиции по вопросам, которые, как кажется, имеют мало общего. Утопическое видение стремится четко сформулировать социальные цели и изобретает стратегии, которые нацелены непосредственно на них: экономическое неравенство атакуется в войне с бедностью, загрязнение окружающей среды регулируется экологическими нормативами, расовый дисбаланс — преференциями, карциногены — запретами на пищевые добавки. Трагическое видение в ответ напоминает о личной заинтересованности людей, которые будут применять эти стратегии, — а конкретно, о расширении их бюрократических вотчин — и об их неспособности предвидеть бесчисленное множество последствий, особенно в случаях, когда достижению социальных целей противостоят миллионы людей, преследующих собственные интересы. Так, по мнению представителей трагического видения, утописты не способны предвидеть, что социальные выплаты могут поощрять зависимость и что запрет одного загрязняющего вещества может побудить людей использовать другое.
Вместо этого трагическое видение обращено на системы, которые дают нужные результаты, даже если ни один член системы не отличается особым умом и добродетелью. С этой точки зрения рыночная экономика достигает своей цели: вспомните смитовских мясника, пивовара и булочника, обеспечивающих нам обед не из благожелательности, а преследуя собственные интересы. Ни один выдающийся ум не должен вникать в запутанное движение товаров и услуг, составляющее экономику, с целью предсказать, кто нуждается в чем, где и когда. Права собственности мотивируют людей работать и производить; договоренности позволяют им пользоваться доходами от торговли. Цены дают производителям и потребителям информацию о дефицитах и спросе, так что они могут реагировать, следуя нескольким простым правилам: делай больше того, что приносит прибыль, покупай меньше дорогих товаров — а «невидимая рука рынка» сделает все остальное. Разумность системы распространяется на миллионы не обязательно разумных производителей и потребителей и не может быть отнесена ни к кому конкретно.
Люди с утопическим видением указывают на провалы экономики, порожденные слепой верой в свободный рынок. Они также призывают обратить внимание на несправедливое распределение богатства, свойственное свободным рынкам. Их оппоненты с трагическим видением возражают, что понятие справедливости имеет смысл, только когда касается решений людей, принимаемых в рамках закона, а не в отношении абстракции, называемой «общество». Фридрих Хайек писал: «Если бы способ, каким права и обязанности распределяются рыночным механизмом, был результатом спланированного распределения между конкретными людьми, во многих смыслах он должен был бы расцениваться как весьма несправедливый». Но эта озабоченность социальной справедливостью основана на недоразумении, заявляет он, потому что «[стихийно возникающие] обстоятельства не могут быть справедливыми или несправедливыми»[14].
Часть сегодняшних столкновений между левыми и правыми напрямую вытекает из разницы их философских систем: большое или маленькое правительство, высокие или низкие налоги, протекционизм или свободная торговля, меры по снижению нежелательных последствий (бедности, неравенства, расового дисбаланса) или меры, которые всего лишь уравнивают условия игры и обеспечивают соблюдение правил. Причины других противоречий не так очевидны, они кроются в противоположных взглядах на человеческий потенциал. Трагическое видение упирает на фидуциарные обязанности (даже когда человек, выполняющий их, не может увидеть их сиюминутной ценности), потому что они позволяют несовершенным существам, которые не могут быть уверены в своей добродетели или способности к предвидению, являться частью проверенной системы. Утопическое видение акцентирует социальную ответственность, когда люди в своих поступках придерживаются высоких этических стандартов. В известной теории нравственного развития, принадлежащей Лоренсу Кольбергу, готовность отказаться от правил в пользу абстрактных принципов была буквально отождествлена с «высшей степенью» этого самого развития (которой, как и следовало ожидать, большинство людей никогда не достигнут).
Самый очевидный пример — дебаты о строгом конструкционизме и судебном ограничении, с одной стороны, и судебном активизме в погоне за социальной справедливостью — с другой. Эрл Уоррен, председатель Верховного суда США с 1954 по 1969 год, был классическим судебным активистом, который заставил суд провести десегрегацию и расширить права обвиняемых. Он был известен своей манерой перебивать адвокатов в середине выступления вопросами: «Это правильно? Это хорошо?» Противоположный взгляд выражал Оливер Уэнделл Холмс, сказавший, что его работа — «следить, чтобы игра велась по правилам, нравятся они мне или нет». Он признавал, что «улучшить условия жизни людей — самое главное», но добавлял: «Но как, черт возьми, я могу быть уверен, что не сделаю их еще хуже в другом месте?»[15] Те, кто склонен к трагическому видению, думают, что судебный активизм поощряет самомнение и своеволие судей и несправедлив к тем, кто играет по заявленным правилам. Утопическое видение расценивает судебное ограничение как бессмысленное сохранение субъективной несправедливости (как сказал мистер Бамблби у Диккенса: «Закон — осёл»[16]). Позорный пример — дело Дреда Скотта 1856 года, в котором Верховный суд, опираясь на букву закона, постановил, что освобожденный бывший раб не может судиться, чтобы подтвердить свою свободу официально, и что Конгресс не имеет права запрещать рабство на федеральных территориях.
Радикальные политические реформы, как и радикальные судебные реформы, будут более или менее заманчивыми для человека в зависимости от его уверенности в человеческом интеллекте и мудрости. Утопическое видение предполагает, что решение социальных проблем не вызовет трудностей. Рассуждая в 1967 году об условиях, порождающих насилие, Линдон Джонсон сказал: «Все мы знаем, что это за условия: необразованность, дискриминация, трущобы, бедность, болезни и безработица»[17]. Если мы уже знаем решение, то все, что нам нужно сделать, — это претворить его в жизнь, а для этого требуются только прямота и настойчивость. По той же логике любой, кто сопротивляется решению проблемы, слеп, непорядочен и бессердечен. Трагическое же видение говорит, что решения социальных проблем труднодостижимы. Неизбежные конфликты интересов оставляют нам не так много возможностей, и все они не идеальны. Оппоненты радикальных реформ обоснованно не доверяют завышенной самооценке, свойственной людям.
Политическая ориентация университетов — еще одно проявление конфликтующих представлений о человеческом потенциале. Сторонники трагического видения не доверяют знаниям, изложенным в четко сформулированных заявлениях, подтвержденных словами, которых в избытке у академиков, ученых мужей и политических аналитиков. Они верят знаниям, которые равномерно распределены внутри системы (таким, как рыночная экономика или социальные нормы) и регулируются множеством простых агентов, использующих обратную связь с реальностью. Когнитивным ученым это напомнит о разнице между символическими репрезентациями и децентрализованными нейронными сетями, и это не совпадение: Хайек, ведущий приверженец идеи распределенного интеллекта в обществах, был одним из первых разработчиков искусственных нейронных сетей[18]. Бо́льшую часть XX века характеристикой политического консерватизма был некоторый антиинтеллектуализм, пока консерваторы не решили поиграть в догонялки в битве за сердца и умы и не начали финансировать политические аналитические центры как противовес университетам.
И наконец, разногласия по поводу преступности и войны — прямое следствие конфликтующих теорий человеческой природы. Учитывая очевидную жестокость и ущерб от войн, приверженцы утопического видения воспринимают их как своего рода патологию, возникающую из-за непонимания, недальновидности и иррациональных страстей. Войны необходимо предотвращать публичным выражением пацифистских чувств, улучшением коммуникации между потенциальными врагами, нужно меньше военной риторики, запасов оружия и военных союзов, надо не акцентировать патриотизм, а вести переговоры, задача которых — избежать войны любой ценой. Сторонники трагического видения, с их циничным мнением о человеческой природе, видят войну как разумную и соблазнительную стратегию для людей, думающих, что благодаря ей смогут получить какие-то выгоды для себя или страны. Возможно, подобные расчеты так или иначе ошибочны и морально недостойны, поскольку не придают никакого значения страданиям проигравших, но они не патологичны и не иррациональны в буквальном смысле слова. С этой точки зрения единственный способ укрепить мир — увеличить стоимость войны для потенциальных агрессоров, изобретая новое оружие, возбуждая патриотизм, вознаграждая храбрость, щеголяя своей мощью и решимостью и ведя переговоры с позиции силы, чтобы избежать шантажа.
Те же самые рассуждения приводят к расхождению взглядов на преступность. Люди с утопическим видением считают преступность по сути иррациональной и ищут способы предотвратить ее, исследуя ее глубинные причины. Люди с трагическим видением видят в преступности рациональное зерно и очевидные причины: люди грабят банки, потому что там хранятся деньги. Наиболее эффективная программа предотвращения преступлений, говорят они, — воздействовать на рациональные мотивы. Высокая вероятность неприятного наказания повышает предполагаемую цену преступления. Публичный акцент на личной ответственности усиливает мотивацию законопослушности, закрывая любые лазейки, оставленные законом. А строгие воспитательные меры помогают детям усвоить эти ограничения еще в детстве[19].
* * *
И по этому минному полю решил прогуляться ничего не подозревающий Эдвард Уилсон. Ничто не могло бы сильнее оскорбить обладателей утопического видения, чем идеи эволюционной биологии и поведенческой генетики, которые стали известны широкой публике в 1970-х. Это видение, в конце концов, основано на «чистом листе» (никакой постоянной человеческой природы), «благородном дикаре» (никаких эгоистичных и жестоких инстинктов) и «духе в машине» (ничем не ограниченные «мы», которые могут выбрать лучшее социальное устройство). И вот пожалуйста — ученые, толкующие об «эгоистичных генах»! И утверждающие, что цель эволюции — не процветание вида, а процветание индивидуума и его родни (как бы в подтверждение заявления Тэтчер, что «нет такой вещи, как общество»). Что люди скупятся на альтруизм, потому что он уязвим для мошенников. Что в догосударственных обществах мужчины воюют, даже если не испытывают недостатка в пище, поскольку статус и женщины — постоянно действующие мотивы естественного отбора. Что нравственное чувство необъективно и склонно к самообману. И что конфликты генетических интересов изначально заложены в социальных животных, что обрекает нас на постоянные трагедии. Это выглядело так, будто ученые говорили приверженцам трагического видения: «Вы правы, а они нет».
Утописты, особенно те, что принадлежали к движению радикальных ученых, принялись возражать, утверждая, что новые результаты исследований человеческого интеллекта и мотивации к делу не относятся. Они говорят нам только о том, чего мы уже достигли в современном обществе, а не о том, чего мы можем добиться в будущем. Так как мы знаем, что социальное устройство может меняться, если только мы захотим его изменить, любой ученый, рассуждающий об ограничениях человеческой природы, видимо, хочет, чтобы угнетение и несправедливость продолжались.
Я считаю, что новые науки о человеческой природе действительно подтверждают некоторые версии трагического видения и подрывают утопическую точку зрения, которая до последнего времени доминировала в интеллектуальной жизни. Наука, конечно, ничего не говорит о различиях в ценностях, которые ассоциируются конкретно с правой или с левой позицией (например, о выборе между безработицей и защитой окружающей среды, между разнообразием и экономической эффективностью, между личной свободой и социальной сплоченностью). Не комментирует она и политические стратегии, основанные на сложных комплексах представлений о мире. Но она говорит о тех аспектах мировоззрения, которые представляют собой общие постулаты о том, как работает разум. Эти постулаты, как и любую эмпирическую гипотезу, можно сверить с фактами. Утопическое видение, что человеческая природа может радикально измениться в каком-то воображаемом обществе в отдаленном будущем, конечно, невозможно опровергнуть в строго научном смысле, но я думаю, что многие из открытий, описанных в предыдущих главах, делают это утверждение маловероятным. Среди них я бы выделил следующие:
• Главенство семейных связей во всех человеческих обществах и вытекающая из него привлекательность непотизма и наследования[20].
• Ограниченная область действия общинного распределения в группах людей, где больше распространена этика взаимности и, как результат, феномен социальной лености и отказ от участия в общественном благе, когда не осуществим принцип взаимности[21].
• Повсеместность доминирования и насилия в человеческих обществах (включая предположительно миролюбивых охотников-собирателей) и существование генетических и неврологических механизмов, лежащих в основе подобного поведения[22].
• Универсальность этноцентризма и других форм групповой враждебности во всех обществах и легкость, с которой эта враждебность может быть возбуждена в людях нашего собственного общества[23].
• Частичная наследуемость интеллекта, добросовестности и антиобщественных склонностей, подразумевающая, что некоторая степень неравенства будет возникать даже в идеально справедливой экономической системе и что мы всегда будем стоять перед вечным выбором между равенством и свободой[24].
• Распространенность защитных механизмов, корыстных склонностей и механизмов редуцирования когнитивного диссонанса, с помощью которых люди обманывают себя насчет своей независимости, мудрости и честности[25].
• Особенности человеческого нравственного чувства, включая предпочтение родни и друзей, ментальность табу и тенденцию путать мораль с конформностью, статусом, чистоплотностью и красотой[26].
О том, что пластичность разума не беспредельна, говорят не только научные данные. Я думаю, не случайно убеждения, распространенные среди интеллектуалов в 1960-х, — демократии устарели, революция желательна, без полиции и армии можно обойтись, общество можно изменить сверху вниз — сегодня встречаются реже. Трагическое и утопическое видение вдохновили исторические события, значение которых сегодня гораздо яснее, чем всего несколько десятилетий назад. Эти события могут послужить в качестве дополнительных данных для проверки двух разных взглядов на психологию человека.
Трагическое и утопическое видение наиболее остро контрастируют в политических революциях, которые они породили. Первой революцией с утопическим видением была Французская — вспомните описание тех времен у Вордсворта: «Природа человека возродилась вновь». Она опрокинула дореволюционный режим и стала пытаться построить новый, вооружившись идеалами свободы, равенства и братства и верой, что спасение придет, если у руля государства встанут высоконравственные лидеры. Революция, конечно, посылала на гильотину одного лидера за другим, по мере того как каждый из них проигрывал сравнение с узурпаторами, убежденными, что именно они вправе притязать на мудрость и добродетель. Ни одной политической структуре не удалось избежать человеческих потерь — и позже этот вакуум заполнит Наполеон. Социалистическая революция в России тоже была вдохновлена утопическим видением и так же последовательно уничтожала лидеров, пока не выродилась в культ личности Сталина. И Китайская революция возлагала надежды на благожелательность и мудрость человека (который, если уж на то пошло, продемонстрировал особенно много человеческих слабостей вроде жажды власти, алчности и самообмана). Неизбежные ограничения человеческой природы доказывают тщетность политических революций, основанных исключительно на нравственных чаяниях революционеров. В песне группы The Who, посвященной революции, говорится: «Встречайте нового босса; такого же, как прежний».
Сауэлл подчеркивает, что марксизм представляет собой гибрид двух видений[27]. Он обращается к трагическому видению, трактуя прошлое, когда более ранние способы производства не оставляли иного выбора, кроме форм социальной организации, известных как феодализм и капитализм. Но в отношении будущего, в котором мы сможем сформировать нашу природу в диалектическом взаимодействии с материальной и социальной средой, он использует видение утопическое. В этом новом мире основным мотивом человека будет самореализация, а не своекорыстие, что позволит нам реализовать идеал «От каждого — по способностям, каждому — по потребностям». Маркс писал, что коммунистическое общество будет
действительным разрешением противоречия между человеком и природой, человеком и человеком, подлинным разрешением спора между существованием и сущностью, между опредмечиванием и самоутверждением, между свободой и необходимостью, между индивидом и родом. Он — решение загадки истории[28].
Его идеи не могли быть еще менее трагическими или еще более утопическими. Маркс отвергает беспокойство, что власть и эгоистичность развратят тех, кто выполняет общую волю. Например, он развеивает опасения анархиста Михаила Бакунина, что рабочие у власти могут стать деспотичными: «Если бы господин Бакунин был знаком хотя бы с позицией управляющего в рабочем кооперативе, он бы послал к дьяволу все свои кошмары о власти»[29].
Во времена расцвета радикальной науки любое предположение о человеческой природе, конфликтовавшее с марксистским видением, отвергалось как априори неверное. Но история — это своего рода эксперимент, хотя и не идеально контролируемый, и исторические данные наводят на мысль, что неверна именно радикальная оценка. Марксизм сейчас почти повсеместно считается провалившимся экспериментом, по крайней мере в его практическом воплощении[30]. Государства, руководствовавшиеся им, или развалились, либо отказались от этой идеологии, либо чахнут в отсталых диктатурах. Как мы видели в предыдущих главах, желание изменить человеческую природу превратило марксистских лидеров в тоталитарных деспотов и массовых убийц. И допущение, что при централизованном планировании руководители были морально бескорыстны и достаточно компетентны для того, чтобы управлять экономикой целой страны, привело к комической неэффективности с серьезными последствиями. Даже более человечные формы европейского социализма были размыты до состояния, когда внутри так называемых коммунистических партий существовали платформы, которые вполне можно назвать реакционными. Уилсон, мировой эксперт по муравьям, возможно, оставил за собой последнее слово в своем вердикте марксизму: «Прекрасная теория. Просто не тот биологический вид»[31].
* * *
«Дважды ура демократии», — заявлял Эдвард Форстер. «Демократия — худшая форма правления, если не считать всех остальных, которые были опробованы», — говорил Уинстон Черчилль. Таковы панегирики в духе трагического видения. Несмотря на все свои недостатки, либеральная демократия кажется наилучшей формой крупномасштабной социальной организации, какую наш жалкий вид до сей поры смог изобрести. Она обеспечивает больше комфорта и свободы, больше творческой и исследовательской энергии, более долгую и безопасную жизнь, меньше болезней и загрязнения окружающей среды, чем любая из альтернатив. Современные демократии никогда не знали голода, практически никогда не вступают в войны друг с другом и являются приоритетным выбором для людей всего мира, голосующих ногами (или лодками). Сегодня многие согласны, что умеренные успехи демократий в сравнении с провалами радикальных революций и марксистских правительств могут служить еще одной практической проверкой соперничающих теорий человеческой природы.
Современная концепция демократии возникла в XVII и XVIII веках в Англии и была усовершенствована в процессе буйного теоретизирования, сопровождавшего американское движение за независимость. Не случайно, что главные идеологи общественного договора, такие как Гоббс, Локк и Юм, были также крупными психологами-теоретиками. Как писал Мэдисон: «Что такое правительство, как не концентрированное отражение человеческой природы?»[32]
Умы, стоявшие за Американской революцией (которую часто называют оксюмороном «консервативная революция»), унаследовали трагическое видение от мыслителей, подобных Гоббсу и Юму[33]. (Примечательно, что на отцов-основателей Руссо, похоже, не повлиял вовсе, а популярное мнение, что они позаимствовали идею демократии у ирокезов, — выдумка 1960-х[34]). Ученый-правовед Джон Макгиннис считал, что их теории человеческой природы могли бы вытекать непосредственно из современной эволюционной психологии[35]. Они признавали желание людей преследовать собственные интересы в форме неотъемлемых прав на «жизнь, свободу и поиски счастья». Государство возникает как договоренность, заключенная с целью защиты этих прав, а не как воплощение автономного суперорганизма. Права нуждаются в защите, потому что, когда люди живут вместе, их разные способности и жизненные обстоятельства приводят к тому, что одни из них становятся обладателями того, что желают другие. («Люди обладают разными и неравными способностями приобретения собственности», — заметил Мэдисон[36]). Есть два способа получить от других то, что тебе нужно: украсть или купить. Первый способ опирается на психологию доминирования; второй — на психологию взаимного альтруизма. Цель мирного и процветающего общества — минимально применять доминирование, которое ведет к насилию и потерям, и максимально использовать взаимность, которая ведет к прибыли в торговле и приносит пользу каждому.
Конституция, пишет Макгиннис, специально создавалась для претворения этих целей в жизнь. Она поощряла взаимный обмен посредством пункта о регулировании торговли, который давал Конгрессу право снимать торговые барьеры, возведенные штатами. Она защищала людей от мошенников посредством пункта об обязательной силе договоров, что не давало штатам возможность саботировать исполнение договоренностей. И она мешала правителям отбирать плоды трудов у более успешных граждан, защищая их посредством пункта об изъятии, который запрещает правительству экспроприировать частную собственность без компенсации.
Больше всего авторов Конституции волновало в человеческой природе стремление к власти и почету, которое, как они боялись, угрожает любой форме правления. Чтобы решения принимались и законы исполнялись, кого-то надо наделить властью, и этот «кто-то» неизбежно будет уязвим для коррупции. Вопрос, как предупредить и ограничить коррупцию, не выходил из головы у авторов Конституции. Джон Адамс писал: «Желание признания — так же реально и естественно, как голод. Важнейшая цель правительства — регулировать эту страсть»[37]. Александр Гамильтон писал: «Любовь к славе — ведущая страсть благородных умов»[38]. Джеймс Мэдисон писал: «Если бы люди были ангелами, правительство им было бы не нужно. Если бы ангелы управляли людьми, ни внешнего, ни внутреннего контроля правительства не требовалось бы»[39].
Так что и внешний, и внутренний контроль необходим. «Барьеров, установленных законом», недостаточно, говорил Мэдисон. «Амбициям должны противостоять амбиции»[40]. И чтобы придержать любую, ставшую слишком влиятельной, фракцию, была введена система сдержек и противовесов: разделение власти между федеральным правительством и правительствами штатов, разделение власти между исполнительной, законодательной и судебной ветвью и разделение законодательной власти между двумя палатами парламента.
Мэдисон был особенно тверд в том, что Конституция должна обуздывать ту часть человеческой природы, которая подстрекает к войне. Война, говорил он, — это не примитивная жажда крови, а высшая форма жажды признания:
На самом деле война — благодатная почва для усиления исполнительной власти. Во время войны создается физическая сила, и воля исполнителей управляет ею. Во время войны отпирается общественная казна, и распределять ее должна рука исполнительной власти. Во время войны преумножаются почет и доходы от должности; и наслаждаться ими надлежит под патронажем исполнительной власти. В конце концов, в войне обретаются лавры, и именно исполнительское чело они должны увенчать. Сильнейшие страсти и самые опасные слабости человеческой души — честолюбие, алчность, тщеславие, благородная или греховная любовь к славе — все в заговоре против желания мира и долга поддерживать его[41].
Эти размышления вдохновили пункт о чрезвычайных полномочиях правительства во время войны, который давал право объявлять войну Конгрессу, а не президенту. (Это право постыдным образом обошли в годы конфликта во Вьетнаме, во время которой ни Джонсон, ни Никсон официально вообще не декларировали состояние войны.)
Макгиннис отмечает, что даже свободы слова, собраний и прессы были мотивированы свойствами человеческой природы. Авторы Конституции считали это средством предотвращения тирании: объединение свободно взаимодействующих граждан может противостоять власти индивидуалов в правительстве. Как мы говорим сегодня, они способны «сказать правду сильным мира сего». Причины разделения властей, защищаемого этими правами, возможно, коренятся глубоко в эволюционной истории. Приматологи Франс де Вааль, Робин Данбар и Кристофер Боэм показали, как коалиция приматов низкого ранга может сместить одинокого альфа-самца[42]. Как и Макгиннис, они увидели здесь грубую аналогию политической демократии.
Я, конечно, не утверждаю, что американская Конституция была гарантией счастливого и высоконравственного общества. Действуя внутри узкого нравственного круга того времени, Конституция не смогла помешать геноциду коренного населения, рабству и сегрегации афроамериканцев и лишению женщин избирательных прав. Она мало касалась внешней политики, которая (за исключением соблюдения стратегических альянсов) в основном определялась циничным политическим прагматизмом. Первый недостаток был исправлен прямыми мерами по расширению правового круга, такими как пункт о равенстве перед законом в 14-й поправке; вторая проблема не решена и, возможно, вообще не решаема, потому что другие страны по необходимости находятся вне круга, очерченного американской Конституцией. Конституция также не декларировала какого-либо принципиального милосердия к тем, кто находится на дне меритократического общества: предполагалось, что равные возможности — единственный механизм, который требуется, чтобы разобраться с распределением богатства. И она не способна сформулировать набор ценностей и традиций, который, по-видимому, необходим для функционирования демократии на практике.
Признавая относительный успех конституционной демократии, не обязательно размахивать флагом патриотизма. Но этот успех показывает, что кое-что в теории человеческой природы, которой руководствовались составители Конституции, было правильно.
* * *
Левым нужна новая парадигма.
Питер Сингер. «Дарвиновский левый» (A Darwinian Left), 1999[43]
Консерваторам нужен Чарльз Дарвин.
Ларри Арнхарт. «Консерваторы, замысел и Дарвин» (Conservatives, Design, and Darwin), 2000[44]
Что происходит? То, что и современные левые, и современные правые после десятилетий осуждения высказываются в поддержку эволюционной психологии, говорит о двух вещах. Во-первых, данные биологии начинают теснить политические философии. Уверенность левых в том, что человеческую природу можно менять по желанию, и уверенность правых в том, что нравственность дана нам Господом вместе с бессмертной душой, вступают в безнадежную борьбу с сокрушительной силой науки. Популярная наклейка на бампер в 1990-х гласила: «Ставьте авторитет под сомнение». Другой стикер отвечал: «Поставьте под сомнение гравитацию». Каждая политическая философия должна решить, в какой момент ее аргументы превращаются в сомнение в существовании гравитации.
Во-вторых, это признание того факта, что человеческую природу больше нельзя ассоциировать с политическими правыми. Когда утопическое видение упокоится с миром, места на политическом поле станет больше. И как бы там ни было, трагическое видение в своих наиболее мрачных формах не подтвердилось. При всем его эгоизме человеческий разум оснащен нравственным чувством, область приложения которого уверенно расширялась и может продолжать расширяться по мере того, как растет взаимозависимость стран мира. И при всех своих ограничениях человеческое познание — открытая комбинаторная система, которая в принципе может расширить свои компетенции в вопросах, касающихся человека, как уже расширила их в отношении материального мира и природы.
Традиции, со своей стороны, адаптированы не просто к человеческой природе, но к человеческой природе в контексте технологической инфраструктуры и экономического обмена (не нужно быть марксистом, чтобы воспользоваться этим озарением Маркса). Некоторые традиционные институты, такие как семья и верховенство закона, возможно, были адаптированы к неизменным особенностям человеческой психологии. Другие, такие как право первородства, очевидно, были адаптациями к потребностям феодальной системы (земля, принадлежащая семье, должна была сохраняться в целости) и устарели, когда экономическая система изменилась с началом индустриализации. Более свежий пример: феминизм был отчасти реакцией на улучшенные репродуктивные технологии и развитие сферы услуг. И так как социальные договоренности не адаптированы к человеческой психологии самой по себе, уважение к ней не требует сохранять их все.
Поэтому я думаю, что политические убеждения все больше будут выходить за рамки извечного деления на трагическое и утопическое видение. Они будут разветвляться, обращаясь к различным аспектам человеческой природы, придавая разное значение конфликтующим целям или предлагая отличающиеся оценки вероятных последствий конкретных действий или стратегий.
Я закончу главу обзором нескольких левых мыслителей, которые стирают традиционный знак равенства между идеей человеческой природы и правой политикой. Как и предполагает заголовок книги, дарвиновский левый — это наиболее систематизированная попытка обрисовать новую связь[45]. Сингер пишет: «Пришло время левым принять всерьез тот факт, что мы — эволюционировавшие животные и несем свидетельства нашей наследственности не только в анатомии и ДНК, но и в поведении»[46]. Для Сингера это означает признание ограничений человеческой природы, которые делают совершенствование человечества недостижимой целью. И это означает признание особенностей человеческой природы. Среди них — эгоизм, который предполагает, что конкурентные экономические системы всегда будут работать лучше государственных монополий; стремление к власти, которое делает сильные правительства уязвимыми для самоуверенных деспотов; этноцентризм, который подвергает националистские движения риску впасть в дискриминацию и геноцид; и различия между полами, которые должны обуздывать попытки добиться жесткого гендерного паритета во всех сферах жизни.
Так что же тут остается левого, может спросить наблюдатель. Сингер отвечает: «Если мы равнодушно пожимаем плечами, глядя на страдания слабых и бедных, которых можно было бы избежать, глядя на тех, кого эксплуатируют и обирают или у кого просто нет достаточных средств, чтобы поддерживать существование на нормальном уровне, мы не левые. Если мы говорим, что так устроен мир, и так будет всегда, и мы ничего не можем с этим сделать, — мы не левые. Левые хотят что-то сделать с таким положением вещей»[47]. Левые взгляды Сингера, как и традиционная их разновидность, определяются по контрасту с пораженческим трагическим видением. Но его цель — сделать хоть что-то — заметно скромнее по сравнению с целью, выдвинутой в 1960-х Робертом Кеннеди, — «построить новое мировое сообщество».
Идеи дарвиновских левых простираются от неопределенных формулировок ценностей до конкретных политических предложений. Мы уже знакомы с двумя теоретиками, располагающимися в начале этой шкалы. Хомский был самым активным защитником врожденного дара познания с тех пор, как приколотил свой тезис о врожденной языковой способности к дверям бихевиористов в конце 1950-х. Он также был яростным левым критиком американского общества и вдохновил целое новое поколение университетских радикалов (как мы видели в его интервью с Rage Against the Machine). Хомский настаивает, что связи между его научными и политическими взглядами слабые, но они существуют:
Представление о будущем социальном порядке… основано на концепции человеческой природы. Если в действительности человек бесконечно гибок, полностью пластичен, не имеет врожденных структур разума и присущих ему нужд культурного и социального характера, тогда он — подходящий объект для «формирования поведения» представителями власти, корпоративными менеджерами, технократами или центральным комитетом. Те, кто имеет хоть немного веры в род человеческий, будут надеяться, что это не так, и будут пытаться определить присущие ему характеристики, которые обеспечивают рамки его интеллектуального развития, роста нравственного сознания, культурных достижений и участия в свободном сообществе[48].
Он описывал свои политические воззрения как «либертарианский социализм» и «анархо-синдикализм» — вид анархизма, который высоко ценит спонтанное сотрудничество (в противоположность анархо-капитализму, который ценит индивидуализм)[49]. Эти взгляды, как он полагает, принадлежат картезианской традиции, которая включает «оппозицию Руссо тирании, подавлению и признанным авторитетам… кантовскую защиту свободы, докапиталистический либерализм Гумбольдта с его упором на базовое человеческое стремление к свободному созиданию в условиях добровольного сотрудничества и критику Марксом отчужденного разобщенного труда, который превращает людей в машины, лишая их "человеческого характера" "свободной сознательной деятельности" и "продуктивной жизни" в сотрудничестве с другими людьми»[50]. Таким образом, политические убеждения Хомского резонируют с его научным представлением, что люди от рождения одарены желанием объединяться и стремлением к свободному творческому самовыражению и язык — образцовый пример. Это позволяет надеяться на создание общества, движущей силой которого будет сотрудничество и естественная продуктивность, а не иерархический контроль и корыстные мотивы.
Теория человеческой природы Хомского, хоть и поддерживает идею врожденных способностей, довольно наивна с точки зрения современной эволюционной биологии, описывающей универсальные конфликты генетических интересов. Эти конфликты приводят к более мрачному взгляду на человеческую природу, что всегда было головной болью анархистских мечтателей. Но ученый, который первым выявил эти конфликты, Роберт Триверс, тоже был радикалом левого крыла и одним из очень немногочисленных белых членов партии Черных пантер. Как мы видели в главе 6, Триверс считал социобиологию революционной дисциплиной. Чувствительность к конфликтам интересов может прояснить интересы подавляемых акторов, таких как женщины и молодежь, и выявить обман и самообман, с помощью которых элита оправдывает свое господство[51]. В этом случае социобиология следует либеральной традиции Локка — использует науку и рассуждение, чтобы опровергнуть рационализации власть имущих. Во времена Локка рассуждение использовалось, чтобы поставить под сомнение Божественное право королей, а в наше время может использоваться, чтобы оспорить заявления, что нынешнее политическое устройство служит общим интересам.
Хотя многих это может шокировать, использование тестов IQ и признание врожденной разницы в уровне интеллекта может быть на руку — и в прошлом было — левым политикам. В своей статье «Либералы Гауссова распределения» журналист Адриан Вулдридж подчеркивает, что тестирование IQ было поддержано британскими левыми как средство окончательного ниспровержения кастового общества, управляемого выродившимися олухами из высших классов[52]. Сидни и Беатрис Вебб и другие либералы и социалисты надеялись превратить систему образования в «машину по отбору способных», которая может «спасти талантливую бедноту от лавки и сохи» и направить ее в правящую элиту. Им противостояли консерваторы, такие как Томас Элиот, который беспокоился, что система, которая сортирует людей по способностям, дезорганизует гражданское общество, разрушив связь классов и традиции с обоих концов социальной лестницы. С одной стороны, это разобщит рабочий класс, разделив его сообразно талантам. А с другой — уничтожит этику по принципу «положение обязывает», свойственную высшим классам, которым теперь придется «заслужить» свой успех и ни перед кем не нести ответственность, вместо того чтобы наследовать его и исполнять долг помощи менее удачливым. Вулдридж утверждает, что «левые вряд ли могут позволить себе игнорировать тесты IQ, которые, при всей их несостоятельности, все еще лучший способ, изобретенный для поиска талантов, где бы они ни появлялись — в трущобах или в роскошных пригородах, — способ убедиться, что они попадут в соответствующий образовательный поток и получат подходящие карьерные возможности».
Что касается Ричарда Хернштейна и Чарльза Мюррея (авторов «Гауссовой кривой»), они утверждали, что наследуемость интеллекта должна подтолкнуть левых в сторону еще большей приверженности социальной справедливости в стиле Джона Ролза[53]. Если бы интеллект был полностью приобретенным, тогда политики равных возможностей было бы достаточно, чтобы гарантировать справедливое распределение богатства и власти. Но если некоторые люди имели несчастье родиться с мозгами менее способными, они могут погрязнуть в бедности не по собственной вине даже в совершенно справедливой системе экономической конкуренции. Если социальная справедливость — это забота о благополучии самых бедных, тогда признание генетических различий требует активного перераспределения богатства. В самом деле, хотя Хернштейн был консерватором, а Мюррей — либертарианцем правого толка и сторонником коммунитаризма, они не выступали против простых мер перераспределения, таких как отрицательный подоходный налог с минимальной зарплаты, что дало бы передышку тем, кто играет по правилам, но все равно выживает с трудом. Либертарианец Мюррей высказывался против правительственных программ, которые предлагают больше, но и он, и Хернштейн замечали, что ниша левых сторонников теории врожденных черт все еще не занята.
Важный вызов консервативной политической теории бросили поведенческие экономисты, такие как Ричард Талер и Джордж Акерлоф, вдохновленные эволюционной когнитивной психологией Герберта Саймона, Амоса Тверски, Даниела Канемана, Герда Гигеренцера и Пола Словика[54]. Эти психологи утверждали, что человеческое мышление и принятие решений — биологические адаптации, а не устройства чистого разума. Эти ментальные системы работают с ограниченным количеством информации, должны найти решение в конечный промежуток времени и в конечном итоге служат эволюционным целям вроде статуса и безопасности. Консерваторы всегда говорили об ограничениях человеческого мышления, чтобы развеять иллюзию, будто мы можем понять социальное поведение достаточно хорошо для того, чтобы изменить общество. Но эти ограничения также подрывают предположения о разумном эгоизме, которые лежат в основе классического экономического и светского консерватизма. Со времен Адама Смита классические экономисты утверждали, что в отсутствие внешнего влияния индивиды, принимающие решения в собственных интересах, будут делать то, что лучше для них самих и для общества. Но если люди не всегда способны вычислить, что лучше для них самих, им могут быть полезны налоги и правила, которые классические экономисты считают ошибочными.
Например, рациональные агенты, осведомленные о процентных ставках и ожидаемой продолжительности жизни, должны откладывать определенный процент дохода на благополучную старость. Социальное страхование и обязательные сберегательные планы, получается, не нужны — и даже вредны, — потому что они лишают выбора и, следовательно, возможности отыскать лучший баланс между потреблением в настоящем и сбережениями на будущее. Но экономисты постоянно обнаруживают, что люди тратят свои деньги, как пьяные моряки. Они ведут себя так, будто собираются умереть через несколько лет или словно будущее абсолютно непредсказуемо: эти ощущения лучше отражают реальность, в которой жили наши эволюционные предки, чем ту, в которой мы живем сегодня[55]. Если так, разрешение управляться с собственными сбережениями по собственному разумению (например, позволить людям получать заработанное в полном объеме и инвестировать, как им заблагорассудится) может работать против их интересов. Как Одиссею, приближающемуся к острову сирен, людям лучше разумно согласиться, чтобы работодатель или правительство привязали их к мачте обязательных сберегательных планов.
Экономист Роберт Франк обратился к эволюционной психологии статуса, чтобы подчеркнуть другие недостатки теорий рационального выбора и в широком смысле — экономики свободного рынка[56]. Рациональные акторы должны сторониться не только обязательных пенсионных отчислений, но и других стратегий, которые якобы их защищают, таких как обязательное медицинское страхование, правила охраны труда, страхование по безработице и профсоюзные взносы. Все это стоит денег, которые иначе вошли бы в зарплатный чек, и работники могли бы выбирать: смириться ли с пониженной заработной платой в компании с максимально патерналистской стратегией или же уйти за большей зарплатой и принять высокие рабочие риски. Компании, конкурируя за лучших сотрудников, должны искать баланс, отвечающий требованиям нужных им работников.
Проблема в том, говорит Франк, что люди одержимы страстью к статусу. Их первейшее побуждение — потратить деньги так, чтобы обойти «Джонсов» (дома, машины, одежда, престижное образование), а не так, чтобы об этом знали только они сами (здоровье, охрана труда, пенсионные накопления). К несчастью, статус — это игра с нулевой суммой, так что, когда люди тратят больше денег на дома и машины, дома и машины становятся больше, но люди не становятся счастливее, чем были раньше. Как хоккеисты, которые согласились носить шлемы, только если правила обяжут соперников тоже их носить, люди могут согласиться с правилами, заставляющими всех платить за скрытые преимущества вроде здравоохранения, которые сделают их счастливее в долгосрочном периоде, даже если эти правила будут выполняться за счет доступного им дохода. По той же причине, утверждает Франк, обществу пойдет на пользу введение ступенчатого прогрессивного налога на потребление, который заменит нынешний прогрессивный налог на доход. Потребительский налог умерит бессмысленную гонку за все более роскошными машинами, домами и часами и вознаградит людей ресурсами, которые определенно сделают людей счастливее, например свободное время, безопасные улицы и более приятные условия на работе и в транспорте.
Наконец, дарвиновские левые исследовали эволюционную психологию экономического неравенства. Экономисты Сэмюэл Боулс и Херберт Гинтис, бывшие марксисты, а ныне дарвинисты, изучили литературу по этнографии и поведенческой экономике, которая говорит, что люди — не альтруисты вроде муравьев, но и не самовлюбленные скупердяи[57]. Как мы видели в главе 14, люди делятся с другими — теми, кто, как они думают, тоже готов делиться, и наказывают тех, кто делиться не желает. (Гинтис назвал это «строгой взаимностью» — она похожа на взаимный альтруизм или «слабую взаимность», но относится к желанию людей вкладывать усилия в общественное благо, а не в отношения один на один[58]). Эта психология заставляет людей противостоять уравнительным социальным пособиям и расширенным социальным программам не потому, что они бездушные и жадные, а потому, что они считают, что эти программы вознаграждают лентяев и наказывают трудяг. Боулс и Гинтис заметили, что даже сегодня, когда многие, предположительно, против социальных пособий, опросы показывают, что большинство людей готовы платить повышенные налоги ради некоторых видов всеобщего социального страхования. Они готовы платить, чтобы обеспечить базовые потребности вроде пищи, крова и медицинского обслуживания, чтобы поддержать тех, кому не повезло, и помочь обрести уверенность в себе людям, потерпевшим крушение в жизни. Другими словами, люди возражают против государства безоговорочного всеобщего благосостояния не из жадности, а из чувства справедливости. Система социального обеспечения, которая не пытается изменить общественное сознание и которая проводит различие между бедняками, заслуживающими и не заслуживающими своего положения, считают они, идеально соответствовала бы человеческой природе.
Политика экономического неравенства держится исключительно на компромиссе между экономической свободой и экономическим равенством. Хотя ученые не имеют права диктовать нам, на каких весах взвешивать эти желаемые блага, они могут помочь оценить будущие моральные издержки, что позволит нам принять более информированное решение. И при такой оценке опять играет роль психология власти и статуса. В абсолютном выражении сегодняшние бедные материально обеспечены лучше, чем аристократия 100 лет назад. Они живут дольше, лучше питаются и наслаждаются прежде невообразимой роскошью вроде центрального отопления, холодильников, телефонов и круглосуточных развлечений по телевидению и радио. Как говорят консерваторы, в таких условиях трудно всерьез утверждать, что положение людей с низким доходом — это преступление против нравственности, которое необходимо исправить любой ценой.
Но если чувство благополучия у людей зависит от их социального статуса, а социальный статус относителен, выраженное неравенство может заставить людей на низшей ступени чувствовать себя проигравшими, даже если они живут лучше, чем большая часть человечества. Это не просто вопрос оскорбленных чувств: люди с низким статусом менее здоровы и умирают раньше, да и в целом у населения в обществах с сильным социальным расслоением хуже здоровье и ниже ожидаемая продолжительность жизни[59]. Медицинский исследователь Ричард Уилкинсон, который описал эти закономерности, утверждает, что низкий статус запускает древнюю реакцию стресса, которая жертвует восстановлением тканей и иммунными функциями в пользу немедленной реакции «дерись или беги». Уилкинсон вместе с Мартином Дейли и Марго Уилсон указали на еще один вид измеримых издержек экономического неравенства. Уровень преступности гораздо выше в регионах с высоким уровнем материального неравенства (даже с учетом абсолютных показателей) частично оттого, что хронически низкий статус приводит к тому, что мужчины постоянно озабочены своим социальным положением и убивают друг друга из-за мелких обид[60]. Уилкинсон считает, что уменьшение экономического неравенства может сделать миллионы жизней счастливее, безопаснее и продолжительнее.
Хотя веками идея человеческой природы была прерогативой правых, длинная галерея левых сторонников теории врожденных черт не должна удивлять. Учитывая уроки науки и истории, дарвиновские левые отказались от утопического видения, которое принесло столько непредусмотренных несчастий. Я не буду здесь рассуждать, так ли уж эти новые неутопические левые отличаются от современных нерелигиозных правых и оправданны ли предлагаемые ими стратегии. Смысл в том, что традиционные политические ориентиры должны меняться вместе с ростом наших знаний о человеческой природе. Правая и левая идеологии оформились задолго до Дарвина, до Менделя, когда никто ничего не знал ни о генах, ни о нейронах, ни о гормонах. Любому студенту, изучающему политические науки, известно, что политические идеологии опираются на теории человеческой природы. Но почему они должны опираться на теории 300-летней давности?
Глава 17. Насилие
История человеческой расы — это война. За исключением коротких и ненадежных промежутков, никогда не было мира на земле; и задолго до начала истории смертоносная вражда была повсеместной и бесконечной[1].
С выводом Уинстона Черчилля о нашем племени можно было бы не согласиться, отнеся его на счет пессимизма человека, участвовавшего в самой страшной войне в истории и стоявшего у истоков холодной войны, которая могла уничтожить человечество полностью. Но, к сожалению, это утверждение выдержало проверку временем. Хотя холодная война — в прошлом, а настоящие войны между крупными государствами редки, мира в мире до сих пор нет. Даже до печально известного 2001 года, с его ужасающими террористическими атаками в США и последовавшей за ними войной в Афганистане, Список вооруженных конфликтов в мире зафиксировал 68 зон систематического насилия — от Албании и Алжира до Замбии и Зимбабве[2].
Рассуждения Черчилля о доисторической эпохе тоже подтвердились. Раньше считалось, что современные охотники-собиратели, позволяющие нам составить впечатление о жизни в доисторических обществах, участвуют исключительно в ритуальных стычках, которые прекращаются, как только падет первый воин. Сегодня стало известно, что они убивали друг друга в таких масштабах, в сравнении с которыми ужасы наших мировых войн меркнут[3]. Археологические данные тоже не дают повода для оптимизма. Похороненные в земле и спрятанные в пещерах, лежат молчаливые свидетели кровавой доисторической эпохи, растянувшейся на сотни тысяч лет. В раскопках находят скелеты со следами скальпирования, с повреждениями от топора и с застрявшими стрелами; томагавки и булавы, бесполезные на охоте, созданные специально для убийств; фортификационные сооружения, такие как частоколы из заостренных палок. Наскальные рисунки на разных континентах изображают людей, стреляющих друг в друга из луков, метающих копья или бумеранги, и людей, поверженных этим оружием[4]. Десятилетиями «антропологи мирного толка» отрицали, что какая-либо группа людей когда-либо практиковала каннибализм, но свидетельства обратного накапливались, а недавно была найдена и неопровержимая улика. В раскопках стоянки 850-летней давности на юго-западе Америки археологи обнаружили человеческие кости, которые были разрублены точно так же, как кости животных, употребляемых в пищу. Найдены следы человеческого миоглобина (мышечного белка) на черепках керамической посуды и — о да! — в окаменевших человеческих экскрементах[5]. Представители Homo antecessor, родственника общего предка неандертальца и современного человека, тоже резали и убивали друг друга, так что насилие и каннибализм можно проследить на протяжении как минимум 800 000 лет[6].
Война — это лишь один из способов убийства человека человеком. В большинстве регионов мира война сводится к насилию меньшего масштаба — к этническим и территориальным конфликтам, кровной мести и обычным убийствам. И несмотря на несомненный прогресс, ничего похожего на мир мы здесь не наблюдаем. Хотя в странах Запада число убийств сократилось за последнее тысячелетие как минимум десятикратно, а то и стократно, в XX веке только в Соединенных Штатах от рук убийц погибло около миллиона человек, и для американца вероятность в течение жизни стать жертвой убийства составляет порядка половины процента[7].
История вменяет нашему виду в вину не только количество убийств, но и их атрибутику. Сотни миллионов христиан украшают свои дома и тела копией приспособления, ставшего орудием немыслимо мучительной смерти людей, которые были помехой для римских политиков. И это лишь один пример бесчисленного разнообразия пыток, изобретенных человеческим умом за тысячелетие, и многие из них достаточно привычно воспринимаются и в нашем лексиконе: распять, четвертовать, содрать кожу, забить камнями, задушить, сжечь заживо, посадить на кол, удавка, виселица. Герой Достоевского, Иван Карамазов, узнав о зверствах, творимых турками в Болгарии, сказал: «Зверь никогда не может быть так жесток, как человек, так артистически, так художественно жесток». Ежегодные отчеты агентства Amnesty International показывают, что эта артистическая жестокость отнюдь не ушла в прошлое.
* * *
Сокращение насилия в большом и в малом — одна из основных наших нравственных задач. Мы должны использовать все доступные нам интеллектуальные средства, чтобы понять, что же в человеческом разуме и в нашем социальном устройстве заставляет людей убивать и мучить друг друга. Но, как и в случае других нравственных вопросов, исследованных в этой части книги, попытке выяснить, что происходит, мешает стремление узаконить «правильный» ответ. Что касается насилия, «правильный» ответ состоит в том, что оно никак не связано с человеческой природой, это патология, вызванная пагубным влиянием извне. Насилие — поведение, которому нас учит культура, или инфекционное заболевание, распространенное в определенной среде.
Эта гипотеза стала центральной догмой светской веры и постоянно декларируется в публичных проповедях, словно ежедневная молитва или клятва верности. Вспомните резолюцию ЮНЕСКО, предложенную Эшли Монтегю, о том, что биология поддерживает этику «всеобщего братства», или антропологов, считавших, что «ненасилие и мир, вероятно, были нормой для большей части доисторического периода человечества». В 1980-х многие общественно-научные организации одобрили Севильское заявление, в котором говорилось, что утверждать, будто сам мозг человека предполагает насилие или что наш вид прошел отбор по склонности к насилию, «некорректно с научной точки зрения»[8]. «Война — это не инстинкт, это изобретение», — писал Ортега-и-Гассет, проводя параллель с другим своим заявлением, что у человека нет природы, есть только история[9]. Недавняя Декларация ООН по искоренению насилия в отношении женщин объявляет, что «насилие — часть исторического процесса, оно неестественно и не предопределено биологически». В сообщении, сделанном в 1999 году Национальным объединенным фондом по предотвращению насилия, утверждается, что «насилие — это выученное поведение»[10].
Еще один признак этого основанного на вере подхода к насилию — твердая уверенность, что конкретные средовые объяснения верны. Постоянно повторяется, что мы знаем причины насилия и знаем, как избавиться от него. Только недостаточная настойчивость мешает нам сделать это. Вспомним слова Линдона Джонсона: «все мы знаем», что условия, в которых расцветает насилие, — это неграмотность, дискриминация, бедность и болезни. Статья, опубликованная в популярном журнале в 1997 году и посвященная насилию, цитирует клинического генетика, вторящего Джонсону:
Мы знаем, что порождает насилие в нашем обществе: бедность, дискриминация, ошибки системы образования. Не гены — причина насилия в обществе, а наша социальная система[11].
Авторы статьи, историки Бетти и Дэниел Кевлс, соглашаются:
Нам необходимо лучшее образование и питание, нам нужно вмешиваться в дисфункциональные семьи и в жизнь детей, подвергающихся жестокому обращению, вплоть до изъятия их из-под контроля некомпетентных родителей. Но подобные решения будут стоить дорого и вызовут неоднозначную общественную реакцию[12].
Догма, что насилие — это выученное поведение, заставляет искать причины насилия в конкретных составляющих американской культуры. Член группы по контролю детских игрушек недавно сказал журналисту: «Насилие — выученное поведение. Каждая игрушка учит. Вопрос в том, чему вы хотите научить своих детей»[13]. Жестокость на экране — еще один обычный подозреваемый. Как недавно написали два эксперта по охране здоровья:
Реальность такова, что дети учатся ценить и использовать насилие для решения проблем и для того, чтобы справиться с сильными чувствами. Они учатся этому у ролевых моделей в семье и обществе. Они учатся этому у героев, которых мы показываем им по телевидению, в кино и видеоиграх[14].
Жестокое обращение с детьми, против которого недавно было выдвинуто обвинение в книге Ричарда Родса «Почему они убивают» (Why They Kill), — третья предполагаемая причина. «Трагедия в том, что люди, которые были жертвами насилия, очень часто становятся преступниками сами», — сказал президент Фонда политики уголовного судопроизводства. «Это замкнутый круг, который можно разорвать, однако это потребует определенных расходов. Как общество, мы не вкладывали сюда ресурсов»[15]. Обратите внимание, что в этих напыщенных утверждениях («насилие — выученное поведение») звучат скорее уверенность, что это истина («реальность такова»), и обвинение, что нам не хватает настойчивости («мы не вкладываем сюда ресурсы»), чем признание непонимания, как решать эту проблему.
Многие объяснения винят «культуру», воспринимаемую как суперорганизм, который учит, раздает команды и распределяет награды и наказания. Колумнист газеты Boston Globe, видимо, не догадывался, что ходил в своих размышлениях по кругу, когда писал:
Так почему же в Америке больше насилия, чем в других индустриальных западных демократиях? Виновата наша культурная предрасположенность к насилию. Мы мутузим и колотим друг друга, режем и стреляем друг в друга, потому что таков наш культурный императив[16].
Когда культура воспринимается как сущность со своими убеждениями и желаниями, убеждения и желания реальных людей не имеют значения. После того как Тимоти Маквей взорвал административное здание в Оклахома-сити в 1995 году, убив 168 человек, журналист Алфи Кон озадачил американцев, которые «разглагольствовали о личной ответственности», приписав ответственность за взрыв американскому индивидуализму: «Пагубное пристрастие к конкуренции — часть культуры этой страны. И в классах, и на спортивных полях нас учат, что другие люди — препятствие для личного успеха»[17]. Похожее объяснение возлагало вину за взрыв на американские символы, такие как государственная печать, на которой изображен орел, сжимающий в лапе стрелы, и девизы штатов, в том числе «Живи свободным или умри» (Нью-Гэмпшир) и «Мечом мы устанавливаем мир, но мир под знаменем свободы» (Массачусетс)[18].
Новая популярная теория относит американскую склонность к насилию к опасной и типично американской концепции мужественности, насаждаемой с детства. Социальный психолог Элис Игли объясняет всплеск эпизодов беспорядочной стрельбы в общественных местах так: «Такое поведение было частью мужской роли, как она интерпретировалась в американской культуре, начиная с традиций первых поселенцев»[19]. В соответствии с этой теорией, популяризованной бестселлерами вроде книг Дэна Киндлона «Воспитывая Каина» (Raising Cain) и Уильяма Поллака «Настоящие мальчики» (Real Boys), мы сейчас переживаем «национальный кризис мальчишества в Америке», спровоцированный тем, что мальчиков принуждают отделяться от своих матерей и подавлять свои эмоции. «Что с нашими мужчинами?» — спрашивает статья в Boston Globe Magazine. «Агрессивное поведение, эмоциональную отчужденность и высокий уровень наркотической зависимости невозможно объяснить гормонами», — отвечает она. «Проблема, говорят эксперты, в культурных представлениях о мужественности — все они содержатся в одной фразе: "настоящий мужчина"»[20].
* * *
Утверждение, что «насилие — это выученное поведение», — мантра, повторяемая благонамеренными людьми, чтобы показать свою уверенность в том, что уровень насилия можно снизить. Оно не основано ни на каких адекватных исследованиях. Печально, что, несмотря на повторяющиеся заверения, будто «мы знаем, какие условия порождают насилие», на самом деле мы вряд ли имеем об этом какое-то представление. Резкие колебания уровня преступности — подъем в 1960-х и в конце 1980-х, снижение в конце 1990-х — не поддаются каким-либо простым объяснениям. И роль обычных подозреваемых совершенно не доказана, а некоторые идеи о причинах насилия заведомо ложны. Это наиболее очевидно в отношении таких факторов, как «питание» и «болезни», которые бездумно включены в список социальных зол, предположительно порождающих насилие. Мягко говоря, нет никаких свидетельств, что насилие возникает из-за недостатка витаминов или из-за бактериальных инфекций. Но и другие гипотетические причины также страдают от недостатка доказательств.
У агрессивных родителей дети часто агрессивны, но люди, которые делают из этого вывод, что агрессии учатся от родителей в «замкнутом цикле насилия», не учитывают вероятность того, что склонность к насилию может быть и унаследована, а не только выучена. До тех пор пока мы не посмотрим на приемных детей и не покажем, что они ведут себя скорее как их приемные, а не как их биологические родители, «циклы насилия» ничего не доказывают. Да и психологи, замечающие, что мужчины совершают больше актов насилия, чем женщины, и возлагающие вину на культуру «мужественности», носят интеллектуальные шоры, которые не дают им заметить, что мужчины и женщины различаются не только социальными ролями, но и биологически. Американские дети, конечно, знакомы с жестокими ролевыми моделями, но они также знают о клоунах, священниках, фолк-певцах и трансвеститах; вопрос в том, почему дети предпочитают подражать одним, а не другим.
Чтобы показать, что причины насилия лежат в особых мотивах американской культуры, нужны как минимум свидетельства, что другие культуры, в которых присутствуют те же мотивы, тоже более склонны к насилию. Хотя даже существование такой корреляции не доказывало бы, что это культурные мотивы порождают насилие, а не наоборот. Но начнем с того, что такой корреляции может и не существовать.
Во-первых, не только американской культуре присуще насилие. Насилие существует во всех обществах, и Америка не самая жестокая страна в истории и даже в современном мире. В большинстве стран третьего мира и во многих бывших республиках Советского Союза насилия гораздо больше, хотя там и нет ничего похожего на американскую традицию индивидуализма[21]. Что касается культурных норм маскулинности и сексизма, в Испании есть мачизм, в Италии — браггадочио , а в Японии — жесткие гендерные роли, и при этом уровень убийств там в разы меньше, чем в Соединенных Штатах, где феминизм имеет больше влияния. Архетип мужественного героя, готового на насилие ради защиты справедливости, — один из самых распространенных мотивов мифологии, и он присутствует во многих культурах со сравнительно низким уровнем насильственных преступлений. Джеймс Бонд, например, у которого даже есть лицензия на убийство, — британец, а фильмы о боевых искусствах популярны во многих промышленно развитых странах Азии. В любом случае только книжный червь, никогда не видевший ни одного американского фильма или телепрограммы, может считать, что они восхваляют жестоких фанатиков вроде Тимоти Маквея или подростков, расстреливающих одноклассников в школьной столовой. Мужественные герои в массмедиа высокоморальны: они сражаются с плохими парнями.
Для консервативных политиков и либеральных работников здравоохранения идея, что главная причина насильственных преступлений в Америке — это насилие в средствах массовой информации, — глубинное убеждение. Американская медицинская ассоциация, Американская психологическая ассоциация и Американская академия педиатрии докладывали Конгрессу, что из 3500 исследований, изучавших эту связь, только 18 ее не обнаружили. Любой специалист в области общественных наук почует здесь сомнительный запашок, и психолог Джонатан Фридман решил проверить цифры лично. На самом деле всего 200 исследований были посвящены поиску связи между насилием в массмедиа и агрессивным поведением, и больше чем в половине случаев доказать связь не удалось[22]. В прочих исследованиях были выявлены незначительные корреляции, которые можно объяснить и другими причинами, например что агрессивные дети ищут жестоких развлечений и просмотр насыщенных действием лент на короткое время (но не навсегда) возбуждает их. Фридман и несколько других психологов, делавших научные обзоры, пришли к заключению, что наблюдение насилия на экране либо незначительно влияет на агрессивное поведение в жизни, либо не имеет никакого эффекта вообще[23]. Реальные примеры из новейшей истории говорят то же самое. Веками доизобретения кино и телевидения люди обнаруживали больше жестокости, чем теперь. Канадцы смотрят те же телевизионные шоу, что и американцы, но уровень убийств в Канаде в четыре раза ниже. После того как в 1995 году британская колония остров Святой Елены обзавелась телевидением, ее жители не стали более агрессивны[24]. Увлечение жестокими компьютерными играми началось в 1990-х, а уровень преступности в этот период снизился.
А как насчет других привычных подозреваемых? Оружие, дискриминация и бедность влияют на уровень насилия, но ни в коем случае не прямо или однозначно. Оружие действительно упрощает убийство — разрядить пистолет порой легче, чем разрешить конфликт, что умножает количество смертей в крупных и мелких стычках. Тем не менее в те времена, когда огнестрельное оружие еще не было изобретено, уровень преступности был устрашающе высок во многих обществах. Кроме того, люди не убивают друг друга автоматически только потому, что у них есть доступ к оружию. Израильтяне и швейцарцы вооружены до зубов, но уровень насильственных преступлений против личности в этих странах ниже, да и среди американских штатов самый низкий уровень убийств в штатах Мэн и Северная Дакота, где пистолет есть почти в каждом доме[25]. Идея, что оружие увеличивает количество преступлений со смертельным исходом, звучит, безусловно, правдоподобно, однако доказать ее так трудно, что в 1998 году ученый-правовед Джон Лотт опубликовал статистику и ее анализ в книге под названием, опровергающим этот тезис: «Больше оружия — меньше преступлений» (More Guns, Less Crime). Даже если он не прав, а я подозреваю, что это так, доказать, что больше оружия — больше преступлений, не так-то легко.
Что касается дискриминации и бедности, то и здесь сложно доказать прямую причинно-следственную связь. Китайские иммигранты в Калифорнии в XIX веке и американские японцы во время Второй мировой войны сталкивались с жесточайшей дискриминацией, но они не отреагировали на нее повышением уровня насилия. Женщины беднее мужчин, в деньгах нуждаются сильнее — чтобы прокормить детей, однако они вряд ли пойдут грабить, угрожая применением силы. Различные субкультуры с одинаковым уровнем бедности могут радикально различаться по уровню насилия, и, как мы увидим далее, во многих культурах довольно обеспеченные люди могут с готовностью открывать огонь на поражение[26]. И хотя никто не стал бы возражать против продуманной программы, которая гарантированно сокращает преступность, нельзя относить ее высокий уровень на счет недостаточной настойчивости в выполнении социальных программ. Первый расцвет этих программ пришелся на 1960-е годы, время, когда количество насильственных преступлений резко подскочило.
Исследователи, ориентированные на науку, повторяют другую мантру: «Насилие — это проблема здравоохранения». Согласно выводам Национального института психиатрии, «агрессивное поведение можно лучше понять — и предотвратить, — если подходить к нему как к заразному заболеванию, которое распространяется среди наиболее восприимчивых к инфекции людей и бедноты». Теории общественного здравоохранения вторили многие профессиональные организации, например Американское психологическое общество и Центры по контролю и профилактике заболеваний, а также такие разные политические фигуры, как министр здравоохранения администрации Клинтона и республиканский сенатор Арлен Спектер[27]. Подход с позиции здравоохранения пытается определить «факторы риска», более свойственные бедной, чем материально благополучной среде. Они включают недостаток заботы и жестокое обращение в детстве, жесткое и непоследовательное воспитание, развод родителей, плохое питание, отравление свинцом, травмы головы, запущенный синдром гиперактивности и дефицита внимания, употребление алкоголя и крэк-кокаина во время беременности.
Исследователи, принадлежащие к этой традиции, гордятся тем, что их подход и «биологический» (они анализируют телесные жидкости и изучают снимки мозга), и «культурный» (они ищут в окружающей среде причины, которые влияют на состояние мозга и которые можно было бы искоренить неким эквивалентом санитарных мероприятий). К сожалению, в этой аналогии есть очевидный изъян. Определение болезни или расстройства гласит, что это страдание, которое испытывает больной человек из-за неправильного функционирования механизмов его собственного тела[28]. Но, как сказал один из авторов журнала Science: «В отличие от большинства болезней, обычно не агрессор считает агрессию проблемой, а его окружение. Агрессивные люди могут считать, что действуют нормально, а некоторые даже наслаждаются своими периодическими агрессивными вспышками и сопротивляются лечению»[29]. Кроме банальности, что одним людям и местам насилие свойственно больше, чем другим, теория общественного здравоохранения ничего не может нам предложить. И как скоро станет понятно, насилие вовсе не болезнь в медицинском смысле слова.
* * *
Чисто средовые теории насилия остаются догматом веры потому, что они воплощают в себе «чистый лист» и «благородного дикаря». Насилие, в соответствии с этими теориями, не естественная стратегия из репертуара человека; это выученное поведение, или следствие отравления ядохимикатами, или симптом инфекционного заболевания. В предыдущих главах мы видели, в чем моральная привлекательность подобных доктрин: они помогают отделить их приверженцев от шовинистов более ранних периодов и негодяев разного рода; уверить публику, что они не считают насилие «естественным» в смысле «приемлемым»; выразить оптимизм, что насилие можно искоренить, причем скорее мягкими социальными программами, чем сдерживанием под угрозой возмездия; и максимально дистанцироваться от опасной позиции, что некоторые люди, классы или расы по природе своей склонны к насилию больше, чем другие.
По большей части теории выученного поведения и общественного здравоохранения — это нравственные декларации, публичные заявления о неприемлемости насилия. Порицать насилие — это, конечно, правильно, но только если это порицание не подается под соусом эмпирических притязаний по поводу нашего психологического портрета. Возможно, чистейший пример путаницы желаемого с действительным демонстрирует Рамси Кларк, министр юстиции при администрации Джонсона и автор бестселлера 1970 года «Преступность в США» (Crime in America). Убеждая, что система уголовного правосудия должна заменить наказание реабилитацией, Кларк объясняет:
Теория реабилитации основана на убеждении, что здоровые, разумные люди не будут причинять вред другим; они будут понимать, что и для личности, и для общества полезнее поведение, которое не наносит ущерба; и что справедливое общество способно обеспечить здравоохранение, место в жизни и возможности всем гражданам. Пройдя реабилитацию, индивид не будет способен — не сможет заставить себя — причинить вред другому, украсть или уничтожить чужую собственность[30].
Если бы это было так! Эта теория — отличный пример моралистической ошибки: было бы так здорово, если бы идея была правдой, что мы все должны поверить, что это и есть правда. Проблема в том, что это не правда. История показала, что множество здоровых, разумных людей вполне могут заставить себя причинить вред другим и уничтожить чужую собственность, потому что, к несчастью, причинение вреда другим порой служит личным интересам человека (особенно если уголовное наказание за него отменено — ирония, которой Кларк, похоже, не заметил). Конфликты интересов — неотъемлемая часть человеческого существования, и, как это сформулировали Мартин Дейли и Марго Уилсон, «убийство противника — это способ окончательного разрешения конфликта»[31].
Надо сказать, что легко приравнять здоровье и здравомыслие к нравственности. Английский язык насыщен метафорами такого рода, когда мы называем злодеев сумасшедшими, дегенератами, испорченными, невменяемыми, буйнопомешанными, психопатами, больными. Но когда мы рассматриваем причины насилия и ищем способы уменьшить его, метафоры вводят нас в заблуждение. Когда термиты пожирают деревянные перекрытия домов, а москиты кусают жертву и распространяют малярию — это не отклонения в их функционировании. Они делают именно то, к чему приспособила их эволюция, даже если результат заставляет людей страдать. С точки зрения ученых, морализаторствовать относительно этих созданий или называть их поведение патологическим — путь, который заведет нас в тупик поисков «яда», которым отравлены эти существа, или «лечения», которое вернет им здоровье. По той же причине человеческая агрессивность не обязательно должна быть болезнью, с которой нужно бороться. Скорее наоборот, опасно думать, что насилие — расстройство или отклонение, потому что это убаюкивает нас, заставляя забывать, как легко может вспыхнуть насилие в тихих и благополучных местах.
«Чистый лист» и «благородный дикарь» встречают поддержку не только в силу нравственной привлекательности, но и благодаря давлению со стороны идеологической полиции. Грязная клевета в адрес Наполеона Шеньона за описание войн среди яномамо — наиболее яркий пример наказания еретиков, но не единственный. В 1992 году Инициатива по предотвращению насилия, выдвинутая Управлением по контролю потребления алкоголя, наркотиков и поддержанию психического здоровья, была отклонена из-за ложного обвинения, что ее цель — усмирить молодежь трущоб и стигматизировать ее как генетически склонную к насилию. (На самом деле она отстаивала подход общественного здравоохранения.) Конференция и издание сборника, посвященного юридическим и моральным аспектам биологии насилия (возможность высказаться для сторонников различных точек зрения), были отменены Бернадин Хили, директором Национальных институтов здравоохранения. Она отклонила единодушное решение, принятое независимой экспертизой из соображений «чувствительности темы и сомнений в правомерности проведения такой конференции»[32]. Университет, спонсировавший конференцию, опротестовал решение и выиграл, однако, когда три года спустя она состоялась, протестующие проникли в зал и, будто специально, чтобы снабдить материалом артистов комедийного жанра, затеяли драку с участниками[33].
Так к чему же все были так чувствительны? Выражались опасения, что правительство будет считать политические беспорядки в ответ на неравные социальные условия психическим заболеванием и начнет затыкать протестующим рот седативными препаратами или предпримет что-нибудь похуже. Психиатр и политический радикал Питер Бреггин назвал Инициативу по предотвращению насилия «самой пугающей, самой расистской, самой чудовищной идеей, какую только можно вообразить» и «планом, который ассоциируется скорее с нацистской Германией»[34]. В качестве аргументов он приводил «перенос социальных вопросов в область медицины, заявления о том, что жертвы притеснений (в случае Германии — евреи) действительно генетически и биологически ущербные люди, привлечение государства для решения евгенических и биологических целей, необоснованное применение психиатрии в создании программ социального контроля»[35]. Это надуманное, более того, параноидальное прочтение, но Бреггин без устали повторял его, особенно политикам-афроамериканцам и различным СМИ. Любой, кто употребляет слова «насилие» и «биология» в одном абзаце, может попасть под подозрение в расизме, и это заметно повлияло на интеллектуальный климат, окружающий насилие. Но никто еще не попал в неприятности, утверждая, что насилие — полностью выученное поведение.
* * *
Есть много причин считать, что человеческая агрессивность — не болезнь или отравление в буквальном смысле, а часть нашего устройства. Прежде чем представить их, позвольте мне развеять два опасения.
Первое — что поиск корней агрессивности в человеческой природе равносилен сведению причин насилия к плохим генам жестоких личностей и оскорбительному предположению, что в этнических группах с высоким уровнем насилия такие гены должны быть распространены больше.
Нет сомнений, что некоторые индивиды по природе своей более склонны к насилию. Начнем с мужчин: во всех культурах мужчины убивают мужчин в 20–40 раз чаще, чем женщины — женщин[36]. И львиная доля убийц — молодые мужчины в возрасте от 15 до 30 лет[37]. К тому же некоторые из них более агрессивны, чем другие. Согласно одной из оценок, 7 % молодых мужчин совершают 79 % насильственных преступлений[38]. Психологи обнаружили, что индивидуумы, склонные к насилию, имеют вполне определенный склад личности. Они импульсивны, не слишком умны, гиперактивны и страдают от дефицита внимания. Их описывают как обладателей «оппозиционного темперамента»: они злопамятны, легко раздражаются, сопротивляются контролю, целенаправленно выводят людей из себя и склонны перекладывать вину на других[39]. Психопаты, люди, у которых отсутствует совесть, — самые жестокие из них и составляют значительный процент убийц[40]. Эти личностные черты проявляются в раннем детстве, сохраняются на протяжении всей жизни и в значительной степени наследуемы, хотя, конечно, далеко не полностью.
Садисты, горячие головы и прочие прирожденные убийцы — лишь часть проблемы насилия, и не только из-за вреда, который они причиняют, но и из-за агрессивной позиции, в которую они загоняют других, вынуждая их прибегать к сопротивлению и самозащите. Но главная моя мысль в том, что они не основная часть проблемы. Войны начинаются и заканчиваются, уровень преступности скачет, общества меняются с милитаристских на пацифистские и обратно за одно поколение, и все это без всяких изменений частоты проявления генов. Хотя сегодня этнические группы различаются по среднему уровню насилия, эта разница не нуждается в генетическом объяснении, потому что уровень насилия в группе в один исторический период сравним с данными для любой другой группы в другой период. Покладистые сегодня скандинавы — потомки кровожадных викингов, а Африка, разрушенная войнами, последовавшими за распадом колониализма, очень похожа на Европу после падения Римской империи. Вероятно, у любой этнической группы, добравшейся до сегодняшнего дня, в недалеком прошлом были воинственные предки.
Второе опасение — что, если люди наделены мотивацией насилия, они не могут его не проявлять или же должны быть агрессивны постоянно, словно тасманский дьявол из диснеевского мультфильма, который мечется по округе, оставляя за собой хаос и разрушение. Этот страх — реакция на допотопные идеи об обезьянах-убийцах, жажде крови, стремлении к смерти, территориальном инстинкте и жестоком мозге. В действительности если мозг и оснащен стратегиями насилия, то это стратегии, обусловленные обстоятельствами, связанные со сложной системой, вычисляющей, когда и где их следует применять. Даже животные используют агрессию весьма избирательно, а люди, чья лимбическая система связана с увеличенными лобными долями, разумеется, тем более рассудительны. Большинство взрослых людей сегодня живут, вообще не используя «клавиши насилия».
Так каковы же свидетельства, что в процессе эволюции наш вид мог развить механизмы произвольного насилия? Первое, о чем нужно помнить, что агрессия — это организованная, целенаправленная деятельность, а не явление, которое может произойти в результате случайного сбоя. Если ваша газонокосилка не останавливается после того, как вы отпустили рычаг, и повреждает вам ногу, вы можете предположить, что рычаг заело или что-то еще сломалось. Но если газонокосилка лежит в засаде, выжидая, когда вы выйдете из гаража, и потом гоняется за вами по лужайке, вы будете вынуждены прийти к выводу, что кто-то установил в нее чип с соответствующей программой.
Тот факт, что и наши кузены шимпанзе не гнушаются умышленным геноцидом, повышает вероятность того, что к насилию нас приспособили не только специфические особенности конкретной человеческой культуры, но и силы эволюции. А повсеместность насилия в человеческих обществах на протяжении истории и в доисторический период — это еще более явный намек на то, что мы к нему приспособлены весьма неплохо.
Если же рассматривать человеческое тело и мозг, то можно найти более явные признаки их приспособленности для агрессии. Крупный размер, сила и массивность мужского торса выдают зоологические тайны эволюционной истории насилия в ходе мужского соперничества[41]. Есть и другие признаки — влияние тестостерона на доминантность и склонность к насилию (о котором мы узнаем в главе о гендере), эмоция гнева (вместе с рефлексивным оскаливанием зубов и сжиманием кулаков), реакция вегетативной нервной системы с говорящим названием «дерись или беги» и тот факт, что дезорганизация тормозящих систем мозга (алкоголем, повреждением амигдалы, лобных долей или дефектом генов, задействованных в метаболизме серотонина) может привести к агрессивным атакам, инициированным нейронными цепями лимбической системы[42].
Мальчики во всех культурах по собственному желанию участвуют в грубых играх без правил, которые, несомненно, представляют собой подготовку к дракам. Они также делятся на агрессивно соперничающие коалиции (что напоминает о замечании, приписываемом герцогу Веллингтону: «Битва при Ватерлоо была выиграна на спортивных полях Итона»)[43]. И дети проявляют насилие задолго до того, как на них смогут повлиять военные игрушки или культурные стереотипы. Самый агрессивный возраст — это не юность, а раннее детство: по данным проведенного недавно крупного исследования, почти половина мальчиков в возрасте двух лет и несколько меньший процент девочек дерутся, кусаются и пинаются. Его автор подчеркивает: «Малыши не убивают друг друга, потому что мы не даем им в руки ножи и пистолеты. Вопрос… на который мы пытались ответить последние тридцать лет, — как дети учатся агрессии. Но это неверный вопрос. Правильный вопрос — как они учатся агрессию сдерживать»[44].
Насилие занимает ум человека в течение всей жизни. По данным независимого исследования, проведенного в нескольких странах психологами Дугласом Кенриком и Дэвидом Бассом, более 80 % женщин и 90 % мужчин фантазируют об убийстве людей, которые им не нравятся, особенно соперников в любви, приемных родителей и тех, кто унижает их публично[45]. Люди всех культур получают удовольствие, размышляя об убийствах, если судить по популярности детективных романов, криминальных драм, шпионских триллеров, шекспировских трагедий, библейских историй, героических мифов и былин. (Герой пьесы Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» спрашивает: «Вы же знакомы с великими античными трагедиями? С великой классикой убийств?») Людям также нравится смотреть на стилизованные битвы, которые мы называем «спортом»: соревнования по стрельбе, погони, драки, где есть победитель и побежденный. Если судить по языку, то и множество других действий воспринимается как форма агрессии: интеллектуальные прения (срезал, уничтожил, разгромил идею или ее защитника), социальные реформы (победить преступность, бороться с предубежденностью, война с бедностью, война с наркотиками) и лечение заболеваний (победить СПИД, борьба с раком).
На самом деле сам вопрос, что пошло не так (социально или биологически), когда человек совершил насилие, неправильно поставлен. Почти все мы признаем, что насилие необходимо — для защиты себя, своей семьи, невинных жертв. Философы-моралисты подчеркивают, что существуют обстоятельства, в которых даже пытки оправданны, — например, когда пойманный террорист заложил бомбу с часовым механизмом в многолюдном месте и отказывается сказать, где именно. Вообще, будет ли агрессивный склад ума назван героическим или патологическим, часто зависит от того, чьим интересам он служит. Борец за свободу или террорист, Робин Гуд или вор, член добровольческой организации по охране порядка или линчеватель, защитник или милитарист, мученик или камикадзе, генерал или главарь банды — это субъективное, оценочное суждение, а не научная классификация. Я сомневаюсь, что мозг или гены большинства прославляемых героев отличаются от мозга и генов их осуждаемых двойников.
В этом вопросе я согласен с радикальными учеными, которые настаивают, что мы никогда не поймем насилия, изучая только мозг или гены склонных к нему людей. Насилие — не только биологическая и психологическая, это еще социальная и политическая проблема. Тем не менее феномены, которые мы называем «социальными» или «политическими», — это не внешние явления, которые, подобно пятнам на солнце, мистическим образом влияют на человеческие дела, это представления, разделяемые индивидуумами в конкретном месте и времени. Так что невозможно понять насилие без всестороннего осмысления человеческого разума.
В оставшейся части главы я исследую логику насилия и причины, которые могли подтолкнуть эволюцию связанных с ним эмоций и идей. Это необходимо, чтобы распутать узел биологических и культурных причин, который делает насилие таким озадачивающим. Это поможет объяснить, почему люди готовы к насилию, но реализуют эту склонность только в определенных условиях; когда насилие рационально, по крайней мере в некотором смысле, и когда это явный самообман; почему насилие в некоторые времена и в некоторых местах распространено больше, чем в других, несмотря на отсутствие какой-либо генетической разницы между людьми; и, наконец, как мы можем предотвратить насилие и снизить его уровень.
* * *
Первое, что необходимо сделать, чтобы понять насилие, — забыть о нашем отвращении к нему и выяснить, почему оно иногда может быть выгодно с личной и с эволюционной точки зрения. А для этого нужно переформулировать вопрос: не почему насилие совершается, а как нам удается его избежать. Мораль, в конце концов, не появилась в момент Большого взрыва, заполнив Вселенную подобно фоновой радиации. Ее изобрели наши предки после миллиардов лет нравственно нейтрального процесса, известного как естественный отбор.
По моему мнению, последствия этой фоновой аморальности превосходно описал Гоббс в «Левиафане». К сожалению, сильная фраза Гоббса — «Жизнь человека одинока, бедна, беспросветна, тупа и кратковременна» — и нарисованный им образ всемогущего Левиафана, который не дает нам вцепиться друг другу в глотки, помешали пониманию основной его идеи. Обычно слова Гоббса интерпретируют как предположение, что человек в своем естественном, нецивилизованном состоянии был охвачен иррациональными импульсами ненависти и разрушения. Но на самом деле его анализ более тонок и, возможно, даже более трагичен — он показал, что динамика насилия вытекает из взаимодействия рациональных агентов, действующих в собственных интересах. Идеи Гоббса были открыты заново эволюционной биологией, теорией игр и социальной психологией, и на них я буду опираться, обсуждая логику насилия перед тем, как обратиться к способам, которыми люди применяют свои мирные инстинкты в противовес агрессивным.
Вот рассуждение, предшествующее известному высказыванию о «жизни человека»:
Таким образом, мы находим в природе человека три основные причины войны: во-первых, соперничество; во-вторых, недоверие; в-третьих, жажду славы. Первая причина заставляет людей нападать друг на друга в целях наживы, вторая — в целях собственной безопасности, а третья — из соображений чести. Люди, движимые первой причиной, употребляют насилие, чтобы сделаться хозяевами других людей, их жен, детей и скота; люди, движимые второй причиной, употребляют насилие в целях самозащиты; третья же категория людей прибегает к насилию из-за пустяков вроде слова, улыбки, из-за несогласия во мнении и других проявлений неуважения, непосредственно ли по их адресу или по адресу их родни, друзей, их народа, сословия или имени[46] .
Во-первых, соперничество. Естественный отбор движим соперничеством, а это значит, что продукт естественного отбора — машины выживания, по метафоре Ричарда Докинза, — должны, по умолчанию, делать все что угодно, если это помогает им выживать и размножаться. Докинз объясняет:
С точки зрения машины выживания, другая машина выживания (если это не ее ребенок или близкий родственник) — часть окружающей среды, как камень, как река или кусок пищи. Это что-то, что может помешать, или что-то, что можно использовать. От камня или реки отличается оно только одним важным свойством — оно может дать сдачи, потому что также представляет собой машину, которая сохраняет для будущего свои бессмертные гены и тоже не остановится ни перед чем, чтобы сберечь их. Естественный отбор благоволит генам, которые управляют своими машинами выживания так, что те используют окружающую среду максимально эффективно. Сюда относится и максимально эффективное использование других машин выживания — как своего, так и прочих биологических видов[47].
Если что-то мешает организму добраться до необходимого ресурса, организм должен устранить препятствие — вывести из строя или уничтожить его. Это касается и препятствий, которые оказались другими человеческими существами, — скажем, они монополизировали хорошую землю или источники пищи. Даже среди современных государств основной повод для войны — обычная корысть. Политолог Брюс Буэно де Мескита проанализировал данные о зачинщиках в 251 реальном конфликте за последние два века и пришел к заключению, что в большинстве случаев агрессор правильно рассчитывал, что успешное вторжение послужит его национальным интересам[48].
Другое чисто человеческое препятствие — это мужчины, монополизирующие женщин, которых иначе могли бы взять в жены другие мужчины. Гоббс обратил внимание на этот феномен, не догадываясь о его эволюционной причине, которую сотни лет спустя обозначил Роберт Триверс: разница минимальных родительских инвестиций мужчин и женщин превращает репродуктивные возможности женщины в дефицитный товар, за обладание которым соревнуются мужчины[49]. Это объясняет, почему мужчины — агрессивный пол и почему у них всегда есть причина для драки, даже если их жизненные потребности удовлетворены. Изучение войн в догосударственных обществах подтвердило, что мужчинам не обязательно испытывать нехватку пищи или земли для того, чтобы развязать войну[50]. Они часто нападали на другие деревни, чтобы выкрасть женщин, чтобы отомстить за их похищение или защитить свои интересы в спорах, касающихся обмена женщинами для брака. В обществах, в которых у женщин есть право голоса в таких вопросах, мужчины по-прежнему соперничают за обладание ими, конкурируя за статус и богатство, которые привлекают женщин. Это соперничество может быть жестоким, потому что, как замечают Дейли и Уилсон, «любое создание, которому грозит полный репродуктивный провал, должно удваивать усилия, часто с риском для жизни, чтобы попытаться улучшить существующее положение дел»[51]. Как следствие, необеспеченные молодые мужчины, оказавшиеся в таком положении, готовы рисковать жизнью и здоровьем, чтобы повысить свои шансы в борьбе за статус, богатство и партнерш[52]. Во всех обществах именно они составляют демографический слой, в котором концентрируются смутьяны, правонарушители и горячие головы. Одной из причин роста уровня преступности в 60-х было то, что мальчики — дети бэби-бума — достигли криминально опасного возраста[53]. И хотя существует много причин, почему страны различаются в своей склонности развязывать войны, один из факторов — просто пропорция в популяции мужчин в возрасте от 15 до 29[54].
Для современного читателя весь этот циничный анализ может показаться неправдоподобным, потому что сегодня мы не можем думать о других людях просто как об элементах окружающей среды, от которых необходимо избавиться, как от сорняков в огороде. Если только мы не психопаты, мы сочувствуем другим людям и не можем бездумно обращаться с ними как с препятствием или добычей. Тем не менее это сочувствие не мешало людям совершать все виды зверств на протяжении истории и доисторического периода. Это противоречие можно разрешить, вспомнив, что люди выделяют нравственный круг, в который могут входить не все человеческие существа, а только члены их клана, деревни или племени[55]. Люди внутри круга — объекты сочувствия; к тем, кто снаружи, относятся как к камням, реке или куску пищи. В своей предыдущей книге я упоминал, что в языке амазонского племени вари есть именные классификаторы, которые отделяют съедобные объекты от несъедобных, и что в класс съедобного входит любой, кто не является членом племени. Это побудило психолога Джудит Рич Харрис написать такое четверостишие:
Вот у племени вари словарик! В нем еда — это все, что «не вари». Среди вари веселье всегда, Но тому, кто не вари, беда.Каннибализм настолько отвратителен для нас, что даже антропологи годами отказывались признавать обыденность этого явления в доисторический период. Первое, что приходит на ум: неужели другие человеческие существа действительно способны на такое извращенное поведение? Но защитники прав животных имеют, безусловно, такое же низкое мнение о мясоедах, виновных в миллионах смертей, которые можно было бы предотвратить, — и смерть они причиняют с особой жестокостью: кастрируют и клеймят скот без анестезии, вздевают рыбу на крючок и заставляют ее задыхаться в сачке или в лодке, варят лобстеров живьем. Моя цель — не сформулировать моральный аргумент в пользу вегетарианства, а пролить свет на особенности психологии человека в том, что касается насилия и жестокости. История и этнография предполагают, что люди могут относиться к незнакомцам так же, как мы сейчас относимся к лобстерам, и наше непонимание подобных поступков сродни непониманию наших действий со стороны защитников прав животных. Не совпадение, что автор «Расширяющегося круга» (The Expanding Circle) Питер Сингер написал и книгу «Освобождение животных» (Animal Liberation).
Наблюдение, что люди могут быть совершенно безразличны к тем, кто не входит в их нравственный круг, может служить отправной точкой в подходе к решению проблемы насилия: понять психологию круга настолько, чтобы убедить людей впустить в него все человечество. В предыдущих главах мы видели, как тысячелетиями нравственный круг ширился под влиянием роста числа взаимосвязей, делающих других людей более ценными, когда они живы, а не когда мертвы[56]. Как сказал Роберт Райт, «одна из причин, почему я не считаю, что мы должны бомбить японцев, — то, что они сделали мой минивэн». Другие технологии тоже внесли свой вклад в космополитическое мировоззрение, помогающее поставить себя на место других людей. Художественная литература, путешествия, знание истории и реалистическое искусство дают людям возможность представить себя в повседневной жизни людей, которые в другие времена могли бы стать их смертельными врагами.
Мы видели и то, как круг может сузиться. Вспомните, как Джонатан Гловер обнаружил, что зверства часто сопровождаются тактикой дегуманизации, например использованием уничижительных названий, ухудшением условий жизни, унизительной одеждой и бесчувственными насмешками, позволяющими не воспринимать страдания всерьез[57]. Эти тактики способны переключить ментальный рычаг и перевести человека из категории «личности» в разряд «неличности», после чего пытать и убивать его не сложнее, чем варить живьем лобстера. (Те, кто посмеивается над политкорректными названиями этнических меньшинств, — и я в их числе — должны помнить, что первоначально у них был гуманный смысл.) Социальный психолог Филипп Зимбардо показал, что даже среди студентов элитарного университета тактика дегуманизации может легко привести к тому, что они начинают выталкивать друг друга за пределы нравственного круга. Зимбардо создал имитацию тюрьмы в подвале факультета психологии Стэнфордского университета и наугад разделил студентов на «узников» и «охранников». Узники должны были носить робу, кандалы, а на голове — имитирующие бритую голову колпачки из нейлоновых чулок, обращаться к ним следовало по порядковым номерам. Спустя короткое время «охранники» начали издеваться над «узниками» — вставали им на спину, пока те отжимались, поливали их из огнетушителей, заставляли чистить унитазы голыми руками — и Зимбардо прервал эксперимент из соображений безопасности участников[58].
Но бывает, что неожиданно прорвавшиеся человеческие признаки жертвы переключают рычажок обратно на сочувствие. Однажды, когда Джордж Оруэлл воевал на гражданской войне в Испании, он увидел бегущего полуодетого человека, одной рукой придерживающего брюки. «Я не стал в него стрелять, — писал Оруэлл. — Я не стрелял частично из-за этой детали — из-за брюк. Я приехал сюда убивать "фашистов", но человек, поддерживающий штаны, чтобы не упали, — не "фашист", он, очевидно, человеческое существо, такое же, как ты сам»[59]. Гловер приводит еще один пример, о котором сообщил журналист из ЮАР:
В 1985-м в Южной Африке, еще во времена апартеида, в Дурбане проходила демонстрация. Полиция атаковала ее с обычной жестокостью. Один из полицейских погнался за чернокожей женщиной, явно намереваясь ударить ее дубинкой. И тут у нее на бегу соскользнула с ноги туфля. Грубый полицейский был при этом хорошо воспитанным молодым буром, он знал, что, если женщина теряет туфельку, ты должен ее поднять. Когда он подавал ей туфлю, их глаза встретились. И так как ударить ее было уже невозможно, полицейский оставил женщину в покое[60].
Однако мы не должны обманываться и думать, что реакция Оруэлла (одного из величайших голосов совести XX века) или «хорошо воспитанного» бура типична. Многие интеллектуалы верят, что большинство солдат не может заставить себя открыть огонь в битве. Заявление даже на первый взгляд невероятное, учитывая десятки миллионов солдат, убитых в войнах прошлого века. (Мне это напоминает профессора из пьесы Стоппарда «Прыгуны», который отмечает, что парадокс Зенона не позволяет стреле достичь цели, так что святой Себастьян, видимо, умер от страха.) Оказалось, это поверье опирается на единственный сомнительный опрос пехотинцев Второй мировой войны. В последующих интервью мужчины отрицали, что их вообще спрашивали о том, стреляли ли они во врага, а уж тем более что они говорили, будто не стреляли[61]. Недавние опросы солдат, принимавших участие в сражениях, и боевиков в этнических бойнях показывают, что они часто убивают с азартом, иногда в состоянии, которое они описывают как «ликование» или «экстаз»[62].
Истории, рассказанные Гловером, вселяют надежду, что люди способны помещать незнакомцев внутрь защищенного от насилия нравственного круга. Но они также напоминают нам, что, возможно, по умолчанию наши настройки установлены на удержание их снаружи.
* * *
Во-вторых, недоверие. Гоббс перевел «Историю Пелопонесской войны» Фукидида и был поражен его наблюдением: «Что сделало войну неизбежной, так это рост могущества Афин и страх, который это вызвало в Спарте». Если у вас есть соседи, они могут позариться на ваше имущество, и тогда вы станете препятствием на пути к осуществлению их желания. Так что вы должны быть готовы защищать себя. Защита — сомнительное занятие, даже с технологиями вроде крепостных стен, линии Мажино или противоракетной обороны, и еще более рискованное — без них. Единственной возможностью защитить себя может быть уничтожение потенциально враждебных соседей превентивным ударом. Как советовал бейсболист Йоги Берра: «Лучший вид защиты — нападение. И наоборот».
К сожалению, такой вывод можно сделать, даже если вы не агрессивны по натуре. Все, что для этого нужно, — это осознание, что другие могут захотеть забрать вашу собственность, и сильное нежелание быть убитым. Еще хуже то, что ваши соседи имеют все основания прийти к тому же заключению, и, если так случится, это сделает ваши опасения еще более обоснованными, а превентивный удар — еще более соблазнительным, что сделает превентивный удар еще более соблазнительным для них, и т. д.
Эта «Гоббсова ловушка», как ее называют сегодня, — широко распространенная причина вооруженных конфликтов[63]. Политолог Томас Шеллинг предложил такую аналогию: представьте вооруженного домовладельца, который застал врасплох вооруженного грабителя. Чтобы избежать гибели, каждый захочет выстрелить первым, даже если ни один из них не планировал убивать другого. Гоббсова ловушка, поставившая двух мужчин в ситуацию противостояния, — повторяющаяся тема художественных произведений: ковбойские дуэли в голливудских вестернах, сценарии «шпион против шпиона» в триллерах времен холодной войны и песня Боба Марли «Я застрелил шерифа».
Но так как мы — социальный вид, Гоббсова ловушка чаще ставит группу против группы. В единстве — сила, так что люди, связанные общими генами или взаимными обязательствами, создают оборонительные коалиции. К сожалению, логика Гоббсовой ловушки подразумевает, что в большом количестве есть и опасность, потому что соседи могут испугаться, что враг превосходит их числом, и, чтобы противостоять растущей угрозе, в свою очередь обзаведутся союзниками. А так как то, что для одних — сдерживание, для других — осада, это может привести к эскалации напряженности. Человеческий общественный инстинкт по природе своей союз, лишающий свободы действий, когда две стороны, не помышлявшие прежде ни о чем дурном, могут неожиданно для самих себя вступить в войну, если союзник одной нападет на союзника другой. Именно по этой причине я рассматриваю убийство и войну в одной и той же главе. У вида, чьи представители формируют узы преданности, одно может легко перейти в другое.
Опасность особенно серьезна для людей, потому что, в отличие от большинства млекопитающих, обычно мы патрилокальны, то есть мужчины-родственники живут вместе, а не покидают группу после наступления половой зрелости[64]. (У шимпанзе и дельфинов самцы-родственники тоже живут вместе, и они тоже создают агрессивные коалиции.) То, что мы зовем «этническими группами», — это очень большие расширенные семьи, и, хотя в современных этнических группах семейные связи слишком отдаленные для того, чтобы альтруизм, основанный на них, был сколько-нибудь значителен, для маленьких коалиций, в которых мы эволюционировали, это было не так. Даже сегодня этнические группы часто считают себя большими семьями, и роль этнической верности в межгрупповой агрессии, к сожалению, совершенно очевидна[65].
Другая отличительная черта Homo sapiens как вида — это, конечно, изготовление инструментов. Дух соперничества может превратить изготовление инструментов в производство оружия, а недоверие может превратить производство оружия в гонку вооружений. Гонка вооружений, как и союзничество, может повысить вероятность войны, все туже затягивая пружину страха и недоверия. Хваленая способность нашего вида изготавливать инструменты — одна из причин того, почему мы так хороши в убийстве друг друга.
Порочный круг Гоббсовой ловушки помогает понять, почему перерастание разногласий в войну (и иногда деэскалация до разрядки напряженности) может происходить так внезапно. Математики и специалисты по компьютерному моделированию разработали модели, в которых несколько игроков обзаводились оружием или формировали союзы в ответ на действия других игроков. Эти модели часто демонстрируют хаотическое поведение, в результате которого мелкие различия в значении параметров могут вылиться в крупные и непредсказуемые последствия[66].
То, что Гоббс ссылается еще на Пелопонесские войны, доказывает, что опасность Гоббсовой ловушки для групп далеко не гипотетическая. Шеньон описывал, как жители деревни Яномамо, одержимые страхом быть убитыми жителями других деревень (не без причины), время от времени нападали первыми, давая другим деревням повод наносить собственные упреждающие удары и подталкивая группы деревень к созданию союзов, которые заставляли их соседей нервничать еще больше[67]. Уличные банды и мафиозные семьи вовлечены в такие же интриги. В прошлом веке Первая мировая война, Шестидневная арабо-израильская война и войны в Югославии в 1990-х разразились в том числе и благодаря Гоббсовой ловушке[68].
Политолог Джон Васкес подтвердил это цифрами. Используя данные о сотнях конфликтов, произошедших за два последних столетия, он сделал вывод, что составные части Гоббсовой ловушки — озабоченность безопасностью, заключение союзов и гонка вооружений — могут статистически предсказать перерастание трений в войну[69]. Наиболее сознательно логике Гоббсовой ловушки следовали ядерные стратеги холодной войны, когда буквально судьбы мира зависели от нее. Эта логика породила некоторые из сводящих с ума парадоксов ядерной стратегии: почему крайне опасно иметь ракет столько, сколько достаточно для уничтожения врага, но недостаточно для того, чтобы уничтожить его после того, как он собьет эти ракеты (потому что враг будет подвергаться сильному соблазну нанести превентивный удар), и почему создание непробиваемой защиты от вражеских ракет может сделать мир еще более опасным местом (потому что враг будет подвергаться сильному соблазну нанести превентивный удар до того, как полная защита, возведенная противником, превратит его в открытую мишень).
Когда более сильная группа внезапно атакует и побеждает слабую, это не удивляет гоббсовых циников. Но когда одна сторона разбивает другую в битве, в которую с готовностью вступили обе, логика их действий не так ясна. Учитывая, что и победителю и побежденному есть что терять, можно было бы ожидать, что каждая сторона представляет себе силу другой и более слабая пожертвует спорным ресурсом без бессмысленного кровопролития, которое все равно исхода не изменит. Большинство поведенческих экологов считают, что ритуалы умиротворения и уступки у животных возникли именно по этой причине (а не для пользы вида в целом, как предполагал Лоренц). Иногда силы сторон примерно равны, а ставки так высоки, что ввязаться в драку — единственный способ выяснить, кто же сильнее[70].
Но порой лидер марширует сам — и отправляет своих солдат — прямиком в долину смерти без какой-либо обоснованной надежды на победу. Некомпетентность военных долго озадачивала историков, и приматолог Ричард Рэнгем предположил, что она может произрастать из логики блефа и самообмана[71]. Способность убедить неприятеля в том, что ему лучше избежать схватки, зависит не от того, что ты сильнее, а от того, что ты кажешься сильнее, а это стимулирует желание блефовать и уметь разоблачать блеф. Так как блефует лучше тот, кто верит в собственный блеф, в процессе эскалации вражды может возникать некоторая доля самообмана. Она должна быть ограниченной, потому что быть пойманным на блефе порой хуже, чем бросить карты и сдаться без боя, но, когда пределы самообмана откалиброваны неточно и обе стороны движутся к краю, результатом может стать человеческая катастрофа. Историк Барбара Такман рассказала о роли самообмана в войнах, приводивших к подобным катастрофам, в своих книгах «Августовские пушки» (The Guns of August) (о первой мировой войне) и «Ода политической глупости: От Трои до Вьетнама» (The March of Folly: From Troy to Vietnam).
* * *
Готовность нанести упреждающий удар — обоюдоострый меч, так как подстрекает противника ударить первым. Поэтому люди изобрели и, возможно, развили в процессе эволюции альтернативный способ защиты: заявленную политику сдерживания, известную как lex talionis — закон возмездия, знакомый нам из библейской заповеди «Око за око, зуб за зуб»[72]. Если вы сумеете достаточно убедительно сказать потенциальному неприятелю: «Мы не будем атаковать первыми, но, если нас атакуют, мы выживем и нанесем ответный удар», вы избежите первых двух гоббсовых мотивов для раздоров: стремления выиграть и недоверия. Стратегия, направленная на то, чтобы причинить другим столько же вреда, сколько и они вам, аннулирует стимул нападать ради выигрыша; стратегия, в рамках которой вы не нападаете первым, устраняет мотив нападения из-за недоверия. Эффект усиливается стратегией симметричного ответного удара, когда вы причиняете противнику не больше вреда, чем он причинил вам, — это ослабляет страх, что вы используете незначительный предлог, чтобы оправдать незапланированную массированную атаку.
Ядерная стратегия «Взаимного гарантированного уничтожения» — наиболее очевидный современный пример закона воздаяния. Но это определенно вариант древнего импульса — эмоции отмщения, которая, возможно, встроена в наш мозг естественным отбором. Дейли и Уилсон замечают: «В любых уголках мира мы можем услышать о клятвах поквитаться за убитого отца или брата и о ритуалах, призванных освящать эти клятвы, — о матери, воспитывающей сына, чтобы тот отомстил за отца, убитого, когда мститель был еще младенцем, о клятвах над могилой, о том, как пьют кровь убитого родственника в качестве завета и сохраняют его окровавленную одежду как реликвию[73]. Современные государства обычно выступают против мстительных устремлений своих граждан. Они наказывают мстителей — людей, которые «берут закон в собственные руки», — и, за некоторыми исключениями, игнорируют требования жертв преступлений и их родственников и не дают им права голоса в вопросах привлечения обидчика к ответственности, досудебных соглашений или определения меры наказания.
Как мы видели в главе 10, для того чтобы месть работала как сдерживающая сила, она должна быть неотвратимой. Месть — рискованное дело, потому что, если враг настолько опасен, что причинил тебе вред, вряд ли он примет наказание без сопротивления. Так как ущерб уже причинен, жертва может хладнокровно рассудить, что мстить не в ее интересах. И так как агрессор способен это спрогнозировать, он может раскусить блеф жертвы и третировать ее безнаказанно. Но если потенциальная жертва и ее родственники настолько поглощены жаждой мести, что растят сына, чтобы тот отомстил за отца, пьют кровь как завет и т. д., агрессор может подумать дважды, прежде чем напасть[74].
Закон возмездия требует, чтобы у мести был морально оправданный мотив, чтобы ее можно было отличить от простого нападения. Мститель должен быть спровоцирован предыдущим актом агрессии или другой несправедливостью. Изучение кровной вражды, войн и этнического насилия показывает, что непосредственные исполнители практически всегда реагируют на какую-то обиду, нанесенную им жертвой[75]. Опасность этой психологии очевидна: противники могут иметь разные мнения о том, оправдан ли чем-то первоначальный акт агрессии (возможно, как самозащита, возврат добытой нечестным путем прибыли или как компенсация за предыдущее оскорбление), или же это был акт неспровоцированной агрессии. Одна сторона насчитает равное число контрмер и будет думать, что весы справедливости уравновешены, в то время как другой счет покажется неокончательным и она решит сравнять его[76]. Самообман усиливает уверенность каждой стороны в том, что ее действия справедливы, и делает примирение практически невозможным.
Кроме того, чтобы месть работала как сдерживающее средство, о готовности мстить необходимо заявлять публично, так как весь смысл сдерживания в том, чтобы дать потенциальным агрессорам возможность подумать еще раз заранее. И это приводит нас к последней гоббсовой причине вражды.
* * *
В-третьих, слава — хотя более точным словом было бы «честь». Замечание Гоббса, что мужчины дерутся из-за «слова, улыбки, из-за несогласия во мнении и других проявлений неуважения», сегодня так же верно, как и в XVII веке. За все то время, что ведется статистика городских преступлений, наиболее частая причина убийства — «ссоры», которые в регистрационных журналах на полицейских участках классифицируют как «размолвка на бытовой почве; оскорбления, ругательства, тычки и т. д.»[77]. Детектив из Далласского отдела убийств вспоминает: «Убийства происходят из-за мелких размолвок и вообще без повода. Страсти накаляются. Начинается драка, и вот уже кого-то зарезали или застрелили. Я расследовал случаи, когда участники конфликтовали из-за десятицентовой пластинки в музыкальном автомате или из-за карточного долга в один доллар»[78].
Национальная честь — частая причина войн между государствами, даже когда материальные ставки невелики. В конце 1960-х и начале 1970-х большинство американцев уже не питали иллюзий насчет участия страны во вьетнамской войне — они считали, что эта война аморальна или безнадежна или и то и другое. Но вместо того чтобы согласиться вывести американские войска безо всяких условий, как советовало мирное движение, большинство поддержало Ричарда Никсона и его слоган: «Почетного мира». На деле это вылилось в затягивание вывода войск. Военное присутствие продолжалось до 1973 года, стоило жизни 20 000 американцев и гораздо большему количеству вьетнамцев и не изменило результата — Южный Вьетнам потерпел поражение. Защита национальной чести стоит и за другими недавними войнами, такими как возврат Британией Фолклендских островов в 1982 году и американское вторжение в Гренаду в 1983 году. Разрушительная война между Гондурасом и Сальвадором в 1969 году началась из-за спорного результата футбольного матча между национальными командами.
С точки зрения логики сдерживания конфликты из-за личной или государственной чести не так неразумны, как кажется. Находясь во враждебном окружении, люди и страны должны трубить на весь мир о своей готовности мстить любому, кто захочет нажиться за их счет, должны создать себе репутацию мстителя, который не спустит никакого неуважения или посягательства, пусть и самого ничтожного. Они должны оповестить окружающих, что, как поет Джим Кроче: «Не надо цепляться за плащ Супермена, не надо плевать против ветра, не надо срывать маску с Одинокого Ковбоя и не надо связываться с Джимом».
Эта ментальность чужда тем из нас, кто может вызвать Левиафана, набрав 911, но эта возможность не всегда доступна. Она была недоступна людям в доисторических обществах, в предгорьях Аппалач, на Диком Западе, в отдаленных высокогорных районах Шотландии, Балкан или Индокитая. Она недоступна людям, которые не хотят обращаться в полицию из-за характера их работы (контрабандисты спиртных напитков, наркодилеры в трущобах, мафиозные воры в законе). И она недоступна для государств в их отношениях друг с другом. Дейли и Уилсон так комментируют ментальность, свойственную всем этим аренам:
Главная мужская добродетель в хронически воюющих и враждующих сообществах — способность к насилию; охота за головами и за славой становится престижной, а убийство может даже быть обязательной частью обряда инициации. Подставить другую щеку — не добродетель, а глупость. Или недостойная слабость[79].
Так что социальные конструкционисты, которых я цитировал ранее, не ошибаются, указывая на культуру воинственной мужественности как на основную причину насилия. Но они ошибаются, думая, что эта причина исключительно американская, что она порождена отделением от матери или неумением выражать эмоции и что она представляет собой случайную социальную конструкцию, которую можно разрушить словами. И сторонники подхода общественного здравоохранения правы, заявляя, что уровень насилия изменяется вместе с социальными условиями, но они ошибаются, думая, что насилие — патология в каком-то медицинском смысле. Культуры чести распространены по всему миру, так как они развивают свойственные каждому человеку эмоции гордости, гнева, мести, любви к родственникам и друзьям, и появляются там и тогда, где становятся подходящим ответом на местные условия[80]. И действительно, эти эмоции сами по себе прекрасно знакомы всем, даже если они и не выливаются в насилие вроде агрессивного поведения на дороге, офисных интриг, политических скандалов, предательства в академической среде и перепалок в социальных сетях.
Социальные психологи Ричард Нисбетт и Дов Коэн в книге «Культура чести» (Culture of Honor) показали, что жестокие культуры возникают в обществах, которые находятся вне досягаемости закона и в которых человека легко можно лишить ценных активов[81]. Общества, живущие скотоводством и пастушеством, отвечают обоим условиям. Скотоводы обычно живут на земле, которая не подходит для земледелия и поэтому расположена вдали от правительственных учреждений. А их главное достояние, скот, украсть легче, чем главное достояние фермеров — землю. В таких обществах человека можно лишить богатства (и возможности разбогатеть) в одно мгновение. В этих условиях у мужчин развивается механизм мгновенного насильственного реагирования не только против угонщиков скота, но против любого, кто захочет проверить их решительность, проявив неуважение, — иначе они могут выставить себя в качестве легкой добычи для скотокрадов. Известные примеры — шотландские горцы, горцы Аппалач, ковбои Дикого Запада, воины масаи, индейцы сиу, племена друзов и бедуинов, балканские кланы и индокитайские монтаньяры.
Честь человека — своего рода «социальная реальность» в толковании Джона Сёрля: она существует, потому что все согласны с тем, что она существует, но это не делает ее менее реальной, так как в основе ее лежит общее признание. И даже когда образ жизни людей меняется, культура чести может просуществовать еще долго, потому что каждому трудно решиться отвергнуть ее первым. Сам акт отречения от нее может стать признанием своей слабости и низкого статуса, даже когда овцы и горы — только отдаленное воспоминание.
На американском Юге уровень насилия долго был выше, чем на Севере, достаточно вспомнить традицию дуэлей среди «людей чести», таких как Эндрю Джексон . Нисбет и Коэн подметили, что Юг по большей части был заселен шотландскими и ирландскими пастухами, в то время как Север — английскими фермерами. И на протяжении длительного периода горные рубежи Юга были недосягаемы для закона. В результате в XXI веке южная культура чести все еще жива как в законах, так и в социальных установках. Южные штаты накладывают меньше ограничений на владение оружием, позволяют людям стрелять в нападающего или грабителя без предупреждения, терпимы к физическим наказаниям в семье и к телесным наказаниям в школе, более воинственны в вопросах национальной безопасности и чаще применяют смертную казнь[82].
Эти установки не плавают в облаке под названием «культура», но их можно наблюдать в психологии некоторых южан. Нисбетт и Коэн провели обманный психологический эксперимент в либеральном Мичиганском университете. Чтобы попасть в лабораторию, респондентам приходилось протискиваться мимо помощника экспериментатора, который заполнял бумаги. Когда респондент задевал его, тот резко задвигал ящик стола и бормотал: «Придурок!» Студенты из Северных штатов отшучивались, а вот студенты из Южных штатов были явно задеты. У южан поднимался уровень тестостерона и кортизола (гормона стресса), их самооценка снижалась. Они обнаруживали компенсаторную реакцию, крепче пожимая руку экспериментатору и общаясь с ним более напористо, а на пути обратно, когда другое подставное лицо загораживало им путь в узком коридоре, они отказывались отойти и уступить дорогу. Дело не в том, что южане хронически озлоблены: контрольная группа, которую не подвергали оскорблению, вела себя так же спокойно и собранно, как северяне. И насилие южане считают правильным не всякое, а когда оно спровоцировано оскорблением или нарушением границ.
Районы бедноты, заселенные американцами африканского происхождения, — наиболее неблагополучная с точки зрения насилия социальная среда в западных демократиях, и там тоже глубоко укоренена культура чести. В своем проницательном эссе «Кодекс улиц» (The Code of the Streets) социолог Элайя Андерсон описывал одержимость молодых мужчин уважением, их стремление завоевать репутацию «крутых парней», их готовность нанести жестокий удар в ответ на любое проявление неуважения и всеобщее признание правил этого кодекса[83]. Если бы их не выдавал лексикон («Если кто-то на тебя наезжает, ты должен вправить ему мозги»), описание их кодекса, сделанное Андерсоном, невозможно было бы отличить от рассказов о культуре чести у белых южан.
Жители афроамериканских районов никогда не пасли коз, так почему же среди них культивировалась культура чести? Во-первых, возможно, они принесли ее с собой с Юга, когда мигрировали в крупные города после двух мировых войн, — забавная ирония для южных расистов, которые считают насилие в трущобах в чем-то специфически афроамериканским. Во-вторых, достояние молодого мужчины украсть очень легко, так как обычно оно представляет собой наличность или наркотики. А в-третьих, гетто — это что-то вроде приграничной территории, где полагаться на полицию не стоит: гангста-рэп-группа Public Enemy в одной из своих песен называет номер службы спасения 911 «шуткой». В-четвертых, бедные люди, особенно молодые мужчины, не имеют других оснований для гордости — престижной работы, хорошего дома, профессиональных достижений, и после веков рабства и дискриминации это вдвойне верно для афроамериканцев. Их репутация на улицах — единственная претензия на статус. Подводя итог, Андерсон подчеркивает, что кодекс улиц постоянно самовозобновляется. Большинство семей афроамериканцев в районах бедноты разделяют ценности миролюбивого среднего класса, о которых они говорят как о «правильных»[84]. Но этого недостаточно, чтобы покончить с культурой чести:
Каждый знает, что, если правила нарушены, последует наказание. Таким образом, знание кодекса по большей части защищает; оно буквально необходимо для функционирования в обществе. И хотя семьи, ориентированные на «правильные ценности», обычно не согласны с ценностями кодекса, они часто скрепя сердце поощряют знакомство своих детей с ним, чтобы те могли приспособиться к окружению[85].
Исследования динамики насилия в гетто не расходятся с выводами Андерсона. Скачок уровня городского насилия в Америке между 1985 и 1993 годами может быть частично увязан с появлением крэк-кокаина и с порожденной им подпольной экономикой. Как указывал экономист Джефф Гроггер: «Насилие — способ укрепить право собственности в отсутствие легального ресурса»[86]. Вскоре рост насилия в экономике нового наркотика ожидаемо активировал Гоббсову ловушку. Как заметил криминолог Джеффри Фаган, оружие распространяется контактным путем, когда «молодые люди, которые иначе не стали бы носить оружие, чувствуют, что оно им необходимо, чтобы не стать жертвой своих вооруженных сверстников»[87]. И как мы видели в главе, посвященной политике, очевидное экономическое неравенство — хороший прогностический параметр насилия (лучший, чем бедность сама по себе), возможно, потому, что мужчины, лишенные законных способов добиться статуса, вместо этого бьются за статус на улицах[88]. И поэтому неудивительно, что, когда афроамериканские подростки покидают неблагополучные районы, они проявляют не больше агрессии и девиантного поведения, чем их белые ровесники[89].
* * *
Гоббсов анализ причин насилия, подкрепленный современными данными о преступности и войне, показывает, что насилие — это не примитивное, иррациональное побуждение и не «патология», если это не метафора состояния, от которого все хотели бы избавиться. Напротив, это почти неизбежный продукт взаимодействия рациональных социальных организмов, действующих в собственных интересах.
Но Гоббс определил не только причины насилия, но и средства его предотвращения: «Общая власть, которая держит всех в страхе». Его государство было средством воплощения принципа «Человек должен согласиться, как и все остальные… отказаться от права на все вещи; и довольствоваться такой степенью свободы по отношению к другим людям, которую допустил бы у других людей по отношению к себе»[90]. Люди облекают властью правителя или группу людей, которая может использовать коллективную силу контрагентов, чтобы заставить каждого из них придерживаться договоренностей, потому что «соглашения без меча — всего лишь слова, которые не в силах гарантировать человеку безопасность»[91].
Руководящий орган, которому отдана монополия на законное использование насилия, может нейтрализовать каждую из гоббсовых причин для вражды. Налагая взыскания на агрессоров, он уничтожает экономическую целесообразность нападения ради обогащения. Это, в свою очередь, обезвреживает Гоббсову ловушку, попав в которую взаимно не доверяющие друг другу люди подвергаются искушению нанести превентивный удар, чтобы на них не напали ради обогащения. И система законов, которая определяет нарушения и беспристрастно раздает наказания, способна сделать ненужной культуру чести и сопутствующую ей необходимость заводиться с пол-оборота. Люди могут расслабиться, зная, что кто-то другой будет останавливать их врагов и им больше не понадобится принимать воинственные позы, чтобы доказать, что они не мальчики для битья. И существование третьей стороны, взвешивающей нарушения и наказания, помогает избежать опасности самообмана, который обычно убеждает каждого из противников, что именно он подвергся большему числу обид. Да, эти преимущества вмешательства третьей стороны присутствуют и при разрешении конфликтов без привлечения государства, когда посредники пытаются помочь враждующим сторонам прийти к соглашению или арбитры выносят вердикт, хотя и не могут заставить стороны исполнить его[92]. Проблема в том, что в ситуации, когда стороны могут просто повернуться и уйти, если результат их не удовлетворяет, эти беззубые меры никого не остановят.
Из всех изобретенных нами способов снижения уровня насилия наиболее эффективным кажется передача полномочий вооруженной власти. Хотя мы и дебатируем о том, способны ли поправки в области уголовной политики (например, казнить ли убийц или приговаривать их к пожизненному заключению) на несколько процентов сократить преступность, никаких сомнений в принципиальном преимуществе системы уголовного правосудия по сравнению с жизнью в анархии быть не может. Шокирующе высокий уровень убийств в догосударственных обществах, где от 10 до 60 % мужчин погибали от рук других мужчин, обеспечивает нам одно из доказательств[93]. Другое — то, что жестокая культура чести возникает практически в каждом уголке мира, до которого не дотягивается рука закона[94]. Многие историки утверждают, что люди признали централизованную власть в Средние века (и в другие периоды) именно для того, чтобы освободить себя от обязанности мстить тем, кто причинит вред им и их родне[95]. Усиление централизованной власти может объяснить, почему количество убийств в европейских обществах со времен Средневековья уменьшилось в сотни раз[96]. В Соединенных Штатах уровень городских преступлений значительно снизился во второй половине XIX века по сравнению с первой его половиной, что стало результатом появления в городах профессиональной полиции[97]. Причины снижения преступности в Америке в 1990-е годы противоречивы и, возможно, более разнообразны, но многие криминологи связывают его с активизацией работы полиции с населением и с введением более длительных сроков тюремного заключения для преступников, совершивших насильственные преступления[98].
Верно и обратное. Когда правовое принуждение исчезает, насилие вспыхивает во всем своем разнообразии: грабежи, сведение счетов, этнические чистки и мелкие войны между бандами, кланами и мафиозными семьями. Это можно было наблюдать на развалинах Югославии, Советского Союза и в некоторых областях Африки в 1990-х, но может случиться и в странах, имеющих долгие гражданские традиции. Будучи подростком, в романтических 60-х я жил в Канаде, стране, гордящейся своим миролюбием. Я искренне верил в анархизм бакунинского толка. Я смеялся над доводами моих родителей, утверждавших, что, если правительство когда-нибудь сложит оружие, ад вырвется на свободу. Наши противоположные предсказания прошли проверку в 8 утра 17 октября 1969 года, когда полиция Монреаля объявила забастовку. К 11:20 был совершен первый налет на банк. К полудню большинство магазинов в центре города закрылось из-за грабежей. Еще через несколько часов водители такси сожгли гараж фирмы по прокату лимузинов, с которой конкурировали из-за клиентов в аэропорту, снайпер с крыши застрелил офицера полиции из провинции, бандиты ворвались в несколько отелей и ресторанов, а один доктор убил грабителя в своем доме в пригороде. К концу дня было ограблено шесть банков, разворовано несколько сотен магазинов, совершено 12 поджогов, разбито 40 вагонов, груженных стеклом для витрин, и причинен ущерб на сумму $3 млн. Чтобы восстановить порядок, городским властям пришлось вызвать армию и королевскую конную полицию[99]. Этот убедительный практический тест оставил от моих убеждений рожки да ножки (и на всю жизнь обеспечил мне аппетит к науке).
Мысль, что анархия в смысле отсутствия правительства ведет к анархии в смысле жестокого хаоса, может показаться банальной, но ее до сих пор игнорируют в наш умеренно романтический век. Правительство обычно воспринимается как проклятие многими консерваторами, а полицейская и тюремная система — проклятие для многих либералов. Левые ссылаются на то, что сдерживающая ценность смертной казни по сравнению с пожизненным заключением неоднозначна, и делают вывод, что устрашение как таковое неэффективно вообще. И многие сопротивляются более активной работе полиции в бедных кварталах, хотя это, возможно, самая эффективная мера, чтобы помочь их благонамеренным обитателям отказаться от кодекса улиц. Конечно, мы должны бороться с расовым неравенством, из-за которого слишком многие афроамериканцы попадают в тюрьмы, но, как сказал правовед Рэндэлл Кеннеди, мы также должны бороться и с тем расовым неравенством, которое оставляет слишком многих афроамериканцев без защиты от преступников[100]. Многие правые протестуют против декриминализации наркотиков, проституции и азартных игр, не учитывая издержек зон анархии, которая, согласно любимой ими логике свободного рынка, неизбежно расцветет благодаря политике запретов. Как только спрос на товар повысится, сразу же появятся поставщики, и, если они не смогут защитить свое право собственности, вызвав полицию, они будут делать это с помощью жестокой культуры чести. (И это не говоря уже о том, что действующая сегодня в отношении наркотиков стратегия отправляет в тюрьмы множество людей, не склонных к насилию.) Школьников постоянно пичкают ложью, будто коренные американцы и люди в других догосударственных обществах миролюбивы, и, как результат, они не осознают всей ценности и даже презирают одно из величайших изобретений нашего вида — демократическое правительство и принцип главенства закона.
Где Гоббс потерпел неудачу, так это в решении проблемы контроля полиции. Он считал, что гражданская война так ужасна, что любое правительство — монархия, аристократия или демократия — лучше, чем это. Кажется, он не осознавал, что на практике Левиафан будет не сверхъестественным морским чудовищем, а человеческим существом или группой людей, обремененных смертными грехами алчности, зависти и гордыни. (Как мы видели в предыдущей главе, это стало навязчивой идеей наследников Гоббса, писавших американскую Конституцию). Вооруженные люди всегда угроза, так что полиция, которая не находится под строгим демократическим контролем, может стать куда худшим бедствием, чем сама по себе преступность и кровная месть. В XX веке, согласно данным, приведенным в книге политолога Рудольфа Руммеля «Смерть от руки государства» (Death by Government), 170 000 000 человек были убиты их собственными правительствами. И не сказать, чтобы правительственные убийства остались в истории тираний середины прошлого века. В Списке мировых конфликтов за 2000 год значилось:
Глупейший конфликт этого года случился в Камеруне. В начале года Камерун испытывал большие проблемы с насильственными преступлениями. Правительство ответило на этот кризис созданием и вооружением милиции и военизированных формирований, призванных подавлять преступность без суда и следствия. Сейчас, когда уровень преступности упал, милиция и военизированные формирования несут гораздо больше хаоса и смертей, чем преступность. Более того, к концу года были обнаружены массовые захоронения, которые связывают с военизированными формированиями[101].
Пример, знакомый по другим регионам мира (включая и наш), показывает, что обеспокоенность гражданских либертарианцев жестокими действиями полиции — необходимый противовес монополии на насилие, отданной нами государству.
* * *
Демократический левиафан доказал, что может быть эффективным средством против насилия, но и он не безупречен. Так как государство борется с насилием, применяя насилие или угрозу насилия, оно может представлять опасность само по себе. И было бы гораздо лучше, если бы мы могли найти способ заставить людей отказаться от насилия до его совершения, вместо того чтобы наказывать их потом. Хуже всего то, что никто еще не придумал, как учредить всемирного демократического Левиафана, способного карать агрессивную конкуренцию, разряжать Гоббсовы ловушки и уничтожать культуру чести в отношениях между наиболее опасными виновниками насилия из всех — государствами. Как отмечал Кант: «Порочность человеческой природы в своем настоящем виде проявляется в свободных отношениях государств»[102]. Основная проблема в том, как заставить людей и государства отказаться от насилия с самого начала, до того, как будет запущен механизм эскалации враждебности.
В 1960-х казалось, что все просто. Война пагубна для детей и других живых существ. Что, если объявят войну и никто не придет воевать? Война: что в ней хорошего? Абсолютно ничего! Беда в том, что другая сторона должна думать так же в тот же самый момент. В 1939 году Невилл Чемберлен предложил собственный антивоенный слоган: «Мир в наше время». После этого разразились Вторая мировая и холокост — его противники были не согласны, что в войне нет ничего хорошего. Преемник Чемберлена, Черчилль, объяснил, почему мир — это не вопрос одностороннего пацифизма: «Нет ничего хуже войны? Бесчестье хуже войны. Рабство хуже войны». Популярная наклейка на бампер отражает похожее настроение: «Хочешь мира — добивайся справедливости». Однако то, что одна сторона считает честью и справедливостью, другая может воспринимать как бесчестье и несправедливость. Кроме того, «честь» может быть достойной похвалы готовностью защищать жизнь и свободу, но может быть и безответственным противодействием прекращению эскалации.
Иногда стороны видят, что перековать мечи на орала — лучший выход для всех. Ученые, такие как Джон Киган и Дональд Горовиц, отмечают общее снижение вкуса к насилию как к способу разрешения конфликтов в большинстве западных демократий в последние полвека[103]. Гражданские войны, телесные наказания и смертные казни, кровопролитные этнические бунты и войны между государствами, представляющие собой прямое столкновение армий, пошли на убыль или исчезли. И как я уже упоминал, хотя одни десятилетия прошедших веков были более жестокими, чем другие, в целом преступность снижается.
Одна из возможных причин этого — расширение нравственного круга людей под воздействием общемировых сил. Другая — долгосрочные последствия жизни с Левиафаном. В конце концов, нынешней европейской цивилизованности предшествовали века обезглавливаний, публичных повешений и исправительных колоний. Канада более миролюбива, чем Соединенные Штаты, отчасти потому, что там правительство появлялось на земле раньше поселенцев. В отличие от США, где вновь прибывающие рассеивались по бесчисленным уголкам и закоулочкам широкого пространства, протянувшегося с севера на юг и с запада на восток, обитаемая часть Канады — это полоса земли вдоль американской границы. Там нет отдаленных районов и анклавов, где могла бы расцвести культура чести. По словам исследователя Канады Десмонда Мортона, «наш Запад осваивался в старой доброй мирной манере, когда полиция прибывает на место раньше поселенцев»[104].
Но люди могут становиться менее воинственными и без внешнего стимула — денег или грубой силы государства. Люди по всему миру размышляют о тщетности насилия (по крайней мере, когда они равны соперникам по силам, так что ни один не может превзойти другого). Аборигены Новой Гвинеи жалуются: «Война ужасна, и никому она не нравится. Исчезает батат, исчезают свиньи, поля приходят в запустение, родственники и друзья погибают. Но помешать этому невозможно»[105]. Шеньон рассказывал, что некоторые мужчины Яномамо говорили о бессмысленности кровной вражды, а несколько даже объявили, что не будут участвовать в налетах[106]. В таких случаях становится ясно, что обе стороны могут улучшить свое положение, отыскивая компромиссы, а не продолжая драку. Во время окопных боев Первой мировой измотанные британские и немецкие солдаты проверяли враждебные намерения друг друга кратковременной остановкой огня. Если другая сторона в свою очередь прекращала стрелять, наступали длительные периоды неофициального мира, ускользающие от внимания их воинственного командования[107]. Как сказал один британский солдат: «Мы не хотим убивать вас, вы не хотите убивать нас, так зачем стрелять?»[108]
Наиболее значительным эпизодом, в котором конфликтующие стороны нашли способ разжать смертельные объятия, был Карибский кризис 1962 года, когда США обнаружили на Кубе советские ядерные ракеты и потребовали, чтобы они были убраны. Хрущеву и Кеннеди дали понять, каковы человеческие издержки ядерного конфликта, к которому они приближались: Хрущеву напомнили о двух войнах, которые велись на территории его страны, Кеннеди предложили иллюстрированный материал о последствиях атомной бомбардировки. Оба поняли, что попали в Гоббсову ловушку. Кеннеди только что прочитал «Августовские пушки» и узнал, как лидеры великих государств могут просчитаться и ввязаться в бессмысленную войну. Хрущев писал Кеннеди:
Мы с вами не должны тянуть за концы веревки, на которой вы завязали узел войны, потому что чем сильнее мы тянем, тем туже становится узел. И может прийти время, когда он будет затянут так сильно, что тот, кто завязал его, уже больше не сможет его развязать, и тогда узел придется разрубить[109].
Распознав ловушку, они смогли сформулировать общую цель — вырваться из нее. Несмотря на противодействие своих советников и большой части общественности, оба внесли свой вклад в предотвращение катастрофы.
Итак, проблема насилия в том, что преимущества его применения или же отказа от него зависят от действий противоположной стороны. Такие сценарии относятся к области теории игр, и специалисты по теории игр показали, что иногда лучшее решение для каждого игрока по отдельности — худшее решение для них вместе. Самый известный пример — дилемма заключенного (узника). По условию, соучастники преступления содержатся в разных камерах. Каждому обещана свобода, если он первым даст обвинительные показания против своего напарника (который тогда получит более суровое наказание). Если никто никого не сдаст, обоих ждет легкое наказание, и если оба дадут показания друг против друга — наказание средней тяжести для обоих. Оптимальная стратегия для каждого узника по отдельности — предать товарища, но если так сделает и тот и другой, то оба кончат хуже, чем в случае взаимной верности. Но никто не сможет остаться верен — из страха, что партнер предаст и навлечет на него максимальное наказание. Дилемма заключенного похожа на дилемму пацифиста: что хорошо для одного (воинственность), то плохо для обоих вместе, но то, что хорошо для обоих (пацифизм), недостижимо, когда ни один не может быть уверен, что другой выберет ту же стратегию.
Единственный способ выиграть в дилемме заключенного — поменять правила или найти способ выйти из игры. Солдаты Первой мировой войны изменяли правила способом, который часто обсуждался в эволюционной психологии: разыграть ситуацию несколько раз и применить стратегию взаимности, запоминая последнее действие другого игрока и отвечая ему тем же[110]. Но во враждебных столкновениях это порой не работает, потому что, когда другой игрок отступает от договоренности, он может уничтожить тебя или — как во время Карибского кризиса — уничтожить мир. В этом случае игрокам пришлось признать, что они ведут бессмысленную игру, и принять обоюдное решение выйти из нее.
Гловер приходит к важному заключению о том, как познавательный компонент человеческой природы позволяет нам уменьшить количество насилия, даже если временами оно представляется разумной стратегией:
Иногда кажущиеся рациональными корыстные стратегии оказываются (как в дилемме заключенного) во вред себе. Может показаться, что сама рациональность терпит поражение, но это не так. Рациональность сохраняется в силу отсутствия ограничений. Если стратегия следования принятым разумным правилам иногда не срабатывает, это не конец. Мы пересматриваем правила так, чтобы они это учитывали, и вырабатываем рациональную стратегию высшего порядка. Она, в свою очередь, может провалиться, но мы снова поднимаемся на уровень вверх. И на каком бы уровне мы ни потерпели неудачу, всегда есть возможность отступить и подняться на следующий уровень[111].
«Отступить и подняться на следующий уровень» может быть необходимо, чтобы преодолеть как эмоциональные, так и интеллектуальные препятствия к сохранению мира. Дипломаты-миротворцы полагаются на прозрения, которые подтолкнут противников к выходу из смертельной игры. Они стараются приглушить конкуренцию, тщательно выстраивая компромиссы в вопросах оспариваемых ресурсов. Они пробуют разрядить Гоббсовы ловушки «мерами по укреплению доверия», например делая прозрачными военные действия и приглашая третьи стороны в качестве поручителей. И они пытаются подвести обе стороны к тому, чтобы те поместили друг друга в свой нравственный круг, поощряя торговлю, культурный обмен и общение между людьми.
До известной степени это хорошо, но иногда в конечном итоге дипломаты приходят в отчаяние от того, что стороны ненавидят друг друга так же сильно, как вначале. Они продолжают демонизировать противника, подтасовывать факты и объявляют посредников со своей стороны предателями. Милтон Уилкинсон, дипломат, которому не удалось заставить Грецию и Турцию зарыть топор войны по вопросу Кипра, предположил, что миротворцы должны учитывать эмоциональные способности противников, а не просто нейтрализовывать актуальные рациональные мотивы. Лучшие планы миротворцев часто рушатся из-за этноцентризма, чувства чести, морализаций и самообмана сторон[112]. Подобные ментальные установки эволюционировали, чтобы справиться с угрозами далекого прошлого, и, чтобы обойти их в настоящем, мы должны вытащить их на свет.
Мысль об отсутствии ограничений для человеческого здравомыслия созвучна открытию когнитивной науки, что разум — это комбинаторная рекурсивная система[113]. У нас есть не только мысли, у нас есть мысли о наших мыслях и мысли о наших мыслях о наших мыслях. Достижения в разрешении конфликтов, о которых мы узнали в этой главе, — подчинение главенству закона; придумывание путей, которые позволяют обеим сторонам отступить, не потеряв лица; признание вероятного самообмана; понимание, что интересы других людей равны нашим, — основаны на этой способности.
Многие интеллектуалы отказываются рассматривать эволюционную логику насилия, боясь, что признание ее существования эквивалентно ее принятию или даже одобрению. Вместо этого они следуют за утешительной иллюзией «благородного дикаря», согласно которой насилие — случайный продукт научения или патоген, проникший в нас снаружи. Но отрицание логики насилия заставляет нас забывать, как легко оно может вспыхнуть, а игнорируя участки нашего мозга, которые его разжигают, легко упустить из виду те, которые помогают его потушить. Что касается насилия, здесь, как и во многих других вызывающих опасение вопросах, человеческая природа — проблема, но она же и решение.
Глава 18. Гендер
Теперь, когда год, описанный в фильме «Космическая одиссея 2001 года», уже позади, у нас есть возможность сверить фантазии с реальностью. Классика научной фантастики, созданная Артуром Кларком в 1968 году, прослеживает судьбу нашего вида от обезьяночеловека на просторах саванны до выхода человечества за пределы времени, пространства и тела — преображение, которое мы весьма смутно можем себе представить. Кларк и режиссер фильма Стэнли Кубрик изобразили радикальную картину жизни в третьем тысячелетии, и некоторые из их предсказаний осуществились. Построены долговременные орбитальные станции, а голосовая почта и интернет стали привычной частью нашей жизни. В некоторых оценках Кларк и Кубрик были слишком оптимистичны насчет скорости прогресса. Мы до сих пор не летаем на Юпитер, не вводим людей в искусственный анабиоз, у нас нет компьютеров, которые читают по губам и затевают мятежи. А еще в каких-то — промахнулись полностью. Они думали, что люди в 2001 году все еще будут пользоваться печатными машинками; не ожидали появления текстовых процессоров или ноутбуков. И американские женщины нового тысячелетия в их изображении были «девушками-ассистентами»: секретарями, администраторами, стюардессами.
То, что эти предсказатели не предвидели революционных изменений в статусе женщин, случившихся уже в 1970-х, — яркое напоминание о том, как быстро могут меняться социальные отношения. Не так давно считалось, что женщины годятся только на то, чтобы быть домохозяйками, матерями и сексуальными партнершами, им препятствовали в получении профессии, потому что они могли занять место мужчин, с ними разговаривали свысока, они постоянно подвергались дискриминации и сексуальным домогательствам. Все еще продолжающееся освобождение женщин после тысячелетий подавления — одно из величайших нравственных достижений нашего вида, и я считаю, что мне повезло стать свидетелем некоторых его крупных побед.
Изменения в статусе женщин стали результатом действия нескольких причин. Одна — неумолимая логика расширяющегося нравственного круга, которая привела и к ликвидации деспотизма, рабства, феодализма и расовой сегрегации[1]. В разгар эпохи Просвещения провозвестница феминизма Мэри Эстел (1688–1731) писала:
Если абсолютная власть не обязательна в государстве, почему же она существует в семье, и если она есть в семье, почему ее нет в государстве, ибо нет таких причин для одного, которые не послужили бы подкреплением для другого.
Если все люди рождены свободными, то почему же женщины рождаются рабынями — а это, должно быть, правда, — если зависимость от изменчивых, неясных, неведомых, капризных желаний мужчин — идеальное условие для рабства?[2]
Другая причина — технический и экономический прогресс, который дал парам возможность заниматься сексом и растить детей без не знающего пощады разделения труда, заставляющего мать ежеминутно волноваться за жизнь ребенка. Чистая вода, улучшение санитарных условий и современная медицина снизили младенческую смертность и устранили необходимость иметь многочисленное потомство. Теперь, чтобы выкормить ребенка, мать не должна быть привязана к нему круглосуточно — для этого придуманы детские бутылочки и молочные смеси, молокоотсосы и холодильники. Благодаря массовому производству покупать вещи стало выгоднее, чем делать их своими руками, а канализация, электричество и бытовая техника еще больше сократили объем домашней работы. Мозги в экономике стали цениться выше, чем мускулы, продолжительность жизни (с перспективой прожить еще десятки лет после рождения детей) и доступность дополнительного образования изменили приоритеты жизненных выборов для женщин. Контрацепция, амниоцентез, УЗИ и репродуктивные технологии подарили им возможность отложить деторождение до подходящего момента.
И конечно, еще одна весомая причина женского прогресса — феминизм: политическое, литературное и научное движение, которое помогло этим достижениям воплотиться в реальные изменения в стратегиях и подходах. Первая волна феминизма, прокатившаяся по США между конвенцией в Сенека-Фоллз в 1848 году и ратификацией 19-й поправки к Конституции в 1920 году, дала женщинам право голосовать, быть присяжными заседателями, сохранять имущество в браке, разводиться и получать образование. Вторая волна, поднявшаяся в 1970-х, привела женщин в мир профессиональной деятельности, изменила разделение труда в домашнем хозяйстве, разоблачила сексистские предубеждения в бизнесе, государственном управлении и других общественных институтах и пролила свет на интересы женщин всех слоев общества. Но этот прогресс в области прав женщин не исчерпал разумных оснований феминизма. В большей части стран третьего мира положение женщин не сильно изменилось со времен Средневековья, да и в нашем обществе они все еще подвергаются дискриминации, домогательствам и насилию.
Обычно считается, что феминизм противоречит наукам о человеческой природе. Многие ученые считают, что у двух полов ум разный от рождения, а феминистки подчеркивают, что подобные представления постоянно использовались для оправдания несправедливого обращения с женщинами. Считалось, что женщины созданы для рождения детей и заботы о доме и неспособны к мышлению, необходимому для занятий политикой и профессиональной деятельности. Мужчинам же приписывали неодолимые желания, заставляющие их преследовать и насиловать женщин, что служило оправданием преступникам и давало отцам и мужьям право контролировать женщин под предлогом защиты. Поэтому может показаться, что наиболее дружественные для женщин теории — это «чистый лист» (если нет ничего врожденного, то и разница между полами не может быть изначально присущей) и «благородный дикарь» (если у нас нет непреодолимых потребностей, то можно избавиться от сексуальной эксплуатации, изменив общественные институты).
Представление, что феминизм нуждается в «чистом листе» и «благородном дикаре», стало мощным толчком для распространения дезинформации. Например, в 1994 году заголовок научного раздела в газете New York Times гласил: «На островах Океании мужчины и женщины равны»[3]. Статья была посвящена работе антрополога Марии Леповски, которая (возможно, войдя в контакт с призраком Маргарет Мид) заявила: межполовые отношения на острове Ванатинай доказывают, что «порабощение женщин мужчинами не является человеческой универсалией и оно не неизбежно». Однако из текста мы узнаем, что это предполагаемое «равенство» сводится к тому, что мужчинам приходится отрабатывать калым, как плату за жен, что войны развязывают исключительно мужчины (которые воруют невест с соседних островов), что женщины бо́льшую часть времени заботятся о детях и чистят свинарники, в то время как мужчины занимаются своей репутацией и охотятся на диких кабанов (что оба пола считают более престижными занятиями). Похожее расхождение между заголовком и фактами обнаруживается и в статье, опубликованной в журнале Boston Globe в 1998 году. Она озаглавлена «Похоже, девочки догоняют мальчиков в агрессивности». И насколько же они к ним приблизились? В статье сообщается, что сейчас девушки совершают одно убийство против каждых 10, совершенных юношами[4]. И в том же 1998 году в редакторской заметке сопродюсер программы журнала Мs. «Возьмем дочерей с собой на работу» объяснила недавние расстрелы в школах замечательным заявлением, что в Америке «родители, другие взрослые, сама культура и массмедиа учат мальчиков домогаться, оскорблять, насиловать и убивать девочек»[5].
С другой стороны, некоторые консерваторы подтверждают худшие страхи феминисток, апеллируя к сомнительным межполовым различиям, чтобы осудить жизненный выбор женщин. В статье в журнале Wall Street Journal политолог Харви Мэнсфилд писал, что «защитная составляющая мужественности в опасности из-за того, что женщины имеют равный доступ к работе вне дома»[6]. В книге Кэролайн Гралья «Домашний уют: Слово против феминизма» (Domestic Tranquility: A Brief Against Feminism) развивается мысль, что материнский и сексуальный инстинкты женщин искажаются под действием необходимой в карьере напористости и аналитического склада ума. Журналисты Венди Шалит и Даниэлла Криттенден некоторое время назад посоветовали женщинам выходить замуж пораньше, отложить карьеру и заботиться о детях в традиционном браке, хотя, если бы они сами следовали своему совету, они не писали бы книг[7]. Леон Касс взялся растолковывать молодым женщинам, чего они хотят: «Впервые в истории человечества десятки тысяч взрослых женщин в возрасте от 20 до 30 лет — лучшие для рождения детей годы — живут не в домах отцов и не в домах мужей; незащищенные, одинокие, в споре с собственной природой. Некоторые женщины радостно приветствуют подобное положение дел, но большинство — нет»[8].
На самом деле несовместимости между принципами феминизма и вероятностью, что мужчина и женщина не идентичны психологически, нет. Повторю: равенство не подразумевает, что все группы людей взаимозаменяемы; это моральный принцип, что людей нельзя оценивать или ограничивать на основе средних свойств группы, к которой они принадлежат. Что касается пола, с трудом принятая Поправка о равных правах формулирует сжато и точно: «Равенство прав перед законом не должно отрицаться или ограничиваться Соединенными Штатами или каким-либо штатом по признаку пола». Если мы поддерживаем этот принцип, нет необходимости сочинять мифы о неразличимости полов, чтобы утвердить равенство. И апелляция к межполовым различиям не поможет оправдать политику дискриминации или заставить женщин делать то, чего они делать не хотят.
В любом случае то, что мы знаем о мужчинах и женщинах, не требует действий, которые могли бы поставить в невыгодное положение тот или другой пол. Многие психологические черты, важные в публичных сферах деятельности, такие как общий интеллект, в среднем одинаковы у мужчин и женщин, и практически все психологические черты в различной степени выраженности могут быть обнаружены у представителей обоих полов. Ни одно из доселе открытых межполовых различий не абсолютно и не свойственно каждому конкретному мужчине по сравнению с каждой конкретной женщиной, так что в отношении многих людей подобные обобщения всегда будут неверны. Поэтому представления о «подходящей роли» или «естественном месте» лишены смысла с научной точки зрения и не дают никаких оснований для ограничения свобод.
Несмотря на эти принципы, многие феминистки с негодованием нападают на исследования сексуальности и межполовых различий. Гендерная политика — основная причина того, что подход к человеческому разуму с точки зрения эволюции, генетики и нейронауки сегодня резко отвергается. Но в отличие от других оснований для классификации, таких как раса и национальность, где любые биологические особенности по большей части незначительны и не примечательны с научной точки зрения, игнорировать гендер в науках о человеческой природе невозможно. Два пола существуют столько же, сколько сама жизнь, и представляют собой важный предмет обсуждения для эволюционной биологии, генетики и поведенческой экологии. Если мы будем пренебрегать им, изучая наш собственный вид, мы запутаемся, определяя свое место во Вселенной. Различия между мужчиной и женщиной определенно влияют на каждый аспект нашей жизни. У всех нас есть мать и отец, нас привлекают представители противоположного пола (или же мы замечаем наше отличие от тех, кого они привлекают), мы никогда не пребываем в неведении относительно того, какого пола наши братья и сестры, дети и друзья. Игнорировать гендер — значит игнорировать бо́льшую часть условий человеческой жизни.
Цель этой главы — прояснить отношения между биологией человеческой природы и самыми острыми сегодня вопросами пола, включая два наиболее провокационных: гендерный разрыв и сексуальное преступление. Обсуждая две эти горячие клавиши, я буду спорить с общепринятыми представлениями, которые ассоциируются с определенными людьми, заявляющими, будто говорят от имени всего феминистического движения. Может создаться иллюзия, что мои аргументы направлены против феминизма в целом или даже против интересов женщин. Это как минимум неправда, и я должен начать с объяснения, почему.
* * *
Феминизм часто высмеивают из-за доводов безумствующих экстремистов, например, что любой половой акт есть изнасилование, что все женщины должны быть лесбиянками и что мужчины должны составлять не более 10 % популяции[9]. Феминистки отвечают, что защитники прав женщин выступают с разных позиций, что феминизм охватывает множество точек зрения, каждую из которых следует оценивать отдельно[10]. Замечание разумное, но это палка о двух концах. Критиковать конкретное феминистское предложение не значит атаковать феминизм в целом.
Любой, кто знаком с ученым миром, знает, как он плодит идеологические культы, склонные к догматизму и устойчивые к критике. Многие женщины считают, что то же самое сегодня произошло и с феминизмом. В своей книге «Кто украл феминизм?» (Who Stole Feminism?) философ Кристина Хофф Соммерс проводит полезное разграничение между двумя направлениями мысли[11]. Феминизм равенства борется с гендерной дискриминацией и другими формами несправедливого отношения к женщинам. Он является частью классической либеральной и гуманистической традиции, берущей начало в эпохе Просвещения, и он же направлял первую волну феминизма и запустил вторую. Гендерный феминизм исходит из того, что женщины по-прежнему порабощены всепроникающей системой мужского доминирования — гендерной системой, в которой «бисексуальные по природе младенцы превращаются в мужские и женские личности, одни предназначенные командовать, другие — подчиняться»[12]. Это противоречит классической либеральной традиции и лежит скорее в русле марксизма, постмодернизма, социального конструкционизма и радикальной науки. Эта идея стала символом веры для некоторых женских научных программ, феминистических организаций и представителей женского движения.
Феминизм равенства — моральная доктрина о равном отношении, не связывающая себя жесткими позициями в открытых эмпирических вопросах психологии и биологии. Гендерный феминизм — эмпирическая доктрина, которая руководствуется тремя утверждениями о человеческой природе. Первое — что различия между мужчинами и женщинами никак не связаны с биологией, а полностью социально сконструированы. Второе — что у человека есть только один социальный мотив — власть — и что социальная жизнь может быть понята только с точки зрения его осуществления. Третье — что взаимодействие между людьми возникает не из мотивов индивидов, имеющих дело друг с другом, а из мотивов групп, взаимодействующих с другими группами — в данном случае мужского пола, доминирующего над женским.
Поддерживая эти доктрины, гендерные феминистки приковали феминизм к рельсам на пути приближающегося поезда. Как мы увидим дальше, нейронаука, генетика, психология и этнография подтверждают существование межполовых различий, которые почти определенно берут начало в человеческой биологии. А эволюционная психология описывает сеть мотивов, не связанных с групповым доминированием (любовь, секс, семья, красота), — мотивов, которые во многих конфликтах или совпадениях интересов соединяют нас с представителями как своего, так и противоположного пола. Гендерные феминистки хотят или остановить поезд, или заставить других женщин присоединиться к их мученичеству, но те отказываются сотрудничать. И хотя они очень заметны, гендерные феминистки не представляют феминизм в целом, не говоря уже обо всех женщинах.
Начать с того, что исследования биологической основы межполовых различий проводились под руководством женщин. Бытует мнение, что эти исследования — заговор с целью подавить женщин, так что мне придется назвать имена. Биологию межполовых различий изучали нейроученые Ракель Гур, Мелисса Хайнс, Дорин Кимура, Джерр Леви, Марта Макклинток, Салли Шейвиц и Сандра Уайтелсон; психологи Камилла Бенбоу, Линда Годдфредсон, Дайана Халперн, Джудит Клайнфелд и Дайана Макгиннесс. Социобиология и эволюционная психология, которые часто называют «сексистскими дисциплинами», возможно, наиболее би-гендерная область науки, какую я только знаю. Заметные фигуры в ней — Лаура Бетциг, Элизабет Кашдан, Леда Космидес, Хелена Кронин, Милдред Диккеман, Хелен Фишер, Патриция Говати, Кристен Хоукс, Сара Блаффер Хрди, Магдалена Хуртадо, Бобби Лоу, Линда Мили, Фелиция Пратто, Марни Райс, Кэтрин Салмон, Джоан Силк, Мередит Смолл, Барбара Смутс, Нэнси Уилмсен Торнхилл и Марго Уилсон.
Но многих феминисток от гендерного феминизма отталкивает не только то, что он противоречит научным данным. Как и другие смешанные идеологии, эта породила странные ответвления, вроде феминизма различия. Кэрол Гиллиган стала иконой гендерного феминизма благодаря заявлению, что мужчины и женщины в своих моральных суждениях руководствуются разными принципами: мужчины думают о правах и справедливости, женщины ощущают сопереживание, заботу, желание уладить дело мирно[13]. Но если это так, то женщины не должны быть судьями Верховного суда, заниматься конституционным правом и нравственной философией — профессионалами, зарабатывающими на жизнь размышлениями о правах и справедливости. Однако это неправда. Гипотеза Гиллиган проверялась во множестве исследований, и в результате выяснилось, что мужчины и женщины в своих моральных суждениях отличаются мало или не отличаются вообще[14]. Так что феминизм различия предлагает женщинам худшее из двух миров: обидные характеристики без всякого научного обоснования. Аналогично классика гендерного феминизма, называемого женским способом познания, состоит в тезисе о межполовых различиях в образе мышления. Мужчины в интеллектуальных вопросах ценят совершенство и мастерство и скептически оценивают аргументы с точки зрения логики и доказательств; женщины возвышенны, ориентированы на отношения, открыты разным мнениям и доверчивы[15]. И кому нужны мужчины-шовинисты с такими-то сестричками?
Пренебрежение строгостью аналитики и классическими либеральными принципами представителями гендерного феминизма недавно подверглось критике со стороны феминисток равенства, в их числе Джин Бетке Эльштайн, Элизабет Фокс-Дженовезе, Венди Каминер, Норетта Кортге, Донна Лафрамбуаз, Мэри Лефковиц, Венди Макэлрой, Камилла Палья, Дафна Патай, Вирджиния Пострел, Элис Росси, Салли Сател, Кристина Хофф Соммерс, Надин Строссен, Джоан Кеннеди Тейлор и Кэти Янг[16]. Задолго до них против гендерного феминизма выступали выдающиеся женщины-писательницы — Джоан Дидион, Дорис Лессинг, Айрис Мердок, Синтия Озик и Сьюзен Зонтаг[17]. И молодое поколение отклоняет заявления гендерного феминизма, что любовь, красота, флирт, эротика, искусство и гетеросексуальность — вредоносные социальные конструкты, что для движения недобрый знак. Заголовок книги «Новые викторианцы: Вызов молодых женщин старым феминистским порядкам» (The New Victorians: A Young Woman's Challenge to the Old Feminist Order) отражает бунт таких авторов, как Рене Денфилд, Карен Лерман, Кэти Ройф и Ребекка Уокер, а также движений с такими названиями, как «третья волна», «движение бунтовщиц» (Riot Grrrl Movement), «сексуально-либеральный феминизм» (Pro-Sex Feminism), «женственные лесбиянки» (Lipstick Lesbian), «девичья сила» (Girl Power) и «феминизм за свободу самовыражения»[18].
Разница между гендерным феминизмом и феминизмом равенства объясняет часто упоминаемый парадокс: большинство женщин не считают себя феминистками (около 70 % в 1997 году, на 10 % больше, чем за десять лет до того), хотя и согласны с каждой из основных феминистских позиций[19]. Объясняется это просто: слово «феминистка» часто ассоциируется с гендерным феминизмом, но формулировки в опросах относятся к феминизму равенства. Сталкиваясь с этими разночтениями, гендерные феминистки пытались закрепить за собой право считаться единственными настоящими защитниками прав женщин. Например, в 1992 году Глория Стайнем сказала о Палье: «То, что она называет себя феминисткой, — это как если бы нацисты говорили, что они не антисемиты»[20]. И они изобрели целый словарь эпитетов для того, что в любой другой области называлось бы несогласием: «сопротивление», «непонимание», «затыкание рта женщинам», «интеллектуальное оскорбление»[21].
Все сказанное выше — важная предпосылка дальнейшего обсуждения. Утверждать, что мужской ум и женский ум не взаимозаменяемы, что у людей есть желания и помимо власти и что мотивы принадлежат отдельным людям, а не только полу в целом — не значит атаковать феминизм или жертвовать интересами женщин, несмотря на ошибочное представление, будто гендерные феминистки говорят от их имени. Все аргументы, изложенные в остальной части главы, наиболее активно развивали женщины.
* * *
Почему людей так пугает мысль, что мужской и женский умы не идентичны во всех отношениях? Неужели было бы лучше, если бы все были как Пэт, чудак-андрогин из шоу Saturday Night Live? Конечно, это страх, что «разные» подразумевает «неравные», что, если разница между полами существует в каком-то одном отношении, тогда и в остальном мужчины окажутся лучше, главнее или им достанутся все удовольствия.
Как это далеко от биологического мышления! Триверс упоминал «симметрию в человеческих отношениях», которая подразумевает «генетическое равенство полов»[22]. С генетической точки зрения быть в теле мужчины или быть в теле женщины — одинаково выигрышные стратегии, по крайней мере в среднем (в разных обстоятельствах преимущество то на одной, то на другой стороне)[23]. Следовательно, естественный отбор стремится инвестировать в оба пола одинаково: одинаковые количественные показатели, одинаковая сложность тел и мозга, равно эффективный дизайн для выживания. Что лучше: быть размером с самца бабуина и иметь клыки в шесть дюймов или быть размером с самку бабуина и не иметь их? Сама постановка вопроса не имеет смысла. Биолог сказал бы, что лучше обладать адаптациями самца, чтобы иметь дело с мужскими проблемами, и адаптациями самки, чтобы решать женские задачи.
Так что и мужчины не с Марса, и женщины не с Венеры. И мужчины и женщины — из Африки, колыбели нашей эволюции, где оба пола эволюционировали в рамках одного вида. Мужчины и женщины обладают одними и теми же генами, за исключением небольшого числа в Y-хромосоме, и их мозг настолько одинаков, что потребовался бы нейроанатом с орлиным зрением, чтобы найти мельчайшие отличия. По самым безупречным психометрическим оценкам, средний уровень общего интеллекта мужчин и женщин одинаков[24], они одинаково используют язык и размышляют о материальном и живом мире. Они ощущают те же базовые эмоции, наслаждаются сексом, ищут умных и добрых партнеров, ревнуют, жертвуют своими интересами ради детей, конкурируют за партнеров и статус и иногда прибегают к агрессии, преследуя свои интересы.
Но конечно, ум мужчин и женщин — не одинаковый, и недавние исследования межполовых различий привели к некоторым общим выводам[25]. Иногда различия велики, и Гауссовы кривые для мужчин и женщин почти не совпадают. У мужчин более выраженное стремление к сексу без обязательств с многочисленными случайными партнерами — это подтверждается тем фактом, что потребители проституции и визуальной порнографии практически всегда мужчины[26]. Мужчины намного более склонны к жестокому, иногда смертельному, соперничеству по крупным и мелким поводам (как в медицинских анекдотах про хирурга и анестезиолога, которые дерутся в операционной, пока пациентка лежит на столе в ожидании операции)[27]. Если говорить о детях, мальчики проводят гораздо больше времени, готовясь к жестоким конфликтам — психологи деликатно называют их «играми без правил»[28]. В способности мысленно манипулировать трехмерными объектами в пространстве также обнаруживается большая разница в пользу мужчин[29].
Относительно других черт разница в среднем мала, но в крайних случаях может доходить до больших значений. Это происходит по двум причинам. Когда два гауссовых распределения частично накладываются друг на друга, чем дальше к краям вы движетесь, тем больше несоответствие между группами. Например, мужчины в среднем выше, чем женщины, и для крайних значений разница больше. Мужчин ростом 178 см в 30 раз больше, чем женщин, а на одну женщину ростом 183 см приходится 2000 мужчин того же роста. Кроме того, подтверждая предсказания эволюционной психологии относительно многих черт, колоколообразная кривая нормального распределения для мужчин выглядит более плоской и растянутой вдоль оси абсцисс, чем кривая для женщин. Это значит, что большее количество мужчин демонстрирует крайние значения. Если мы обратимся к левому концу кривой, то увидим, что мальчики чаще бывают дислексиками, чаще имеют проблемы в обучении, дефицит внимания, чаще эмоционально неуравновешенны и страдают умственной отсталостью (по крайней мере, некоторыми ее видами)[30]. Правый конец кривой показывает, что среди талантливых студентов, набирающих 700 баллов из 800 по математике в тесте SAT (Scholastic Assessment Test), мальчиков в 13 раз больше, чем девочек, хотя в среднем баллы мальчиков и девочек одинаковы[31].
В отношении других характеристик средние значения различаются меньше, причем в разную сторону для разных качеств[32]. Хотя мужчинам в среднем лучше удается мысленно поворачивать объекты и карты, женщины лучше запоминают ориентиры и расположение объектов. Мужчины точнее и дальше кидают предметы, женщины более ловкие. Мужчины лучше решают математические задачи, женщинам лучше удаются вычисления. Женщины более чувствительны к звукам и запахам, лучше воспринимают глубину, быстрее сравнивают формы, гораздо лучше считывают выражения лица и язык тела. Они делают меньше ошибок при письме, быстрее вспоминают слова и лучше запоминают вербальный материал.
Женщины в целом эмоциональнее, за исключением, возможно, гнева[33]. Женщины завязывают более близкие социальные отношения, больше озабочены ими и больше сопереживают своим друзьям, но не незнакомцам (обычно считается, что женщины более сострадательны ко всем вообще, но это и неправдоподобно с эволюционной точки зрения, и неверно). Они чаще поддерживают зрительный контакт, улыбаются и смеются[34]. Мужчины обычно склонны соревноваться друг с другом за статус с помощью насилия или профессиональных достижений, женщины чаще прибегают к унижению и другим формам вербальной агрессии.
Мужчины более терпимы к боли, чаще готовы рисковать жизнью и здоровьем в борьбе за статус, внимание и другие сомнительные награды. Премия Дарвина, которая вручается ежегодно «индивидам, обеспечивающим долгосрочное выживание нашего вида, наиглупейшим образом исключая себя из генофонда человечества», практически всегда присуждается мужчинам. Среди недавних номинантов — человек, который опрокинул на себя торговый аппарат с кока-колой, пытаясь добыть баночку без оплаты, трое мужчин, которые поспорили, кто из них сильнее наступит на противотанковую мину, и один мнимый пилот, который привязал метеозонды к своему садовому стулу, взлетел на две мили вверх и унесся в открытое море (ему присудили только поощрительную премию, поскольку его спасли с помощью вертолета).
Женщины внимательнее относятся к детям, особенно к своим, когда те плачут по пустякам (хотя оба пола реагируют одинаково, если причина серьезная), и в целом больше заботятся о своих детях[35]. Девочки чаще играют в дочки-матери и примеряют на себя социальные роли, мальчики играют в войну, догонялки и управляют объектами. Мужчины и женщины по-разному ревнуют, выбирают партнеров, флиртуют.
Конечно, многие межполовые различия не имеют отношения к биологии. Прически и одежда причудливо меняются в веках и культурах, и если раньше учеба в университете, профессиональная деятельность или большой спорт были доступны только мужчинам, то в последние десятилетия женщин в этих областях столько же или даже больше. Судя по всему, некоторые из наблюдаемых сегодня межполовых различий могут оказаться такими же преходящими. Но гендерные феминистки настаивают, что все межполовые различия, за исключением анатомических, берут начало в ожиданиях родителей, товарищей по играм и общества. Радикальный ученый Энн Фаусто-Стерлинг пишет:
Ключевой биологический факт — то, что у мальчиков и девочек разные половые органы, и именно эта биологическая разница побуждает взрослых взаимодействовать по-разному с разными младенцами, которых мы для удобства одеваем в розовое или голубое, чтобы, желая узнать их пол, не заглядывать каждый раз в подгузник[36].
Но теория розового и голубого становится все менее убедительной. Вот дюжина свидетельств, которые подсказывают, что разница между мужчиной и женщиной лежит глубже уровня гениталий.
• Межполовые различия — не случайная деталь западной культуры, вроде решения придерживаться при движении правой или левой стороны. Во всех человеческих культурах считается, что мужчины и женщины разные по своей природе. Во всех культурах существует межполовое разделение труда, причем бо́льшая доля ответственности за детей достается женщинам, а бо́льшая часть контроля в области общественных связей и политики — мужчинам. (Такое разделение труда возникло даже в культуре, где каждый упорно пытался его искоренить — в израильских кибуцах.) Во всех культурах мужчины более агрессивны, более склонны к воровству и насилию со смертельным исходом (включая войну) и готовы ухаживать, соблазнять и оказывать услуги в обмен на секс. И во всех культурах существует изнасилование, так же как и запрет на него[37].
• Многие из психологических различий между мужчинами и женщинами именно такие, какие предположили бы эволюционные биологи, исходя только из их физических различий[38]. Повсеместно в царстве животных, если самка должна вкладывать больше калорий и риска в каждого отпрыска (в случае с млекопитающими — во время беременности и грудного вскармливания), она также инвестирует больше во взращивание детеныша и после рождения, потому что обзавестись новым ей обойдется гораздо дороже, чем самцу. Разница в инвестициях сопровождается большей конкуренцией между самцами за возможность спаривания, поскольку, в отличие от самки, для самца спаривание со многими партнершами с большей вероятностью может увеличить количество его потомства. Если средний самец крупнее средней самки (что верно в отношении мужчин и женщин), это свидетельствует об эволюционной истории более жесткой конкуренции среди самцов за возможность спаривания. Другие физические свойства мужчин, такие как более позднее половое созревание, бо́льшая выносливость в зрелости и более короткая продолжительность жизни, также указывают на историю отбора для участия в борьбе с высокими ставками.
• Многие из межполовых различий широко распространены и среди других приматов, а точнее, свойственны всему классу млекопитающих[39]. Самцы конкурируют более агрессивно, и они более полигамны; самки больше инвестируют в выращивание детей. У многих млекопитающих больший ареал обитания сопровождается улучшенной способностью ориентироваться, используя геометрию пространственного расположения (в противоположность запоминанию отдельных ориентиров). Обычно ареал обитания шире у самцов, то же самое верно для людей — охотников-собирателей. Преимущество мужчин в использовании ментальных карт и в выполнении 3-D вращения в уме, возможно, не совпадение[40].
• Генетики обнаружили, что ДНК в митохондриях разных людей (их мужчины и женщины наследуют от матери) гораздо разнообразнее, чем ДНК в Y-хромосомах (которые мужчины наследуют от отца). Это предполагает, что на протяжении десятков тысяч лет репродуктивные успехи мужчин больше варьировали в сравнении с женскими. Некоторые мужчины имели множество потомков, а другие — ни одного (что снижало разнообразие Y-хромосом у потомства), в то время как большинство женщин имели примерно равное число детей (что подарило нам большее число различных митохондриальных геномов). Именно этими причинами обусловлен половой отбор, в котором самцы конкурируют за возможность спариться, а самки выбирают лучших самцов[41].
• Организм человека содержит механизм, подталкивающий развитие мозга мальчиков и девочек в расходящихся направлениях[42]. Y-хромосома запускает развитие яичек у плодов мужского пола, которые продуцируют андрогены, мужские гормоны (в том числе тестостерон). Андрогены оказывают долгосрочное воздействие на мозг в процессе внутриутробного развития, в месяцы после рождения и во время полового созревания, в остальное время их воздействие эпизодическое. Эстрогены, женские половые гормоны, также влияют на мозг на протяжении жизни. Рецепторы половых гормонов найдены в гипоталамусе, гиппокампе, в миндалевидном теле в лимбической системе мозга и в коре больших полушарий.
• Мозг мужчин заметно отличается от женского по нескольким параметрам[43]. Мужской мозг больше, в нем больше нейронов (даже с учетом размеров тела), хотя у женщин выше процент серого вещества. (Так как в целом мужчины и женщины равны интеллектуально, значение этих различий неизвестно.) Промежуточное ядро в переднем отделе гипоталамуса, ядра терминальной полоски (также расположенные в гипоталамусе) крупнее у мужчин; они регулируют сексуальное поведение и агрессивность. Части мозговой спайки, которые связывают правое и левое полушарие, крупнее у женщин, и функционирование их мозга может отличаться меньшей асимметрией в сравнении с мужским. Конечно, научение и социализация могут влиять на микроструктуру и функционирование мозга человека, но, вероятно, не на размер его видимых анатомических структур.
• Колебания в уровне тестостерона у разных мужчин и у одного и того же мужчины в разное время года и дня коррелирует с либидо, уверенностью в себе и стремлением к доминированию[44]. У тех, кто совершает насильственные преступления, его уровень выше, чем у прочих правонарушителей; у адвокатов, выступающих в суде, он выше, чем у тех, кто занимается бумажной работой. Но эта связь неоднозначна по нескольким причинам. Для широкого спектра характеристик концентрация тестостерона в крови не имеет значения. Некоторые качества, например пространственные способности, достигают пика при его среднем, а не высоком уровне. Эффект тестостерона зависит от количества и расположения его рецепторов, а не только от концентрации в крови. И психологическое состояние человека тоже может влиять на уровень тестостерона и наоборот. Однако причинно-следственная связь существует, пусть и не прямая. Когда женщинам при подготовке к операции по смене пола дают андрогены, они показывают лучшие результаты в тестах на мысленное вращение объектов и худшие в тестах на вербальную беглость. Журналист Эндрю Салливан, чей уровень тестостерона снизился из-за болезни, описал эффект инъекции гормона: «Возбуждение после дозы тестостерона не отличается от возбуждения перед первым свиданием или публичным выступлением. Я на подъеме. После одной инъекции я чуть не вмешался в уличную драку — впервые в жизни. И всегда возникает сексуальное желание — каждый раз заставая меня врасплох»[45]. И хотя количество тестостерона у женщин никогда не достигает мужских цифр, колебания уровня оказывают похожий эффект на оба пола. Женщины с высоким уровнем тестостерона меньше улыбаются, чаще вступают во внебрачные связи, активнее участвуют в общественной жизни и даже крепче жмут руку.
• Пики когнитивных способностей женщин и снижение их уровня зависят от фазы менструального цикла[46]. Когда уровень эстрогенов высок, женщины еще лучше справляются с заданиями, в которых они и так превосходят мужчин (вербальная беглость). Когда уровень эстрогенов низок, женщины лучше выполняют задания, в которых обычно хороши мужчины, такие как мысленное вращение объектов. Сексуальные желания, включая вкусы относительно мужчин, также изменяются по ходу менструального цикла[47].
• Андрогены оказывают долгосрочное воздействие на развивающийся мозг, а не только преходящее воздействие на мозг взрослого человека[48]. Девочки с врожденной гиперплазией надпочечников продуцируют избыточное количество андростендиона, андрогенного гормона, чье название на слуху благодаря бейсболисту Марку Макгвайру . Хотя уровень гормонов у этих девочек приводят в норму вскоре после рождения, они вырастают сорванцами — чаще участвуют в грубых играх, больше интересуются грузовиками, чем куклами, у них лучше пространственное воображение, и, немного повзрослев, они более склонны к сексуальным фантазиям и влечению к другим девочкам. Те девочки, которые получали гормональное лечение не сразу после рождения, а позже, в юности демонстрируют мужской тип сексуальности, включая быстрое возбуждение от порнографических образов, автономное сексуальное возбуждение, сконцентрированное на стимуляции гениталий, и даже что-то похожее на «влажные сны»[49].
• Можно представить себе эксперимент, который помог бы отделить биологию от социализации: взять младенца-мальчика, сделать ему операцию по смене пола, так, чтобы родители воспитывали его как девочку и другие люди обращались соответственно. Если гендер — социальный конструкт, у ребенка будет сознание нормальной девочки; если же он зависит от пренатальных гормонов, ребенок будет чувствовать себя как мальчик, запертый в теле девочки. Удивительно, но подобный эксперимент был поставлен в реальной жизни — естественно, не из научного любопытства, а в результате болезни и случайностей. В одном исследовании рассматривали 25 мальчиков, рожденных без пениса (врожденный дефект, известный как клоакальная экстрофия), которых затем кастрировали и растили как девочек. Все они демонстрировали мальчишеские паттерны грубой игры, имели типично мужские пристрастия и интересы. Больше половины из них спонтанно заявляли, что они мальчики, один — в возрасте всего пяти лет[50].
Известен случай, когда восьмимесячный мальчик потерял пенис во время небрежно выполненной процедуры обрезания (к моему облегчению, не по вине моэля , а из-за неумелости врача). Его родители проконсультировались у известного исследователя проблем пола Джона Мани, который придерживался мнения, что «природа — это политическая стратегия тех, кто хочет сохранить статус-кво межполовых различий». Он посоветовал родителям позволить врачам кастрировать ребенка, создать ему искусственную вагину, и они растили его как девочку, не сообщая ему о том, что случилось[51]. Я узнал об этом в 70-х, будучи еще студентом, — тогда об этом говорили как о доказательстве, что дети рождаются бесполыми и обретают гендер в процессе воспитания. Статья в журнале New York Times в то время сообщала, что Бренда (бывший Брюс) «счастливо проводит детство, как настоящая девочка»[52]. Фактам не давали ходу вплоть до 1997 года, когда стало известно, что с раннего возраста Бренда чувствовала себя мальчиком, запертым в теле девочки и в ее гендерной роли[53]. Она срывала с себя платьица в рюшечках, куклам предпочитала пистолеты и игры с мальчиками и даже настаивала на том, чтобы мочиться стоя. К 14 годам она была так несчастна, что решила или жить как мужчина, или покончить с собой, и ее отец наконец рассказал ей правду. Она прошла новую череду операций, вернула себе мужскую идентичность и сегодня живет в счастливом браке с женщиной.
• Дети с синдромом Тёрнера генетически бесполы. У них только одна Х-хромосома, унаследованная или от отца, или от матери. Обычно же девочки наследуют одну Х-хромосому от отца, а другую от матери, а мальчикам достается Х-хромосома от матери и Y-хромосома от отца. Так как по умолчанию тело млекопитающих строится по женскому образцу, эти дети выглядят и ведут себя как девочки. Генетики обнаружили, что организмы родителей могут молекулярно впечатывать гены в Х-хромосому (так называемый геномный импринтинг), так что они становятся более или менее активны в развивающемся теле и мозге их ребенка. Девочкам с синдромом Тёрнера, получившим Х-хромосому от отца, могут достаться гены, эволюционно оптимизированные для девочек (потому что отцовская Х-хромосома всегда достается девочке). Девочки с синдромом Тёрнера, наследующие Х-хромосому от матери, могут получить гены, эволюционно оптимизированные для мальчиков (потому что материнская Х-хромосома, хоть и может достаться любому полу, будет работать без помех только у сыновей, у которых короткая Y-хромосома не содержит дубликата Х-генов). И девочки с синдромом Тёрнера действительно различаются психологически в зависимости от того, от кого они получили свою Х-хромосому. Те, кому она досталась от отца (и которая предназначена для девочек), лучше понимают язык тела, считывают эмоции, распознают лица, обращаются со словами и находят общий язык с другими людьми по сравнению с теми, кто получил свою Х-хромосому от матери (которая полностью активна только у мальчиков)[54].
• Вопреки популярному убеждению родители в современной Америке не обращаются с сыновьями и дочерями очень уж по-разному[55]. В недавно проведенном обзоре 172 исследований, в которые было вовлечено 28 000 детей, обнаружилось, что мальчики и девочки получают схожее количество поддержки, тепла, заботы, ограничений, наказаний и ясных коммуникаций. Единственная существенная разница была в том, что примерно двум третям мальчиков не давали играть в куклы, особенно отцы, из страха, что сыновья станут геями. (Мальчики, предпочитающие игрушки для девочек, действительно часто оказываются геями, но запрет игрушек не меняет результата.) Кроме того, различия между мальчиками и девочками не зависят от того, наблюдают ли они мужественное поведение у своих отцов и женственное поведение у своих матерей. Когда у Хантера было две мамы, он вел себя так же по-мальчишески, как когда у него были и мама, и папа.
Похоже, плохи дела у теории, что мальчики и девочки рождаются идентичными во всем, кроме гениталий, а все другие различия происходят от того, как общество с ними обращается. Если бы это было правдой, было бы удивительным совпадением то, что во всех обществах монетка падает одинаково, предназначая каждому полу один и тот же набор ролей (или что один судьбоносный жребий на заре человечества должен был сохраняться без изменений на протяжении всех потрясений последних 100 000 лет). И было бы так же удивительно, что произвольные оценки со стороны общества отвечали предположениям о Homo sapiens, которые мог бы сделать какой-нибудь марсианский биолог, основываясь на нашей анатомии и распределении генов. Казалось бы странным, что гормоны, задача которых — сделать нас мужчинами и женщинами, также регулируют типично женские и мужские умственные черты — решающим образом в раннем периоде развития мозга и в меньшей степени на протяжении всей жизни. Было бы еще более странно, что второй генетический механизм, обуславливающий межполовые различия (геномный импринтинг), также отвечает за типично мужские и женские таланты. И в конце концов, два ключевых предположения теории социального конструирования — что, если мальчиков воспитывать как девочек, они вырастут с сознанием девочки и что разницу между девочками и мальчиками можно отнести к тому, как обращаются с ними родители, — показали свою полную несостоятельность.
Конечно, сам факт, что корни многих межполовых различий лежат в биологии, не значит, что один пол лучше другого, что различия будут проявляться у всех людей в любых условиях, что половая дискриминация оправданна или что людей нужно заставлять делать типичные для их гендера вещи. Но различий без последствий тоже не бывает.
* * *
Сегодня многие люди могут с радостью сказать то, чего нельзя было говорить в приличной компании еще несколько лет назад: что ум мужчин и женщин не взаимозаменяем. Эту перемену в полемике прокомментировали даже в комиксах, в этом диалоге между любителем вредной еды Зиппи, болтающим, что в голову придет, и альтер эго художника, Гриффи:
Зиппи: Девочки и мальчики разные сами по себе или им нужно играть в куклы или грузовики, чтобы научиться быть мальчиками и девочками?
Гриффи: Ну, хотя социальные стереотипы и имеют место, существуют и генетические предписания.
Зиппи: Я знаю. Как бы сильно я ни старался, не могу переключиться с кексиков «Хостесс» на кексики «Литтл Дебби».
Гриффи: Сегодня я видел двухлетнего мальчика, которой был совершенно заворожен мусоровозом. А вот его сестра-близнец просто не могла оторвать глаз от медвежонка Барни. Мужчины запрограммированы на некоторые функции, Зип. Наверное, мусоровоз представлялся его пещерному мозгу чем-то вроде мастодонта.
Зиппи: Когда я вижу мусоровоз, я хочу опрокинуть его. Никогда не знаешь, сколько не съеденных кексиков из него может вывалиться!
Но для многих успешных женщин существование межполовых различий все-таки является источником дискомфорта. Как сказала мне одна коллега: «Послушай, я знаю, что мужчины и женщины не идентичны. Я вижу это по своим детям, по себе, я знаю об исследованиях. Я не могу этого объяснить, но, когда я читаю о существовании межполовых различий, у меня пар из ушей идет». Наиболее вероятная причина ее беспокойства названа в недавней заметке Бетти Фридан, соосновательницы Национальной женской организации и автора книги 1963 года «Загадка женственности» (The Feminine Mystique):
Хотя женское движение уже добилось равенства женщин во многих областях политики и экономики, до окончательной победы далеко. Возьмем два простейших и наиболее очевидных показателя: женщины до сих пор зарабатывают не больше 72 центов на каждый доллар, заработанный мужчинами, и мы даже не приблизились к численному равенству на верхнем уровне принятия решений в бизнесе, правительстве и в профессиональной сфере[56].
Как и Фридан, многие люди верят, что гендерный разрыв в оплате труда и «стеклянный потолок», который не дает женщинам достичь вершин власти, — это две главные несправедливости, с которыми сталкиваются сегодня женщины Запада. В 1999 году в своем Обращении к нации Билл Клинтон сказал: «Мы можем гордиться своим прогрессом, но 75 центов на доллар — это всего лишь три четверти пути, а американцы не будут удовлетворены, пока не пройдут весь путь до конца». Гендерный разрыв и «стеклянный потолок» спровоцировали судебные разбирательства против компаний, в которых на топовых позициях в руководстве слишком мало женщин, давление на правительство, чтобы оно отрегулировало размер оплаты труда так, чтобы мужчинам и женщинам платили исходя из «сравнительной ценности» их работы, и активные меры по изменению отношения девочек к получению профессии, такие как ежегодный день «Возьмем дочерей с собой на работу».
В научной сфере и в инженерных профессиях эта проблема приобрела форму «протекающей трубы». Хотя женщины составляют почти 60 % всех студентов университетов и около половины студентов, специализирующихся в различных областях науки, пропорция тех, кто достиг следующей карьерной ступени, неуклонно снижается при переходе от бакалавриата к магистратуре и дальше к докторантуре, младшей профессуре и штатной профессуре. Женщины составляют меньше 20 % рабочей силы в науке, технике и технологиях и только 9 % — в инженерных профессиях[57]. Читатели флагманских журналов Science и Nature два десятилетия встречают там заголовки вроде «Диверсификация: Легче сказать, чем сделать» и «Усилия по стимулированию гендерного разнообразия сталкиваются с постоянными проблемами»[58]. Типичная история, рассказываемая на множестве национальных комиссий, занимающихся исследованием вопроса, такова: «Эти меры должны ослабить трудности, которые, как говорят эксперты, начинаются с негативных посланий в начальной школе, продолжаются в колледжах и университетах, возводя финансовые, академические и культурные барьеры перед всеми кандидатами, кроме лучших, и сохраняются на рабочих местах»[59]. На встрече, состоявшейся в 2001 году, девять президентов элитных американских университетов призвали к «заметным изменениям», таким как выделение грантов и стипендий женщинам-преподавателям, предоставление им лучших мест для парковки в кампусах, и чтобы процент женщин-преподавателей соответствовал проценту женщин-студенток[60].
Но в этих историях о негативных посланиях, скрытых барьерах и гендерных предубеждениях есть нечто странное. Научный подход предполагает рассмотрение каждой гипотезы, которая может объяснить явление, и отвергнуть все, кроме одной верной. Ученые приветствуют способность придумывать альтернативные объяснения — считается, что сторонники гипотезы должны рассмотреть и опровергнуть даже самые неправдоподобные. Тем не менее в научных дискуссиях о протекающей трубе обычно даже не упоминают об альтернативах теории барьеров и предубеждений. Одно из редких исключений — комментарий к статье в журнале Science в 2000 году с цитатой из выступления социолога Пэтти Хаусман в Национальной инженерной академии:
Вопрос, почему так мало женщин выбирают технические профессии, имеет довольно очевидный ответ: потому что не хотят. Куда бы вы ни посмотрели, вы увидите, что женщины гораздо меньше мужчин зачарованы омами, карбюраторами и кварками. Пересмотр учебных планов не повысит мой интерес к работе моей посудомоечной машины[61].
Известная женщина-инженер, присутствовавшая в аудитории, немедленно объявила ее анализ «псевдонаучным». Но Линда Готтфредсон, эксперт в области исследования профессиональных предпочтений, подчеркнула, что научные данные на стороне Хаусман: «В среднем женщины более заинтересованы в том, чтоб иметь дело с людьми, а мужчины — с вещами». Профориентационные тесты также показывают, что мальчики больше заинтересованы в «практических», «теоретических» и «исследовательских» занятиях, в то время как девочки — в занятиях «художественных» и «социальных».
Слова Хаусман и Готтфредсон — глас вопиющего в пустыне, потому что гендерный разрыв практически всегда анализируют следующим образом: любой дисбаланс между мужчинами и женщинами в видах их деятельности или оплате труда — это прямое доказательство гендерных предубеждений — если не в форме явной дискриминации, значит, в форме дестимулирующих посланий и скрытых барьеров. Возможность, что мужчины и женщины могут отличаться друг от друга какими-то качествами, которые влияют и на то, какое занятие они выбирают или какую зарплату получают, никогда не должна упоминаться публично, потому что это воспрепятствует равенству на рабочих местах и повредит интересам женщин. Именно это убеждение заставило Фридан и Клинтон, например, говорить, что мы не достигнем равенства полов, пока оплата труда и процентное соотношение мужчин и женщин в разных профессиях не будет идентичным. В 1998 году в телевизионном интервью Глория Стайнем и конгрессвумен Белла Абцуг назвали саму идею межполовых различий «чушью» и «антиамериканским безумным образом мышления», а когда Абцуг спросили, имеется ли в виду, что гендерное равенство означает равное количество мужчин и женщин во всех областях деятельности, она ответила: «Пятьдесят на пятьдесят — и никак иначе»[62]. Этот анализ гендерного разрыва стал также и официальной позицией университетов. То, что президенты элитных учебных заведений страны с радостью обвиняют своих коллег в постыдных предубеждениях, даже не рассматривая альтернативных объяснений (согласятся они с ними в итоге или нет), показывает, как глубоко укоренилось табу.
Ошибка этого анализа в том, что неравенство результатов нельзя использовать в качестве доказательства неравенства возможностей, если группы, которые мы сравниваем, не идентичны во всех своих психологических чертах, что может быть правдой, только если мы — «чистые листы». Но предположение, что гендерный разрыв может быть, по крайней мере частично, следствием межполовых различий, — провокационное. Любой, кто заведет об этом речь, будет немедленно обвинен в том, что «хочет поставить женщин на место» или «оправдать существующее положение вещей». Смысла тут не больше, чем в утверждении, будто ученый, анализирующий, почему женщины живут дольше мужчин, хочет, чтобы «пожилые мужчины умирали». Исследования, показывающие изъяны теории «стеклянного потолка», вовсе не заговор эгоистичных мужчин, в значительной степени это дело рук женщин, в их числе Хаусман, Годдфредсон, Джудит Клайнфелд, Карен Лерман, Кэти Янг и Камилла Бенбоу, экономисты Дженнифер Робак, Фелиция Шварц, Дайана Фюрхтготт-Рот и Кристина Столба, правовед Дженнифер Брасерас и, в меньшей степени, экономист Клаудия Голдин и правовед Сьюзен Эстрич[63].
Я уверен, что эти авторы дали нам понимание гендерного разрыва, которое лучше стандартного по нескольким причинам. Их не пугает вероятность, что мужчины и женщины могут отличаться, и поэтому они не принуждают нас выбирать между научными исследованиями человеческой природы и справедливым отношением к женщине. Их анализ предлагает более глубокое понимание причин гендерного разрыва, не противоречащее современным социальным наукам. Он формирует более уважительный взгляд на женщин и их выбор. И наконец, он обещает больше гуманных и эффективных мер, предупреждающих гендерное неравенство на рабочих местах.
Перед тем как представить новый анализ гендерного разрыва, сделанный феминистками равенства, позвольте мне повторить три положения, которые не обсуждаются. Первое — мешать женщинам в осуществлении их стремлений и дискриминировать на основании пола — несправедливость, которую нужно пресекать, где бы она ни обнаружилась.
Второе — нет никаких сомнений, что в прошлом женщины сталкивались с повсеместной дискриминацией, а в некоторых областях продолжают встречаться с ней и сегодня. Это невозможно доказать, продемонстрировав, что мужчины зарабатывают больше женщин или что соотношение полов в профессиях не равно 50 на 50, но можно использовать другие способы. Экспериментаторы могут послать поддельные резюме или заявки на гранты, идентичные по всем пунктам, кроме пола соискателя, и посмотреть, будут ли с ними обращаться по-разному. Экономисты могут провести регрессивный анализ, который измеряет квалификацию и интересы людей и определяет, получают ли женщины и мужчины разную оплату и с разной ли скоростью продвигаются по карьерной лестнице, если их интересы и квалификация статистически одинаковы. О том, что разница в результатах не свидетельствует о дискриминации, если только мы не сравниваем людей, равных в существенных чертах, говорит элементарная социология (не говоря уже о здравом смысле) и признается экономистами, когда они анализируют наборы данных в поисках доказательств дискриминации в оплате труда[64].
Третье — ни в коем случае не ставится вопрос, достаточно ли женщины «компетентны», чтобы быть учеными, топ-менеджерами, лидерами государств или высококлассными профессионалами любого другого рода. Убедительный ответ на этот вопрос дан много лет назад: одни компетентны, другие нет; точно так же, как и мужчины. Единственный вопрос в том, должно ли соотношение компетентных мужчин и женщин быть идентичным.
Как и во многих других вопросах, касающихся человеческой природы, неготовность людей думать в терминах статистики приводит к бессмысленным ложным дихотомиям. О том, как дóлжно думать о гендерном распределении в профессиях без необходимости выбирать между крайностями «женщины недостаточно компетентны» и «пятьдесят на пятьдесят — и никак иначе» или между «нет никакой дискриминации» и «нет ничего, кроме дискриминации».
На свободном рынке труда, где нет предрассудков, людей будут нанимать на работу и оплачивать ее в соответствии с тем, насколько их способности соответствуют профессиональным требованиям. Конкретная работа требует определенной комбинации когнитивных талантов (таких, как математические или языковые навыки), личностных черт (готовность рисковать или работать в команде) и способности вести соответствующий образ жизни (жесткое расписание, перемещения, повышение профессионального уровня). В обмен она предлагает некоторую комбинацию личных вознаграждений: люди, гаджеты, идеи, путешествия, гордость за свою работу. Среди прочего на зарплату влияет спрос и предложение: сколько людей хочет получить эту работу, сколько может ее выполнять, и сколько работодатель готов за нее платить. Работа, на которую найдется уйма желающих, может оплачиваться хуже, а там, где работника найти сложнее, будут больше платить.
Разные качества людей делают их подходящими для того или иного вида деятельности. Мыслить логически, работать с людьми, выдерживать конфликты или неприятное окружение способны большинство из них, но одни делают это лучше, другие — хуже, и у каждого свои уникальные сильные стороны и склонности. Учитывая все свидетельства межполовых различий (отчасти биологических, отчасти культурных, отчасти и тех и других), статистическое распределение этих сильных сторон и склонностей вряд ли может быть идентичным для женщин и мужчин. Если сегодня сравнить распределение качеств женщин и мужчин с распределением профессиональных требований в экономике, вероятность, что доля женщин и мужчин в каждой профессии или их средняя зарплата будут идентичны, очень близка к нулю — даже если бы не существовало никаких барьеров и дискриминации.
Ничто из этого не предполагает, что женщинам при жеребьевке достается короткая палочка. Это зависит от меню возможностей, доступных в конкретном обществе. Если в нем больше высокооплачиваемой работы, которая требует мужских сильных сторон (скажем, готовность подвергать себя физической опасности или интерес к машинам и механизмам), мужчины в среднем будут добиваться большего; если больше работы, для которой нужны типично женские сильные стороны (например, владение языком или интерес к людям), женщины в среднем могут преуспевать больше. И в том и в другом случае на рабочих местах можно видеть представителей обоих полов, только в разном количестве. Вот почему в некоторых сравнительно престижных профессиях преобладают женщины. Пример — моя собственная область, изучение языкового развития у детей: здесь женщины существенно превосходят мужчин числом[65]. В своей книге «Первый пол: Природные женские таланты и как они меняют мир» (The First Sex: The Natural Talents of Women and How They Are Changing the World) антрополог Хелен Фишер делает предположение, что культура бизнеса в нашей глобальной экономике, основанной на знаниях, скоро начнет благоприятствовать женщинам. Женщины более общительны и расположены к сотрудничеству, не так одержимы статусом и лучше умеют достигать в переговорах взаимовыгодных решений. Эти таланты будут все более востребованы на рабочих местах нового века, предсказывает она, и женщины могут превзойти мужчин в статусе и доходах.
В современном мире, конечно, разрыв благоприятствует мужчинам. Отчасти он связан с дискриминацией. Работодатели могут недооценивать умения женщин, или считать, что полностью мужская рабочая обстановка более эффективна, или беспокоиться, что их сотрудники-мужчины будут возмущены необходимостью подчиняться женщине-начальнику, или опасаться сопротивления со стороны предубежденных клиентов и покупателей. Однако данные говорят, что не все межполовые различия в профессиях — результат действия этих барьеров[66]. Например, маловероятно, что в научной среде математики особенно предубеждены против женщин, психолингвисты, изучающие овладение языком, так уж предубеждены против мужчин, а эволюционные психологи необычайно свободны от предубеждений.
В каких-то профессиях разница в способностях действительно может играть некоторую роль. Достаточно того, что мужчины чаще женщин обладают исключительными способностями к математическому мышлению и мысленному манипулированию трехмерными объектами, чтобы объяснить, почему среди инженеров, физиков, органических химиков и профессоров в некоторых областях математики соотношение полов далеко от 50 на 50 (хотя это, конечно, не значит, что процент женщин должен быть где-то около нуля).
Для большинства профессий средняя разница в способностях не имеет значения, а вот средняя разница в предпочтениях может направить мужчин и женщин по разным дорожкам. Наиболее впечатляющий пример представлен в анализе выборки математически одаренных семиклассников, отобранных в общенациональном поиске талантов, — анализ сделан Дэвидом Любински и Камиллой Бенбоу[67]. Эти подростки родились во время второй волны феминизма, родители поощряли их развивать свои таланты (всех посылали на летние научные и математические программы), они были полностью осведомлены о своих способностях к достижениям. Но одаренные девочки говорили интервьюерам, что им более интересны люди, «социальные ценности», гуманитарные и альтруистические цели, в то время как одаренные мальчики говорили, что больше интересуются материальными вещами, «точными величинами» и абстрактными интеллектуальными изысканиями. В колледжах девушки выбирали самые разные гуманитарные, естественно-научные предметы и искусство, в то время как юноши отдавали предпочтение точным наукам и математике. И что вполне предсказуемо, менее 1 % молодых женщин стали докторами наук в математике, физике и технических дисциплинах, в то время как среди юношей их было 8 %. Вместо этого женщины уходили в медицину, юриспруденцию, гуманитарные области и биологию.
Эта асимметрия выражена более явно в масштабных соцопросах, касающихся карьерных выборов и ценностей, связанных с профессией, — в другом виде исследований, когда мужчины и женщины сообщают о своих желаниях сами, а не через активистов, говорящих от их имени[68]. В среднем мужская самооценка сильнее связана со статусом, зарплатой и богатством, так же как и их привлекательность в качестве сексуальных и брачных партнеров, как обнаружили исследования, посвященные качествам, которые люди хотят видеть в представителях противоположного пола[69]. Мужчины ожидаемо сообщили, что, чтобы подняться по корпоративной лестнице или достичь известности в своей области, они готовы работать допоздна и жертвовать другими сторонами жизни, например жить в менее привлекательном городе или оставить друзей и семью из-за переезда. Мужчины в среднем легче соглашаются на физический дискомфорт и опасность, и поэтому их чаще можно встретить в антисанитарных условиях сравнительно высокооплачиваемых работ — ремонт заводского оборудования, работа на нефтяных вышках или очистка отложений со стенок нефтеналивных баков. Женщины в среднем чаще выбирают организационную административную работу, которая, хотя и хуже оплачивается, зато выполняется в офисах с кондиционерами. Мужчины больше любят рисковать, и это отражается на их карьерном росте, даже если их квалификация остается на том же уровне. Мужчины предпочитают работать на корпорации, женщины — в государственных учреждениях и некоммерческих организациях. Мужчины-врачи чаще становятся узкими специалистами и открывают частные кабинеты; женщины-медики чаще работают врачами общей практики на зарплате в госпиталях и клиниках. Мужчины чаще становятся управленцами на заводах, женщины — кадровыми работниками или менеджерами по корпоративным коммуникациям.
В среднем матери сильнее отцов привязаны к своим детям. Это верно для обществ по всему миру, и, вероятно, так было и у наших предков, начиная с первых млекопитающих, появившихся около 200 млн лет назад. Как говорит Сьюзен Эстрич: «Ждать, что связь между родительством и полом будет разрушена, — все равно что ждать Годо» . Это не значит, что женщин когда-нибудь в каком-либо обществе не интересовала работа; даже среди охотников-собирателей женщины выполняют бо́льшую часть работы по собирательству и охотятся, особенно если используются сети, а не камни или стрелы[70]. Не означает это и того, что мужчины в каком-то обществе равнодушны к собственным детям: мужские родительские инвестиции — выдающаяся и зоологически необычная черта Homo sapiens. Но это значит, что биологически повсеместный компромисс между инвестированием в ребенка и работой, которая поддерживает жизнеспособность (чтобы в конечном счете произвести на свет других детей и инвестировать в них), может уравновешиваться мужчинами и женщинами в разных точках. Женщины — не единственный пол, который заботится о детях, но женщины более внимательны к их благополучию и, согласно опросам, придают большее значение времени, проведенному с детьми[71].
Так что, даже если для обоих полов важны и работа, и дети, их разная значимость для мужчин и женщин может приводить к тому, что женщины чаще выбирают работу, позволяющую им проводить время с детьми, — укороченный рабочий день или гибкий график, меньше переездов, умения, которые не устаревают слишком быстро, — в обмен на более низкую оплату или престиж. Как подчеркнула экономист Дженнифер Робак: «Если мы замечаем, что люди жертвуют денежным доходом ради других приятных вещей, сравнение доходов одного человека с доходами другого почти ничего нам не дает»[72]. Экономист Гэри Бекер показал, что брак может умножить влияние межполовых различий, даже если изначально оно было слабым: здесь действует сила, которую экономисты называют законом сравнительных преимуществ. В парах, где муж зарабатывает чуть больше жены, а жена заботится о детях лучше, супруги могут разумно решить, что, если она будет работать меньше, чем он, в выигрыше будут оба[73].
Повторю: ничто из этого не значит, что гендерная дискриминация исчезла или что она оправдана. Смысл в том, что гендерный разрыв сам по себе ничего не говорит о дискриминации, если только мужчины и женщины не «чистые листы», а это не так. Единственный способ обнаружить дискриминацию — сравнить их работу или зарплату, когда их выборы и квалификация равны. И действительно, недавнее изучение данных Национального лонгитюдного исследования молодежи обнаружило, что не имеющие детей женщины в возрасте от 27 до 33 лет зарабатывают 98 центов на доллар, получаемый мужчинами[74]. Даже для людей, которые цинично оценивают мотивацию американских работодателей, это не должно быть шоком. На высококонкурентном рынке любая компания, недальновидная настолько, что упускает из виду квалифицированных женщин или переплачивает недостаточно квалифицированным мужчинам, будет вытеснена из бизнеса конкурентами, придерживающимися принципов справедливости.
Итак, никакие научные открытия не отменили бы политику распределения зарплат и профессий между полами по принципу 50 на 50, если бы демократическое общество сочло, что сама по себе цель того стоит. Исследования говорят, что такие стратегии сопряжены как с издержками, так и с выигрышами. Явный плюс политики равенства доходов в том, что она может нейтрализовать сохраняющуюся дискриминацию женщин. Но если мужчины и женщины не взаимозаменяемы, минусы тоже надо учитывать.
Какое-то бремя пришлось бы нести мужчинам или обоим полам. Самое очевидное — возможность обратной дискриминации мужчин или ложных обвинений в сексизме в отношении тех мужчин и женщин, которые принимают решения о найме и зарплате сегодня. А вот за неэффективность, которая весьма вероятна, если решения о найме будут приниматься не с учетом соответствия качеств человека профессиональным требованиям, а на основании других факторов, платить придется и мужчинам, и женщинам.
Но во многом издержки стратегий равного дохода касаются женщин. Многие женщины-ученые протестуют против жестких гендерных преференций в науке, таких как целевые профессорские должности для женщин или идея (выдвинутая одним активистом), что федеральные исследовательские гранты должны распределяться между мужчинами и женщинами пропорционально количеству женщин и мужчин, подавших на них заявления. Проблема в том, что такие благонамеренные стратегии могут посеять зерна сомнения — действительно ли гранты достаются достойным исследователям. Как сказала астроном Линн Хилленбрандт: «Если вам предоставили возможность только потому, что вы женщина, это никому не приносит добра; это заставляет людей задаваться вопросом, почему вам ее предоставили»[75].
Бесспорно, институциональные барьеры, препятствующие продвижению женщин, существуют. Люди — млекопитающие, и нам нужно продумать этические последствия того факта, что именно женщины рожают, вскармливают детей и берут на себя непропорционально высокую долю обязанностей по их воспитанию. Нельзя предполагать, что «человек» — это по умолчанию мужчина, а дети — это потакание своим слабостям или досадная случайность, которой подвержена аномальная подгруппа людей — женщины. Следовательно, межполовые различия можно использовать, чтобы оправдать, а не поставить под угрозу дружественные для женщин стратегии, такие как отпуск по уходу за ребенком, оплата детского сада, гибкий рабочий график, приостановка испытательного срока для преподавателей-женщин или полная его отмена (предложенная недавно биологом и президентом Принстонского университета Ширли Тилман).
Конечно, бесплатного сыра не бывает, и за этими стратегиями стоят решения — возможно, и оправданные — поставить в невыгодное положение мужчин и женщин, у которых нет детей, чьи дети выросли или тех, кто решил отказаться от карьеры и посвятить себя семье. Но даже когда дело доходит до оценки этих компромиссов, размышление о природе человека может поставить новые серьезные вопросы, которые способны радикально улучшить судьбу работающих женщин. Какие из обременительных рабочих требований, которые сдерживают женщин, действительно важны для экономической эффективности, а какие представляют собой полосу препятствий, где мужчины сражаются за альфа-статус? Рассуждая о справедливости на рабочих местах, должны ли мы думать о людях как об отдельных личностях или должны учитывать, что они — семейные люди, у которых, вероятно, когда-нибудь появятся дети и которые в какой-то момент жизни будут вынуждены ухаживать за престарелыми родителями? Если мы пожертвуем в какой-то мере экономической эффективностью ради более приятных условий работы во всех видах занятости, станут ли люди счастливее? У меня нет ответов, но эти вопросы стоят того, чтобы их задавать.
Есть и еще одна причина, почему признание межполовых различий может быть более гуманным, чем отрицание их. Процветают и страдают не мужской или женский пол, а отдельные мужчины и женщины, а у этих мужчин и женщин есть мозг, — возможно, не идентичный — который задает их ценности и позволяет делать выбор. Их выбор следует уважать. Газеты и журналы регулярно публикуют истории женщин, которых заставляют стыдиться того, что они сидят дома и воспитывают детей. Эти женщины всегда говорят: «Я думала, что феминизм — это право выбора». То же самое должно относиться и к женщинам, которые работают, но жертвуют некоторой частью дохода в обмен на возможность «жить своей жизнью» (и конечно, к мужчинам, которые сделали такой выбор). Настаивать, чтобы равное число мужчин и женщин работали по 80 часов в неделю в юридических фирмах или оставляли семью на месяцы, чтобы крутить трубы на обледеневшей нефтяной платформе, — вряд ли так уж прогрессивно. Нелепо требовать (как защитники гендерного паритета на страницах журнала Science), чтобы большему числу молодых женщин «создавали условия для выбора инженерного дела», как будто они крысы в скиннеровском ящике[76].
Готтфредсон подчеркивает: «Если вы настаиваете на том, чтобы использовать гендерный паритет в качестве мерила социальной справедливости, значит, вам придется запрещать множеству мужчин и женщин заниматься тем, что им нравится больше всего, и заставлять их выполнять работу, которая им не нравится»[77]. Ей вторит Клайнфелд в вопросе о «протекающей трубе» в науке: «Если [одаренные] женщины предпочитают быть учителями, а не математиками, журналистами, а не физиками, юристами, а не инженерами, мы не должны внушать им мысль, что они менее ценны как человеческие существа, менее важны для нашей цивилизации, ленивы или низкостатусны»[78]. Это не гипотетическое беспокойство, как подтверждают результаты опроса, проведенного недавно Национальным научным фондом. Женщины гораздо чаще мужчин сообщают, что специализировались в науках, математике или технике под давлением учителей или членов семьи, а не следуя собственным стремлениям, и что по этой причине многие в итоге бросили учебу[79]. Я оставлю последнее слово за Маргарет Мид, которая, хотя и заблуждалась в начале научной карьеры относительно пластичности гендера, была определенно права, когда сказала: «Если мы хотим добиться богатой культуры, богатой во всех смыслах, мы должны признать весь диапазон человеческих возможностей и сделать наше общественное устройство более продуманным, таким, в котором каждый человеческий талант нашел бы себе подходящее место».
* * *
Помимо гендерного разрыва особые страсти всегда кипели вокруг природы и причин изнасилования. Когда в 2000 году биолог Рэнди Торнхилл и антрополог Крейг Палмер опубликовали «Естественную историю изнасилования», они поставили под угрозу единодушие, царившее в интеллектуальной жизни на протяжении четверти века, и навлекли на эволюционную психологию больше осуждения, чем что бы то ни было за долгие годы[80]. Изнасилование — больной вопрос, о нем трудно писать, но и избегать его нельзя. Нигде больше в современной интеллектуальной жизни не настаивают на отрицании человеческой природы более страстно, и нигде больше альтернатива не понимается так ошибочно. Я верю, что прояснение этих вопросов поможет нам пройти трудный путь к примирению трех идеалов, которые без причины были втянуты в конфликт: права женщин, биологически обоснованное понимание человеческой природы и здравый смысл.
Ужас изнасилования придает ему особую значимость в понимании психологии мужчин и женщин. Важнейшая нравственная задача изучения изнасилования — снизить его частоту. Любой ученый, проливающий свет на причины изнасилования, заслуживает нашей благодарности как медицинский исследователь, который выискивает причины заболевания, потому что изучение недуга — это первый шаг к избавлению от него. И так как никого истина не осеняет Божественным откровением, мы должны равно уважать тех, кто исследует теории, которые могут оказаться неверными. Моральная критика допустима только в отношении тех, кто навязывает догмы, игнорирует доказательства или запрещает исследования, потому что эти люди защищают свою репутацию за счет жертв изнасилований, которых могло бы и не произойти, если бы мы лучше понимали этот феномен.
Но сегодня, к сожалению, люди чувствительны совсем к другим вещам. Сегодня важнейшая нравственная задача в анализе изнасилования — провозгласить, что оно не имеет никакого отношения к полу. Эту мантру необходимо повторять всякий раз, как зайдет разговор на эту тему. «Изнасилование — это злоупотребление властью и контролем, которым насильник хочет унизить, устыдить, смутить, оскорбить и устрашить жертву», — говорится в декларации ООН 1993 года. «Первоочередная его цель — проявить власть и контроль над другим человеком»[81]. «Изнасилование не имеет отношения к сексу; это насилие и использование секса для демонстрации власти и контроля… Домашнее насилие и сексуальные оскорбления — проявление тех же мощных социальных сил: сексизма и торжества насилия», — вторит редакторская колонка в Boston Globe в 2001 году[82]. Когда критически настроенная колумнистка в своей статье об изнасиловании и избиениях не согласилась с общепринятым мнением, читатель ответил ей:
Как мужчина, который более десяти лет активно трудился инструктором и консультантом, помогая мужчинам прекратить насилие по отношению к женщинам, я нахожу колонку Кэти Янг от 15 октября раздражающей и разочаровывающей. Она путает понятия, отказываясь признать, что мужчины социализируются в патриархальной культуре, которая все еще поддерживает насилие против женщин, если это их выбор[83].
Насколько же увяз в господствующей идеологии этот консультант, если он даже не заметил, что Янг высказывалась против догмы, которую он считал самоочевидной истиной, а не «отказывалась ее признать». И его формулировка «мужчины социализируются в патриархальной культуре» воспроизводит знакомый до боли лозунг.
Официальная теория изнасилования началась с важной книги 1975 года «Против нашей воли» (Against Our Will). Ее автор — гендерная феминистка Сьюзен Браунмиллер. Книга стала символом революции в нашем подходе к изнасилованию, что было одним из величайших достижений второй волны феминизма. До 1970-х годов правовая система и популярная культура часто уделяли недостаточно внимания интересам женщин. Жертвы изнасилования должны были доказывать, что сопротивлялись нападающему чуть ли не до последней капли крови, иначе считалось, что они дали согласие на секс. Стиль одежды считался смягчающим обстоятельством, как если бы мужчины не способны были контролировать себя при виде привлекательной женщины. А еще смягчающим обстоятельством считалась сексуальная жизнь женщины, как если бы согласие заняться сексом с одним мужчиной в одних обстоятельствах приравнивалось к согласию заниматься сексом с любым мужчиной при любых обстоятельствах. Для обвинения в изнасиловании нужны были доказательства, которых не требовалось ни для каких других насильственных преступлений, например показания свидетелей. Беспечно относились к женскому согласию и в массмедиа. Нередко в фильмах мужчина обращался с сопротивляющейся женщиной грубо и жестко, но потом она таяла в его руках. Страдания жертв изнасилования тоже недооценивались; я вспоминаю девочек-подростков, шутивших друг с другом в начале 70-х, на заре сексуальной революции: «Если насилие неизбежно, расслабься и получай удовольствие». Изнасилование в браке не было преступлением, понятия об изнасиловании на свидании не существовало, и изнасилования в военное время не попадали на страницы исторических книг. Подобные оскорбления человечности исчезли или исчезают в западных демократиях, и эти моральные достижения феминизма заслуживают похвалы.
Но теория Браунмиллер шла гораздо дальше нравственного принципа, что женщина имеет право не подвергаться сексуальным нападениям. Она гласила, что изнасилование не имеет никакого отношения к сексуальным желаниям отдельного мужчины, но представляет собой тактику, которой весь мужской пол подавляет женский пол в целом. Вот ее известное высказывание:
Мужчина обнаружил, что его гениталии могут служить орудием устрашения, и это открытие можно считать одним из самых важных открытий доисторических времен, наравне с использованием огня и первым каменным топором. Я убеждена, что с доисторических времен и до наших дней изнасилование выполняло важную функцию… это ни больше ни меньше чем сознательный процесс запугивания, с помощью которого все мужчины держат всех женщин в состоянии страха[84].
Идея легла в основу современного катехизиса: изнасилование — это не про секс, наша культура учит мужчин насиловать, она прославляет насилие над женщиной. Анализ напрямую связан с феминистской теорией о человеческой природе: люди — «чистые листы» (которых нужно социализировать и учить желаниям); единственный существенный человеческий мотив — это стремление к власти (так что сексуальные желания ни при чем); и все мотивы и интересы должны относиться к группам (таким, как мужской и женский пол), а не к отдельным людям.
Теория Браунмиллер привлекательна даже для тех, кто не относит себя к гендерным феминистам, благодаря доктрине «благородного дикаря». С 1960-х годов большинство образованных людей пришли к убеждению, что о сексе надо думать как о естественной вещи, не постыдной и не грязной. Секс — это хорошо, поскольку естественно, а все естественное — хорошо. Но изнасилование — это плохо; следовательно, изнасилование не связано с сексом. Мотивы изнасилования надо искать в социальных институтах, а не где-то в человеческой природе.
Лозунг «насилие-не-секс» верен в двух отношениях. Обе части высказывания абсолютно верны для жертвы: женщина, которую изнасиловали, ощущает это как жестокое нападение, а не как сексуальный акт. И часть насчет насилия по определению верна для нападающего: если бы не было насилия или принуждения, мы бы не говорили об изнасиловании. Но то, что изнасилование связано с насилием, не означает, что оно не имеет ничего общего с сексом, так же как, если вооруженное ограбление связано с насилием, это не значит, что оно не связано с алчностью. Порочные мужчины могут использовать насилие, чтобы получить секс, так же как они используют насилие, чтобы получить другие вещи, которые они хотят.
Я верю, что доктрина «изнасилование-это-не-про-секс» уйдет в историю как пример чрезвычайно популярного заблуждения и безумия толпы. Она очевидно нелепа, не заслуживает своей святой неприкосновенности, противоречит огромному количеству свидетельств и стоит на пути у единственной морально уместной цели, связанной с изнасилованием: искоренить его.
Подумайте об этом. Первый очевидный факт: мужчины часто хотят заняться сексом с женщинами, которые не хотят заниматься сексом с ними. Они используют любые тактики, которые только может использовать одно человеческое существо, чтобы повлиять на поведение другого: ухаживание, соблазнение, лесть, обман, давление и подкуп. Второй очевидный факт: некоторые мужчины используют насилие, чтобы получить то, что они хотят, не обращая внимания на причиняемые ими страдания. Известны случаи, когда мужчины похищали детей с целью выкупа (иногда посылая родителям палец или ухо ребенка, чтобы показать серьезность своих намерений), ослепляли жертв грабежа, чтобы те не смогли опознать их в суде, отстреливали сообщникам коленные чашечки за то, что те сдавали их полиции или вторгались на их территорию, или убивали незнакомца ради пары кроссовок. Это было бы странно и противоречило природе и всему, что мы знаем о людях, если бы некоторые мужчины не использовали насилие, чтобы получить секс.
Посмотрим с точки зрения здравого смысла и на доктрину, что мужчины используют изнасилование в интересах своего пола. Насильник всегда рискует получить травмы от рук женщины, защищающей себя. В традиционных обществах он, кроме того, рискует подвергнуться пыткам, получить увечья или погибнуть от рук ее родственников. В современном обществе он рискует надолго сесть в тюрьму. Неужели насильники действительно принимают эти риски как альтруистическую жертву на благо миллиардов незнакомцев, составляющих мужской пол? Идея становится еще менее вероятной, если мы вспомним, что насильниками обычно становятся неудачники и ничтожества, в то время как основные предполагаемые выгодополучатели патриархата — люди богатые и облеченные властью. Конечно, мужчины действительно жертвуют собой ради высшего блага на войне, но они или попадают туда против своей воли, или же им обещана всенародная слава и восхищение их подвигами. Но насильники обычно совершают свои действия тайно и держат их в секрете. Практически всегда и везде мужчина, изнасиловавший женщину, воспринимается обществом как подлец и мерзавец. Идея, что все мужчины вовлечены в жестокую войну против всех женщин, противоречит тому элементарному факту, что у мужчин есть матери, дочери, сестры и жены, о которых они заботятся больше, чем о большинстве других мужчин. Если выразить то же самое в биологических терминах, то гены каждого человека заключены в его близких, половина которых — противоположного пола.
Да, мы должны порицать порой пренебрежительное отношение к женской анатомии в популярной культуре. Но может ли кто-нибудь поверить, что наша культура буквально «учит мужчин насиловать» или «прославляет насильника»? Даже бездушное отношение к жертвам изнасилования в судебной системе в недавнем прошлом имеет более простое объяснение, чем то, что все мужчины получают выгоду от изнасилования. До недавнего времени в делах об изнасиловании присяжным зачитывалось предупреждение юриста XVII века лорда Мэтью Хэйла, писавшего, что оценивать показания женщины следует с осторожностью, потому что обвинение в изнасиловании «легко сделать и трудно отклонить, даже если обвиняемый невиновен»[85]. Этот принцип согласуется с презумпцией невиновности, встроенной в нашу правовую систему, которая предпочитает отпустить на свободу десяток виновных, лишь бы не отправить в тюрьму одного невиновного. Но даже если так, давайте предположим, что мужчины, применяющие этот подход к изнасилованию, использовали его в своих коллективных интересах. Давайте предположим, что они перестраховались, чтобы минимизировать свои собственные шансы быть когда-нибудь ложно осужденными за изнасилование (или обвиненными при неоднозначных обстоятельствах) и что они не придают достаточного значения несправедливости того, что женщины не увидят своих обидчиков за решеткой. Это действительно несправедливо, но все же это не то же самое, что поощрять изнасилование как сознательную тактику угнетения женщин. Если бы такова была мужская тактика, почему тогда они вообще квалифицируют изнасилование как преступление?
А что до моральности убеждения «изнасилование-не-секс», так ее нет. Если мы признаем, что сексуальность может быть источником конфликта, а не только здорового взаимного удовольствия, мы всего лишь заново откроем истину, которую во все века подмечали философы и художники. И если мужчина насилует ради секса, это не значит, что он «просто не может удержаться» или что мы должны простить его, так же как мы не должны прощать человека, который застрелил владельца винного магазина, чтобы забрать деньги из кассы, или того, кто проломил голову водителю, чтобы украсть его BMW. Великий вклад феминизма в мораль изнасилования — то, что он поставил в центр внимания вопросы согласия и принуждения. Мотивы самого насильника несущественны.
И наконец, подумайте о гуманности картины, которую рисует теория гендерного феминизма. Как подчеркивает феминистка равенства Венди Макэлрой, эта теория подразумевает, что «даже самый любящий и нежный муж, отец и сын получают выгоду от насилия над женщинами, которых они любят. Идеология, которая выдвигает такие ужасные обвинения против мужчин как класса, не может излечить ничьих ран. Она может лишь спровоцировать ответную враждебность»[86].
* * *
Браунмиллер задала показательный риторический вопрос:
Неужели необходима научная методология, чтобы сделать вывод, что антиженская пропаганда, пронизывающая культурный эфир нашей страны, создает атмосферу, в которой акты сексуальной враждебности, направленные против женщин, не только допускаются, но и идеологически поощряются?
Макэлрой ответила: «Ответ ясен и прост: "да". Научная методология необходима, чтобы установить истинность любого эмпирического утверждения». И она обратила внимание на последствия концепции Браунмиллер: «Одной из жертв новой догмы об изнасиловании стали исследования. Изучать причины изнасилования теперь уже "некорректно с сексуальной точки зрения", потому что — как знает любой правильно думающий человек — есть только одна причина: патриархат. Десятилетия назад, во времена расцвета либерального феминизма и сексуального любопытства, подход к исследованиям был более комплексным»[87]. Подозрения Макэлрой подкрепляются обзором опубликованных «исследований» изнасилования — выяснилось, что только в одном случаев из десяти проверялись гипотезы или использовались научные методы[88].
Научные исследования изнасилования и его связи с человеческой природой попали в центр внимания в 2000 году с опубликованием книги «Естественная история изнасилования». Торнхилл и Палмер начали с простого наблюдения: изнасилование может закончиться зачатием, которое размножит гены насильника, в том числе любые гены, которые сделали его склонным к изнасилованию. Таким образом, мужская психология, включающая способность к изнасилованию, может не отбраковываться, а поддерживаться естественным отбором. Торнхилл и Палмер утверждают, что изнасилование вряд ли было типичной репродуктивной стратегией из-за риска пострадать от рук жертвы и ее родственников, а также из-за риска подвергнуться остракизму в сообществе. Но это могло бы быть приспособительной тактикой, которая становится более вероятной, если мужчина не может добиться согласия женщины, отчужден от общества (и потому его не испугаешь остракизмом) и когда нет угрозы быть обнаруженным и наказанным (война и погромы). Далее Торнхилл и Палмер выдвигают две теории. Приспособительное изнасилование могло быть адаптацией в дарвиновском смысле, отобранной специально, как у некоторых насекомых, у которых имеется придаток, единственная функция которого — удерживать самку в процессе насильственного совокупления. Или изнасилование может быть побочным продуктом двух других черт мужского разума: сексуального желания и способности использовать насилие для достижения цели. Авторы не пришли к согласию, какая из двух гипотез лучше подтверждается данными, и оставили вопрос открытым.
Ни один честный читатель не мог бы заключить, что авторы считают насилие «естественным» в том общепринятом значении, что оно приветствуется или неизбежно. Книга начинается словами: «Как ученые, желающие, чтобы изнасилование было изъято из человеческой жизни…», а это определенно не слова людей, которые считают, что оно неизбежно. Торнхилл и Палмер обсуждают условия окружающей среды, которые влияют на вероятность изнасилования, и предлагают способы снизить его частоту. И идея, что большинство мужчин способны на изнасилование, скорее, наоборот, работает в интересах женщин, потому что она призывает к бдительности против изнасилования знакомыми, изнасилования в браке и изнасилования во время социальных катастроф. На самом деле их анализ соответствует собственным данным Браунмиллер — обычные мужчины, включая «хороших» американских парней во Вьетнаме, в военное время способны на изнасилование. Если уж на то пошло, гипотеза Торнхилла и Палмера о том, что изнасилование — одна из сторон мужской сексуальности, неожиданно делает их союзниками самых радикальных гендерных феминисток, таких как Катарина Маккиннон и Андреа Дворкин, которая сказала, что «обольщение часто трудно отличить от изнасилования. Соблазняя, насильник обычно старается позаботиться о бутылочке вина»[89].
Но что самое важное, книга в равной степени посвящена боли, которую испытывают жертвы. (Ее рабочее название было «Почему мужчины насилуют, почему женщины страдают».) Торнхилл и Палмер в дарвиновских терминах объясняют, почему самки во всем животном царстве сопротивляются принуждению к сексу, и утверждают, что муки, которые испытывают жертвы, имеют глубокие корни в женской природе. Изнасилование изменяет выбор самки, суть универсального механизма полового отбора. Выбирая самца и обстоятельства секса, самка может увеличить шансы, что ее потомки будут зачаты от самца с наилучшими генами или того, который хочет и может разделить ответственность за потомство. Как сформулировали Джон Туби и Леда Космидес, этот ультимальный (эволюционный) расчет объясняет, почему женщины развили стремление «контролировать собственную сексуальность, условия близости и выбор мужчины на роль отца своего ребенка». Они сопротивляются изнасилованию, они страдают, если их сопротивление сломлено, потому что «их лишают контроля над собственным сексуальным выбором и отношениями»[90].
Теория Торнхилла и Палмера подкрепляет многие положения анализа феминисток равенства. Она предполагает, что, с точки зрения женщин, изнасилование и секс по согласию — абсолютно разные вещи. Она подтверждает, что отвращение женщин к изнасилованию — это не симптом невротического подавления и не социальный конструкт, который в другой культуре легко может оказаться противоположным. Она предполагает, что страдание, вызванное изнасилованием, глубже, чем боль, причиненная другими физическими травмами или телесными повреждениями. Это обосновывает наши усилия, направленные на предотвращение изнасилований, и необходимость более строгих наказаний, чем за другие насильственные преступления. Сравните этот анализ с сомнительным заявлением, сделанным двумя гендерными феминистками, утверждающими, что отвращение к изнасилованию приходится вдалбливать в женщин при каждом удобном случае:
Страх женщин… рождается не только из их личного прошлого, но из того, что женщины, как группа, усвоили из истории, религии, культуры, социальных институтов и ежедневного социального взаимодействия. Женский страх, которому их учат с раннего возраста, постоянно закрепляется такими социальными институтами, как школа, церковь, закон и пресса. Многому учатся от родителей, братьев и сестер, учителей и друзей[91].
Но несмотря на то, что их анализ соответствовал интересам женщин, Торнхилл и Палмер нарушили табу, и ответ был предсказуемым: демонстрации, срывы лекций и оскорбления, от которых волосы встают дыбом. Типичной реакцией было: «новая тошнотворная научная теория» — и радикальные ученые использовали свои обычные стандарты точности, чтобы опровергнуть ее. Хилари Роуз, обсуждая эту теорию с другим биологом, написала: «Социобиолог Дэвид Бараш в защиту своего женоненавистнического заявления о том, что мужчины естественно предрасположены к изнасилованию, провозглашает: "Если Природа — сексист, не вините ее сыновей". Такие высказывания никак не соответствуют старому почтительному отношению к науке, как к взгляду ниоткуда»[92] . Бараш, естественно, ничего подобного не говорил: он говорил о насильниках как о преступниках, которые должны быть наказаны. Автор научно-популярных книг Маргарет Вертхейм начала свой обзор книги Торнхилла и Палмера с рассказа о недавней эпидемии изнасилований в Южной Африке[93]. Противопоставляя теорию, что изнасилование — это «побочный продукт социального обусловливания и хаоса», теории об эволюционном и генетическом происхождении изнасилования, она саркастически пишет, что, если бы последнее было правдой, «Южная Африка должна была быть инкубатором таких генов». Два оскорбления по цене одного: она обвиняет Торнхилла и Палмера в том, что они заняли упрощенческую позицию в ложной дихотомии (на самом деле они посвятили много страниц социальным условиям, при которых процветает изнасилование), и скатывается до инсинуации, что их теория еще и расистская. Психолог Джеффри Миллер в его собственном неоднозначном обзоре книги поставил такой диагноз этой популярной реакции:
«Естественную историю изнасилования» уже постигла худшая участь, какая только может быть уготована научно-популярной книге. Как «Происхождение человека» и «Гауссово распределение», она стала идеологической лакмусовой бумажкой. Люди, желающие продемонстрировать сочувствие жертвам изнасилования и женщинам в целом, уже поняли, что они должны выбросить эту книгу как сексистскую, реакционную и псевдонаучную. Статьи, в которых об этой книге говорят как о симптоме шовинистического культурного разложения, значительно превосходят числом обзоры, где ее оценивают как научную. С социологической точки зрения превращать книги в идеологические лакмусовые бумажки может быть полезно. Люди могут оперативно разделиться на группы единомышленников, не затрудняя себя чтением или размышлением. Тем не менее в рассуждениях людей может крыться нечто большее, чем просто идеологическая самореклама[94].
К сожалению, Торнхилл и Палмер сами противопоставили теорию, что изнасилование — это адаптация (специально отобранная сексуальная стратегия) теории, что это побочный продукт (следствие использования насилия вообще), и эта дихотомия отвлекла внимание от более важной мысли, что изнасилование связано с сексом. Я думаю, водораздел здесь обозначен слишком резко. Возможно, мужская сексуальность эволюционировала в мире, в котором женщины были более придирчивы к партнерам и основаниям для занятий сексом. Это могло заставить мужчин относиться к женскому сопротивлению как к препятствию, которое надо преодолеть. (Скажем по-другому: вполне можно представить себе вид, в котором самец становится сексуально заинтересованным, только если замечает знаки взаимного интереса со стороны самки, но, похоже, люди к таким видам не относятся.) Как мужчина будет преодолевать женское сопротивление, зависит от других особенностей его психологии и от того, как он оценивает обстоятельства. Обычная тактика может включать проявление доброты, убеждение женщины в благих намерениях, пресловутую бутылочку вина, но может становиться все более настойчивой в случае дополнительных факторов риска: мужчина — психопат (а значит, невосприимчив к страданиям других), изгой (а значит, не пострадает от остракизма), неудачник (у которого нет других способов получить секс), или солдат, или член этнической группировки, который считает врагов не совсем людьми и думает, что изнасилование сойдет ему с рук. Определенно, большинство мужчин в обычных обстоятельствах не таят желания насиловать. Исследования показывают, что жестокое изнасилование не характерно для порнографии и сексуальных фантазий, и, согласно результатам лабораторных исследований сексуального возбуждения у мужчин, изображение настоящего насилия над женщиной или признаки того, что она испытывает боль и унижение, убивают мужское желание[95].
А как насчет основного вопроса — включают ли мотивы насильников секс? Гендерные феминистки утверждают, что нет, приводя в пример насильников, нападающих на пожилых бесплодных женщин, тех, кто из-за сексуальной дисфункции страдает во время полового акта, тех, кто принуждает к сексуальным действиям, не ведущим к зачатию, и тех, кто использует презерватив. Аргумент неубедительный по двум причинам. Первая — эти примеры составляют мизерную часть изнасилований, что на самом деле показывает: у большинства изнасилований сексуальные мотивы есть. И все эти явления возникают и при сексе по согласию, что ведет к абсурдному выводу, будто секс сам по себе не имеет отношения к сексу. А изнасилование на свидании — отдельная проблема для теории «не-секса». Большинство людей согласны, что женщина имеет право сказать «нет» в любой момент сексуальной активности и если мужчина настаивает — он насильник, но должны ли мы также считать, что его мотивы меняются в одну секунду от желания секса к подавлению женщины?
С другой стороны, есть впечатляющий массив данных (более тщательно изученных ученым-правоведом Оуэном Джонсом, чем Торнхиллом и Палмером), что мотивы изнасилования частично совпадают с сексуальными[96].
• Насильственное совокупление широко распространено в животном царстве, что предполагает, что оно не выбраковывается естественным отбором и иногда может им поддерживаться. Оно обнаружено у многих видов насекомых, птиц и млекопитающих, включая наших родственников орангутангов, горилл и шимпанзе.
• Изнасилование существует во всех человеческих обществах.
• Насильники обычно не применяют силу сверх необходимой для того, чтобы принудить жертву к сексу. Они редко причиняют серьезные или смертельные повреждения, которые могли бы помешать зачатию и родам. Только 4 % жертв изнасилования получают серьезные травмы, и менее чем одну из 500 убивают.
• Жертвы изнасилования обычно бывают на пике возраста фертильности для женщин — между 13 и 35 годами, согласно основному массиву данных, их средний возраст — 24 года. Хотя многие жертвы насильников классифицируются как дети (младше 16 лет), большинство этих детей — девушки, чей средний возраст 14 лет. Распределение жертв по возрасту очень отличается от такового при всех других насильственных преступлениях и противоположно тому, которое было бы, если бы жертву выбирали по принципу физической уязвимости или среди тех, кто, вероятнее всего, занимает властные позиции.
• Жертвы изнасилования травмированы сильнее, когда есть риск зачатия. Изнасилование причиняет больше всего психологических мук, если женщина находится в возрасте фертильности и если ее принудили к полноценному сексуальному акту (по сравнению с другими формами изнасилования).
• С точки зрения демографии насильники не представляют весь мужской пол. В подавляющем большинстве это молодые люди в возрасте наиболее интенсивной сексуальной конкуренции. Молодые самцы, которых, предположительно, «социализировали» для изнасилования, с возрастом волшебным образом теряют эту социализацию.
• Хотя большинство изнасилований не ведут к зачатию, многие приводят. Около 5 % жертв насилия, находящихся в репродуктивном возрасте, беременеют, что ежегодно в сумме дает больше 32 000 связанных с изнасилованием беременностей в США. (Вот почему аборты в результате изнасилования — это важный вопрос.) Эта доля могла быть еще выше в доисторический период, когда женщины не использовали постоянных средств контрацепции[97]. Браунмиллер писала, что биологические теории изнасилования «смешны», потому что «с точки зрения репродуктивной стратегии единственная эякуляция, которая может добиться цели, но может и промахнуться, — это русская рулетка по сравнению с повторяющимися половыми актами по согласию»[98]. Но постоянные соития по согласию доступны не всем мужчинам, и действия «на авось», ведущие к сексу, могут быть эволюционно более успешными, чем план, который вообще к сексу не приводит. Естественный отбор может поддерживать и стратегии, репродуктивные преимущества которых не превышают даже 1 %.
* * *
Реалистичное понимание изнасилования дает нам надежду избавиться от него или снизить его частоту. С учетом обсуждаемых теорий возможные точки приложения усилий — это насилие, сексизм и сексуальное желание.
Все согласны с тем, что изнасилование — это насильственное преступление. И вероятно, сильнее всего его провоцирует беззаконие. Часто изнасилование и похищение женщин — основная цель налетов в обществах, не имеющих государственности, и обычная вещь в войнах между государствами и в этнических войнах. В мирное время уровень изнасилований обычно соответствует уровню других насильственных преступлений. Например, в США уровень изнасилований повысился в 1960-х и понизился в 1990-х, повторив кривую других насильственных преступлений[99]. Гендерные феминистки винят в изнасилованиях цивилизацию и социальные институты, но все обстоит совершенно наоборот. Насилие против женщин расцветает в обществах, которые находятся вне досягаемости цивилизации, и прорывается на поверхность там, где цивилизация сдает позиции.
Хотя мне неизвестно о каких-либо количественных исследованиях, борьба с сексистским отношением не кажется мне особенно многообещающей с точки зрения уменьшения числа изнасилований, хотя, конечно, она желательна и по другим причинам. Страны с гораздо более жесткими гендерными ролями, например Япония, имеют намного более низкий уровень изнасилований, и в самих США в сексистские 1950-е женщины были в большей безопасности, чем в раскрепощенные 1970-е и 1980-е. Пожалуй, связь здесь может быть и обратной. Как только женщины обретают бо́льшую свободу передвижений, потому что не зависят от мужчин, они чаще попадают в опасные ситуации.
А что насчет мер, сосредоточенных на сексуальных компонентах изнасилования? Торнхилл и Палмер предложили, чтобы мальчики-подростки в обязательном порядке проходили курсы по предотвращению изнасилований как условие получения водительских прав и что женщинам стоит напоминать, что сексуально привлекательный стиль одежды может повысить риск стать жертвой изнасилования. Эти непроверенные экспериментально рекомендации — прекрасная иллюстрация, почему ученые не должны вмешиваться в политику, но они не заслуживают того бурного негодования, которое последовало. Мэри Косс, считающаяся авторитетом в вопросах изнасилования, сказала: «Этот образ мысли абсолютно неприемлем в демократическом обществе». (Обратите внимание на психологию табу — не только их предложение неверно, но и сам их образ мыслей «абсолютно неприемлем».) Косс продолжила: «Поскольку изнасилование — это половое преступление, такие рекомендации вредят равенству. Они сильнее ущемляют права женщин, чем мужчин»[100].
Можно понять отвращение, вызванное предположением, что привлекательно одетая женщина вызывает непреодолимое желание ее изнасиловать или что ответственность за какое-то преступление должна быть перенесена с преступника на жертву. Но Торнхилл и Палмер не говорили ничего подобного. Их рекомендации продиктованы благоразумием, а не обвинениями в юридическом смысле. Конечно, женщины имеют право одеваться так, как они хотят, но вопрос не в том, на что женщины имеют право в идеальном мире, а в том, как они могут позаботиться о своей безопасности в мире реальном. Предложение, чтобы женщины в опасных ситуациях были внимательны к реакциям, которые они вызывают, или к сигналам, которые они могут ненамеренно посылать, — элементарный здравый смысл, и трудно поверить, чтобы какой-то взрослый человек думал бы по-другому, если только ему не промыли мозги идеями стандартной программы предотвращения изнасилований, что «сексуальное насилие — это не акт сексуального удовлетворения» и что «внешность и привлекательность не играют никакой роли»[101]. Феминистки равенства привлекают внимание к безответственности таких советов в терминах гораздо более жестких, чем любое высказывание Торнхилла и Палмера. Палья, например, писала:
Десяток лет феминистки вдалбливали своим последователям, что «изнасилование — это преступление насилия, но не секса». Этот засахаренный бред в духе Ширли Темпл оставил молодых женщин беззащитными перед бедой. Сбитые с толку феминизмом, они не ожидают изнасилования от милых мальчиков из хороших семей, сидящих за соседней партой…
Эти девочки говорят: «Ну, у меня должна быть возможность напиться на студенческой вечеринке и подняться в комнату к парню — без всяких последствий». А я говорю: «Да неужели? А когда ты едешь на машине в Нью-Йорк, ты оставляешь ключи на капоте?» Я хочу сказать, что, если после этого твою машину украдут, да, полиция должна преследовать вора и он должен быть наказан. Но в то же время полиция — и я — имеет право сказать: «Ты, идиотка, о чем ты только думала?»[102]
Подобным же образом и Макэлрой подчеркивает нелогичность аргументов вроде утверждения Косс, что женщинам не нужны практические советы, которые «ущемляют свободу женщин больше, чем мужчин».
Тот факт, что женщины уязвимы перед нападением, означает, что мы не можем иметь все сразу. Мы не можем разгуливать ночью по неосвещенному кампусу или по темной аллее, не навлекая на себя реальной опасности. Да, каждая женщина не прочь иметь возможность так поступать, но это «не прочь» принадлежит миру утопий. Это из того мира, в котором вы роняете в толпе кошелек и вам его возвращают вместе с наличностью и кредитными картами. Мира, в котором незапертый «порше» припаркован в трущобах, а детей можно оставить в парке без присмотра. Это не та реальность, с которой мы имеем дело и которая ограничивает нас[103].
Оторванная от реальности доктрина «изнасилование-это-не-секс» путает карты не только в советах женщинам, но и в стратегиях сдерживания насильников. В некоторых тюрьмах насильников отправляют на групповую терапию и психодраматические сессии, задача которых — докопаться до корней: жестокое обращение в детстве. Их цель — убедить обидчика, что его агрессия против женщин — форма вымещения гнева, который он испытывает в отношении матери, отца и общества. (Исполненная сочувствия статья в Boston Globe тем не менее признает, что «нет способа оценить эффективность этой терапии»[104].) Другая программа перевоспитывает насильников и мужей, избивающих своих жен, с помощью «про-феминистской терапии», состоящей из лекций о патриархате, гетеросексизме и связи между домашним насилием и расовым угнетением. В статье, озаглавленной «Патриархат заставил меня сделать это», психиатр Салли Сател комментирует: «Хотя соблазнительно согласиться, что профеминистская "терапия" — это именно то, чего заслуживают агрессивные мужчины, трагедия в том, что действительно травмированные женщины подвергаются еще большей опасности, когда их мужья проходят бесполезное лечение»[105]. Сообразительные обидчики, научившиеся повторять правильную околопсихологическую чушь и феминистские слоганы, будут считаться благополучно излеченными, выйдут на свободу досрочно и получат возможность снова нападать на женщин.
В своем вдумчивом обзоре Джонс уточняет, как юридические вопросы можно прояснить благодаря их более глубокому пониманию, не вынося за скобки сексуальный компонент. Один пример — это «химическая кастрация», добровольные инъекции лекарства депо-провера, которое подавляет секрецию андрогенов и снижает сексуальное желание. Их иногда делают насильникам, которые болезненно одержимы сексом и компульсивно совершают такие преступления, как изнасилование, непристойное обнажение и сексуальные действия в отношении детей. Химическая кастрация может значительно снизить количество рецидивов: в одном исследовании говорится, что с 46 до 3 %. Использование лекарства определенно поднимает серьезные конституционные вопросы о неприкосновенности частной жизни и наказании, которые биология сама по себе решить не может. Но дело не проясняется, а запутывается, когда комментаторы априори заявляют, что «кастрация не будет работать, так как изнасилование — это не сексуальное преступление, а скорее преступление, имеющее отношение к власти и насилию».
Джонс не защищает химическую кастрацию (и я тоже). Он просит внимательно и непредубежденно рассмотреть все возможности уменьшения количества изнасилований. Любой, кого возмущает сама идея упоминать изнасилование и секс вместе, должен посмотреть на цифры еще раз. Если стратегия, способная уменьшить изнасилования в 15 раз, с ходу отвергается, от изнасилования пострадает множество женщин, которые могли бы этого избежать. Людям придется решить, что для них важнее — идеология, которая утверждает, будто защищает интересы женского пола, или то, что случается с реальными женщинами в реальном мире.
* * *
Несмотря на весь «пар из ушей» в нынешних дискуссиях о гендере, нащупать в них общую почву нетрудно. Никто не хочет мириться с сексуальной дискриминацией и изнасилованием. Никто не хочет перевести время назад и изгнать женщин из университетов и из профессий, даже если бы это было возможно. Ни один здравомыслящий человек не станет отрицать, что рост свобод женщин на протяжении прошлого столетия неимоверно обогатил человеческую жизнь.
Тем больше причин не дать себя сбить с пути истинного эмоционально заряженными, но не имеющими отношения к нравственности ложными маневрами. Науки о человеческой природе могут укрепить интересы женщин, отделив эти фальшивки от по-настоящему важных целей. Феминизм как движение за политическое и социальное равенство важен, но феминизм как университетская клика, верная эксцентричным доктринам о человеческой природе, — нет. Ликвидировать дискриминацию женщин — важно, но верить, что мужской и женский ум одинаковы от природы, — нет. Свобода выбора необходима, но гарантия, что во всех профессиях будет ровно 50 %, не нужна. И избавиться от сексуального насилия важно, но продвигать теорию, что насильники выполняют свою роль во всемирном мужском заговоре, — нет.
Глава 19. Дети
«Спор о роли природы и воспитания окончен» — этими словами начинается опубликованная некоторое время назад статья, заголовок которой — «Три закона поведенческой генетики и что они означают» — так же дерзок, как и первое предложение[1]. Конечно, дискуссия о роли наследственности и среды далека от завершения, когда дело касается основной темы предыдущих глав этой книги — общего для всех людей дара познания и понимания того, как он позволяет нам учиться. Но если речь идет о том, что делает людей, принадлежащих к общей культуре, разными — более умными или глупыми, милыми или неприятными, раскованными или застенчивыми, то продолжавшиеся тысячелетиями дебаты «природа или воспитание» действительно закрыты или, по крайней мере, должны быть закрыты.
Заявление психолога Эрика Туркхеймера, что спор окончен, не просто традиционный прием привлечения внимания, вроде того что используют дрессировщики мулов, когда бьют своих подопечных палкой по голове. Туркхеймер обобщил несметное количество эмпирических результатов, необычайно надежных по стандартам психологии. Они воспроизводились на протяжении четырех десятилетий во множестве исследований в разных странах. Росли размеры выборок (часто до десятков тысяч испытуемых), совершенствовались инструменты, исправлялись недостатки, но результаты оставались неизменными, словно звездно-полосатый флаг.
Три закона поведенческой генетики, вероятно, самое важное открытие в истории психологии. При этом большинство психологов все еще не осознают их значения, а большинство интеллектуалов их не поняли даже после того, как их объяснению были посвящены журнальные передовицы. И не потому, что эти законы абстрактны: каждый из них можно сформулировать обычным предложением, без всякой математики. Скорее дело в том, что эти законы ни во что не ставят концепцию «чистого листа», которая так прочно укоренилась, что многие интеллектуалы просто не в состоянии постичьальтернативную гипотезу, а уж тем более рассуждать, верна она или нет.
Вот эти три закона:
• Первый закон: все поведенческие признаки людей наследуются.
• Второй закон: эффект воспитания в одной семье меньше, чем влияние генов.
• Третий закон: значительная часть вариабельности людей по сложным поведенческим признакам не объясняется ни генами, ни влиянием семьи.
Эти законы рассказывают о том, что делает нас такими, какие мы есть (по сравнению с соотечественниками), и, значит, о тех силах, которые влияли на нас в детстве — на том этапе жизни, когда, как считается, формируется наш интеллект и личность. «Куда веточка гнется, туда и дерево клонится», — писал Александр Поуп. «Дитя — первопричина человека», — писал Вордсворт, вторя милтоновской фразе: «Мы в детстве можем человека угадать, как день угадываем поутру». Иезуиты говорили: «Отдайте мне ребенка на первые семь лет, и я верну вам человека», и этот девиз стал эпиграфом к документальному сериалу Майкла Аптеда, в котором показана жизнь нескольких британских детей с перерывами в семь лет (Seven Up, Fourteen Up и т. д.). В этой главе я познакомлю вас с тремя законами и выясню, что они значат для природы и воспитания.
* * *
Первый закон. Все поведенческие признаки людей наследуются. Начнем с самого начала. Что такое «поведенческий признак»? Согласно многим исследованиям, это стабильное свойство человека, которое можно измерить стандартизированными психологическими тестами. В тестах на интеллект требуется назвать ряд чисел в обратном порядке, дать определения словам типа «сопротивляющийся» или «раскаяние», определить, что общего у яйца и зерна, составить квадрат из четырех треугольников и продолжить последовательность геометрических узоров. В личностных тестах испытуемых просят согласиться или не согласиться с утверждениями вроде: «Я часто перехожу на другую сторону улицы, чтобы не встретить кого-то из знакомых»; «Я не виню человека, если он воспользовался слабостью того, кто сам подставился»; «Прежде чем сделать что-то, я пытаюсь представить, как на это отреагируют мои друзья»; или «Люди говорят обо мне грубые и оскорбительные вещи». Выглядит мудрено, но валидность этих тестов полностью доказана: они дают практически одинаковые результаты при повторных тестированиях и довольно точно статистически предсказывают то, что и должны предсказывать. Тесты IQ прогнозируют успехи в учебе и в профессии, личностный профиль совпадает с суждениями других людей о человеке и подтверждается событиями его жизни, такими как психиатрические диагнозы, стабильность брака и конфликты с законом[2].
В других исследованиях поведение документируется непосредственно. Студенты магистратуры проводят время на школьном дворе с таймерами и планшетами, наблюдая за поведением детей. Ученики оцениваются учителями по степени агрессивности, и по этим данным вычисляются средние значения. Люди сообщают, сколько времени они посвящают просмотру телевизора и сколько сигарет выкуривают. Исследователи сверяют стандартизированные данные — итоговые школьные оценки, судимости и разводы.
Когда измерения сделаны, можно подсчитать дисперсию выборки: среднеквадратичное отклонение данных каждого испытуемого от среднего значения по группе. Дисперсия — это число, которое отражает степень отличия членов группы друг от друга. Например, дисперсия по весу в выборке лабрадоров-ретриверов будет меньше, чем дисперсия по весу в выборке, которая содержит собак разных пород. Дисперсию можно разделить на доли. Можно придать точный математический смысл утверждению о том, что определенная процентная доля дисперсии сопровождается некоторым фактором (который возможно, но не обязательно является причиной отклонения от среднего значения в данном случае); другая доля дисперсии сопровождается другим фактором и т. д. вплоть до суммы в 100 %. Степень совпадения каждой доли дисперсии с соответствующим фактором может быть измерена как коэффициент корреляции, то есть число от –1 до +1, которое отражает степень того, насколько люди, имеющие высокий показатель по одному параметру, имеют высокий показатель и по некоторому другому параметру. Коэффициент корреляции используется в поведенческой генетике в качестве оценки доли отклонений, связанных с определенным показателем[3].
Наследуемость — это доля отклонения от среднего значения некоторого признака, которая коррелирует с генетическими различиями. Ее можно измерить несколькими способами[4]. Самый простой — найти корреляцию между идентичными близнецами, разлученными при рождении и выросшими отдельно. Все гены у них одинаковые, а внешняя среда совершенно разная (относительно вариации среды в выборке), так что любая корреляция между ними должна отражать влияние генов. Второй способ — сравнить идентичных близнецов, выросших вместе, у которых общие гены и по большей части одинаковые условия, с неидентичными близнецами, выросшими вместе, которые делят только половину генов и бо́льшую часть среды (точнее, они делят половину генов, которые отличаются у людей в выборке: очевидно, что, кроме того они делят все универсальные гены, свойственные каждому представителю нашего вида). Если корреляция выше для пар идентичных близнецов, это предположительно отражает эффект дополнительных общих генов. Чем больше разница между двумя корреляциями, тем выше оценка наследуемости. Есть и еще один метод — сравнить биологических братьев и сестер, которые делят половину генов и бо́льшую часть окружения, с приемными, у которых вообще нет общих генов (кроме универсальных), но бо́льшая часть внешних факторов общая.
Результаты всегда получаются примерно одинаковыми, независимо от того, что измерялось и как измерялось. Идентичные близнецы, выросшие отдельно, очень похожи; идентичные близнецы, выросшие вместе, похожи больше, чем неидентичные близнецы, выросшие вместе; биологические братья и сестры похожи гораздо больше, чем приемные[5]. Такие наблюдения дают значимую величину коэффициента наследуемости, который обычно находится в промежутке от 0,25 до 0,75. Как правило, из этих наблюдений делают вывод о том, что около половины различий в интеллектуальных способностях, личных качествах и достижений в жизни объясняется наследственностью, то есть представляет собой коррелят или непрямой эффект генов. Провести более точную оценку трудно, поскольку внутри этих границ оценки наследуемости могут получаться разными сразу по нескольким причинам[6]. Одна причина состоит в том, что погрешность измерений (фоновые случайные помехи) можно либо включать в измеряемую дисперсию, либо исключать ее из рассмотрения с помощью подходящей оценки. Другая причина в том, что можно учитывать либо все генетические эффекты, либо только аддитивные эффекты, то есть те, которые оказывают одинаковое влияние независимо от других генов (другими словами, гены, которые действительно передают признак потомству). В-третьих, оценка наследуемости зависит от исходной величины дисперсии в выборке: выборки из однородной среды дают более высокую оценку наследуемости, из неоднородной — более низкую. В-четвертых, результат зависит от того, на каком этапе жизни человека измеряется признак. Наследуемость интеллекта, например, с возрастом усиливается, и в конце жизни может достигать 0,87. Забудьте выражение «Куда веточка гнется», вспомните «О боже, я превращаюсь в своих родителей!».
Сказать, что все признаки наследуются, — это, конечно, преувеличение, хотя и небольшое[8]. Практические поведенческие признаки, которые явно определяются содержанием культуры или домашним укладом, конечно, не наследуются вовсе: на каком языке вы говорите, какую религию исповедуете, к какой политической партии принадлежите. Но поведенческие черты, отражающие лежащие в их основе таланты и темперамент, по наследству передаются: насколько искусно вы владеете языком, насколько религиозны, насколько либеральны или консервативны. Наследуются общий интеллект и пять основных личностных факторов, которыми люди отличаются друг от друга: (по-английски обобщенные в акрониме OCEAN): открытость опыту, добросовестность, экстраверсия-интроверсия, доброжелательность-враждебность и невротизм. И даже более специфические признаки, как ни удивительно, тоже наследуются, например никотиновая или алкогольная зависимость, количество часов, проводимых перед телевизором, и вероятность развода. В довершение ко всему есть еще идентичные близнецы, разлученные при рождении, которые оба руководят добровольными пожарными дружинами, одинаково крутят цепочку на шее, отвечая на вопросы, или те двое, что сказали исследователю, по отдельности подвозившему их из аэропорта, что подшипник колеса в его машине нужно заменить.
Однажды я смотрел интервью, в котором Марлона Брандо спросили о том, что в его детстве повлияло на выбор профессии. Он ответил, что идентичные близнецы, разлученные при рождении, могут пользоваться одним и тем же тоником для волос, курить одинаковые сигареты, отдыхать на одном и том же побережье и т. д. Интервьюер Конни Чанг изобразила зевок, словно на скучной лекции, не поняв, что он отвечает на ее вопрос — или, точнее, объясняет, почему он не может на него ответить. Так как наследуемость талантов и вкусов не равна нулю, никто из нас не может знать, что повлияло на какую-то нашу черту — гены, детский опыт, и то и другое, или ни то ни другое. Чанг не одинока в своей неспособности понять это. Первый закон подразумевает, что любое исследование, которое измеряет что-то в родителях и их биологических детях и затем делает выводы о роли родительского воспитания, ничего не стоит, потому что корреляции могут просто отражать влияние их общих генов (агрессивные родители могут произвести на свет агрессивных детей, общительные — общительных). Но эти дорогостоящие исследования продолжают проводиться, а сделанные выводы затем перекочевывают в советы по воспитанию, как если бы наследуемость всех признаков была нулевой. Возможно, нам стоило доверить Марлону Брандо решения о выделении грантов.
У поведенческой генетики есть критики, которые пытаются отыскать альтернативные толкования первого закона. Вероятно, дети, разделенные при рождении, специально были помещены в похожие приемные семьи. Вероятно, они контактировали друг с другом раньше. Вероятно, родители ожидают, что идентичные близнецы будут больше похожи друг на друга, и поэтому относятся к ним одинаково. У близнецов общая утроба, а не только гены, а идентичные близнецы делят еще и хорион (мембрану, окружающую эмбрион), и плаценту. Возможно, более похожими их делает внутриутробный опыт, а не общие гены.
Эти предположения были проверены, и, хотя в некоторых случаях они могут снизить показатель наследуемости на несколько пунктов, существенно уменьшить его они не способны[9]. Были измерены характеристики приемных родителей и семейного уклада (образование, социоэкономический статус, личностные свойства и т. д.), и они оказались недостаточно однородны, чтобы сформировать у идентичных близнецов одинаковые личностные качества и темпераменты[10]. Идентичным близнецам не ставят клеймо на ухо, чтобы потом поместить в семьи, где их будут одинаково поощрять крутить шейную цепочку или чихать в лифте. Еще важнее то, что семьи идентичных близнецов, разлученных при рождении, похожи не больше, чем семьи неидентичных близнецов, разлученных при рождении, но идентичные близнецы похожи гораздо сильнее[11]. И самое главное, особенности домашней обстановки все равно не приводят к различиям в интеллекте и личностных особенностях выросших детей (что мы узнаем, исследуя второй закон), так что эти аргументы несостоятельны.
Что же касается контактов между разлученными близнецами, маловероятно, чтобы случайная встреча двух людей могла бы перекроить их личности и интеллект, но в любом случае оказалось, что число контактов не коррелирует с уровнем сходства близнецов[12]. А как насчет ожиданий родителей, друзей и ровесников? Проверить это предположение помогают идентичные близнецы, которые считались неидентичными, пока генетический тест не доказал обратное. Если ожидания — это именно то, что делает идентичных близнецов похожими, такие близнецы не должны быть похожи; а если дело в генах, то должны. На самом деле эти близнецы похожи так же, как похожи близнецы, родители которых знают, что они идентичные[13]. И показатели, насколько одинаково относятся родители к близнецам, не коррелируют с тем, насколько они похожи по темпераменту и личностным чертам[14]. Если уж на то пошло, общая плацента может сделать идентичных близнецов и более отличающимися, а не только более похожими (поскольку один близнец может потеснить другого), вот почему исследования показали малый или нулевой устойчивый эффект общей плаценты[15]. Но даже если бы она делала их более похожими, коэффициент наследуемости снизился бы не намного. Как заметил поведенческий генетик Мэтт Макгу по поводу недавней математической модели, в которой пытались использовать пренатальные эффекты, чтобы снизить оценки наследуемости, насколько это возможно: «То, что дебаты по поводу IQ теперь фокусируются на том, наследуется интеллект на 50 % или на 70 %, ярко демонстрирует, как изменился характер дискуссии о природе и воспитании за последние два десятилетия»[16]. В любом случае исследования, сравнивающие приемных братьев и сестер с биологическими, вообще не изучают близнецов, но они приходят к тем же выводам, что и близнецовые исследования, так что никакие особенности близнецов не опровергнут первый закон.
Методам поведенческой генетики свойственны три неотъемлемых ограничения. Во-первых, исследования близнецов, родных и приемных детей могут объяснить, что делает людей разными, но не могут объяснить, что делает их похожими, а именно универсальную человеческую природу. Из того, что наследуемость интеллекта равна 0,5, например, не следует, что половина интеллекта личности унаследована (что бы это ни значило); это предполагает только, что наследуется половина различий между людьми. Изучение патологических процессов, таких как те, что обсуждались в главах 3 и 4, может пролить свет на универсальную человеческую природу, но это отдельная тема и в рамках этой главы не рассматривается.
Во-вторых, методы поведенческой генетики исследуют различия внутри изучаемой группы людей, а не различия между группами. Если все близнецы или усыновленные дети в выборке — белые американцы, принадлежащие к среднему классу, оценка наследуемости может рассказать о том, почему белые американцы среднего класса отличаются от других белых американцев той же социальной страты, но не о том, почему средний класс отличается от высшего или низшего класса, почему американцы отличаются от неамериканцев или почему белые отличаются от азиатов или чернокожих.
В-третьих, методы поведенческой генетики могут показать только, что какие-то признаки коррелируют с генами, а не то, что они обусловлены ими. Эти методы не могут отделить черты, которые представляют собой сравнительно прямой продукт генов — результат действия генов, влияющих на нейронные связи или на метаболизм мозга, — от черт, которые являются продуктом их косвенного влияния, например, представляют собой результат обладания генами определенной внешности. Мы знаем, что высокие мужчины в среднем быстрее продвигаются по службе, чем низкорослые, и что привлекательные люди в среднем более настойчивы и уверены в себе, чем непривлекательные[17]. (В одном эксперименте испытуемые, проходившие притворное собеседование, должны были терять время на ожидание, когда интервьюера намеренно вызвали из комнаты. Испытуемые с обычной внешностью ждали девять минут, прежде чем пожаловаться, привлекательные — три минуты двадцать секунд[18].) По-видимому, люди пасуют перед высокими и привлекательными, что делает тех более успешными и уверенными в себе. Рост и внешность определенно наследуются, так что, если не знать об эффекте внешности, мы могли бы подумать, что успех этих людей прямо вызван генами, кодирующими амбиции и уверенность в себе, а не вытекает косвенно из генов, отвечающих за длинные ноги или симпатичный носик. Мораль такова: наследуемость всегда следует интерпретировать в свете всех имеющихся свидетельств; у нее нет каких-либо видимых опознавательных знаков. Как уже было сказано, мы знаем, что наследуемость личностных черт на самом деле не может быть сведена к генам внешности. Влияние внешности на личность мало и ограниченно; несмотря на шутки о блондинках, не все привлекательные женщины тщеславны и заносчивы. Наследуемость личностных черт, напротив, повсеместна и слишком велика, чтобы считать ее побочным продуктом внешности[19]. Как мы видели в главе 3, в некоторых случаях личностные черты можно связать с конкретными генами, кодирующими конкретные белки в нервной системе. Вероятно, с завершением проекта «Геном человека» генетики начнут находить все больше таких связей.
Первый закон — головная боль для радикальных ученых, которые безуспешно пытались дискредитировать его. В 1974 году Леон Камин написал, что «не существует данных, которые могли бы заставить рассудительного человека согласиться с гипотезой, будто баллы тестов IQ каким-то образом наследуются» — умозаключение, которое вместе с Левонтином и Роузом он повторял и 10 лет спустя[20]. Даже для 70-х этот довод был лицемерным, но уже к 1980-м он стал попросту жалок, а сегодня превратился в исторический курьез[21]. Как обычно, нападки на генетику не всегда представляли собой бесстрастный научный анализ. Томас Бушар руководил первым крупномасштабным исследованием разлученных близнецов, это один из пионеров изучения генетики личности. Активисты из кампуса Миннесотского университета распространяли листовки, в которых называли его расистом и связывали с «германским фашизмом», писали на стенах лозунги, объявлявшие Бушара нацистом, и требовали, чтобы его уволили. Психолог Барри Мехлер обвинил Бушара в «реконструкции» деятельности Джозефа Менгеле, доктора, который, прикрываясь научными целями, пытал близнецов в нацистских концлагерях. Как обычно, обвинения были несправедливы не только с научной точки зрения, но и в оценке личности: Бушар вовсе не был фашистом, он был членом движения за свободу слова в Беркли в 1960-х, даже ненадолго попал в тюрьму за свой активизм и говорит, что и сегодня поступил бы так же[22].
Эти нападки чисто политические, и их легко можно не принимать во внимание. Более вредоносен способ, которым первый закон обычно интерпретируется: «Итак, вы говорите, что все дело в генах» или, более агрессивно: «Генетический детерминизм!» Я уже комментировал эту странную реакцию: когда дело касается генов, люди внезапно теряют способность различать 50 % и 100 %, «некоторые» и «все», «влияет» и «определяет». Смысл этих интеллектуальных искажений ясен: если по религиозным причинам влияние генов должно быть равно нулю, все ненулевые значения будут равно еретическими.
Но самое пагубное следствие «чистого листа» не в том, что люди не понимают влияния генов. Оно в том, что люди не понимают влияния среды.
* * *
Второй закон. Эффект воспитания в одной и той же семье меньше, чем влияние генов. Теперь вы уже понимаете, что гены играют свою роль, делая нас отличающимися от соседей, и что наше окружение играет свою, равно важную роль. К этому моменту все пришли к такому заключению. Мы сформированы как генами, так и семейным воспитанием: тем, как к нам относились родители и в какой семье мы росли.
Но не торопитесь. Поведенческая генетика различает два очень разных аспекта влияния среды[23]. Есть общая среда — то, что влияет на нас и наших братьев и сестер одинаково: родители, домашний уклад, социальное окружение (по сравнению с другими родителями и другим окружением в выборке). И есть уникальная, индивидуальная среда — все, что влияет на одного ребенка в семье, но не влияет на других, в том числе родительские предпочтения («Мама всегда любила тебя больше»), присутствие других детей, уникальный опыт вроде падения с велосипеда или перенесенной болезни, и в этом смысле все, что случается в течение жизни с нами, но не обязательно с нашими братьями и сестрами.
Влияние общей среды может быть измерено в близнецовых исследованиях путем вычитания величины наследуемости из корреляции между идентичными близнецами. Смысл в том, что идентичные близнецы похожи (величина корреляции) из-за общих генов (величина наследуемости) и общей среды, так что влияние общей среды можно узнать, вычитая наследуемость из корреляции. С другой стороны, эффект общей среды можно оценить, просто посмотрев на корреляцию между двумя приемными детьми: у них нет общих генов, так что любые их сходства (относительно выборки) должны быть результатом общего опыта жизни в одном доме. Третий способ — сравнить корреляцию между детьми, выросшими вместе (у которых общие гены и домашнее окружение), с корреляцией между братьями и сестрами, выросшими отдельно (у которых общие только гены).
Влияние индивидуальной среды измеряется вычитанием корреляции между идентичными близнецами (у которых общие гены и среда) из единицы (сумма влияния генов, общей и уникальной среды). По той же логике измерить его в исследованиях приемных детей можно, вычитая из единицы величину наследуемости и оценку общей среды. На практике все эти вычисления сложнее, потому что необходимо еще учитывать неаддитивные эффекты в случаях, когда целое не равно сумме частей, а также ошибки измерений. Но общая логика теперь вам понятна.
Так что же мы узнали? Эффект общей среды невелик (меньше 10 % дисперсии), часто статистически незначим, часто невоспроизводим в других исследованиях и часто равен большому жирному нулю[24]. Туркхеймер осторожничал, говоря, что эффект общей среды меньше эффекта генов. Многие из поведенческих генетиков идут дальше и говорят, что он ничтожен, особенно во взрослом возрасте. (Общая среда влияет на IQ в детстве, но спустя годы эффект сходит на нет.)
Из чего следуют эти выводы? Настоящие открытия легко понять. Первое: взрослые братья и сестры одинаково похожи друг на друга независимо от того, росли они вместе или по отдельности. Второе: приемные дети похожи друг на друга не больше, чем два выбранных наугад человека на улице. И третье: идентичные близнецы похожи не больше, чем можно ожидать, учитывая только их общие гены. Как и в случае с первым законом, абсолютное постоянство результатов, полученных каждым из трех совершенно разных методов (сравнение идентичных близнецов с неидентичными, сиблингов, выросших вместе и отдельно, приемных детей с биологическими), заставляет сделать вывод, что эта закономерность реальна. Общий опыт жизни детей в одной семье практически не влияет на то, какими людьми они станут, когда вырастут.
Важная оговорка: различия между домашними укладами не имеют значения внутри выборки семей, попавших в эти исследования (а они, как правило, чаще принадлежат к среднему классу), и не представляют популяцию в целом. Но разница между этими выборками и другими видами семей может быть важной. В исследованиях не рассматриваются случаи преступного пренебрежения, физического или сексуального насилия, воспитания в безрадостных приютах, так что нельзя утверждать, что такие экстремальные ситуации не оставляют шрамов. К тому же эти исследования ничего не могут сообщить о разнице между культурами — о том, почему ребенок американского среднего класса отличается от воина яномамо, или тибетского монаха, или даже от члена городской уличной банды. В общем, если выборка производится из ограниченного круга семей, влияние семей, принадлежащих к более широкой совокупности, может быть недооценено[25].
Несмотря на эти возражения, важность второго закона ни в коем случае нельзя недооценивать. К «среднему классу» (к которому принадлежит большинство приемных родителей) могут относиться семьи, ведущие самый разный образ жизни, с самым разным домашним укладом и философией воспитания: от христиан-фундаменталистов в отдаленных районах Среднего Запада до врачей-евреев, живущих на Манхэттене. Поведенческие генетики обнаружили, что в действительности в их выборки попадают родители, представляющие полный диапазон существующих типов личности. И даже если приемные родители в каком-то смысле не репрезентативны, второму закону это ничем не грозит, потому что он проявляет себя и в крупных близнецовых исследованиях[26]. Хотя выборки приемных родителей охватывают более узкий диапазон значений IQ (выше, чем в популяции в целом), это не объясняет, почему IQ их выросших детей не коррелируют, хотя, когда дети были маленькими, корреляция существовала[27]. Перед тем как рассмотреть революционные следствия этих открытий, давайте обратимся к третьему закону.
Третий закон. Значительная часть различий между людьми по сложным поведенческим признакам не объясняется ни генами, ни влиянием семьи. Это утверждение прямо вытекает из первого (учитывая, что наследуемость меньше единицы) и второго закона. Разделим все индивидуальные признаки людей на те, которые определяются генетикой, те, которые определяются семейной средой, и те, которые определяются индивидуальной средой. Если вклад генетических эффектов больше нуля и меньше единицы, а вклад семейной среды близок к нулю, то вклад индивидуальной средыдолжен отличаться от нуля. На самом деле вклад индивидуальной среды равен примерно 50 % — как всегда, в зависимости от того, что измеряется и как именно оно оценивается. По сути, это значит, что идентичные близнецы, выросшие вместе (у которых общие гены и семейное окружение), далеко не идентичны в интеллекте и личностных чертах. Следовательно, должны существовать какие-то причины — не генетические и не общесемейные, — которые делают идентичных близнецов разными и вообще делают людей такими, какие они есть[28]. Как в песне Боба Дилана про мистера Джонса — тут что-то происходит, но мы не знаем, что именно.
Для простоты можно сказать так: гены — 50 %, общая среда — 0 %, индивидуальная среда — 50 % (или, если мы не хотим быть категоричными, гены — 40–50 %, общая среда — 0–10 %, индивидуальная среда — 50 %). Вот простой способ запомнить то, что мы здесь пытаемся объяснить: идентичные близнецы похожи на 50 % независимо от того, растут они вместе или отдельно. Не забывайте об этом и давайте посмотрим, что произойдет с вашими любимыми идеями о влиянии воспитания в детстве.
* * *
Хотя поведенческие генетики знали о наследуемости черт психики (первый закон) десятилетиями, потребовалось время, чтобы осознать отсутствие эффекта общей среды (второй закон) и значительное влияние индивидуальной среды (третий закон). Роберт Пломин и Дениз Дэниелс впервые забили тревогу в 1987 году в статье, названной «Почему дети одной семьи так отличаются друг от друга?». На загадочность этого явления обратили внимание и другие поведенческие генетики — Томас Бушар, Сандра Скарр и Дэвид Ликкен, а потом, в 1994 году, оно оказалось в центре внимания Дэвида Роува в его книге «Пределы влияния семьи» (The Limits of Family Influence). Головоломка вдохновила и историка Фрэнка Саллоуэя, который в 1996 году написал широко обсуждаемую книгу, посвященную связи «порядкового номера» ребенка в семье и революционного темперамента, — «Рожденный бунтовать» (Born to Rebel). Тем не менее тогда вряд ли кто-то, кроме специалистов по поведенческой генетике, действительно оценил значение второго и третьего законов.
Дело запахло керосином в 1998 году, когда Джудит Рич Харрис, независимый исследователь (которую пресса тут же окрестила «бабушкой из Нью-Джерси»), опубликовала книгу «Предпосылка воспитания». Заголовок, вынесенный на обложку Newsweek, поставил вопрос ребром: «Важны ли родители? Жаркие споры о развитии детей». Харрис вывела три закона из научных журналов и попыталась заставить людей осознать их последствия: бытовые представления о воспитании детей равно ошибочны и у экспертов, и у обычных людей.
Руссо сделал родителей и детей главными действующими лицами человеческой драмы[29]. Дети — «благородные дикари», а воспитание и образование может или помочь расцвести их природной сути, или обременить их багажом пороков цивилизации. В центре внимания трактовок «чистого листа» и «благородного дикаря» в XX веке — родители и дети. Бихевиористы заявляли, что детей формируют случайные обстоятельства, влияние которых усиливается реакцией родителей. Поэтому они советовали родителям не обращать внимания на слезы своих детей, потому что это только вознаградит их плач и увеличит частоту истерик. Фрейдисты выдвинули теорию, что на наше формирование влияют успешность отлучения от груди, приучения к туалету и идентификации с родителем того же пола, и советовали родителям не брать малышей к себе в постель, так как это может возбуждать в них травмирующие сексуальные желания. Все подряд развивали теории, что вина за психологические расстройства детей лежит на матерях: причина аутизма — в их холодности, шизофрении — в «двойных посланиях», анорексии — в давлении на дочерей, чтобы те стали идеальными. В низкой самооценке ребенка обвинялись «токсичные родители», а во всех остальных проблемах — «дисфункциональные семьи». Пациенты всякого рода психотерапевтов проводили свои 50 минут, оживляя детские конфликты, и большая часть биографий изучалась через призму поиска детских корней взрослых трагедий и триумфов.
Сегодня большинство образованных родителей верят, что судьба их детей в их руках. Они хотят, чтобы их дети были популярными и уверенными в себе, получали хорошие оценки, не бросили школу, избегали наркотиков, алкоголя и сигарет, не забеременели и не зачали ребенка в подростковом возрасте, не нарушали закон, счастливо женились или вышли замуж и добились профессионального успеха. Череда экспертов по воспитанию обеспечивала родителей противоречивыми советами: их содержание постоянно менялось, но одно оставалось неизменным — уверенность, что именно так можно достичь нужного результата. Вот сегодняшний рецепт успеха: родители должны стимулировать развитие младенцев с помощью ярких игрушек и разнообразных впечатлений («Вынесите их из дома. Дайте им потрогать кору деревьев», — советовал детский врач, сидевший рядом со мной на утреннем телешоу). Чтобы ускорить развитие речи, они должны читать детям книги и как можно больше разговаривать с ними. Они должны как можно больше общаться и взаимодействовать с детьми всех возрастов, и никакого количества времени для этого не будет слишком много. («Качественное время», идея, что работающие родители могут насыщенно проводить с детьми час между ужином и сном, чтобы наверстать то, что упустили, проведя весь день на работе, быстро стала национальной шуткой; это стали рассматривать как самооправдание со стороны матерей, не желающих признать, что их карьера мешает благополучию детей.) Родители должны устанавливать твердые, но разумные границы, не муштровать своих детей, но и не разрешать им все подряд. Физические наказания любых видов запрещены, потому что они запускают новый цикл насилия. Не должны родители и унижать своих детей или говорить, что они плохие, потому что это разрушает их самооценку. Напротив, они должны как можно чаще обнимать их и давать безусловные подтверждения любви и одобрения. Еще родители обязаны активно общаться со своими детьми-подростками и интересоваться каждой стороной их жизни.
Некоторые родители начали сомневаться в непреложности требования становиться круглосуточными воспитательными автоматами. Журнал Newsweek недавно посвятил выпуск этой проблеме — статья под названием «Родительская ловушка» рассказывает о запутавшихся отцах и матерях, которые отдают каждую свободную минутку развлечению детей, лично возят их в школу и на дополнительные занятия из страха, что иначе те вырастут ленивыми и испорченными или однажды ворвутся с винтовкой в школьную столовую. Похожая статья в Boston Globe Magazine под заголовком «Как вырастить идеального ребенка» развивает тему:
«Я сыта по горло советами по воспитанию, — говорит Элис Келли из Ньютона. — Я прочла все о том, как должна обеспечивать своих детей обогащенной игровой средой. Ожидается, что я должна много заниматься с ними спортом, чтобы привить им привычку к физкультуре, чтобы они выросли здоровыми и крепкими. И я должна играть с ними в разнообразные интеллектуальные игры, чтобы они выросли умными. Но, кроме этого, существует еще масса игр, и предполагается, что я буду заниматься с ними всем — пластилин для ловкости пальцев, игры в слова для обучения чтению, игры для крупной моторики, игры для мелкой моторики. Мне кажется, что я должна посвятить свою жизнь размышлениям, во что бы еще поиграть с детьми».
Элизабет Вард, диетолог из Стоунхема, озадачилась вопросом, почему родители «соглашаются быть поварами быстрого питания и готовить два или три блюда одновременно» в попытках угодить детям… [Одна из причин] — представление, что, если заставлять ребенка есть то, что на столе, или пропустить прием пищи, это приведет к нарушениям питания — мысль, которая, вероятно, никогда не приходила в голову родителям в предыдущие десятилетия[30].
Юморист Дэйв Барри так комментирует советы экспертов родителям подростков:
Вдобавок к обязанности присматриваться к предупредительным сигналам вы должны «поддерживать открытую коммуникацию» между вами и ребенком. Не забывайте проявлять интерес к вещам, которыми интересуется ваш ребенок, чтобы установить с ним контакт, вот как в этом диалоге:
Отец: Что за музыку ты слушаешь, сынок?
Сын: Это группа называется Limp Bizkit, папа.
Отец: Полный отстой.
…Вы должны бороться за близость такого рода в отношениях с ребенком. И запомните: у родителей нет более мощного средства в трудной ситуации, чем крепкое объятие. Если вы чувствуете, что ваш ребенок попал в неприятности, вы должны крепко обнять его, желательно прилюдно, там, где это увидит толпа его ровесников, и громко, отчетливо произнести: «Ты мой сладкий малыш, и я люблю тебя, что бы ни произошло!» Это так смутит вашего ребенка, что он или она будет готов немедленно сбежать и присоединиться к строгому религиозному ордену, члены которого питаются исключительно песком. Если одного объятия недостаточно, пригрозите ребенку вторым[31].
Шутки в сторону, но, возможно, советы экспертов разумны? Наверное, родительская ловушка — это побочный эффект того, что ученые узнают все больше о влиянии воспитания. Родителей можно понять, когда они выкраивают время для себя, но, если эксперты правы, родители должны осознавать, что каждое такое решение — это компромисс.
Итак, что же на самом деле мы знаем о долгосрочных эффектах воспитания? Возможность выяснить это дают различия между родителями — материал, с которым работают поведенческие генетики. В любой крупной выборке семей родители отличаются друг от друга тем, насколько они придерживаются идеалов воспитания (если бы все следовали им неукоснительно, не было бы смысла давать родителям советы). Одни матери сидят дома, другие — трудоголики. Одни родители теряют самообладание, другие бесконечно терпеливы. Одни словоохотливы, другие молчаливы. Одни не скрывают своих эмоций, другие более сдержанны. (Как сказала мне одна профессорша, показывая фото своей малышки: «Мы буквально обожаем ее».) Одни дома наполнены книгами, в других бубнят телевизоры; одни пары воркуют, как голубки, другие воюют, как Мэгги и Джиггс . Одни матери похожи на Джун Кливер , другие или депрессивны, или истеричны, или безалаберны. По общепринятому мнению, эти отличия должны иметь значение. Как минимум двое детей, выросших вместе — с одной матерью, одним отцом, книгами, телевизорами и всем прочим, — должны в среднем оказаться более похожими, чем те, что выросли в разных домах. Посмотреть, так ли это, — самый очевидный и убедительный способ проверки. Это не зависит от каких-либо гипотез о том, что должны делать родители, чтобы изменить детей, и как дети будут на это реагировать. Это не зависит от того, насколько точно мы измеряем факторы домашней среды. Если хотя бы что-то, что делают родители, влияет на детей сколько-нибудь систематически, тогда дети, выросшие в одной семье, должны походить друг на друга больше, чем дети, выросшие в разных.
Но это не так. Вспомните открытия, лежащие в основе второго закона. Родные братья и сестры, выросшие вместе, похожи не больше, чем братья и сестры, разделенные при рождении. Приемные дети похожи друг на друга не больше, чем незнакомцы. И сходство между братьями и сестрами может быть полностью отнесено на счет их общих генов. Все эти различия между родителями и домашними укладами не имеют никакого предсказуемого долговременного влияния на личности их детей. Если называть вещи своими именами, бо́льшая часть советов, которые дают эксперты по воспитанию, — полная белиберда.
Но разве эти советы не основаны на изучении развития детей? Да, на множестве бесполезных исследований, которые показывают связь между поведением родителей и поведением их родных детей и заключают, что это воспитание сформировало ребенка, как если бы не существовало такой вещи, как наследственность. Но на самом деле все еще хуже. Даже если бы не существовало такой вещи, как наследственность, наличие корреляции между родителями и детьми еще не означало бы, что ребенка формируют воспитательные приемы. Это может подразумевать, что дети влияют на родительские воспитательные приемы[32]. Как знает любой родитель, у которого как минимум двое детей, это не одно и то же сырье, которому остается только придать форму. Это маленькие люди, и они уже родились личностями. А люди всегда реагируют на личность друг друга, даже если один из них — родитель, а другой — ребенок. Родитель привязчивого ребенка может отвечать ему взаимностью и будет вести себя не так, как ведут себя родители ребенка, который морщится и вытирает щеку после поцелуя. Родители молчаливого, витающего в облаках ребенка порой чувствуют, будто разговаривают со стенкой, и потому сами беседуют с ним меньше. Родителям послушного малыша может сойти с рук требование соблюдения твердых, но разумных границ, а родители хулигана однажды почувствуют, что у них лопнуло терпение, и либо установят в доме сверхжесткий порядок, либо сдадутся. Другими словами, корреляция — это еще не причинно-следственная связь. Наличие корреляции между родителями и детьми не означает, что родители влияют на детей; это может говорить о том, что дети влияют на родителей, что одни и те же гены влияют на родителей и детей или и то и другое вместе.
Дальше — больше. Во многих исследованиях одни и те же стороны (в одних исследованиях родители, в других — дети) предоставляют данные о поведении родителей и детей. Родители рассказывают экспериментатору, как они обращаются с детьми и какие у них дети, а подростки рассказывают, какие они и как с ними обращаются родители. Эти исследования — подозрительно — показывают намного более сильную корреляцию, чем те, в которой и родителей, и детей оценивает незаинтересованная третья сторона[33]. Проблема не только в том, что люди обычно смотрят на самих себя и на своих близких через одни и те же розовые или черные очки, но и в том, что отношения между родителями и детьми — это дорога с двусторонним движением. Харрис охарактеризовала проблему, когда комментировала исследование, которое широко освещалось в прессе в 1997 году. Авторы заявляли, основываясь исключительно на ответах подростков на вопросы о них и их семьях, что «наличие связи с родителями и семьей» — близость, высокие ожидания, привязанность — «защищает» подростков от таких бед, как наркотики, сигареты и незащищенный секс. Харрис пишет:
Счастливый человек обычно отмечает галочкой оптимистичные ответы на все вопросы: да, мои родители хорошо ко мне относятся; да, у меня все хорошо. Человек, который хочет явить миру социально приемлемый образ, отмечает социально приемлемые реакции: да, мои родители хорошо ко мне относятся; нет, я не встревал ни в какие драки и не курил ничего нелегального. Человек, который раздражен или подавлен, дает злые или депрессивные ответы: мои родители придурки, я провалил тест по алгебре и к черту ваш опросник…
Возможно, эти 18 федеральных агентств ошибочно думают, что они не зря потратили $25 млн, так как исследователи преподнесли свои открытия позитивно: хорошие отношения с родителями производят защитный эффект. Сформулированные в других (но столь же точных) выражениях результаты звучат менее интересно: если подростки не ладят с родителями, вероятность употребления ими наркотиков или занятий рискованным сексом повышается. Результаты звучат еще менее интересно, если изложены так: подростки, употребляющие наркотики и занимающиеся рискованным сексом, не ладят с родителями[34].
Тем не менее, когда исследователи адресуют вопросы не детям, а отцам и матерям, обнаруживается другая проблема. Люди в разных условиях ведут себя по-разному. Это относится и к детям, которые обычно дома себя ведут не так, как вне его. Так что, даже если поведение родителей действительно влияет на то, как их дети ведут себя с ними, оно может и не оказывать влияния на то, как их дети ведут себя с другими людьми. Когда родители характеризуют поведение своих детей, они описывают то, что видят дома. Следовательно, чтобы показать, что родители формируют своих детей, исследования должны контролировать гены (сравнивая близнецов и приемных детей), различать влияние родителей на детей и детей на родителей, оценивать родителей и детей отдельно, смотреть, как дети ведут себя за стенами дома, а не внутри его, и проверять детей старшего возраста и молодых взрослых, чтобы узнать, преходящи эти эффекты или долговременны. Ни одно исследование, утверждавшее, что оно демонстрирует эффекты воспитания, не соответствовало этим стандартам[35].
Если исследования поведенческой генетики не показывают долговременного влияния семьи, а исследования методов воспитания неинформативны, что же можно сказать об исследованиях, сравнивающих радикально отличные условия в детстве? Результаты снова неоднозначные. Десятилетия исследований показали, что при прочих равных условиях дети вырастают примерно такими же, работают их матери или сидят дома, посещают они ясли или нет, есть у них братья и сестры или нет, живут их родители в традиционном или в открытом браке, выросли они «в доме Оззи и Харриет» или в коммуне хиппи, планировалось ли их зачатие, было ли случайным, или вообще произошло в пробирке, одного пола их родители или разных[36].
Известно, что дети, выросшие без отца, чаще бросают школу, чаще становятся родителями в подростковом возрасте и реже вступают в брак. Но детство без отца может и не быть прямой причиной этих бед[37]. У детей с опытом, который должен бы заместить отсутствующего отца, — отчим, живущая в семье бабушка или частые контакты с родным отцом — результаты не лучше. Не влияет и количество лет, проведенных с отцом до того, как он оставил семью. Дети, чьи отцы умерли, не так обездолены, как те, чей отец ушел или с самого начала не участвовал в их жизни. Причиной подростковых проблем может быть не отсутствие отца, а совсем другое, например: бедность, социальное окружение, в котором много одиноких мужчин (де-факто живущих в многоженстве и, следовательно, агрессивно конкурирующих за статус), частые переезды (заставляющие детей начинать с самого низа неофициальной иерархии в новой группе ровесников) и гены, которые делают обоих — и отца, и ребенка — более импульсивными и неуживчивыми.
1990-е годы были объявлены «десятилетием мозга», и это было время, когда родителям говорили, что они несут ответственность за мозг своих детей. Первые три года жизни описывались как критическое окно возможностей, когда мозг ребенка необходимо постоянно стимулировать, чтобы он правильно развивался. Родителей детей с задержкой речевого развития обвиняли в том, что они недостаточно много с ними разговаривают; социальные болезни трущоб считались следствием того, что дети, живущие в них, вынуждены смотреть на голые стены. Чтобы узнать о результатах исследований, Билл и Хиллари Клинтон устроили в Белом доме конференцию, на которой миссис Клинтон сказала, что впечатления первых трех лет «могут определить, вырастет ребенок мирным или агрессивным гражданином, ответственным или недисциплинированным работником, внимательным или равнодушным родителем»[38]. Губернаторы штатов Джорджия и Миссури запросили у законодателей миллионы долларов, чтобы снабдить каждую новоиспеченную мать компакт-диском с музыкой Моцарта. (Они перепутали эксперименты по развитию мозга младенцев с экспериментами, — с тех пор развенчанными — безосновательно утверждавшими, что взрослым полезно по несколько минут в день слушать музыку Моцарта[39].) Педиатр и гуру по уходу за детьми Томас Берри Бразелтон выдвинул самое обнадеживающее предположение из всех: что надлежащая забота о ребенке в первые три года жизни убережет его от соблазна закурить в отрочестве[40].
В своей книге «Миф о первых трех годах» (The Myth of the First Three Years) эксперт по когнитивной нейронауке Джон Бруер показал, что у этих потрясающих заявлений нет никакого научного обоснования[41]. Ни один психолог не подтвердил какими-либо документами существование критического периода для развития мышления и языка, который заканчивался бы в три года. И хотядепривация животного, лишение его стимуляции (животному зашивают глаза или держат в пустой клетке) может повредить развитию его мозга, нет никаких свидетельств, что повышеннаястимуляция (сверх того, что организм получает в нормальной среде обитания) ускоряет развитие мозга.
Итак, ничто в исследованиях семейной среды не противоречит второму закону поведенческой генетики, который гласит: детство в конкретной семье мало или вообще никак системно не влияет на личность и интеллект. И это ставит нас перед умопомрачительной головоломкой. Нет, не все в генах; примерно половина своеобразия личности, интеллекта и поведения порождается чем-то в окружающей среде. Но что бы это ни было, оно не влияет одинаково на двух детей, растущих в одном доме с одними и теми же родителями, а значит, все очевидные причины исключены. Так что же это за неуловимый фактор мистера Джонса?
* * *
Отказываясь оставить родителей в покое, некоторые возрастные психологи отыскали последнюю возможность отдать им главную роль. Незначительность фактора общей среды говорит только о следующем: то, как родители обращаются со всеми своими детьми, не главная сила в их формировании. Но очевидно, что родители не относятся ко всем детям одинаково. Возможно, дело в индивидуальном родительском подходе, который матери и отцы адаптируют к каждому ребенку. На детей влияет взаимодействие между родителями и детьми, а не одна на всех родительская философия[42].
На первый взгляд выглядит разумно. Но когда задумываешься всерьез, понимаешь, что это все равно не возвращает главной роли в формировании детей ни родителям, ни советчикам-экспертам[43].
Как выглядит этот индивидуальный подход? Предположительно, родители приспосабливают свои методы воспитания к способностям и потребностям каждого ребенка. Упрямый ребенок заставит родителей установить более строгую дисциплину, чем послушный; робкого будут активнее защищать и ограждать, чем смелого. Но как мы обсуждали выше, проблема в том, что разницу в воспитании невозможно отделить от изначальной разницы между детьми. Если робкий ребенок вырастает робким взрослым, мы не знаем, было ли это результатом гиперопеки родителей или следствием того, что ребенок уже родился таким.
К тому же, как ни парадоксально, если ребенок действительно систематически влияет на то, как его воспитывают родители, это говорит о роли генов и вписывается в категории наследственности, а не индивидуальной среды. Причина в том, что наследуемость — это показатель корреляции и не может отделить прямые эффекты генов (протеинов, которые помогают мозгу устанавливать нейронные связи или активируют гормоны) от косвенных, действующих через множество звеньев. Я уже упоминал, что привлекательные люди более уверены в себе — предположительно благодаря тому, что окружающие заискивают перед ними. Это крайне непрямой эффект генов, и он мог бы сделать уверенность в себе наследуемой, даже если бы не существовало генов для самоуверенного мозга, а были бы только гены для фиалковых глаз, ради которых можно умереть. Точно так же, если дети с определенными врожденными особенностями делают своих родителей более терпеливыми, или подбадривающими, или строгими, тогда родительское терпение, ободрение и строгость также можно считать «наследуемыми». И если такой индивидуальный подход к детям действительно влияет на то, какими они вырастают, критик будет вправе сказать, что прямые эффекты генов переоценены, поскольку некоторые из них в действительности могут быть косвенным результатом воздействия генов ребенка на те его черты, которые влияют на поведение родителей, которое, в свою очередь, влияет на детей. (Гипотеза гротескная, и я скоро покажу, почему вряд ли она верна, но для целей аргументации давайте примем ее за основу.) Но и в этом случае эффекты воспитания будут бороться с другими генетическими эффектами (прямыми и непрямыми) за некоторую долю в этих 40 % или 50 % дисперсии, приписываемой генам. Те же 50 %, что приписываются различающимся факторам среды, по-прежнему будут не конкретизированы.
Вот что случится, если мы будем объяснять эффекты индивидуальной среды взаимодействием между родителями и детьми (используя слово «взаимодействие» в чисто статистическом смысле, единственно приемлемом для нашей загадки). Конкретный метод воспитания неизбежно влияет на одних детей так, а на других иначе, и эти два эффекта должны взаимно уравновешиваться. Например, одних детей отсутствие наказаний портит (делает их более агрессивными), а других учит, что насилие — это не решение (сделав их менее агрессивными). Демонстрация привязанности делает некоторых детей более любвеобильными (потому что они идентифицируют себя с родителями), а других — менее (потому что они настроены против родителей). Почему эти воздействия противоположны? Если бы какой-то метод воспитания в среднем влиял одинаково на всех детей, это выглядело бы как эффект общей среды. Приемные дети были бы одинаковы, сиблинги, выросшие вместе, больше походили бы друг на друга, чем те, что выросли порознь, — но ничего подобного не происходит. А если метод с успехом применялся к одним детям и от него отказались либо если он был неэффективен для других детей, это выглядело бы как эффект генов.
Проблемы с идеей детско-родительского взаимодействия теперь становятся очевидны. Невероятно, чтобы какой-то процесс воспитания мог так по-разному влиять на разных детей, чтобы сумма его эффектов (общая среда) была равна нулю. Если одни только объятия способны сделать некоторых детей более уверенными в себе и не влияют при этом на остальных, тогда у любителей пообниматься дети в среднем должны расти более уверенными в себе, чем у бесчувственных родителей (некоторые становятся более уверенными, а другие не меняются). Но при одних и тех же генах такого не наблюдается. (В специальных терминах, знакомых психологам, это можно сформулировать так: идеально пересекающееся взаимодействие, а именно взаимодействие без преобладающих эффектов, встречается крайне редко.) К тому же, кстати сказать, это одна из главных причин, почему наследственность сама по себе почти наверняка не может быть сведена к воспитанию, приспособленному к конкретному ребенку. Если только поведение родителей не полностью определяется врожденными чертами их детей, некоторые родители будут вести себя в чем-то отлично от всех других, что должно свидетельствовать об эффекте общей среды — который в действительности ничтожен.
Но предположим, что эти взаимодействия между родителями и детьми (в техническом смысле) действительно существуют и действительно формируют ребенка. Но тогда выходит, что советы, одинаковые для всех родителей, бесполезны. Одни и те же родительские попытки сделают некоторых детей лучше, стольких же испортят.
В любом случае теорию взаимодействия родителей и детей можно проверить непосредственно. Психологи могут измерить, как родители относятся к разным детям, растущим в одной семье, и посмотреть, коррелируют ли воспитательные методы с тем, какими вырастают дети (приняв генную составляющую за константу). Почти в каждом случае ответ — нет. Практически всю разницу воспитания внутри одной семьи можно объяснить как реакцию на врожденные генетические различия между детьми. И родительское поведение, не одинаковое по отношению к детям по причинам, не связанным с генами, — например, один ребенок провоцирует конфликт между родителями, а другой нет или больше родительских усилий направляется на воспитание одного ребенка, чем другого, — не имеет эффекта[44]. Руководитель недавнего отчаянного исследования, в котором надеялся доказать, что разница в воспитании влияет на то, какими становятся дети, признался, что был «шокирован» собственными результатами[45].
Существует еще один не имеющий отношения к генам аспект, способный сделать домашнюю среду разной для детей одной семьи: порядок рождения. У первенцев обычно есть несколько лет, когда им не приходится делить внимание родителей с надоедливыми братьями и сестрами. Последующим детям приходится конкурировать с сиблингами за родительское внимание и другие ресурсы семьи и придумывать, как отстоять свои интересы в борьбе с более сильными и опытными конкурентами.
В книге «Рожденные бунтовать» Саллоуэй предположил, что эти преимущества должны помочь первенцам стать более напористыми и независимыми[46]. И поскольку они идентифицируют себя с родителями и вполне довольны положением вещей, то вырастают более сознательными и консервативными. Последующие дети, напротив, должны быть более уступчивы и открыты новым идеям и опыту. Хотя и семейные терапевты, и обычные люди склонялись к подобным выводам уже давно, Саллоуэй попытался объяснить их с точки зрения теории Триверса о конфликте отцов и детей и его следствия — соперничества между сиблингами. Он нашел некоторое подтверждение своим идеям в метаанализе (количественном обзоре литературы) исследований о порядке рождения и свойствах личности[47].
Теория Саллоуэя, однако, к тому же предполагает, что вне дома — в общении со сверстниками и коллегами — дети должны использовать те же стратегии, что и дома, коль скоро они показали свою эффективность. Но это не следует из теории Триверса; на самом деле это противоречит более широкой теории эволюционной психологии, гласящей, что отношения с кровной родней должны кардинально отличаться от неродственных отношений. Тактики, которые работают с сиблингами или родителями, могут не оправдать себя с коллегами или незнакомцами. И действительно, последующий анализ показал, что все эффекты порядка рождения обнаруживаются в исследованиях, где сиблингов или родителей просят оценить друг друга или оценить себя применительно к сиблингу, что, конечно, может характеризовать только семейные отношения. Когда же личность оценивают нейтральные стороны, эффект порядка рождения уменьшается или исчезает[48]. Любые различия в воспитании первенцев и последующих детей — неопытные или опытные родители, частичное или неразделенное внимание, давление на ребенка, чтобы он не осрамил семью, или потакание ему — похоже, не оказывают сколько-нибудь значительного влияния на то, как личность проявляет себя вне семьи.
Общие семейные факторы не формируют детей, и различающиеся семейные факторы не формируют детей тоже. Возможно, говорит Харрис, нам стоит обратить внимание на что-то за пределами семьи.
* * *
Если вы выросли не в тех местах, где росли ваши родители, задумайтесь над вопросом: какое у вас произношение — как у ваших родителей или как у людей, с которыми вы росли? А что насчет того, как вы одеваетесь, какую музыку слушаете, как проводите свободное время? Подумайте о ваших детях, если они выросли не там, где вы, — или, что уж говорить — даже если там же. Чего ни коснись, практически всегда люди ориентируются на сверстников, а не на родителей.
Этот неуловимый фактор среды, формирующий личность, Харрис назвала теорией групповой социализации. Не все в генах, но то, что не в генах, оно и не от родителей. Социализация — усвоение норм и умений, необходимых для функционирования в обществе, — происходит в группе сверстников. У детей есть своя культура, которая впитывает отчасти культуру взрослых и развивает собственные нормы и ценности. Дети не тратят свое время на попытки больше походить на взрослых. Они стараются быть лучшими из детей, чтобы добиться успеха в собственном обществе. Именно в этом горне закаляется личность.
Многолетняя одержимость родителей детьми, подчеркивает Харрис, недавняя практика с точки зрения эволюции. В обществах охотников-собирателей матери носят своих детей на спине или бедре и кормят их по требованию до тех пор, пока через два — четыре года не появится следующий младенец[49]. После этого ребенка оставляют в компании старших братьев и сестер, родных и двоюродных. Раньше он получал материнское внимание целиком и полностью — теперь ему не достается практически ничего. Дети тонут или выплывают в среде других детей.
Для детей не просто притягательны нормы, принятые среди сверстников; до некоторой степени они не восприимчивы к ожиданиям своих родителей. Теория конфликта отцов и детей предполагает, что родители не всегда социализируют ребенка в интересах ребенка. Так что, даже если дети соглашаются на поощрения, наказания, примеры и нотации родителей — потому что они меньше и у них нет выбора, — согласно теории, они не позволяют этим тактикам формировать их личность. Дети должны научиться добиваться статуса среди ровесников, потому что высокий статус в этом возрасте даст им преимущество в борьбе за статус на следующих этапах, включая юность, когда они начинают конкурировать за внимание противоположного пола[50].
Что привлекло меня в теории Харрис в первую очередь, это ее способность объяснить некоторые загадочные факты в области, в которой преимущественно занят я сам, — в психологии языка[51]. Психолингвисты много спорят о наследственности и среде, но все они ставят знак равенства между «средой» и «родителями». Однако многие феномены развития языка у детей просто не помещаются в это уравнение. В традиционных культурах матери не особо разговаривают с детьми, пока те еще слишком малы, чтобы поддержать разговор; дети учатся языку у других детей. Акцент человека практически всегда повторяет акцент друзей его детства, а не акцент его родителей. Дети иммигрантов в совершенстве усваивают язык принявшей их страны и говорят без иностранного акцента, только если регулярно общаются с ровесниками — носителями языка. Затем они пытаются заставить своих родителей перейти на новый язык и, если им это удается, могут забыть родной язык полностью. То же самое верно для слышащих детей глухих родителей — они легко учатся разговорному языку в общении с окружающими. Дети, оказавшиеся вместе и лишенные общего языка, быстро изобретут свой; именно так родились креольские диалекты и жестовый язык глухих. Так что конкретный язык вроде английского или японского (в противоположность общему инстинкту языка) — чистейший пример выученного социального поведения. Если дети учатся различать нюансы в речи друзей и выбирают язык ровесников, а не язык родителей, это значит, что их социальные антенны настроены не на родителей, а на сверстников.
Дети иммигрантов впитывают не только язык их приемной родины, но и культуру тоже. Всю свою жизнь мои дедушка и бабушка, рожденные в маленьком еврейском местечке, были чужаками в чужой стране. Машины, банки, доктора, школы и городские представления о времени сбивали их с толку, и, если бы термин «дисфункциональная семья» был на слуху в 1930-е и 1940-е годы, их бы именно так и называли. Тем не менее мой отец, выросший в окружении иммигрантов, прибывших в различные десятилетия, тянулся к хорошо адаптированным детям и семьям и добился счастья и успеха. Такие истории часты в хрониках иммигрантского опыта[52]. Так почему же мы настаиваем, что именно родители — ключ к тому, какими станут их дети?
Исследования тоже подтверждают то, что известно каждому родителю, но никто не дает себе труда увязать это с теориями детского развития: курят ли подростки, вступают ли в конфликт с законом, совершают ли серьезные преступления, гораздо больше зависит от того, что делают их друзья, чем от того, что делают их родители[53]. Харрис так прокомментировала популярную теорию, что дети нарушают закон, чтобы добиться «взрослого статуса», то есть власти и привилегий взрослых: «Если бы подростки хотели быть похожими на взрослых, они не таскали бы из витрин лак для ногтей и не свешивались бы с мостов, чтобы нацарапать на стальной балке: "Я люблю тебя, Лиза". Если бы они действительно добивались взрослого статуса, они бы занялись скучными взрослыми делами вроде сортировки белья для стирки или расчета налоговых платежей»[54].
Даже редкие подтверждения эффекта общей среды и равно ничтожные открытия взаимодействия между генами и средой проявляются, только когда вместо родителей в «средовую» часть равенства мы подставляем сверстников. Дети, выросшие в одном доме, обычно похожи друг на друга в склонности к антиобщественному и противоправному поведению, независимо от степени родства. Но это сходство наблюдается только в случае, если они примерно одного возраста и вместе проводят время вне дома, что подразумевает их принадлежность к одной и той же компании[55]. В крупном датском исследовании приемных семей биологические дети правонарушителей были несколько более подвержены опасности попасть в неприятности с законом, чем биологические дети законопослушных граждан, что предполагает малый эффект генов. Но склонность к совершению преступлений умножалась, если эти дети были усыновлены родителями, которые сами нарушали закон и жили в крупных городах, что предполагает, что дети, генетически подверженные риску, вдобавок вырастали в районах с высоким уровнем преступности[56].
Не то чтобы родители «не имели значения». Их роль велика во многих отношениях. Бо́льшую часть истории человечества самое важное, что делали родители для детей, — оберегали их жизнь. Безусловно, родители способны причинить им вред жестоким обращением или пренебрежением. В первые годы жизни ребенку необходим заботливый близкий человек, хотя это не обязательно должен быть родитель и, вероятно, не обязательно даже взрослый: маленькие сироты и беженцы часто вырастают вполне благополучными, если о них заботились другие дети, даже если поблизости не было родителей или других взрослых людей[57]. (Это не значит, что дети были счастливы, но, вопреки популярному убеждению, несчастливые дети не обязательно становятся дисфункциональными взрослыми.) Родители выбирают окружение для своих детей и таким образом выбирают группу подобных ему сверстников. Они обучают ребенка, прививают ему навыки — например, чтения или игры на музыкальных инструментах. И они определенно могут влиять на поведение детей дома, как любой облеченный властью человек может влиять на поведение подчиненных. Но похоже, поведение родителей не формирует интеллект и личность детей в долгосрочной перспективе. Услышав это, многие спрашивают: «Так вы говорите, не имеет значения, как я обращаюсь с моим ребенком?» Это важный вопрос, и я рассмотрю его в конце главы. Но сначала я расскажу об общественной реакции на теорию Харрис и о том, как сам ее оцениваю.
* * *
Что ни говори, «Предпосылка воспитания» стала важным вкладом в современную интеллектуальную жизнь. Хотя на первый взгляд основная идея книги парадоксальна, в ней есть доля истины, в ней есть живые дети, а не податливые маленькие конструкты, которых в реальной жизни никто не встречал. Харрис подкрепляет свою гипотезу многочисленными данными из различных областей, которые она исследует острым аналитическим взглядом, и, что редкость для социальных наук, она выдвигает идеи новых эмпирических тестов, способных опровергнуть ее гипотезу. Книга предлагает оригинальные стратегии для решения сложных проблем, для которых нам крайне необходимы новые идеи: проблемы в школе, подростковое курение и юношеская преступность. Даже если основная мысль книги окажется ошибочной, она заставляет нас посмотреть на детство свежим, проницательным взглядом и задуматься, что делает нас такими, какие мы есть.
И какой же была общественная реакция? Впервые теория Харрис была популярно изложена на нескольких страницах моей книги «Как работает мозг» (How the Mind Works), в которой я рассказал об исследованиях, положенных в основу трех законов поведенческой генетики, и о публикации Харрис 1995 года, в которой она объясняет их. Во многих обзорах эти страницы удостоились особого внимания — вот, например, как отреагировала Маргарет Вертхейм:
Я 15 лет пишу на научные темы и никогда еще не видела, чтобы моим любимым предметом так злоупотребляли… Что ужасает больше всего — кроме смехотворного представления о семейной динамике — это искажение научных данных. Наука не способна установить, какой процент личности обусловлен воспитанием… Предполагая, что наука в состоянии это сделать и действительно это делает, автор изображает ученых в лучшем случае наивными, а в худшем — фашистами. Утверждения такого рода, по моему мнению, портят науке репутацию и настраивают против нее[58].
Вертхейм, конечно, спутала «процент личности, обусловленный воспитанием», что действительно бессмысленно, с долей дисперсии личностных черт, которая объясняется разнообразием способов воспитания, — именно это изучают поведенческие генетики. И ученые могут показать и показывают, что братья и сестры равно похожи, растут ли они вместе или отдельно, и что приемные дети не похожи вообще, а это значит, что общепринятое мнение о «семейной динамике» просто неверно.
Вертхейм симпатизирует радикальной науке и социальному конструкционизму. Ее реакция — знак того, как поведенческая генетика (и теория Харрис, цель которой — объяснить исследования) задевает болевую точку политических левых с ее традиционным акцентом на пластичности детей. Психолог Оливер Джеймс писал: «Книгу Харрис легко можно не принимать во внимание, как очередное приложение фридманистской экономики к окружающей действительности». (Отсылка к экономисту Милтону Фридману, который, согласно Джеймсу, поддерживает идею, что индивиды должны брать на себя ответственность за собственную жизнь.) Он предполагает, что Харрис занижает данные исследований воспитания, потому что иначе они «косвенно бросали бы реальный вызов теориям развитого капитализма потребления: если то, что делают родители, критически важно, нам придется поставить под сомнение низкий приоритет этого занятия по сравнению с погоней за прибылью»[59]. На самом деле эта странная оценка вывернула все наизнанку. Самые ярые пропагандисты важности родительского влияния — это пивные и табачные гиганты, которые спонсируют рекламные кампании под названием «Семейный разговор о выпивке» и «Родители должны говорить детям о вреде курения». (Пример рекламы: «Дочь говорит в камеру, словно ведет разговор с матерью, уверяя ее, что не забывает слова матери о вреде курения, даже когда той нет рядом»[60].) Возлагая на родителей долг удерживать подростков от алкоголя и курения, эти продвинутые капиталисты потребления могут отвлечь внимание от собственного массированного влияния на культуру подростков.
Но еще больше яда вылили на Харрис политические правые. Колумнист Джон Лео назвал ее теорию «глупой», высмеял автора за то, что она не имеет ученой степени и не работает в университете, и сравнил ее с людьми, отрицающими холокост. Свою колонку он завершил словами: «Не время воспевать глупую книгу, которая оправдывает эгоцентризм и делает неисполнение родительских обязанностей достойным и массовым занятием»[61].
Почему же консерваторы тоже возненавидели эту теорию? Современные американские правые убеждены, что традиционной семье угрожает феминизм, безнравственная поп-культура и левые социальные аналитики. Корень социальных болезней, считают консерваторы, в том, что родители не могут научить своих детей дисциплине и привить им правильные ценности, и вина за это лежит на работающих матерях, отсутствующих отцах, легких разводах и на системе социальной помощи, которая вознаграждает молодых женщин за рождение детей вне брака. Когда незамужняя героиня телесериала «Мерфи Браун» родила ребенка, вице-президент Дэн Куэйл осудил ее за то, что она подает плохой пример американским женщинам (газетный заголовок того времени: «Мерфи родила, Куэйл взбесился»). Харрис упоминала об этом курьезе в своей книге, но ее слова, что с ребенком Мерфи, скорее всего, все будет в порядке, пришлись не ко двору. (Если честно, беспокойство о детях, растущих без отца, может быть обоснованным, но проблемой может быть скорее отсутствие отцов во всех домах в районе, чем отсутствие отца в конкретной семье. Таким детям без отцов не хватает общения с семьями, в которых есть взрослые мужчины, или, что еще хуже, они контактируют с группами одиноких мужчин, чьи ценности просочатся в их собственную компанию.) Кроме того, «Великий Сатана» Хиллари Клинтон написала книгу о детстве, названную «Нужна целая деревня» (It Takes a Village), название которой отсылает к африканской поговорке: «Нужна целая деревня, чтобы вырастить ребенка». Консерваторы книгу оплевали, потому что решили, что сама эта мысль — оправдание для социальных инженеров, мечтающих забрать воспитание детей из рук родителей и отдать его правительству. Но Харрис тоже цитирует поговорку, и ее теория предполагает, что в этих словах есть доля истины.
Эксперты, конечно, тоже не остались в стороне. Бразелтон назвал теорию «абсурдом»[62]. Джером Каган, один из руководителей исследования, посвященного детям, сказал: «Мне стыдно за психологию»[63]. Другой возрастной психолог, Франк Фарли, сообщил корреспонденту журнала Newsweek:
Она абсолютно не права. Она занимает крайнюю позицию, основываясь на ограниченном наборе данных. Ее тезисы даже на первый взгляд абсурдны, но подумайте, что может случиться, если родители поверят в эту чушь! Не развяжет ли это некоторым руки для плохого обращения с детьми — ведь оно «не имеет значения»? Не скажет ли это родителям, уставшим после долгого рабочего дня, что им не нужно стараться уделять внимание детям, потому что «оно не имеет значения»?[64]
Каган и другие возрастные психологи говорили репортерам о «многих, многих качественных исследованиях, которые показывают, что родители могут влиять на то, какими вырастут их дети».
И что же это за «многие, многие качественные исследования»? В статье в журнале Boston Globe Каган выложил, как он это назвал, «достаточное доказательство»[65]. Он упомянул обычные «не-замечающие-генетики» исследования, демонстрирующие, что у умных родителей умные дети, у общительных — общительные и т. д. Он заметил, что «шестилетка, выросший в Новой Англии, будет очень отличаться от шестилетки, выросшего в Малайзии, Уганде или на юге Аргентины. Причина в том, что воспитательные практики их родителей отличаются». Но конечно, у ребенка, выросшего в Малайзии, малайцы не только родители, но и сверстники. Если бы Каган поразмыслил о том, что случится с шестилетним ребенком малайских родителей, выросшим в Новой Англии, он, наверное, не стал бы использовать этот пример для иллюстрации эффективности воспитания. Другим «доказательством» было то, что авторы мемуаров благодарят не друзей детства, а своих родителей за то, что те сделали их такими, какие они есть. В этой слабой аргументации забавно, что сам Каган на протяжении своей выдающейся карьеры часто упрекал коллег-психологов за недостаточное внимание к генетике и за то, что они принимают доморощенные теории детства, присущие их культуре, вместо того чтобы подвергать их тщательному научному анализу. Я могу только предположить, что он чувствовал себя обязанным защитить свою научную дисциплину от разоблачений со стороны бабушки из Нью-Джерси. Но в любом случае остальные «качественные исследования», представленные обороняющимися психологами, были не более содержательны[66].
* * *
Но решила ли Харрис загадку третьего закона, индивидуальной среды, которая не зависит ни от генов, ни от семьи? Не совсем. Я убежден, что дети социализируются — что они обретают ценности и культурные навыки в группах сверстников, а не в семьях. Но я не убежден, по крайней мере пока, что воздействие сверстников объясняет, как дети развивают свою личность: почему они становятся застенчивыми или смелыми, тревожными или уверенными, открытыми новому или консервативными. Социализация и развитие личности — это не одно и то же, и референтная группа может объяснить первое, но не обязательно второе.
Каким образом объяснить влияние сверстников на развитие личности? Дети из одной и той же семьи могут присоединяться к разным группам сверстников — спортсменам, «ботаникам», модникам из частных школ, панкам, готам — и принимать их ценности. Но как дети оказываются в тех или других группах? Если в силу своих врожденных черт умные дети общаются с «ботаниками», агрессивные — с панками и т. д., тогда эффект группы ровесников будет показывать косвенное влияние генов, а не эффекты индивидуальной среды. Если дело тут в выбранном их родителями социальном окружении, то влияние ровесников окажется эффектом общей среды, так как у детей, выросших вместе, общие родители и среда. Иногда, как в случаях правонарушений и курения, отсутствие дисперсии может быть объяснено взаимодействием между генетикой и влиянием сверстников: склонные к насилию подростки становятся агрессивными только в опасных кварталах, склонные к зависимостям начнут курить только в компании ровесников, которые думают, что курить — это круто. Но эти взаимоотношения вряд ли могут объяснить бо́льшую часть различий между детьми. Давайте вернемся к нашему краеугольному камню: идентичные близнецы, выросшие вместе. У них общие гены, общая семейная среда и, как правило, общая компания ровесников. Но корреляция между ними составляет только около 50 %. Следовательно, ни гены, ни семьи, ни референтные группы не могут объяснить, что делает идентичных близнецов разными.
Харрис признает эти ограничения и предполагает, что дети самоопределяются внутри группы сверстников, а не когда выбирают себе компанию. Внутри каждой группы одни станут лидерами, другие — пешками, третьи — шутами, хулиганами, козлами отпущения или миротворцами в зависимости от того, какая ниша свободна, насколько ребенок к ней подходит, и от случайности. После того как ребенок принял какую-то роль, отказаться от нее трудно, потому что другие дети заставляют его оставаться в своей нише и потому что ребенок совершенствуется в умениях, необходимых для преуспевания в ней. Эта часть теории, замечает Харрис, не проверена, и проверить ее трудно, потому что критически важный первый шаг — какой ребенок займет какую нишу и в какой группе — совершенно непредсказуем.
Итак, заполнение ниш в группах сверстников по большей части дело случая. Но если мы вообще позволяем госпоже Удаче выйти на сцену, придется признать, что она может сыграть свою роль и в других эпизодах нашей жизни. Размышляя о том, как мы попали туда, где находимся сейчас, все мы вспоминаем о развилках на дороге, где могли бы выбрать совершенно иной жизненный путь. Если бы я не пошел на эту вечеринку, я бы не встретил свою жену. Если бы я не прочел эту брошюру, я бы не узнал о сфере деятельности, которая стала моим призванием в жизни. Если бы я не взял тогда трубку, если бы я не опоздал на тот самолет, если бы я только поймал тот мяч. Жизнь — игра в пинбол, в которой мы крутимся, подпрыгиваем и скользим сквозь череду желобков и стопоров. Возможно, наша история столкновений и опасных сближений объясняет, что сделало нас такими, какие мы есть. Одного близнеца побил хулиган, а другой в тот день заболел и остался дома. Один подхватил вирус, а другой — нет. Одному досталась верхняя кровать, другому — нижняя.
Мы до сих пор не знаем, этот ли уникальный опыт оставляет свои отпечатки на нашей личности и интеллекте. Но самая ранняя партия в пинбол определенно способна сделать это — та, что формирует наш мозг в утробе и раннем детстве. Как я уже упоминал, человеческий геном, скорее всего, не может определить все до единой связи между нейронами. Но и «среда», в смысле информации, закодированной органами чувств, — не единственная оставшаяся возможность. Есть еще случайность. Один из близнецов в утробе застолбил свою часть плаценты, другой вынужден втискиваться на свободное место. Космические лучи привели к мутации фрагмента ДНК, нейротрансмиттер сработал так, а не иначе, и мозг одного идентичного близнеца приобрел слегка отличающуюся конфигурацию[67].
Мы знаем, что так происходит при развитии и других организмов. Даже генетически гомогенные линии мух, мышей и червей, выращенные в лабораториях со строго контролируемыми условиями, порой отличаются друг от друга. У плодовой мушки может быть больше или меньше ворсинок под одним крылом, чем у ее соседок по колбе. У мышки может быть в три раза больше ооцитов (клеток, которые станут яйцеклетками), чем у ее генетически идентичной сестры, выращенной в той же лаборатории. Какой-нибудь круглый червь может прожить в три раза дольше, чем его клон в соседней чашке. Биолог Стивен Остад сказал по поводу срока жизни круглых червей: «Поразительно, но степень изменчивости, которую они демонстрируют по продолжительности жизни, не намного меньше, чем в генетически смешанной популяции людей, которые придерживаются разной диеты, заботятся или плюют на свое здоровье и в современной индустриализированной жизни подвержены влиянию самых разных обстоятельств — автокатастроф, зараженной говядины и сбрендивших почтальонов»[68]. А круглый червь состоит всего из 959 клеток! Человеческий же мозг, с его сотней миллиардов нейронов, имеет даже больше возможностей пострадать от последствий молекулярного жребия.
Если случайности в развитии объясняют менее чем идеальную схожесть идентичных близнецов, это говорит нам нечто интересное о развитии в целом. Можно представить себе процесс развития, в котором миллионы маленьких случайных событий нивелируют друг друга, оставляя конечный продукт без всяких изменений. Можно представить и другой процесс, в котором случайные события полностью пускают развитие под откос или по хаотическому пути, результатом которого будет уродец или монстр. Однако с идентичными близнецами ничего подобного не происходит. Они разнятся достаточно для того, чтобы наши грубые инструменты могли уловить различия, однако оба они — здоровые примеры этой поразительно неправдоподобной, изящно спроектированной системы, которую мы называем человеческим существом. Видимо, организмы в процессе развития используют сложные петли обратной связи, а не предварительно заданные чертежи. Случайные события могут изменить траекторию роста, но эти траектории ограничены рамками функционального дизайна вида. Биологи называют эти механизмы развития устойчивостью, буферизацией и канализацией[69].
Если негенетический компонент личности результат рулетки нейроонтогенеза, это преподносит нам два сюрприза. Первый — что «генетическая» переменная в уравнении поведенческой генетики не обязательно генетическая, а «средовая» — не обязательно средовая. Если необъясненная дисперсия — продукт случайных событий в сборке мозга, тогда еще одна часть нашей личности «биологически детерминирована» (хотя и не генетически) и самые лучшие намерения родителей и общества не смогут на нее повлиять.
Вторая неожиданность заключается в том, что нам, возможно, придется освободить в своем мировоззрении место для донаучной концепции человеческой природы — но не для свободы воли, как мне многие намекали, а для судьбы. Свобода воли не подходит, потому что среди всех черт, которыми могут отличаться выросшие вместе идентичные близнецы, есть такие, которые упрямо не поддаются сознательному контролю. Никто не решает стать шизофреником, гомосексуалом, музыкально одаренным, или, если уж на то пошло, тревожным, самоуверенным, или открытым новому. Но старую идею судьбы — в смысле неконтролируемой фортуны, а не строгого предназначения — можно примирить с современной биологией, если мы вспомним, как много у случая шансов вмешаться в развитие. Харрис, отмечая, насколько недавно и не повсеместно возникло представление, что мы можем формировать наших детей, процитировала женщину, жившую в 1950-х в отдаленной индийской деревушке. Когда ее спросили, каким человеком она надеется увидеть своего взрослого ребенка, она пожала плечами и ответила: «Это его судьба, какая разница, чего хочу я»[70].
* * *
Не все согласны так безропотно примириться с судьбой или с другими силами, не подвластными родительскому контролю, — генами или сверстниками. «Боже, я надеюсь, что это неправда», — сказала одна мать газете Chicago Tribune. — Мысль, что вся эта любовь, которой я его окружаю, вообще не считается, слишком ужасна, чтобы ее обдумывать»[71]. И как и в случае других открытий, касающихся человеческой природы, люди от души надеются, что это неправда. Но истине нет дела до наших надежд, и иногда она может заставить нас пересмотреть наши ожидания так, что это освободит нас.
Да, досадно, что не существует алгоритма выращивания счастливого и успешного ребенка. Но хотели бы мы на самом деле определять черты наших детей заранее и никогда не узнать радости от их непредсказуемых талантов и особенностей, которые каждый ребенок приносит в этот мир? Люди ужасаются клонированию человека и его сомнительным посулам, что родители смогут проектировать своего ребенка методами генной инженерии. Но разве это так уж отличается от фантазии, что родители могут конструировать своих детей воспитательными методами? Реалистичные родители будут менее тревожными родителями. Они смогут наслаждаться временем, проведенным с детьми, а не пытаться постоянно их стимулировать, социализировать и улучшать их характеры. Они смогут читать своим детям книжки ради удовольствия, а не потому, что это полезно для их нейронов.
Критики не раз обвиняли Харрис в попытках освободить родителей от ответственности за жизнь детей: если дети плохо кончат, родители смогут сказать, что это не их вина. Но тем самым она возлагает на взрослых ответственность за их собственные жизни: если дела идут плохо, перестаньте ныть, что виноваты ваши родители. Она спасает матерей от дурацких теорий, возлагающих на них вину за любую неудачу, которая выпадает ребенку, и от критикующих всезнаек, которые заставляют их чувствовать себя чудовищами, если те улизнут из дома, чтобы поработать, или пропустят чтение книжки на ночь. И ее теория наделяет нас всех коллективной ответственностью за здоровье нашего социального окружения и культуры, в которой формируются группы сверстников.
И наконец: «Так вы говорите, что не имеет значения, как я обращаюсь со своими детьми?» Что за вопрос! Конечно, имеет. Харрис напоминает своим читателям почему.
Во-первых, родители имеют неограниченную власть над своими детьми и их действия могут существенно влиять на то, будут ли они чувствовать себя счастливыми. Воспитание — это, прежде всего, этическая ответственность. Бить, унижать, лишать заботы или бросать своих детей — ненормально, потому что большой сильный человек не должен так ужасно поступать с маленьким и беспомощным. Как пишет Харрис: «Может быть, их будущее и не в наших руках, но их настоящее — уж точно, и у нас есть власть сделать их настоящее очень несчастным»[72].
Во-вторых, родителя и ребенка связывают человеческие отношения. Никто никогда не спрашивает: «Так вы говорите, не имеет значения, как я обращаюсь со своим мужем или женой?», хотя никто, кроме новобрачных, и не верит, что может изменить личность своего супруга. Мужья и жены милы друг с другом (или должны быть) не для того, чтобы утрамбовать чью-то личность в нужную форму, но чтобы создать глубокие и удовлетворяющие отношения. Представьте, что кому-то сказали, что он не может перекроить личность своего мужа или жены, и он ответил: «Мысль, что вся эта любовь, которой я его (ее) окружаю, вообще не считается, слишком ужасна, чтобы обдумывать ее». Так же и с родителями и детьми: то, как один человек ведет себя с другим, влияет на качество отношений между ними. На протяжении жизни баланс сил меняется, и дети, сохраняя воспоминания о том, как к ним относились родители, получают все больше свободы в отношениях. Как сказала Харрис: «Если вы думаете, что нравственный долг — недостаточно убедительная причина хорошо обращаться со своими детьми, попробуйте вот эту: обращайтесь со своими детьми хорошо, пока они маленькие, чтобы они обращались хорошо с вами, когда вы состаритесь»[73]. Есть вполне благополучные взрослые, которые до сих пор трясутся от ярости, вспоминая боль, которую их родители причиняли им, когда они были детьми. Есть и другие, глаза которых увлажняются, когда они вспоминают доброту своих родителей и те жертвы, на которые те пошли ради их счастья и которые мать или отец давно уже забыли. Хотя бы по этой причине стоит относиться к детям хорошо — чтобы дать им вырасти с такими воспоминаниями.
Я обнаружил, что, когда люди слышат эти объяснения, они опускают глаза и смущенно говорят: «Да. Я знал это». То, что люди могут забыть эти простые истины, философствуя о детях, показывает, как далеко завели нас современные доктрины. Они позволили нам думать о детях как о пластилине, из которого можно лепить, а не как о товарищах по человеческим отношениям. Даже теория, что дети приспосабливаются к своим референтным группам, удивляет меньше, когда мы думаем о них как о человеческих существах, подобных нам. «Группа сверстников» — это снисходительное выражение, которое мы используем применительно к детям, говоря о тех, кого называем «друзьями, коллегами и соратниками» применительно к себе. Мы ворчим, когда дети помешаны на том, чтобы носить штаны определенного кроя, а сами были бы так же унижены, если бы какой-нибудь великан заставил нас надеть розовый комбинезон на встречу совета директоров или диско-костюм из полиэстера на научную конференцию. «Социализироваться в группе ровесников» — это, другими словами, «с успехом жить в обществе», что для социального организма значит просто «жить». Выражение «чистый лист» обычно применяется к детям, и это может заставить нас забыть, что они, прежде всего, люди.
Глава 20. Искусство и гуманитарные науки
Культура в беде. Это не я сказал, так утверждают они: критики, гуманитарии и (как мы сейчас говорим) контент-провайдеры, которые зарабатывают на жизнь в сфере искусства и культуры. Вот слова директора театра и критика Роберта Бруштейна:
Поддерживать высокую культуру в наши времена становится все труднее. Магазины, продающие серьезные книги, лишаются франшиз, маленькие издательства закрываются, малотиражные журналы уходят с рынка, некоммерческие театры выживают преимущественно переводя репертуар на коммерческие рельсы, симфонические оркестры упрощают программы, телекомпании все больше полагаются на повторные показы британских сериалов, радиостанции, транслирующие классическую музыку, приходят в упадок, музеи устраивают выставки-блокбастеры, танец умирает[1].
В последние годы высоколобая пресса полна подобных жалоб. Вот примеры заголовков:
Смерть литературы[2]. Упадок и закат литературы[3]. Упадок высокой культуры[4]. Гуманитарные науки потерпели крах?[5] Гуманитарные науки в упадке?[6] Искусство и культура в век денег[7]. Бедственное положение гуманитарных дисциплин[8]. Литература: опальная профессия[9]. Литература утрачена[10]. Гибель музыки[11]. Взлет и падение английского языка[12]. Что случилось с гуманитарными дисциплинами?[13] Кто убил культуру?[14]
Если верить пессимистам, упадок продолжается уже некоторое время. Томас Элиот писал в 1948 году: «Мы можем с достаточной долей уверенности утверждать, что наше время — период упадка; что стандарты культуры сейчас ниже, чем они были 50 лет назад; и что свидетельства этого упадка заметны в каждой сфере человеческой деятельности»[15].
Некоторые жизненно важные показатели искусства и культуры действительно скверные. В 1997 году палата представителей проголосовала за расформирование Национального фонда поддержки культуры, и сенат смог сохранить его, только урезав его бюджет почти вполовину. Университеты сокращают вложения в гуманитарные дисциплины: с 1960-х годов доля преподавателей гуманитарных кафедр сократилась в два раза, зарплаты заморожены, условия труда не улучшаются, и обучение все больше ведется силами выпускников и преподавателей на полставки[16]. Новые обладатели научных степеней часто сидят без работы или вынуждены перебиваться краткосрочными трудовыми договорами. Во многих гуманитарных колледжах гуманитарные факультеты сокращены, совмещены или расформированы.
Одна из причин этого упадка — конкуренция со стороны бурно развивающихся естественных и технических дисциплин. Другая, вероятно, состоит в переизбытке докторов наук, которых готовят согласно университетским программам, не учитывающим необходимость «контроля рождаемости» ученых. Однако проблема не только в росте предложения в виде профессуры, но и в снижении спроса со стороны студентов. В то время как общее число получающих степень бакалавра с 1970 по 1994 год выросло почти на 40 %, количество новых бакалавров по английскому языку на 40 % уменьшилось. Все может стать еще хуже: только 9 % старшеклассников демонстрируют интерес к гуманитарным наукам[17]. Один университет так отчаянно стремился восстановить набор студентов в свой колледж гуманитарных и естественных наук, что нанял рекламное агентство для проведения кампании под девизом: «Задумайся о жизни». Вот некоторые из ее слоганов:
Делай что хочешь с дипломом в кармане или дожидайся 20 лет кризиса среднего возраста.
Страховка на случай, когда роботы возьмут на себя всю рутину.
Ну что ж. Воплотишь свою мечту в следующей жизни.
Ой, как будто твои родители так уж счастливы.
Но карьеризм не может полностью объяснить, почему студенты разочаровались в гуманитарных науках. Экономика сегодня в лучшей форме, чем была в период, когда гуманитарные дисциплины пользовались большей популярностью, и многие молодые люди и сегодня не окунаются в карьеру с головой, а используют студенческие годы, чтобы всесторонне себя обогатить. Нет убедительной причины, почему бы искусству и гуманитарным наукам не побороться за внимание студентов в этот промежуток времени. Знание культуры, истории и научных идей и сегодня по-прежнему ценится в большинстве профессий да и в обычной жизни. Но студенты все равно стараются держаться подальше от гуманитарных наук.
В этой главе я поставлю диагноз недомоганиям гуманитарных наук и искусства и предложу некоторые средства для их оживления. Они меня об этом не просили, но, по их собственным оценкам, им нужна вся помощь, какую только можно получить, и я убежден, что решение частично можно отыскать в этой книге. Начну с описания проблемы.
* * *
По правде говоря, гуманитарные науки и искусства вовсе не в беде. Как показывают последние оценки, основанные на данных Национального фонда поддержки культуры и Краткого статистического обзора Соединенных Штатов, еще никогда они не были в лучшей форме[18]. Число симфонических оркестров, книготорговцев, библиотек и новых независимых кинокомпаний растет два десятилетия подряд. Посещаемость концертов классической музыки, театральных спектаклей, оперных постановок и художественных музеев увеличивается, в некоторых случаях до рекордных значений, что доказывают длинные очереди и дефицит билетов на кассовые шоу. Количество издаваемых книг (в том числе книг об искусстве, поэзии и драматургии) бурно растет, так же как и их продажа. И не сказать, что люди стали пассивными потребителями искусства. 1997 год побил все рекорды по числу взрослых людей, увлекающихся рисованием, художественной фотографией, приобретением произведений искусства и литературным творчеством.
Развитие технологий сделало искусство более доступным, чем когда-либо раньше. Даже при самом минимальном заработке денег, полученных за пару рабочих часов, хватит на оплату любой из десятков тысяч музыкальных записей высочайшего качества, включая классику в исполнении лучших оркестров мира. Видеомагазины позволяют людям, живущим в удалении от культурных центров, за небольшие деньги устраивать персональные просмотры киноклассики. Вместо трех телеканалов, по которым крутят комедийные сериалы, эстрадные представления и мыльные оперы, большинство американцев сегодня могут выбирать из 50 или даже 100 станций, включая те, что специализируются на истории, науке, политике и искусстве. Независимые киностудии процветают благодаря недорогой видеотехнике и технологиям потокового интернет-видео. Практически любая изданная книга доступна каждому, у кого есть кредитная карта и модем. В сети можно найти тексты всех великих романов, стихотворений и пьес, работы философов и научные исследования, не подпадающие под действие авторского права, виртуальные туры по величайшим музеям мира. Появляются новые интеллектуальные веб-сайты и интернет-журналы, а старые их выпуски доступны мгновенно.
Мы купаемся в культуре, тонем в ней. Так к чему все жалобы о закате, упадке, крахе, бедственном положении и смерти?
Ответ фаталистов гласит: публика сегодня без разбора потребляет классику прошлого и современную бездарщину, а вот новых шедевров появляется очень мало. Сомнительное заявление[19]. Как не устают повторять историки искусства, все предполагаемые грехи современной культуры — потакание массам, погоня за наживой, темы секса и жестокости, приспособление к популярным форматам (например, газетные истории с продолжением) — были свойственны и великим творцам прошлого. Даже в наше время многие художники поначалу считались в своих областях халтурщиками, работающими ради денег, и только позже добились признания и уважения. В качестве примера можно назвать братьев Маркс, Альфреда Хичкока, «Битлз» и, если судить по последним музейным экспозициям и благоприятным отзывам критиков, даже Нормана Роквелла. Десятки талантливых писателей из разных стран мира создают свои произведения, и, хотя уровень большинства телепередач и кинофильмов ужасает, есть и по-настоящему замечательные: Карла из «Чирс» (Cheers) остроумнее Дороти Паркер , а сценарий фильма «Тутси» умнее, чем сценарий любой шекспировской комедии с переодеваниями.
Что касается музыки, хотя конкурировать с великими композиторами XVIII и XIX столетий трудно, прошлый век можно назвать каким угодно, только не бесплодным. Джаз, бродвейские шоу, кантри, блюз, фолк, рок, соул, самба, регги, этническая и современная музыка переживали расцвет. Каждое направление породило одаренных мастеров и привнесло в наш общий музыкальный опыт новую многогранность ритма, инструментовки, вокального стиля и студийной обработки. Некоторые жанры процветают, как никогда раньше: мультипликация, индустриальный дизайн и другие, те, что появились недавно, но уже добились больших успехов, такие как компьютерная графика и музыкальные видеоклипы (упомяну Sledgehammer Питера Габриэля).
Тысячи лет критики всех эпох оплакивали закат культуры, и экономист Тайлер Коуэн предположил, что они стали жертвами когнитивной иллюзии. Лучшие произведения искусства с большей вероятностью обнаружатся в прошлом, а не в современности, по той же причине, по которой соседняя очередь в супермаркете всегда движется быстрее: их больше. Мы наслаждаемся величайшими хитами прошлого, прошедшими отбор временем, — слушаем моцартов и забываем о многочисленных сальери. Кроме того, все жанры искусства (опера, живопись импрессионистов, бродвейские мюзиклы, кино «нуар»), как правило, расцветают и вянут в конечный промежуток времени. Когда зарождающийся вид искусства на подъеме, оценить его трудно, а ко времени, когда он признан повсеместно, его лучшие дни уже позади. Коуэн замечает, цитируя Гоббса, что обесценивание настоящего — это к тому же завуалированный способ принизить своих соперников: «Конкуренция заслуг склоняет к благоговению перед античностью. Потому что люди соревнуются с живыми, а не с мертвыми»[20].
Но у трех узкоограниченных гуманитарных сфер действительно есть повод для пессимизма. Одна из них — традиции элитарного искусства, восходящие к престижным европейским жанрам, таким как музыка, исполняемая симфоническими оркестрами, искусство, выставляемое в крупных галереях и музеях, и балет, исполняемый, большими труппами. Здесь действительно может не хватать нового материала, вызывающего широкий интерес. Например, 90 % «классической музыки» было сочинено до 1900 года, а активный период творчества большинства влиятельных композиторов XX века закончился к 1940-м годам[21].
Вторая — гильдия критиков и культурных вышибал, которые заметили, что их влияние ослабевает. Комедия 1939 года «Человек, который пришел к обеду» (The Man Who Came to Dinner) рассказывает о литературном критике, который достиг такой известности, что мы верим, будто бюргеры небольшого городка в Огайо подхалимничают и заискивают перед ним. Сложно представить себе современного критика, который мог бы стать правдоподобным прототипом такого персонажа.
И третья, конечно, академические круги, где недостатки гуманитарного образования стали пищей для сатирических романов и предметом бесконечного беспокойства и анализа.
Прочитав 19 предыдущих глав, вы, вероятно, можете догадаться, где я буду искать диагноз для этих трех страдающих сфер. Подсказкой послужит утверждение (приписываемое Вирджинии Вулф), которое часто можно встретить в описании учебных программ по английской филологии: «Где-то в декабре 1910 года человеческая природа изменилась»[22]. Вулф имела в виду новую философию модернизма, которая будет доминировать в элитарном искусстве и в критике на протяжении большей части XX века и чье отрицание человеческой природы в полной мере перекочует в постмодернизм, захвативший контроль в последние десятилетия. И вот в чем суть этой главы: элитарные искусства, критика и гуманитарное образование сейчас в беде, потому что это утверждение неверно. Человеческая природа не менялась ни в 1910 году, ни позже.
* * *
Искусство — в нашей природе. Оно у нас в крови, как говорили раньше, или в мозге и в генах, как мы могли бы сказать сегодня. Во всех обществах люди танцуют, поют, украшают различные поверхности, рассказывают и разыгрывают истории. Дети начинают участвовать в этих занятиях в два-три года, и искусства даже отражаются в организации мозга взрослого человека: при некоторых неврологических расстройствах люди способны слышать и видеть, но не могут наслаждаться музыкой или зримой красотой[23]. Картины, драгоценности, скульптуры и музыкальные инструменты появились в Европе как минимум 35 000 лет назад, а в других частях мира, вероятно, и раньше, хотя археологических данных там собрано недостаточно. Австралийские аборигены рисовали на скалах еще 50 000 лет назад, а красную охру для украшения тела начали использовать как минимум вдвое раньше[24].
Хотя конкретные виды искусства в разных культурах сильно отличаются, общеизвестно, что искусством занимались и наслаждались повсюду. Философ Денис Даттон описал семь универсальных признаков искусства[25]:
1. Мастерство или виртуозность. Специальные художественные умения поощряются, распознаются и ценятся.
2. Неутилитарное удовольствие. Люди наслаждаются искусством ради искусства и не требуют, чтобы оно согревало или кормило их.
3. Стиль. Художественные объекты и зрелища удовлетворяют законам композиции, что делает их стиль узнаваемым.
4. Критика. Люди целенаправленно обсуждают, оценивают и интерпретируют произведения искусства.
5. Подражание. Не считая нескольких важных исключений вроде музыки и абстрактной живописи, произведения искусства воспроизводят впечатления от реального мира.
6. Особый угол зрения. Искусство стоит особняком от обычной жизни и фокусируется на ее драматических проявлениях.
7. Воображение. Художник и его аудитория мысленно переносятся в вымышленные миры театра фантазии.
Психологические корни этой деятельности стали предметом дискуссий и изучения. Некоторые исследователи, такие как Эллен Диссанайк, полагают, что искусство — это эволюционное приспособление вроде эмоции страха или бинокулярного зрения[26]. Другие, и я в их числе, считают искусство (кроме повествовательного) побочным продуктом трех других адаптаций: жажды статуса, эстетического удовольствия от восприятия адаптивных объектов и среды и способности создавать артефакты, чтобы достигать нужных целей[27]. С этой точки зрения искусство — это технология получения удовольствия, как наркотики, эротика или высокая кухня: способ очистить и усилить приносящие удовольствие стимулы и доставить их к нашим органам чувств. Для вопросов, обсуждаемых в этой главе, неважно, какая точка зрения верна. Адаптация ли искусство, побочный ли продукт или смесь того и другого, оно глубоко укоренено в нашей психике. Вот некоторые из его корней.
Организмы получают удовольствие от вещей, которые повышали приспособляемость их предков, — вкус пищи, сексуальные ощущения, наличие детей и приобретение практических знаний. Некоторые формы визуальных удовольствий в естественной среде тоже могут стимулировать приспособляемость. Исследуя среду обитания, люди ищут паттерны, помогающие им осваивать ее. Такие паттерны включают четко очерченные области, какие-нибудь неправдоподобные, но информативные особенности вроде параллельных и перпендикулярных линий, осей симметрии и вытянутых участков. Мозг использует все эти данные, чтобы разделить зрительное поле на поверхности, сгруппировать поверхности в объекты и организовать объекты так, чтобы люди могли распознать их в следующий раз. Исследователи зрения Дэвид Марр, Роджер Шепард и Вилейанур Рамачандран предположили, что приятные визуальные мотивы, которые часто используются в искусстве и декоре, усугубляют эти паттерны, давая мозгу понять, что зрительная система функционирует должным образом и анализирует мир безошибочно[28]. Следуя той же логике, можно предположить, что тональные и ритмические паттерны музыки воздействуют на механизмы, которые слуховая система использует для организации мира звуков[29].
Когда зрительная система превращает естественные цвета и формы в интерпретируемые объекты и сцены, в результате эстетический смысл полученных артефактов становится еще ярче. Исследования изобразительного искусства, фотографии и ландшафтного дизайна и эксперименты по визуальным предпочтениям людей обнаружили в пейзажах, которые доставляют людям удовольствие, повторяющиеся мотивы[30]. Некоторые из этих мотивов могут служить образцом среды, оптимальной для обитания человека, — саванны: открытые поросшие травой пространства, где есть деревья и водоемы, животные, цветущие и плодоносящие растения. Удовольствие при виде живой природы Уилсон назвал биофилией, и, видимо, это одна из человеческих универсалий[31]. Одни конфигурации ландшафта приятны нам, потому что сигнализируют о безопасности, например ограниченные, но панорамные виды. Другие привлекают внимание, потому что представляют собой географические признаки местности, которую легко осваивать и запоминать, например ориентиры, границы и тропинки. Исследования в эволюционной эстетике описывает также качества, делающие лицо и тело человека красивыми в глазах других[32]. Черты, которые высоко ценятся, — те, что сигнализируют о здоровье, жизненной силе и плодовитости.
Люди — это животные, одаренные воображением, и они постоянно мысленно оперируют событиями. Эта способность — двигатель человеческого интеллекта, позволяющий визуализировать новые технологии (например, как устроить ловушку для животного или очистить растительный экстракт) и новые социальные умения (такие, как обмен обещаниями или поиск общего врага)[33]. Художественная литература использует эту способность, чтобы исследовать воображаемые миры, будь то в назидание — расширяя число сценариев, результаты которых можно предвидеть, или для удовольствия — чтобы опосредованно испытать любовь, преклонение, приключение или победу[34]. Не случайно Гораций говорил, что предназначение литературы — учить и развлекать.
В хороших произведениях искусства эти эстетические элементы образуют множество пластов так, что целое получается больше суммы частей[35]. Хороший пейзаж в живописи или на фотографии воссоздает среду, которая воспринимается как приглашение, привлекая приятным для глаз равновесием и контрастом геометрических форм. Захватывающая история может открывать нам пикантные тайны популярных или облеченных властью людей, переносить в удивительные времена или места, услаждать наше чувство языка хорошо подобранными словами, учить чему-то новому о превратностях любви, семьи или политики. Многие виды искусства призваны добиваться психического напряжения и разрядки, имитируя другие формы удовольствия. Произведения искусства часто становятся общественным событием, вызывая эмоции у многих членов сообщества, что умножает удовольствие и дарит чувство общности. Диссанайк подчеркивает духовный аспект переживания искусства, которое, как она говорит, «делает вещи особенными»[36].
Искусство эксплуатирует еще одно психологическое свойство человека — жажду статуса. Один из универсальных признаков искусства в списке Даттона — неутилитарность, непрактичность. Но как ни странно, бесполезные вещи могут быть очень полезны для конкретной цели: оценки состоятельности владельца. Впервые на это обратил внимание Торстейн Веблен в своей теории социального статуса[37]. Мы не можем заглянуть в лицевой счет или в мобильный банк соседа, но есть хороший способ оценить его состоятельность — посмотреть, может ли он позволить себе тратить деньги на роскошь и досуг. Веблен писал, что психологию вкуса приводят в действие три «денежных канона»: расточительное потребление, расточительный досуг и расточительные траты. Они объясняют, почему символы статуса — это, как правило, изделия из редких материалов с применением сложных специальных умений или другие знаки того, что человек не должен зарабатывать на жизнь тяжелым физическим трудом, например изящная (а значит, непрактичная) или стесняющая движения одежда, дорогие и требующие времени хобби. По чудесному совпадению биолог Амоц Захави использовал тот же принцип для объяснения эволюции экстравагантных украшений животных, таких как хвост павлина[38]. Только очень здоровые павлины могут позволить себе превращать питательные вещества в дорогой и обременительный плюмаж. Павы сравнивают самцов по красоте хвостов, и эволюция выбирает обладателей самых лучших.
Хотя большинство ценителей с этим тезисом не согласны, но искусство, особенно элитарное, — это хрестоматийный пример расточительного потребления. Даже по определению у искусства нет никакой практической функции, и, как отмечает Даттон, искусство обязательно подразумевает мастерство (знак качества генов, свободное время для оттачивания навыков или и то и другое) и критику (оценивающую произведение и творца). В истории Европы изящные искусства и роскошь всегда шли рука об руку — вспомните пышное убранство оперных и театральных залов, богато украшенные рамы картин, торжественные костюмы музыкантов, обложки и переплеты старинных книг. Искусство и художники находились под покровительством аристократов или нуворишей, желающих немедленно обрести респектабельность. Да и сегодня картины, скульптуры и рукописи продаются по непомерным ценам (например, в 1990 году за картину Ван Гога «Портрет доктора Гаше» уплачено $82,5 млн).
В книге «Брачующийся разум» (The Mating Mind: How Sexual Choice Shaped Human Nature) психолог Джеффри Миллер доказывает, что стремление к творчеству — это репродуктивная тактика: способ впечатлить предполагаемых сексуальных и брачных партнеров качеством своего мозга и, следовательно, генов. Художественное мастерство, замечает он, не всем достается поровну, неврологически затратно, его трудно подделать, и оно щедро вознаграждается. Другими словами, художники сексуально привлекательны. Природа даже предлагает нам прецедент — шалашника, птичку, которая водится в Австралии и Новой Гвинее. Самцы строят хитроумные сооружения вроде беседки или шалаша и изощренно украшают их яркими элементами: орхидеями, раковинами улиток, ягодами и корой деревьев. Некоторые буквально красят свои шалаши полупереваренными остатками фруктов, используя в качестве кисти листья или кору. Самки оценивают постройки и спариваются с создателями наиболее симметричных и красиво украшенных. Миллер доказывает, что аналогия точна:
Если бы мы сумели взять у самца атласного шалашника интервью для журнала Artforum, он мог бы сказать что-то вроде: «Я нахожу совершенно необъяснимым это непреодолимое влечение к самовыражению, к игре с цветом и формой ради них самих. Я не могу припомнить, когда впервые ощутил это острое желание строить красочные, грандиозные и в тоже время минималистские декорации, но, когда я предаюсь своей страсти, я ощущаю свою связь с чем-то, что вне меня. Когда я вижу прекрасную орхидею высоко на дереве, я просто обязан завладеть ею. Когда я вижу, что какая-то ракушка в моем творении не на своем месте, я должен положить ее правильно… То, что самки иногда приходят на открытие моей галереи и восхищаются моей работой, — просто счастливое совпадение, но было бы оскорбительно думать, что я творю, чтобы размножаться». К счастью, шалашники не умеют говорить, так что мы вправе использовать половой отбор для объяснения их работы, а они не смогут нам возразить[39].
Я неравнодушен к мягкой версии этой теории, согласно которой одна из функций (не единственная) создания и обладания произведениями искусства — впечатлять других людей (не только предполагаемых партнеров) своим социальным статусом (а не только высоким качеством генов). Идея принадлежит Веблену, а историк искусств Квентин Белл и писатель Том Вулф развивали ее в художественной и научно-популярной литературе[40]. Возможно, главный ее поборник сегодня — социолог Пьер Бурдьё, доказывающий, что умение разбираться в сложных, с трудом поддающихся пониманию художественных произведениях служит членским билетом высшего общества[41]. Помните, что во всех этих теориях проксимальные и ультимальные причины могут не совпадать. Как и атласному шалашнику Миллера, мысли о статусе и приспособляемости могут и не приходить на ум людям, создающим искусство и наслаждающимся им, они могут просто рассуждать о том, как эволюционировало стремление к самовыражению и чувство прекрасного.
Независимо от того, что лежит в основе наших творческих инстинктов, эти инстинкты вознаграждают искусство способностью выходить за пределы времени, пространства и культуры. Как писал Юм, «общие принципы вкуса неизменны в человеческой природе… Тем же Гомером, которого почитали в Афинах и Риме две тысячи лет назад, до сих пор восхищаются в Париже и Лондоне»[42]. И хотя люди спорят, пуст ли стакан наполовину или наполовину полон, за изменчивостью культур действительно можно разглядеть универсальную человеческую эстетику. Даттон объясняет:
Важно отметить, с какой удивительной легкостью искусство выходит за пределы национальных культур: Бетховена и Шекспира обожают в Японии, японские принты — в Бразилии, греческие трагедии ставят на сценах всего мира, и, к большому сожалению местных киноиндустрий, голливудские фильмы пользуются широкой кросс-культурной популярностью… Даже индийская музыка… хотя поначалу звучит и непривычно для западного уха, полагается на ритмический пульс и ускорение, повторение, вариации и неожиданность, а также на модуляцию и божественно благозвучную мелодию: на самом деле все эти приемы можно найти и в западной музыке[43].
Область распространения человеческой эстетики еще шире. Рисунки в пещере Ласко, сделанные в конце раннего палеолита, завораживают и зрителей эпохи интернета. Лики Нефертити и Венеры Боттичелли появляются на обложках модных журналов XXI века. Сценарии героических мифов, повторяющиеся в бесчисленных традиционных культурах, с успехом были перенесены в сагу «Звездные войны». Собиратели западных музеев расхищали доисторические сокровища Африки, Азии и обеих Америк не ради этнографии, а потому, что покровители искусств желали созерцать их.
Универсальность базовых визуальных вкусов в 1993 году иронически продемонстрировали два художника — Виталий Комар и Александр Меламид, которые использовали результаты маркетинговых исследований рынка, чтобы оценить художественные вкусы американцев[44]. Они опрашивали респондентов об их предпочтениях относительно цвета, содержания, композиции и стиля и обнаружили значительное единообразие. Люди говорили, что им нравятся реалистичные пейзажи, написанные в нежных оттенках зеленого и голубого, где есть животные, женщины, дети и герои. Чтобы удовлетворить требования потребителей, Комар и Меламид соединили все характеристики в одной картине: приозерный пейзаж в стиле реализма XIX века, изображавший детей, оленей и Джорджа Вашингтона. Удивительно, но никто не был готов к тому, что произошло дальше. Когда художники повторили опрос в девяти других странах, включая Украину, Турцию, Китай и Кению, они обнаружили практически те же самые предпочтения: идеализированный ландшафт вроде тех, что печатаются на страницах календарей, с незначительными отклонениями от американских стандартов (бегемоты вместо оленей, к примеру). Что еще интереснее, эти творения в духе рекламы лакокрасочных компаний воплощают тот тип пейзажа, который исследователи эволюционной эстетики описывают как оптимальный для нашего биологического вида[45].
Арт-критик Артур Данто предложил другое объяснение: западные календари, да и другие предметы западного искусства и культуры, продаются по всему миру[46]. Многие интеллектуалы считают глобализацию западного стиля доказательством, что художественные вкусы случайны. Они заявляют, что люди демонстрируют схожие эстетические предпочтения только потому, что империализм, глобальный бизнес и электронные медиа экспортируют западные идеалы по всему миру. Возможно, здесь есть доля правды и многие придерживаются этой точки зрения по моральным причинам, ведь она подразумевает, что западная культура никак не превосходит остальные, так же как нет ничего второразрядного в туземных культурах, которые она вытесняет.
Но у этой медали есть и другая сторона. Западные общества отлично научились обеспечивать людей всем необходимым: чистая вода, эффективная медицина, разнообразная и обильная пища, мгновенная транспортировка и коммуникации. Они совершенствуют эти товары и услуги не из благожелательности, а из собственных интересов, а именно ради прибыли от их продажи. Возможно, индустрия эстетики также усовершенствовала способы дать людям то, что им нравится, — в нашем случае те виды искусства, которые обращаются к первичным вкусам человека: календарные пейзажи, популярные песни, голливудские мелодрамы и приключенческие фильмы. Так что, даже если какой-то вид искусства достиг расцвета на Западе, он может оказаться не случайной практикой, распространившейся по миру благодаря могучему флоту, а успешным продуктом, отвечающим универсальной человеческой эстетике. Звучит односторонне и евроцентрично, и я не стану слишком на этом настаивать, но здесь должна быть доля правды: если можно извлекать выгоду, потакая всеобщим человеческим вкусам, было бы удивительно, если бы предприниматели не воспользовались такой возможностью. И не настолько это евроцентрично, как кажется. Западная культура, так же как и западные технологии и западная кухня, жадно эклектична и присваивает себе любые ухищрения из любой культуры, с которой сталкивается, если это нравится людям. Яркий пример — один из важнейших культурных экспортов Америки — популярная музыка. Регтайм, джаз, рок, блюз, соул и рэп выросли из афро-американской музыки, которая изначально впитала африканские ритмы и вокальные стили.
* * *
Так что же такого произошло в 1910 году, что якобы изменило человеческую природу? В своих воспоминаниях Вирджиния Вулф много внимания уделяет Лондонской выставке картин постимпрессионистов — Сезанна, Гогена, Пикассо и Ван Гога. Это была первая публичная демонстрация движения, позже названного модернизмом, и в 1920-х, когда Вулф написала свою декларацию, движение захватывало власть в искусстве.
Модернисты определенно действовали так, как если бы человеческая природа поменялась. Они отбросили все приемы, которыми художники пользовались тысячелетиями, чтобы потрафить человеческим вкусам. В живописи реалистические изображения уступили место чудовищным искажениям формы и цвета, а затем абстрактным конструкциям, формам, пятнам и брызгам и, как в недавней комедии «Арт» (Art), живописи в $200 000, представляющей собой пустой белый холст. В литературе повествование от автора, структурированный сценарий и представление героев в порядке появления, а также общая читабельность вытеснены потоком сознания, событиями, описываемыми не по порядку, озадачивающими персонажами и странной причинной последовательностью, субъективным и бессвязным повествованием, написанным труднодоступным языком. Поэты часто отказывались от рифмы, размера, структуры и ясности. В музыке традиционный ритм и мелодия сдавали позиции атональным, серийным, диссонантным или 12-тоновым композициям. Архитекторы выбросили в окно декор, масштаб, соразмерный человеку, сады и парки, а также традиционное мастерство (или выбросили бы, если бы те окна открывались), а здания стали «машинами для жизни», коробками, сделанными из промышленных материалов. Модернистская архитектура достигла апогея в башнях из стекла и бетона, принадлежащих многонациональным корпорациям, и в заполонившей американские города унылой жилой застройке, в послевоенном британском муниципальном жилье и в советских многоквартирных домах.
Почему же художественная элита возглавила движение, призывающее к подобному мазохизму? Частично оно навязывалось как реакция на напыщенность Викторианской эпохи и наивную буржуазную веру в точные знания, неизбежность прогресса и справедливость общественного строя. Предполагалось, что странное, тревожное искусство напомнит людям, что мир сам по себе странное и тревожное место. Ту же мысль надлежало нести и науке. Согласно версии, проникшей в гуманитарные науки, Фрейд показал, что поведение диктуется бессознательными и иррациональными импульсами, Эйнштейн показал, что время и пространство могут быть определены только относительно наблюдателя, а Гейзенберг показал, что местоположение и движение объекта заведомо неопределенны, потому что на них влияет сам факт наблюдения. Намного позже эти словесные кружева физики вдохновили известный розыгрыш физика Алана Сокала, который с успехом опубликовал в журнале Social Text статью, наполненную бессмысленной наукообразной галиматьей[47].
Но модернизм хотел больше, чем просто нарушить спокойствие. Его прославление чистых форм, презрение к бесхитростной красоте и буржуазным удовольствиям имело разумное объяснение и было направлено на политические и духовные цели. В обзоре книги, защищающей миссию модернизма, критик Фредерик Тёрнер объясняет:
Великий проект модернистского искусства был нужен для распознания и излечения смертельной болезни современного человечества… [Его художественная миссия] — выявить и отвергнуть фальшивое чувство рутинного восприятия и интерпретативного обрамления, предлагаемого конформистским рыночным обществом, заставить нас непредвзято и по-новому ощущать непосредственную реальность нашими оголенными и обновленными чувствами. Это и терапевтическая работа, и духовная миссия, в которой сообщество таких преображенных человеческих существ теоретически способно создать лучшее общество. Враги процесса — кооптация, коммерческая эксплуатация бесконечно повторяемых образов и китч… Живой непосредственный опыт — к которому художники имеют естественный, как у детей, доступ — превращается в обыденность, фрагментируется и притупляется обществом до бесчувствия[48].
С 1970-х годов идеи модернизма развиваются в русле стилей и философий, названных постмодернизмом. Постмодернизм был еще более агрессивно релятивистичным, настаивая, что существует множество точек зрения на мир и ни одна из них не имеет преимущества перед другими. Он еще более страстно отрицал существование смысла, знания, прогресса и общих культурных ценностей. Он был более марксистским и паранойяльным, утверждая, что все притязания на истину и прогресс — это тактики политического доминирования, обслуживающие интересы белого гетеросексуального мужчины. Постмодернистская доктрина гласит, что массовое производство и распространение товаров, медиаобразов и сюжетов призвано сделать подлинное восприятие невозможным.
Цель постмодернистского искусства — помочь нам вырваться из этой тюрьмы. Художники пытаются заменить культурные мотивы и изобразительные приемы, заимствуя визитные карточки капитализма (рекламу, дизайн упаковки, фото в стиле пин-ап) и обезображивая их, преувеличивая или помещая в странный контекст. Самый ранний пример — Энди Уорхол и его картины: этикетки к консервированному супу и портреты Мэрилин Монро в неестественных цветах. Из более поздних — выставка «Черный мужчина» в Музее Уитни, описанная в главе 12, и фотографии Синди Шерман, на которых изображены гротескно собранные двуполые манекены. (Я видел их на выставке в Массачусетском технологическом институте, посвященной исследованию «женского тела как места действия конфликта желаний и женственности как сплетения социальных ожиданий, исторических предположений и идеологических конструкций».) В постмодернистской литературе авторы комментируют то, что пишут, в то время, пока они это пишут. В постмодернистской архитектуре материалы и детали различных типов зданий и исторических периодов соединяются нелепо и беспорядочно, как, например, навес из проволочной сетки над входом в роскошный шопинг-молл или коринфские колонны, не поддерживающие ничего на крыше узкого небоскреба. Постмодернистское кино содержит скрытые ссылки на процесс съемок или на ранее снятые фильмы. Вся эта ирония, рекурсивные аллюзии и оговорки, что произведение не нужно воспринимать всерьез, должны привлекать внимание к самой репрезентации, которую мы (в соответствии с доктриной) можем ошибочно принять за реальность.
* * *
Теперь, когда стало понятно, что́ модернизм и постмодернизм сделали с высоким искусством и гуманитарными науками, причины их заката и упадка становятся совершенно ясны. Эти движения основаны на ложной теории психологии человека, на «чистом листе». Они не смогли применить свою хваленую способность — отказ от притворства — к самим себе. И они лишили искусство всей его привлекательности!
Модернизм и постмодернизм руководствовались давно опровергнутой теорией восприятия: будто органы чувств доставляют в мозг необработанные цвета и звуки, а все остальное в чувственном восприятии — выученные социальные конструкции. Как мы видели ранее, визуальные системы мозга состоят из 50 областей, которые без труда превращают пиксели в поверхности, цвета, движения и трехмерные объекты. Мы не можем отключить эту систему и получить непосредственный доступ к чистому сенсорному опыту, как не можем захватить управление желудком и указывать ему, когда выделять пищеварительные соки. Более того, визуальная система не погружает нас в галлюцинации, не связанные с реальным миром. Она эволюционировала, чтобы обеспечивать нас информацией о важных вещах вокруг: камнях, обрывах, животных, других людях и их намерениях.
При этом наша внутренняя организация не ограничивается восприятием материальной структуры мира. Она расцвечивает визуальные впечатления универсальными эмоциями и эстетическим удовольствием. Маленькие дети предпочитают пейзажи из календарей картинкам, изображающим пустыни и густые леса, а дети в возрасте всего трех месяцев на красивые лица смотрят дольше, чем на обычные[49]. Младенцам больше нравятся гармоничные сочетания звуков, чем диссонирующие, а двухлетки любят слушать истории и начинают сочинять свои, играя в ролевые игры[50].
Когда мы видим нечто, сделанное другим человеком, мы оцениваем продукт его труда посредством интуитивной психологии, нашей теории разума. Мы не принимаем произведение искусства — текст или артефакт — за чистую монету, мы пытаемся угадать, что хотел сказать нам автор, какое впечатление он рассчитывал произвести (мы видели это в главе 12). Конечно, ловкий обманщик может провести публику, но она вовсе не заперта в ложном мире слов и образов и не нуждается в том, чтобы художники-постмодернисты ее спасали.
Художники и критики эпохи модерна и постмодерна не хотят признать еще одну черту человеческой природы, которая движет искусство: жажду статуса, особенно собственную жажду статуса. Мы знаем, что психология искусства связана с психологией признания, с ее вкусом к раритетам, роскоши, виртуозности и блеску. Загвоздка в том, что, когда люди ищут редкие вещи, предприниматели удовлетворяют спрос и делают их менее редкими, а когда ослепительное представление имитируется, оно становится рядовым явлением. В результате мы наблюдаем непрекращающуюся сменяемость стилей в искусстве. Психолог Колин Мартиндейл установил, что сложность, декоративность и эмоциональная заряженность любой художественной формы растет до тех пор, пока не исчерпан ее выразительный потенциал[51]. Затем внимание смещается на сам стиль, и в этот момент стиль уступает место новому. Мартиндейл считает, что движущая сила этого цикла — привыкание аудитории, но свою роль здесь играет и желание художников привлечь к себе внимание.
Отчаянный поиск все новых и новых приемов в искусстве XX века начался благодаря экономике массового производства и росту благосостояния среднего класса. Когда стали доступны фотоаппараты, репродукции, радиоприемники, аудиозаписи, журналы, фильмы, у обычных людей появилась возможность покупать искусство оптом. Трудно выделиться в качестве хорошего художника или проницательного знатока, если люди завалены этим добром по уши, и по большей части оно обладает достаточной художественной ценностью. Беда художников не в том, что популярная культура чрезвычайно плоха, а в том, что она очень хороша, по крайней мере временами. Искусство больше не может обеспечить художнику престиж только в силу уникальности или совершенства произведений, требуется уникальность ценителей. Как отмечает Бурдьё, лишь избранные и посвященные могут понять смысл новых произведений искусства. И когда прекрасные вещи штампуются и записываются огромными тиражами, выдающиеся произведения не обязаны быть прекрасными. Им даже лучше не быть такими, потому что сегодня любой дурак может позволить себе красивые вещи.
В результате модернистское искусство перестало пытаться взывать к чувствам. Напротив, оно шарахается от красоты как от чего-то слащавого и несерьезного[52]. В своей книге 1913 года «Искусство» (Art) критик Клайв Белл (зять Вирджинии Вулф и отец Квентина Белла) утверждал, что красоте не место в настоящем искусстве, поскольку она прижилась в обыденном опыте[53]. Люди используют слово «прекрасный» в выражениях вроде «прекрасная охота», писал он, или что еще хуже, в описании красивой женщины. Белл проникся современной ему бихевиористской психологией и утверждал, что обычный человек учится получать удовольствие от искусства в процессе павловского обусловливания. Ему нравится картина, только если на ней изображена красивая женщина; музыка — только если она вызывает «эмоции, схожие с теми, что вызывают юные девушки в музыкальных представлениях», а поэзия — только если она пробуждает чувства, которые он однажды питал к дочери викария. Тридцать пять лет спустя художник-абстракционист Барнетт Ньюман решительно заявил, что движущая сила современного искусства — это «желание уничтожить красоту»[54]. Постмодернисты были еще более пренебрежительны. Красота, говорят они, — это набор произвольных стандартов, продиктованных элитой. Она порабощает женщин, заставляя их соответствовать нереалистичным идеалам, и потворствует рыночно ориентированным коллекционерам[55].
Справедливости ради следует сказать, что модернизм объединяет много стилей и художников, и не все они отрицают красоту и прочие человеческие слабости. В лучших своих проявлениях модернистский дизайн совершенствовал визуальную элегантность и эстетику «форма-соответствует-функции», что стало приятной альтернативой вульгарной демонстрации богатства и безвкусице Викторианской эпохи. Эти художественные направления открыли новые стилистические возможности, включая африканские и тихоокеанские мотивы. Проза и поэзия предложили живительные интеллектуальные упражнения в противовес сентиментальному романтизму, рассматривающему искусство как спонтанный поток сознания и эмоций художника. Беда модернизма в том, что его философия не признавала направлений, доставляющих людям удовольствие. Когда отрицание красоты стало господствующей тенденцией, а эстетический успех модернизма получил одобрение со стороны коммерческой культуры (например, минимализм в графическом дизайне), модернизм не оставил художникам другого выхода.
Квентин Белл предположил, что, когда возможности жанра истощаются, люди прибегают к другим канонам статуса — он добавил их к списку Веблена. Демонстрируя «бунтарство», плохие мальчики (и девочки) бравируют своей способностью безнаказанно шокировать буржуазию[56]. Бесконечная кампания художников-постмодернистов по привлечению внимания пресыщенной публики прогрессировала от попыток озадачить аудиторию до самых изощренных оскорблений. Все слышали о печально известных примерах: фотографии Роберта Мэпплторпа, изображающие садомазохистский акт, «Piss Christ» Андреса Серрано (фото распятия, погруженного в сосуд с мочой автора), картина Криса Офили, изображающая Деву Марию, обмазанную слоновьим навозом, девятичасовой перформанс «Flag Fuck (с говядиной) № 17В», в котором Иван Хубияк танцевал на сцене, надев американский флаг как подгузник и обкладывая себя сырым мясом. Кстати, последнего на самом деле не было; все это выдумала сатирическая газета The Onion, разместившая статью «Акционист выводит Соединенные Штаты из дремотной апатии»[57]. Но держу пари, вы поверили.
Еще одним следствием стало то, что элитарное искусство теперь уже невозможно толковать без группы поддержки из критиков и теоретиков. Они не просто оценивают и интерпретируют искусство, но и наполняют его смыслом. Том Вулф написал книгу «Раскрашенное слово» (The Painted Word) после того, как прочитал искусствоведческий обзор в New York Times, критикующий реалистическую живопись за отсутствие в ней «чего-то очень важного», а именно «убедительной теории». Вулф объясняет:
Там и тогда я испытал озарение, известное как феномен «Ага!», и тайная жизнь современного искусства впервые открылась мне. Все эти годы я, как и многие другие, стоял перед тысячей, двумя тысячами, бог знает сколькими тысячами картин Поллока, де Кунинга, Ньюмана, Ноланда, Ротко, Раушенберга, Джадда, Джонса, Олицки, Луиса, Стилла, Франца Клайна, Франкенталера, Келли и Франка Стелла, то прищуриваясь, то широко открывая глаза, то отступая, то подходя ближе, — и ждал, ждал, все время ждал… этого. Что оно попадет в фокус, и я, наконец, получу зрительное вознаграждение (за такие-то настойчивые попытки). Должно же оно там быть, ведь каждый (весь мир) знает, что оно здесь, — и я ждал, что прямо сейчас, в этом зале какое-то излучение проникнет прямо с картин на этих неизменно белых стенах в перекрёст моих зрительных нервов. Короче говоря, все эти годы я предполагал, что уж где-где, а в живописи увидеть — значит поверить. О, как я был слеп! Но сегодня, 28 апреля 1974 года, я наконец прозрел. Просто раньше я понимал все наоборот. Не «увидеть — значит поверить», глупец, а «поверить — значит увидеть», потому что современное искусство стало полностью словесным: картины и прочие произведения существуют только для иллюстрации текста[58].
И постмодернизм снова довел эту крайность до последнего предела, когда теория затмевает содержание и сама становится своего рода перформансом. Теоретики постмодернизма, отталкиваясь от идей Теодора Адорно и Мишеля Фуко, не признают требований «ясности языка», потому что она якобы мешает «обдумывать мир более радикально» и подвергает текст опасности превратиться в товар массового потребления[59]. Этот подход вознаградил их постоянными победами в ежегодном Конкурсе плохих текстов (Bad Writing Contest), который «чествует наиболее жалкие с точки зрения стилистики пассажи, найденные в научных книгах и статьях»[60]. В 1998 году первый приз отошел Джудит Батлер, прославленному профессору риторики из Беркли, за следующее предложение:
Сдвиг от структуралистского подхода, в котором капитал понимается как структурирующий социальные отношения сравнительно гомологичными способами с точки зрения гегемонии, когда властные отношения — объект повторения, конвергенции и реартикуляции, привнес в осмысление структуры тему временности и ознаменовал сдвиг от теории Альтюссера, которая считает структурные общности теоретическими объектами, к теории, в которой осознание условной перспективы структуры представляет обновленную концепцию гегемонии как связанную с вероятными локациями и стратегиями реартикуляции власти.
Даттон, издатель журнала Philosophy and Literature, который проводит конкурс, заверил нас, что это не сатира. Это запрещено правилами: «В сфере, где настолько распространены случайные самопародии, умышленные пародии к участию не допускаются».
И последнее слепое пятно в человеческой природе — это неспособность современных художников и теоретиков вскрыть противоречия собственных нравственных притязаний. Художники и критики долгое время верили, что умение разбираться в элитарном искусстве облагораживает, и говорили об обывателях тоном, обычно приберегаемым для растлителей малолетних (подобный двойной смысл мы видим в слове варвар). Притязания на преобразование общества, сопровождающие модернизм и постмодернизм, — часть этой же традиции.
Хотя нравственная искушенность требует понимания истории и культурного многообразия, нет причины думать, будто элитарное искусство — предпочтительный способ добиться этого по сравнению с традиционной реалистической литературой или традиционным образованием. Простой факт: чем бы люди ни развлекались в свободное время, это не влечет за собой очевидных моральных последствий. Убеждение, что художники и ценители искусства нравственно превосходят других людей, — когнитивная иллюзия, порожденная фактом, что нейронные связи, отвечающие за нравственность, переплетаются с нейронной сетью статуса (см. главу 15). Как сказал критик Джордж Стайнер: «Мы знаем, что человек может по вечерам читать Гёте и Рильке, играть Баха и Шуберта, а по утрам отправляться на работу в Аушвиц»[61]. И наоборот, на Земле живет множество неграмотных людей, которые сдают кровь, рискуют своими жизнями в добровольных пожарных дружинах, усыновляют детей-инвалидов, но о современном искусстве думают примерно в духе: «Моя четырехлетняя дочь могла бы нарисовать не хуже».
Нравственный и политический бэкграунд художников-модернистов — не то, чем можно гордиться. Некоторые совершали недостойные поступки в личной жизни, многие поддерживали фашизм или сталинизм. Композитор-модернист Карлхайнц Штокхаузен описал террористические атаки 11 сентября 2001 года как «величайшее во Вселенной произведение искусства, которое только можно вообразить» и добавил с завистью, что «художники тоже иногда выходят за пределы возможного и постижимого, чтобы мы проснулись и открылись другому миру»[62]. Да и сама теория постмодернизма не особенно прогрессивна. Отрицание объективной реальности не сочетается с моральным прогрессом, поскольку не позволяет, например, утверждать, что рабство или холокост действительно имели место. И как подчеркивал Адам Гопник, политические послания большинства постмодернистских работ бесконечно банальны, например: «расизм — это плохо». Но эти послания преподносятся настолько неявно и двусмысленно, что наблюдатели чувствуют свое моральное превосходство просто потому, что оказались способны их понять.
Что же до насмешек над буржуазией, это просто поверхностное присвоение статуса без притязаний на нравственную или политическую добродетель. Дело в том, что ценности среднего класса — личная ответственность, преданность семье и социальному окружению, избегание мачистской агрессии, уважение к либеральной демократии — это правильные вещи. Бо́льшая часть мира хочет влиться в ряды буржуазии, а большинство художников — вполне добропорядочные члены общества, перенявшие некоторую богемную манерность. Принимая во внимание историю XX века, вряд ли можно винить буржуа за упорное нежелание присоединиться к утопическим революциям. А если они хотят повесить над своей кроватью картину с изображением красного амбара или рыдающего клоуна — это вообще не наше дело.
Господствующие теории элитарного искусства и критики в XX веке выросли из агрессивного отрицания человеческой природы. Из этого следует, во-первых, уродливое, озадачивающее и оскорбительное искусство, а во-вторых — претенциозное и невразумительное гуманитарное образование. И они еще удивляются, что люди в массе своей держатся от них подальше?
* * *
Но все начинает меняться. Посетителям музеев наскучили бесчисленные экспозиции с женским телом, изображающие расчлененные торсы, или сотни фунтов жира, обгрызенного и выставленного художником на всеобщее обозрение[63]. Выпускники факультетов гуманитарных наук в письмах и в личном общении сокрушаются, что не котируются на рынке труда, если не пишут псевдонаучную тарабарщину, вкрапляя в нее время от времени авторитетные имена вроде Фуко или Батлер. Независимые исследователи избавляются от шор, которые мешали им увидеть потрясающие прорывы в науках о человеческой природе. А новое поколение художников задается вопросом, каким образом мир искусства загнал себя в такое странное место, где красота стала ругательством.
Эти потоки недовольства сливаются в новую философию искусства, ту, что не противоречит науке и уважает ум и чувства человека. Она выкристаллизовывается как в среде художников, так и в сообществе критиков и исследователей.
В 2000 году композитор Стефания де Кенесси в шутку провозгласила новое «движение» в искусстве, «дерьергард» — в противоположность авангарду: оно воспевает красоту, технику исполнения и сюжет[64]. И если вы думаете, что идея слишком безобидна, чтобы принимать ее всерьез, обдумайте ответ директора галереи Уитни, святилища элиты расчлененных торсов, который назвал членов движения «подпольной кучкой нацистских консервативных болтунов»[65]. Идеи, близкие дерьергарду, получили свое развитие в движениях, названных «радикальный центр», «естественный классицизм», «новый формализм», «новый нарративизм», «стакизм», «возвращение красоты» и «"нет" постмодернизму» (no mo po mo — No More Postmodernism)[66]. Они соединяют высокую и низкую культуру и противостоят как постмодернистским левым, с их презрением к красоте и художественному мастерству, так и культурным правым, с их узкими канонами «шедевров» и страшилками адских мук конца цивилизации. К ним присоединяются музыканты с классическим образованием, комбинирующие классические и популярные композиции, художники и скульпторы-реалисты, поэты, писатели-публицисты, акционисты и постановщики танцев, не гнушающиеся ритмом и мелодией.
В академических кругах растет число бунтарей, которые обращаются к эволюционной психологии и когнитивной науке в попытках вернуть человеческую природу в центр внимания искусства. Среди них Брайан Бойд, Джозеф Кэррол, Денис Даттон, Нэнси Истерлин, Дэвид Эванс, Джонатан Готтшолл, Пол Хернади, Патрик Хоган, Элейн Скарри, Венди Стайнер, Роберт Стори, Фредерик Тёрнер и Марк Тёрнер[67]. Хорошо понимать, как работает мозг, жизненно необходимо и для искусства, и для гуманитарных наук, и на то есть минимум две причины.
Первая: настоящий носитель идей художника, в каком бы жанре он ни работал, — это мысленные представления людей. Написанные маслом картины, движущиеся конечности или напечатанные слова не могут проникнуть в мозг напрямую. Они лишь запускают каскад нейронных событий, который начинается в органах чувств и достигает кульминации в мыслях, эмоциях и воспоминаниях. Когнитивная наука и нейронаука, которые составляют карты этих событий, с избытком обеспечат информацией любого, кто захочет понять, как художники добиваются результата. Исследования зрительного восприятия могут пролить свет на живопись и скульптуру[68]. Психоакустика и лингвистика обогащают исследования музыки[69]. Лингвистика способна многое открыть в поэзии, метафорах и литературном стиле[70]. Исследования мысленных образов помогают объяснить приемы повествовательной прозы[71]. Теория разума (интуитивная психология) может пролить свет на нашу способность наслаждаться воображаемыми мирами[72]. Исследования зрительного внимания и краткосрочной памяти помогают объяснить впечатления от кинематографа[73]. А эволюционная эстетика объясняет чувство прекрасного и радость, которые сопровождают все эти акты восприятия[74].
Интересно, что ранние художники-модернисты были жадными потребителями исследований восприятия. Вероятно, с ними их познакомила Гертруда Стайн, которая изучала психологию в Гарварде и под руководством Уильяма Джеймсапроводила исследования зрительного внимания[75]. Дизайнеры и художники Баухауса тоже были ценителями психологии восприятия, особенно современной им школы гештальта[76]. Но общность была утеряна, когда две культуры разошлись в разные стороны, а обратное движение навстречу друг другу они начали совсем недавно. Я предполагаю, что область приложения когнитивной науки и эволюционной психологии к искусству в критике и в гуманитарных науках будет только расширяться.
Вторая причина, возможно, еще важнее. Главное, что притягательно для нас в произведении искусства, — это не просто чувственный опыт художника, а эмоциональное содержание, проникновение в суть человеческого существования. Это разговор о вечных трагедиях нашего биологического статуса: о смертности, конечности знаний и мудрости, о разнице между нами и о конфликтах интересов с друзьями, соседями, родственниками и любимыми. Все эти темы — предмет наук о человеческой природе.
Идея, что искусство должно отражать вечные и универсальные качества человека как вида, не нова. Сэмюэл Джонсон в предисловии к своему изданию пьес Шекспира так комментирует неизменную привлекательность произведений этого великого интуитивного психолога:
Ничто не может нравиться многим и нравиться так долго, как беспристрастное изображение природы человека. Конкретный образ действий и поведения могут быть известны немногим, и мало кто может судить, насколько точно они воспроизведены. Беспорядочные сочетания фантастических выдумок способны на какое-то время впечатлить той новизной, на поиски которой нас толкает обычная пресыщенность жизнью; но удовольствия от внезапного удивления скоро наскучивают, и разум откликается лишь на вечные истины.
Возможно, сегодня мы наблюдаем новое сближение науки и искусства в изучении человека в целом — не потому, что представители естественных наук пытаются взять верх над гуманитариями, а потому, что художники и гуманисты обращаются к науке или, по крайней мере, к научному образу мыслей, который смотрит на человека как на вид, одаренный сложными психологическими способностями. Объясняя эту связь, я не могу соревноваться в красноречии с самими художниками и завершу главу высказываниями трех выдающихся авторов.
Айрис Мердок, одержимая мыслями о происхождении нравственного чувства, так объясняет его живучесть в художественной литературе:
Во многом, если не во всем, мы приходим к тем же моральным суждениям, что и греки, мы узнаем хороших и достойных людей в литературе далеких от нас времен. Патрокл, Антигона, Корделия, мистер Найтли, Алеша. Неизменная доброта Патрокла. Честность Корделии. Алеша, который говорит отцу, что не стоит бояться ада. То, что Патрокл должен быть добр к плененным женщинам, так же важно, как и то, что Эмма должна быть добра к мисс Бэйтс, и в обоих случаях мы чувствуем эту важность непосредственно и естественно, несмотря на то что авторов разделяет почти три тысячи лет. Какое, если вдуматься, блестящее доказательство существования неизменной человеческой природы[77].
Антония Сьюзен Байетт, которую редакторы журнала New York Times попросили назвать лучшее повествование тысячелетия, выбрала историю Шахерезады:
Сказки «Тысячи и одной ночи»… о том, что никогда не перестанут рассказывать истории о любви, о жизни и смерти, о деньгах, о пище и других человеческих нуждах. Повествование — это такая же часть человеческой природы, как дыхание или циркуляция крови. Модернистская литература пыталась покончить с рассказыванием историй, считая его вульгарным, заменяя его ретроспекциями, озарениями, потоком сознания. Но рассказывание историй свойственно биологическому времени, которого мы не можем избежать. Жизнь, сказал Паскаль, напоминает тюрьму, из которой каждый день забирают узников на казнь. Мы все, как Шахерезада, приговорены к смерти, и мы все думаем о своей жизни как о повествовании, со своим началом, серединой и концом[78].
Джон Апдайк, которого на рубеже веков тоже попросили высказаться, говорил о будущем своей профессии. «Писатель — профессиональный лжец, парадоксальным образом одержимый вопросом, что есть правда», — написал он, и «единица измерения истины, по крайней мере для прозаика, — это человеческое существо, принадлежащее виду Homo sapiens, неизменному по крайней мере последние 100 000 лет».
Эволюция движется медленнее истории и гораздо медленнее технологий последних столетий; и конечно, социобиология, к моему удивлению жестко раскритикованная в некоторых научных источниках, выполняет полезную функцию, исследуя вопрос о том, какие черты врожденные, а какие приобретенные. Какое культурное программное обеспечение могут поддерживать наши продвинутые аппаратные средства? Художественная литература, продвигаясь на ощупь, дошла до того неудобного момента, когда общество хочет больше, чем могут или желают предоставить его члены. Обычные люди, сталкивающиеся на страницах, — вот что согревает наши руки и сердца, когда мы пишем…
Быть человеком — значит существовать в драматическом положении сознательно ожидающего смерти сладострастного животного. Ни одно другое земное создание не страдает от такого умения мыслить, от такой многогранности предвиденных, но упущенных возможностей, от такой удручающей способности оспаривать требования рода и природы.
Такое противоречивое и изобретательное создание — бесконечно занимательный объект для литературы. Я думаю, правда, что Homo sapiens никогда и ни в какой утопии не обустроится так комфортно, чтобы смягчились все его конфликты и исчезли излишне расплодившиеся потребности[79].
У литературы есть три голоса, сказал Роберт Стори: голос автора, голос читателя и голос вида[80]. Эти писатели напоминают нам о голосе вида, неотъемлемой составной части всех искусств, и теме, которая отлично подходит для того, чтобы завершить мое собственное повествование.
ЧАСТЬ VI. ГОЛОС ВИДА
«Чистый лист» был привлекательной идеологией. Он обещал сделать расизм, сексизм и классовые предубеждения фактически несостоятельными. Он представлялся бастионом, защищающим от образа мыслей, который приводил к этническому геноциду. Он ставил своей целью помешать людям раньше времени опустить руки и отказаться от попыток предотвратить социальные болезни. Он выдвинул на первый план вопросы обращения с детьми, с нецивилизованными народами и низшими слоями общества. «Чистый лист» стал частью светской веры и, как кажется, основой общепринятых правил приличия нашего времени.
Но у «чистого листа» была и есть и темная сторона. Пустоту, которую он оставил на месте человеческой природы, с готовностью заполнили тоталитарные режимы, и он никак не помог предотвратить геноциды. Он превращает образование, воспитание детей и искусство в формы социальной инженерии. Он заставляет страдать работающих матерей и родителей, чьи дети оказались не такими, какими они хотели бы их видеть. Он грозит запретом биомедицинских исследований, которые могли бы облегчить страдания людей. Его спутник, «благородный дикарь», вызывает неуважение к принципам демократии и «правлению законов, а не людей». Он ослепляет нас, не давая увидеть слабые стороны нашего мышления и морали. А в вопросах политики он отдает предпочтение не поиску работающих решений, а душещипательным догмам.
«Чистый лист» вовсе не идеал, на который мы все должны надеяться и молиться, чтобы он оказался правдой. Нет, это антижизненная, античеловечная теоретическая абстракция, отрицающая нашу общую человечность, врожденные потребности и личные предпочтения. Хотя провозглашается, будто он превозносит наш потенциал, на самом деле он делает противоположное, так как наш потенциал порождается комбинацией и взаимодействием удивительно сложных способностей, а не инертной пустотой чистой таблички.
Независимо от его положительных и отрицательных следствий «чистый лист» — это эмпирическая гипотеза о функционировании мозга, и ее нужно оценивать в свете того, верна она или нет. Современные науки о разуме, мозге, генах и эволюции все более убедительно демонстрируют ее ошибочность, что провоцирует безнадежные попытки спасти «чистый лист», уродуя науку и интеллектуальную жизнь: отрицая существование объективности и истины, сводя проблемы до дихотомий, подменяя факты и логику политической риторикой.
«Чистый лист» так закрепился в интеллектуальной жизни, что перспектива обходиться без него может вызывать глубокое беспокойство. В самых разных вопросах — от воспитания детей до сексуальности, от натуральной пищи до насилия — идеи, которые, как казалось, безнравственно даже ставить под вопрос, оборачиваются не только сомнительными, но, скорее всего, неверными. Даже люди, свободные от идеологического давления, чувствуют головокружение, когда узнают, что эти табу сломаны: «О дивный новый мир, где обитают такие люди!» Неужели наука ведет нас туда, где предубеждения — это нормально, где о детях можно не заботиться, где приемлем макиавеллизм, где неравенство и насилие встречают с покорностью, где к людям относятся как к машинам?
Вовсе нет! Разорвав цепи, которыми общечеловеческие ценности прикованы к отживающим догмам, мы только проясняем смысл этих ценностей. Мы понимаем, почему осуждаем предубежденность, жестокое отношение к детям и насилие над женщинами, и можем сфокусировать наши усилия на достижении самых важных для нас целей. Так мы защищаем эти цели от потрясений, вызванных новым пониманием реальности, которым бесконечно снабжает нас наука.
В любом случае отказ от «чистого листа» не настолько радикален, как может показаться сначала. Действительно, это революция во многих областях современной интеллектуальной жизни. Но она не перевернет мировоззрения большинства людей, за исключением кучки интеллектуалов, которые позволили своим теориям овладеть ими. Я подозреваю, что на самом деле немногие в глубине души верят, что мальчики и девочки взаимозаменяемы, что уровень интеллекта полностью зависит от среды, что родители могут в ручном режиме настраивать личность своего ребенка, что люди рождаются свободными от эгоистичных склонностей или что прекрасные истории, мелодии и лица — случайные социальные конструкции. Маргарет Мид, икона эгалитаризма XX века, говорила дочери, что сама она относит свой интеллектуальный талант на счет генов, и я могу подтвердить, что подобное раздвоение личности свойственно многим представителям академических кругов[1]. Ученые, которые публично отрицают, что интеллект — это важное понятие, в своей профессиональной жизни относятся к нему далеко не так, словно он не имеет значения. Те, кто утверждает, что межполовые различия— обратимая социальная конструкция, вовсе так не думают, когда дают советы своим дочерям, когда общаются с противоположным полом, беспечно сплетничают, шутят и размышляют о жизни.
Признание человеческой природы не равносильно перевороту в нашем личном мировоззрении, и мне нечего было бы предложить взамен, если бы так случилось. Это значит только вытащить интеллектуальную жизнь из параллельной вселенной и вернуть ее в лоно науки и с помощью науки — в лоно здравого смысла. В противном случае мы сделаем интеллектуальную жизнь все более бесполезной для человеческих дел, интеллектуалов превратим в лицемеров, а всех остальных — в антиинтеллектуалов.
Ученые и мыслители — не единственные, кого интересует, как работает разум. Мы все психологи, а некоторые люди даже без профессиональных дипломов — великие психологи. Среди них поэты и прозаики, чья работа, как мы видели в предыдущей главе, — «беспристрастное изображение общей природы». Парадоксально, но в сегодняшнем интеллектуальном климате писатели имеют больше прав говорить правду о человеческой природе, чем ученые. Искушенные люди посмеиваются над оптимистичными комедиями и приторными мелодрамами, в которых все проблемы разрешаются и наступает всеобщее благоденствие. Мы видим, что жизнь совсем не такая, и в поисках знаний о болезненных жизненных дилеммах обращаемся к искусству.
Однако, когда дело касается наук о человеке, та же самая аудитория говорит: дайте нам дешевой сентиментальности! «Пессимизм» воспринимается как повод для критики изучения человеческой природы, и люди ожидают, что научные теории будут источником сентиментального воодушевления. «У Шекспира не было совести. Нет ее и у меня», — сказал Джордж Бернард Шоу. Это не признание в психопатии, а подтверждение долга хорошего сценариста принимать всерьез точку зрения каждого персонажа. Исследователи человеческого поведения связаны теми же обязательствами, и им для этого не требуется отключать совесть в своей профессиональной деятельности.
Поэты и прозаики привнесли в эту книгу больше остроумия и силы, чем мог надеяться любой академический писака, и это позволит мне завершить книгу обзором главных ее тем, не прибегая к скучным повторам. Впереди нас ждет пять отрывков из художественных произведений, в которых, на мой взгляд, схвачены некоторые нравственные аспекты наук о человеческой природе. Они подчеркивают, что открытия этих наук следует встречать без страха и отвращения, а с уравновешенностью и проницательностью, свойственным нашим вечным раздумьям о природе человека.
* * *
Мозг шире неба: если их, Поставив в ряд, сравним, Легко вместит и небо он, И нас впридачу с ним. И глубже мозг, чем океан. Стихия тут одна. Утонут в море небеса И осушат до дна. По весу мозг — почти что Бог, А если есть сомненье, Сравните просто звук и слог — Вот все их расхожденье.Первые два четверостишия стихотворения Эмили Дикинсон «Мозг шире неба» показывают грандиозность разума как проявления работы мозга[2]. И здесь, и в других своих стихах Дикинсон упоминает «мозг», а не «душу» и даже не «разум», как будто чтобы напомнить читателям, что место, где гнездятся наши мысли и впечатления, — это кусок материи. Да, в каком-то смысле наука «низводит» нас до психологических процессов не очень привлекательного органа весом в три фунта. Но какого органа! В своей завораживающей сложности, бурных комбинаторных вычислениях и бесконечной способности воображать реальные и гипотетические миры мозг действительно шире, чем небесный свод. Само стихотворение доказывает это. Просто чтобы понять сравнения в каждой строфе, мозг читателя должен вместить небо и впитать море и соотнести их с мозгом.
Загадочная последняя строфа, с ее потрясающим образом Бога и мозга, которые взвешивают, словно капусту, озадачивал читателей с момента опубликования стихотворения. Одни понимают ее как креационизм (Бог создал мозг), другие — как атеизм (мозг выдумал Бога). То же самое и с фонологией: звук — это плавный континуум, а слог — выделенная в нем единица, что предполагает своего рода пантеизм: Бог везде и нигде, и в мозге каждого воплощается конечная мера Божественности. Лазейка «а если есть сомненье» предполагает и мистицизм — мозг и Бог могут каким-то образом оказаться одним и тем же, — и, конечно, агностицизм. Амбивалентность совершенно точно умышленная, и я сомневаюсь, что кому-нибудь удастся доказать, что верна только какая-то одна интерпретация.
Мне нравится читать эти строки как предположение, что мозг, обдумывая свое место во Вселенной, в какой-то момент достигает собственных пределов и натыкается на загадки, которые, как кажется, принадлежат другому, Божественному миру. Так, свобода воли и субъективный опыт чужды нашей концепции причинности и кажутся Божественной искрой в нас. Мораль и смысл ощущаются как принадлежащие к реальности, существующей независимо от наших суждений. Но эта отдельность может быть иллюзией, созданной мозгом, и тогда мы не можем не думать, что они существуют отдельно от нас. У нас нет способа узнать это наверняка, потому что мы и есть наш мозг, и не можем выйти за его пределы, чтобы проверить это предположение. Но если мы даже и в ловушке, на такую ловушку грех жаловаться, потому что она шире, чем небо, глубже, чем море, и, возможно, так же весома, как Господь Бог.
* * *
Рассказ Курта Воннегута «Гаррисон Бержерон» настолько же прозрачен, насколько загадочно стихотворение Дикинсон. Вот как он начинается:
Был год 2081-й, и в мире наконец воцарилось абсолютное равенство. Люди стали равны не только перед Богом и законом, но и во всех остальных возможных смыслах. Никто не был умнее остальных, никто не был красивее, сильнее или быстрее прочих. Такое равенство стало возможным благодаря 211, 212 и 213-й поправкам к Конституции, а также неусыпной бдительности агентов Генерального уравнителя США[3] .
Генеральный уравнитель добивается равенства, компенсируя любые врожденные (следовательно, незаслуженные) достоинства. Умные люди должны носить в ухе радиоприемник, настроенный на правительственный передатчик, который каждые 20 секунд транслирует резкий шум (например, звук, который издает разбитая молотком молочная бутылка), что мешает им пользоваться незаслуженными преимуществами их мозга. Балерины увешаны мешочками со свинцовой дробью, а их лица закрыты масками, чтобы никто не почувствовал неудобства, увидев кого-то симпатичнее или грациознее себя. Дикторов телевидения отбирают по дефектам речи. Герой рассказа — всесторонне одаренный подросток, которого заставляют носить наушники, тяжелые очки, 300 фунтов железного лома и черные наклейки на зубах. Рассказ повествует о его неудавшемся бунте.
Хотя и довольно прямолинейно, но остроумно, «Гаррисон Бержерон» доводит до абсурда весьма популярное заблуждение. Идеал политического равенства — не гарантия, что люди по природе своей не отличаются друг от друга. Это установка относится к людям в определенных сферах (правосудие, образование, политика) с учетом их личных заслуг, а не среднегрупповых значений. Это принцип, требующий признания неотъемлемых прав за всеми без исключения просто потому, что это чувствующие человеческие существа. Тем, кто настаивает, что люди должны добиваться идентичных результатов, придется заставить расплачиваться за это самих людей, которые, как все живые существа, не поровну одарены природой. Талант по определению редкость, и полностью реализовать его можно только при редком стечении обстоятельств, поэтому легче силком всех уравнять, обрубив верхушку (и лишая всех плодов человеческих талантов), чем подтягивать отстающих. У Воннегута в Америке 2081 года стремление уравнять достижения разыграно как фарс, но в XX веке оно часто приводило к реальным преступлениям против человечества, и в нашем обществе даже сама эта тема часто табуирована.
Воннегут — любимый всеми автор, и его никогда не называли расистом, сексистом, сторонником элитизма или социальным дарвинистом. Вообразите реакцию публики, если бы он изложил свое послание в декларативном тоне, а не в форме сатирического рассказа. В каждом поколении есть свои признанные насмешники — от шутов в шекспировских пьесах до Ленни Брюса, — озвучивающие истины, которые нельзя упоминать в приличном обществе. Сегодняшние юмористы по совместительству, вроде Воннегута, и на полной ставке, вроде Ричарда Прайора, Дэйва Барри и авторов The Onion, продолжают эту традицию.
* * *
Антиутопия Воннегута разворачивалась как фарс длиною в рассказ, но наиболее известные из таких фантазий становились кошмарами длиною в роман. Книга Джорджа Оруэлла «1984» — яркое изображение того, какой стала бы жизнь, если бы репрессивные цепи общества и правительства протянулись в будущее. В те полвека, что прошли с публикации романа, многие социальные усовершенствования подвергались осуждению, потому что вызывали ассоциации с миром Оруэлла: правительственные эвфемизмы, внутренние паспорта, камеры видеонаблюдения, личные данные в интернете и даже персональные компьютеры IBM — в первой телерекламе компьютеров Макинтош. Ни одно литературное произведение не повлияло с такой силой на мнения людей о проблемах реального мира.
Роман «1984» стал незабываемым произведением художественной литературы, а не просто обличительным политическим выступлением, потому что Оруэлл до мелочей продумал механизм работы вымышленного им общества. Каждая деталь кошмара переплетается с остальными, рисуя яркую и убедительную картину: вездесущее правительство, вечная война с меняющимся врагом, тоталитарный контроль СМИ и частной жизни, новояз, постоянная угроза личного предательства.
Менее известно, что у режима была ясно сформулированная философия. Правительственный агент О'Брайен объясняет ее Уинстону Смиту в душераздирающих эпизодах, в которых Уинстон привязан к столу, а О'Брайен попеременно то пытает, то поучает его. Философия режима целиком и полностью постмодернистская, объясняет О'Брайен (не используя, конечно, самого слова). Когда Уинстон говорит, что Партия не может воплотить свой лозунг «Кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее; кто контролирует настоящее, тот контролирует прошлое», О'Брайен отвечает ему:
Действительность вам представляется чем-то объективным, внешним, существующим независимо от вас. Характер действительности представляется вам самоочевидным. Когда, обманывая себя, вы думаете, будто что-то видите, вам кажется, что все остальные видят то же самое. Но говорю вам, Уинстон, действительность не есть нечто внешнее. Действительность существует в человеческом сознании — и больше нигде. Не в индивидуальном сознании, которое может ошибаться и в любом случае преходяще, — только в сознании партии, коллективном и бессмертном[4] .
О'Брайен признает, что для определенных целей, например чтобы переплыть океан, полезно исходить из того, что Земля вращается вокруг Солнца и что в далеких галактиках есть звезды. Но, продолжает он, Партия могла бы использовать и альтернативную астрономию, в которой Солнце вращается вокруг Земли, а звезды — огоньки в нескольких километрах от нас. И хотя О'Брайен в этой сцене такого не говорит, новояз — это окончательная «тюрьма языка», «язык, который выдумывает человека и его "мир"».
Наставления О'Брайена должны бы привести в замешательство защитников постмодернизма. Есть ирония в том, что философия, которая гордится своей деконструкцией атрибутов власти, должна поддерживать релятивизм, который делает вызов власти невозможным, поскольку отрицает, что существуют объективные критерии, по которым можно оценить ложь власть имущих. По тем же причинам отрывок должен заставить задуматься и радикальных ученых, которые настаивают, что приверженность теориям об объективной реальности (включая теории о человеческой природе) на самом деле орудие защиты интересов господствующего класса, пола и расы[5]. Без понятия объективной истины интеллектуальная жизнь деградирует и превращается в борьбу за наилучшее применение грубой силы для «контроля над прошлым».
Вторая заповедь философии Партии — это доктрина суперорганизма:
Неужели вы не понимаете, Уинстон, что индивид — всего лишь клетка? Усталость клетки — энергия организма. Вы умираете, когда стрижете ногти?[6]
Учение, что общность (культура, общество, класс, пол) — это живое существо со своими собственными интересами и системой убеждений, лежит в основе политической философии марксизма и социологической традиции Дюркгейма. Оруэлл показывает ее темную сторону: исключение индивидуума — единственной сущности, которая непосредственно ощущает боль и удовольствие, — как всего лишь детали, которая существует, чтобы воплощать интересы целого. Мятеж Уинстона и его любовницы Джулии начался с увлечения простыми человеческими удовольствиями — сахар и кофе, белая писчая бумага, личный разговор, страстные занятия любовью. О'Брайен прямо заявляет, что такой индивидуализм терпеть не станут: «Не будет иной верности, кроме партийной верности. Не будет иной любви, кроме любви к Большому Брату»[7] .
Партия также полагает, что эмоциональные связи семьи и друзей — дурные привычки, мешающие спокойному функционированию общества:
Мы искореняем прежние способы мышления — пережитки дореволюционных времен. Мы разорвали связи между родителем и ребенком, между мужчиной и женщиной, между одним человеком и другим. Никто уже не доверяет ни жене, ни ребенку, ни другу. А скоро и жен и друзей не будет. Новорожденных мы заберем у матери, как забираем яйца из-под несушки. Половое влечение вытравим… Не будет различия между уродливым и прекрасным[8] .
Трудно читать этот отрывок и не думать об энтузиазме, который сегодня сопровождает предположения, что просвещенные высокопоставленные чиновники будут перекраивать воспитание детей, искусство и отношения между полами в попытках построить лучшее общество.
Конечно, романы-антиутопии так впечатляют благодаря гротескным преувеличениям. Сатира способна выставить любую идею в ужасающем виде, даже если она вполне разумна в умеренной версии. Я не хочу сказать, что забота об интересах общества или об улучшении отношений между людьми — это шаг к тоталитаризму. Но сатира демонстрирует, как популярные идеологии могли забыть об обратной стороне: в нашем случае, как идея, что язык, мышление и эмоции — это социальные договоренности, развязывает социальным инженерам руки для опытов по их реформированию. Но если мы знаем о ее недостатках, мы больше не должны относиться к какой-либо идеологии как к священной корове, с которой необходимо соотносить реальные открытия.
И наконец, мы добрались до сути партийной философии. О'Брайен разнес все аргументы Уинстона, разбил все его надежды. Он сказал: «Если вам нужен образ будущего, вообразите сапог, топчущий лицо человека — вечно». К концу этого диалога О'Брайен раскрывает убеждение, которое делает весь этот кошмар возможным (и ошибочность которого, как предполагаем мы, сделает его невозможным).
Как всегда, его голос поверг Уинстона в состояние беспомощности. Кроме того, Уинстон боялся, что, если продолжать спор, О'Брайен снова возьмется за рычаг. Но смолчать он не мог. Бессильно, не находя доводов, — единственным подкреплением был немой ужас, который вызывали у него речи О'Брайена, — он возобновил атаку:
— Не знаю… все равно. Вас ждет крах. Что-то вас победит. Жизнь победит.
— Жизнью мы управляем, Уинстон, на всех уровнях. Вы воображаете, будто существует нечто, называющееся человеческой натурой, и она возмутится тем, что мы творим, — восстанет. Но человеческую натуру создаем мы. Люди бесконечно податливы[9] .
* * *
Три нравоучительных произведения, о которых я рассуждал выше, не связаны с определенным местом или временем. Остальные два — другие. Место, время и культура в них очень важны. И то и другое передает язык своих героев, среду и жизненную философию. И оба автора просят своих читателей не делать обобщений. Впрочем, они были тонкими знатоками человеческой природы, и я думаю, что не погрешу против них, представив эпизоды из их книг под таким углом.
Извлекать какие бы то ни было уроки из книги Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна» особенно опасно, поскольку сам автор начал свой рассказ с предупреждения: «Лица, которые попытаются найти в этом повествовании мотив, будут отданы под суд; лица, которые попытаются найти в нем мораль, будут сосланы; лица, которые попытаются найти в нем сюжет, будут расстреляны». Это не помешало легиону критиков найти в ней и то и другое. «Гекльберри Финн» показывает нам и недостатки довоенного Юга, и слабости человеческой природы, какими их увидели два благородных дикаря, сплавляясь вниз по Миссисипи.
«Гекльберри Финн» смакует разнообразные человеческие несовершенства, но, возможно, самое трагикомичное из них — происхождение насилия в культуре чести. На самом деле культура чести — это психология чести: комплекс эмоций, в который входит верность роду, жажда мести и стремление обрести репутацию крутого удальца. Приправленная другими человеческими грехами — завистью, похотью, самообманом, — она может запустить порочный круг насилия, каждая сторона которого считает невозможным отказаться от мести. В некоторых регионах цикл насилия может расширяться, втягивая все новых участников — и среди них американский Юг.
Гек встречается с культурой чести дважды. Первый раз — когда прячется на плоту, которым управляют нагрузившиеся под завязку «люди свирепого вида». Когда один из них собирается затянуть 14-й куплет непристойной песенки, завязывается перебранка по довольно безобидному поводу и двое мужчин затевают драку.
[Боб, самый здоровенный из них] подпрыгнув, снова щелкнул каблуками и завопил: «У-ух! Я настоящий старый убийца, с железной челюстью, стальной хваткой и медным брюхом, я трупных дел мастер из дебрей Арканзаса! Смотрите на меня! Я тот, кого прозвали "Черной Смертью" и "Злой Погибелью"! Отец мой ураган, мать — землетрясение, я сводный брат холеры и родственник черной оспы с материнской стороны. Смотрите на меня! Я проглатываю на завтрак девятнадцать аллигаторов и бочку виски, когда я в добром здоровье, или бушель гремучих змей и мертвеца, когда мне нездоровится. Я раскалываю несокрушимые скалы одним взглядом и могу перереветь гром! У-ух! Отойди все назад! Дайте моей мощи простор! Кровь — мой излюбленный напиток, и стоны умирающих — музыка для моего слуха! Обратите на меня ваши взоры, джентльмены, и замрите, затаив дыхание, — вот я сейчас выйду из себя!»
Тогда тот, который начал ссору… подпрыгнул трижды, щелкая в воздухе каблуками… и тоже стал выкрикивать: «У-ух! Склоните головы и падите ниц, ибо приблизилось царство скорби! Держите меня, не пускайте — я чувствую, как рвутся из меня силы! … Я накладываю ладонь на солнце — и на земле наступает ночь; я откусываю ломти луны и ускоряю смену времен года; только встряхнусь — и горы рассыпаются. Созерцайте меня через кусок кожи — не пробуйте взглянуть простым глазом! Я человек с каменным сердцем и лужеными кишками! Избиение небольших общин для меня минутное развлечение; истребление народов — дело моей жизни! Необъятные просторы великой американской пустыни принадлежат мне: кого убиваю — хороню в собственных владениях! … У-ух! Склоните головы и падите ниц, ибо на вас идет любимое Детище Напасти!»[10]
Они кружили и наскакивали друг на друга и сбивали друг с друга шляпы, пока Боб не сказал:
…мол, он так этого не оставит, потому что он, Боб, — человек, который ничего не прощает и не забывает, и что лучше бы Детищу поостеречься, потому что подходит время, — он клянется в том своей жизнью, — подходит час, когда Детищу придется расплачиваться с ним всей кровью собственного тела. Ну что ж, говорит Детище, никто с таким удовольствием, как он, не ждет этого часа, но пока что он честно предупреждает Боба, что лучше тому никогда не попадаться на его пути: он до тех пор не будет знать покоя, пока не искупается в его крови, такой уж у него характер, а сейчас он щадит Боба только ради его семьи, если она у него имеется[11].
А затем «черноусый малый» сбил с ног их обоих. С окровавленными носами и подбитыми глазами они пожали друг другу руки, сказали, что всегда друг друга уважали, и согласились оставить прошлое в прошлом.
Чуть позже Гек плывет на берег и натыкается на домик семьи Грэнджерфорд. Гек не смеет идти дальше, напуганный злыми собаками, пока голос из окна домика не приказывает ему медленно зайти в дом. Он открывает дверь и оказывается под прицелом трех ружей. Когда Грэнджерфорды видят, что Гек не из семьи Шепердсонов, с которой они враждуют, они предлагают ему остаться жить с ними. Гек очарован их аристократичным образом жизни: приличной обстановкой, элегантной одеждой, утонченными манерами, особенно главы семейства, Саула Грэнджерфорда. «Он был настоящий джентльмен с головы до пяток, и вся его семья была такая же благородная. Как говорится, в нем была видна порода, а это для человека очень важно, все равно как для лошади».
Трое из шести сыновей Грэнджерфорда были убиты в кровной вражде, а самый младший из выживших, Бак, подружился с Геком. Когда они отправляются на прогулку и Бак стреляет в парня Шепердсонов, Гек спрашивает, почему тот хочет убить кого-то, кто не сделал ему ничего плохого. Бак объясняет ему концепцию кровной вражды:
Ну вот, — сказал Бак, — кровная вражда — это вот что: бывает, что один человек поссорится с другим и убьет его, а тогда брат этого убитого возьмет да и убьет первого, потом их братья поубивают друг друга, потом за них вступаются двоюродные братья, а когда всех перебьют, тогда и вражде конец. Только это долгая песня, времени проходит много.
— А ваша вражда давно началась?
— Еще бы не давно! Лет тридцать или около того. Была какая-то ссора, а потом из-за нее судились; и тот, который проиграл процесс, пошел и застрелил того, который выиграл, — да так оно и следовало, конечно. Всякий на его месте сделал бы то же.
— Да из-за чего же вышла ссора, Бак? Из-за земли?
— Я не знаю. Может быть.
— Ну а кто же первый стрелял? Грэнджерфорд или Шепердсон?
— Господи, ну почем я знаю! Ведь это так давно было.
— И никто не знает?
— Нет, папа, я думаю, знает, и еще кое-кто из стариков знает; они только не знают, из-за чего в самый первый раз началась ссора[12] .
Бак добавляет, что вражда ведется из чувства чести двух семейств: «Среди Шепердсонов нет трусов, ни одного нет! И среди Грэнджерфордов тоже их нет»[13] . Читатель предвидит проблемы, и они не заставляют себя ждать. Дочь Грэнджерфордов сбегает с сыном Шепердсонов, Грэнджерфорды бросаются в погоню, и все мужчины Грэнджерфордов погибают, когда враг нападает на них из засады. «Все я рассказывать не буду, — говорил Гек, — а то, если начну, мне опять станет нехорошо. Уж лучше бы я тогда ночью не вылезал здесь на берег, чем такое видеть»[14] .
На протяжении одной главы Гек встретил два разных примера южной культуры чести. Среди босяков все свелось к пустым угрозам и балагану; среди аристократов она привела к гибели двух семейств и превратилась в трагедию. Я думаю, Твен обращает наше внимание на то, насколько запутана логика насилия и как она противоречит нашим представлениям о благородных и низких сословиях. Действительно, нравственные выводы не только противоречат нашим представлениям о классах, но и переворачивают их: отбросы общества, чтобы сохранить лицо, разрешают свой бессмысленный спор пустословием; джентльмены же доводят свое равно бессмысленное противостояние до ужасающего конца.
Будучи типично южной, порочная психология кровной вражды Грэнджерфордов — Шепердсонов знакома нам тем не менее из истории и этнографии практически всех регионов мира. (В частности, знакомство Гека с Грейнджерфордами забавным образом повторилось в известном рассказе Наполеона Шеньона о его опыте посвящения в профессию полевого антрополога: он наткнулся на одну из враждующих деревень яномамо и оказался в ловушке, окруженный собаками, под прицелом наконечников отравленных стрел.) Эта психология знакома нам по циклам насилия, которые все еще раскручиваются бандами, боевиками, этническими группировками и добропорядочными государствами. Твеновское описание истоков насилия среди людей, попавших в ловушку психологии чести, неподвластно времени, что, как я могу предположить, поможет ему пережить модные нынче теории причин насилия и исцеления от него.
* * *
И последняя тема, которой я хочу коснуться, состоит в том, что человеческая трагедия вызвана частичным конфликтом интересов, присущим любым отношениям между людьми. Ее можно проиллюстрировать практически любым великим художественным произведением. Бессмертные тексты выражают «все принципиальные константы человеческих конфликтов», писал Джордж Стайнер об «Антигоне». «Обычные люди, сталкивающиеся на страницах, — вот что согревает наши руки и сердца, когда мы пишем», — заметил Джон Апдайк. Но один роман привлек мое внимание, заявив эту мысль уже в заглавии: «Враги: История любви» Исаака Башевиса-Зингера[15].
Зингер, как и Твен, активно протестует против того, чтобы его читатели извлекали мораль из описанной им жизни. «Хотя я и не удостоился чести пройти сквозь гитлеровский холокост, я много лет жил в Нью-Йорке с теми, кто бежал от этой катастрофы. И поэтому я хочу сразу сказать, что этот роман ни в коем случае не история типичного беженца, его жизни и его борьбы… Персонажи книги — жертвы не только нацизма, но и собственных личностей и судеб». В литературе исключение — это правило, пишет Зингер, но лишь после того, как отмечает, что исключения укоренены в правилах. Зингера почитают как тонкого наблюдателя человеческой природы, и не в последнюю очередь потому, что он описывает, что происходит, когда судьба помещает обычные характеры перед немыслимыми дилеммами. Эта фантазия лежит в основе его книги и замечательного фильма 1989 года (режиссер Пол Мазурски, в ролях Анжелика Хьюстон и Рон Силвер).
В 1949 году Герман Бродер живет в Бруклине со своей второй женой Ядвигой, крестьянской девушкой, которая в довоенной Польше была служанкой у его родителей. Десятилетием раньше его первая жена, Тамара, вместе с двумя их детьми отправилась навестить родителей, и в это время нацисты вторглись в Польшу. Тамара и дети были убиты; Герман выжил, потому что Ядвига спрятала его у себя на сеновале. В конце войны он узнал о судьбе своей семьи, женился на Ядвиге и переехал в Нью-Йорк.
В лагере беженцев Герман влюбился в Машу, которую снова встречает в Нью-Йорке и с которой у него завязывается бурный роман (на ней он тоже женится чуть позже). Ядвига и Маша отчасти воплощают мужские мечты: первая — чиста, но простодушна, вторая — восхитительна, но лицемерна. Совесть не дает Герману оставить Ядвигу; страсть не позволяет ему оставить Машу. Это приносит много несчастья всем вокруг, но Зингер не позволяет нам слишком уж возненавидеть Германа, потому что мы видим, как невозможные ужасы холокоста сделали его фаталистом, который не верит, что его решения могут как-то повлиять на его жизнь. Более того, Герман достаточно наказан за свою двуличность тем, что живет в постоянной тревоге, которую Зингер рисует с комическим, хотя и несколько садистским удовольствием.
Жестокой насмешкой для Германа становится известие, что добра в его жизни прибыло. Оказалось, что его первая жена чудом выжила во время расстрела и бежала в Россию; она приехала в Нью-Йорк и остановилась у своих стареньких богобоязненных дяди и тети. Каждый еврей в послевоенный период был наслышан о волнующих воссоединениях семей, разбитых холокостом, но встреча мужа и жены, которую тот считал погибшей, — сцена почти невообразимой остроты. Герман входит в дом Реб Авраама:
Авраам: Чудо, чудо, свершенное небесами! Твоя жена вернулась.
[Авраам выходит. Входит Тамара.]
Тамара: Здравствуй, Герман.
Герман: Я не знал, что ты жива.
Тамара: Этого ты никогда не знал.
Герман: Ты словно восстала из мертвых.
Тамара: Нас сбросили в открытую яму. Они думали, мы все мертвы. Но ночью я переползла через тела и выбралась наружу. Почему мой дядя не знал твоего адреса? Нам пришлось давать объявление в газету.
Герман: У меня нет своей квартиры. Я живу у одного человека.
Тамара: Где ты живешь? Чем занимаешься?
Герман: Я не знал, что ты жива, и…
Тамара [улыбается]: Кто та счастливица, что заняла мое место?
Герман [обескуражен, затем отвечает]: Она была нашей служанкой. Ты знаешь ее… Ядвига.
Тамара [сдерживая смех]: Ты женился на ней? Извини меня, но разве она не простовата? Она даже не знала, как туфли надевать. Я помню, твоя мать рассказывала, как она пыталась надеть левую туфлю на правую ногу. А если ей давали деньги на покупки, она их теряла.
Герман: Она спасла мне жизнь.
Тамара: А по-другому отплатить ей ты не мог? Ладно, мне лучше не спрашивать. У вас есть дети?
Герман: Нет.
Тамара: Я бы не удивилась, если бы у тебя были дети. Я думаю, ты забирался к ней в постель, еще когда жил со мной.
Герман: Чушь. Я не забирался к ней в постель.
Тамара: Ой, да ладно. Да у нас никогда и не было настоящей семьи. Мы только ругались все время. Ты никогда не уважал меня, мои убеждения.
Герман: Это неправда. Ты знаешь это.
Авраам [входит в комнату, обращается к Герману]: Вы можете оставаться у нас, пока не найдете жилья. Гостеприимство — это акт любви к ближнему, а кроме того, вы родственники. Как сказано в Священном Писании: «Ты не должен прятаться от той, что плоть от плоти твоей».
Тамара [перебивает]: Дядя, у него другая жена[16].
Да, секунду спустя после чудесного воссоединения они препираются, продолжив ровно с того места, на котором остановились десять лет назад. Какие психологические сокровища скрыты в этой сцене! Склонность мужчин к полигамии и разочарования, которые это неизменно приносит. Женская проницательность, развитый социальный интеллект, предпочтение вербальной, а не физической агрессии в адрес соперников в любви. Устойчивость личности в течение жизни. То, как социальное поведение оказывается реакцией на конкретную ситуацию и на характерные особенности другого человека, так что, когда бы двое ни встретились, они разыгрывают все тот же сценарий.
Хотя эта сцена преисполнена печали, в ней есть проблески юмора, когда мы наблюдаем за этими несчастными, которые упускают шанс прочувствовать момент редкой счастливой удачи и вместо этого скатываются до перебранки. Но больше всего Зингер подшучивает над нами. Театральные условности и вера в высшую справедливость заставляют нас думать, что страдание облагородило эти характеры и что мы увидим сцену, полную переживаний и надрыва. Вместо этого нам показывают то, чего и следовало ожидать: реальных человеческих существ со всеми их слабостями. Но этот эпизод не демонстрация цинизма и мизантропии: мы не удивлены, что позже Герман и Тамара делят моменты нежности или что мудрая Тамара дает ему возможность искупить грехи. В этой сцене слышен голос вида: того яростного, чарующего, загадочного, предсказуемого и вечно завораживающего явления, которое мы называем человеческой природой.
ПРИЛОЖЕНИЕ. Список человеческих универсалий Дональда Брауна
Этот список, составленный в 1989 году и опубликованный в 1991-м, состоит преимущественно из «внешних» универсалий поведения и языка, отмеченных этнографами. В него не входят более глубокие особенности менталитета, обнаруженные теоретически и в экспериментах. Он также не включает почти универсальные черты (которые обнаруживаются в большинстве, хотя и не во всех культурах) и условные универсалии («Если в культуре присутствует черта А, то в ней всегда есть черта Б»). Пункты, добавленные после 1989 года, приведены в конце списка. Дополнительную информацию можно найти в книге Брауна «Человеческие универсалии» (Human Universals, 1991) и в его статье с таким же названием в Энциклопедии когнитивных наук МИТ (The MIT Encyclopedia of Cognitive Sciences, Wilson & Klein, 1999).
Примечания
Предисловие
1. Herrnstein & Murray, 1994, p. 311.
2. Harris, 1998a, p. 2.
3. Thornhill & Palmer, 2000, p. 176; цитата изменена, чтобы сделать ее гендерно нейтральной.
4. Hunt, 1999; Jensen, 1972; Kors & Silverglate, 1998; P. Rushton, "The new enemies of evolutionary science," Liberty, March 1998, pp. 31–35; "Psychologist Hans Eysenck, Freudian critic, dead at 81," Associated Press, September 8, 1997.
Часть I. «Чистый лист», «благородный дикарь» и «дух в машине»
1. Macnamara, 1999; Passmore, 1970; Stevenson & Haberman, 1998; Ward, 1998.
2. Бытие 1:21.
3. Бытие 3:16.
4. В соответствии с более поздними интер¬претациями Библии, которые не разделяют тело и душу явным образом.
5. Творение: Opinion Dynamics, August 30, 1999; чудеса: Princeton Survey Research Associates, April 15, 2000; ангелы: Opinion Dynamics, December 5, 1997; дьявол: Princeton Survey Research Associates, April 20, 2000; жизнь после смерти: Gallup. Organization, April 1, 1998; эволюция: Opinion Dynamics, August 30, 1999. Available through the Roper Center at the University of Connecticut Public Opinion Online: .
Глава 1. Официальная теория
1. Locke, 1690/1947, Book II, chap. 1, p. 26.
2. Hacking, 1999.
3. Rousseau, 1755/1994, pp. 61–62.
4. Hobbes, 1651/1957, pp. 185–186.
5. Descartes, 1641/1967, Meditation VI, p. 177.
6. Ryle, 1949, pp. 13–17.
7. Descartes, 1637/2001, Part V, p. 10.
8. Ryle, 1949, p. 20.
9. Cohen, 1997.
10. Rousseau, 1755/1986, p. 208.
11. Rousseau, 1762/1979, p. 92.
12. Quoted in Sowell, 1987, p. 63.
13. Originally in Red Flag (Beijing), June 1, 1958; quoted in Courtois et al., 1999.
14. J. Kalb, "The downtown gospel according to Reverend Billy." New York Times, February 27, 2000.
15. D. R. Vickery, "And who speaks for our earth?" Boston Globe, December 1, 1997.
16. Green, 2001; R. Mishra, "What can stem cells really do?" Boston Globe, August 21, 2001.
Глава 2. Умный пластилин
1. Jespersen, 1938/1982, pp. 2–3.
2. Degler, 1991; Fox, 1989; Gould, 1981; Richards, 1987.
3. Degler, 1991; Fox, 1989; Gould, 1981; Rachels, 1990; Richards, 1987; Ridley, 2000.
4. Degler, 1991; Gould, 1981; Kevles, 1985; Richards, 1987; Ridley, 2000.
5. Термин «стандартная модель социальной науки» был введен Джоном Туби и Ледой Космидес (1992 г.). Философы Рон Маллон и Стивен Стич (2000 г.) использовали термин «социальный конструкционизм», поскольку он близок по смыслу, но короче. «Социальное конструирование» было придумано одним из основателей социологии, Эмилем Дюркгеймом, и проанализировано Хакингом в 1999 г.
6. See Curti, 1980; Degler, 1991; Fox, 1989; Freeman, 1999; Richards, 1987; Shipman, 1994; Tooby & Cosmides, 1992.
7. Degler, 1991, p. viii.
8. White, 1996.
9. Quoted in Fox, 1989, p. 68.
10. Watson, 1924/1998.
11. Quoted in Degler, 1991, p. 139.
12. Quoted in Degler, 1991, pp. 158–159.
13. Breland & Breland, 1961.
14. Skinner, 1974.
15. Skinner, 1971.
16. Fodor & Pylyshyn, 1988; Gallistel, 1990; Pinker & Mehler, 1988.
17. Gallistel, 2000.
18. Preuss, 1995; Preuss, 2001.
19. Hirschfeld & Gelman, 1994.
20. Ekman & Davidson, 1994; Haidt, In press.
21. Daly, Salmon, & Wilson, 1997.
22. McClelland, Rumelhart, & the PDP Research Group, 1986; Rumelhart, McClelland, & the PDP Research Group, 1986.
23. Rumelhart & McClelland, 1986, p. 143.
24. Quoted in Degler, 1991, p. 148.
25. Boas, 1911. За примеры благодарю Дэвида Кеммерера.
26. Degler, 1991; Fox, 1989; Freeman, 1999.
27. Quoted in Degler, 1991, p. 84.
28. Quoted in Degler, 1991, p. 95.
29. Quoted in Degler, 1991, p. 96.
30. Durkheim, 1895/1962, pp. 103–106.
31. Durkheim, 1895/1962, p. 110.
32. Quoted in Degler, 1991, p. 161.
33. Quoted in Tooby & Cosmides, 1992, p. 26.
34. Ortega y Gassett, 1935/2001.
35. Montagu, 1973a, p. 9. Часть перед многоточием взята из более раннего издания, процитировано у Деглера, 1991, с. 209.
36. Benedict, 1934/1959, p. 278.
37. Mead, 1935/1963, p. 280.
38. Quoted in Degler, 1991, p. 209.
39. Mead, 1928.
40. Geertz, 1973, p. 50.
41. Geertz, 1973, p. 44.
42. Shweder, 1990.
43. Quoted in Tooby & Cosmides, 1992, p. 22.
44. Quoted in Degler, 1991, p. 208.
45. Quoted in Degler, 1991, p. 204.
46. Degler, 1991; 1990; Shipman, 1994.
47. Quoted in Degler, 1991, p. 188.
48. Quoted in Degler, 1991, pp. 103–104.
49. Quoted in Degler, 1991, 210.
50. Cowie, 1999; Elman et al., 1996, pp. 390–391.
51. Quoted in Degler, 1991, p. 330.
52. Quoted in Degler, 1991, p. 95.
53. Quoted in Degler, 1991, p. 100.
54. Charles Singer, A short history of biology; quoted in Dawkins, 1998, p. 90.
Глава 3. Последнее препятствие
1. Wilson, 1998. Идея была выдвинута Джоном Туби и Ледой Космидес в 1992 г.
2. Anderson, 1995; Crevier, 1993; Gardner, 1985; Pinker, 1997.
3. Fodor, 1994; Haugeland, 1981; Newell, 1980; Pinker, 1997, chap. 2.
4. Brutus.1, by Selmer Bringsjord. S. Bringsjord, "Chess is too easy," Technology Review, March/April 1998, pp. 23–28.
5. EMI (Experiments in Musical Intelligence), by David Cope. George Johnson, "The artist's angst is all in your head." New York Times, November 16, 1997, p. 16.
6. Aaron, by Harold Cohen. George Johnson, "The artist's angst is all in your head". New York Times, November 16, 1997, p. 16.
7. Goldenberg, Mazursky, & Solomon, 1999.
8. Leibniz, 1768/1996, bk. II, chap. i, p. 111.
9. Leibniz, 1768/1996, preface, p. 68.
10. Chomsky, 1975; Chomsky, 1988b; Fodor, 1981.
11. Elman et al., 1996; Rumelhart & McClelland, 1986.
12. Dennett, 1986.
13. Elman et al., 1996, p. 82.
14. Elman et al., 1996, pp. 99–100.
15. Chomsky, 1975; Chomsky, 1993; Chomsky, 2000; Pinker, 1994.
16. See also Miller, Galanter, & Pribram, 1960; Pinker, 1997, chap. 2; Pinker, 1999, chaps. 1, 10.
17. Baker, 2001.
18. Baker, 2001.
19. Shweder, 1994; see Ekman & Davidson, 1994, and Lazarus, 1991, обсуждение.
20. See Lazarus, 1991, обзор теории эмоций.
21. Mallon & Stich, 2000.
22. Ekman & Davidson, 1994; Lazarus, 1991.
23. Ekman & Davidson, 1994.
24. Fodor, 1983; Gardner, 1983; Hirschfeld & Gelman, 1994; Pinker, 1994; Pinker, 1997.
25. Elman et al., 1996; Karmiloff-Smith, 1992.
26. Anderson, 1995; Gazzaniga, Ivry, & Mangun, 1998.
27. Calvin, 1996a; Calvin, 1996b; Calvin & Ojemann, 2001; Crick, 1994; Damasio, 1994; Gazzaniga, 2000a; Gazzaniga, 2000b; Gazzaniga, Ivry, & Mangun, 1998; Kandel, Schwartz, & Jessell, 2000.
28. Crick, 1994.
29. Достоевский Ф. Братья Карамазовы. — М.: Терра-Нова, 2007.
30. Damasio, 1994.
31. Damasio, 1994; Dennett, 1991; Gazzaniga, 1998.
32. Gazzaniga, 1992; Gazzaniga, 1998.
33. Anderson et al., 1999; Blair & Cipolotti, 2000; Lykken, 1995.
34. Monaghan & Glickman, 1992.
35. Bourgeois, Goldman-Rakic, & Rakic, 2000; Chalupa, 2000; Geary & Huffman, 2002; Katz, Weliky, & Crowley, 2000; Rakic, 2000; Rakic, 2001. Также см. главу V.
36. Thompson et al., 2001.
37. Thompson et al., 2001.
38. Witelson, Kigar, & Harvey, 1999.
39. LeVay, 1993.
40. Davidson, Putnam, & Larson, 2000; Raine et al., 2000.
41. Bouchard, 1994; Hamer & Copeland, 1998; Lykken, 1995; Plomin, 1994; Plomin et al., 2001; Ridley, 2000.
42. Hyman, 1999; Plomin, 1994.
43. Bouchard, 1994; Bouchard, 1998; Damasio, 2000; Lykken et al., 1992; Plomin, 1994; Thompson et al., 2001; Tramo et al., 1995; Wright, 1995.
44. Segal, 2000.
45. Lai et al., 2001; Pinker, 2001b.
46. Frangiskakis et al., 1996.
47. Chorney et al., 1998.
48. Benjamin et al., 1996.
49. Lesch et al., 1996.
50. Lai et al., 2001; Pinker, 2001b.
51. Charlesworth, 1987; Miller, 2000c; Mousseau & Roff, 1987; Tooby & Cosmides, 1990.
52. Bock & Goode, 1996; Lykken, 1995; Mealey, 1995.
53. Blair & Cipolotti, 2000; Hare, 1993; Kirwin, 1997; Lykken, 1995; Mealey, 1995.
54. Anderson et al., 1999; Blair & Cipolotti, 2000; Lalumière, Harris, & Rice, 2001; Lykken, 2000; Mealey, 1995; Rice, 1997.
55. Barkow, Cosmides, & Tooby, 1992; Betzig, 1997; Buss, 1999; Cartwright, 2000; Crawford & Krebs, 1998; Evans & Zarate, 1999; Gaulin & McBurney, 2000; Pinker, 1997; Pope, 2000; Wright, 1994.
56. Dawkins, 1983; Dawkins, 1986; Gould, 1980; Maynard Smith, 1975/1993; Ridley, 1986; Williams, 1966.
57. Dawkins, 1983; Dawkins, 1986; Maynard Smith, 1975/1993; Ridley, 1986; Williams, 1966.
58. Улучшенная метафора «мегаломаниакальный ген» предложена философом Колином Макгинном.
59. Etcoff, 1999.
60. Frank, 1988; Trivers, 1971; Haidt, In press.
61. Daly & Wilson, 1988; Frank, 1988.
62. McGuinness, 1997; Pinker, 1994.
63. Brown, 1991; Brown, 2000.
64. Baron-Cohen, 1995; Hirschfeld & Gelman, 1994; Spelke, 1995.
65. Boyd & Silk, 1996; Calvin & Bickerton, 2000; Kingdon, 1993; Klein, 1989; Mithen, 1996.
66. Gallistel, 1992; Hauser, 1996; Hauser, 2000; Trivers, 1985.
67. James, 1890/1950, vol. 2, chap. 24.
68. Freeman, 1983; Freeman, 1999.
69. Wrangham & Peterson, 1996.
70. Wrangham & Peterson, 1996.
71. Keeley, 1996, graph adapted by Ed Hagen.
72. Ghiglieri, 1999; Keeley, 1996; Wrangham & Peterson, 1996.
73. Ember, 1978. See also Ghiglieri, 1999; Keeley, 1996; Knauft, 1987; Wrangham &Peterson, 1996.
74. Divale, 1972; see Eibl-Eibesfeldt, 1989, p. 323, обсуждение.
75. Bamforth, 1994; Chagnon, 1996; Daly & Wilson, 1988; Divale, 1972; Edgerton, 1992; Ember, 1978; Ghiglieri, 1999; Gibbons, 1997; Keeley, 1996; Kingdon, 1993; Knauft, 1987; Krech, 1994; Krech, 1999; Wrangham & Peterson, 1996.
76. Axelrod, 1984; Brown, 1991; Ridley, 1997; Wright, 2000.
77. Brown, 1991.
Глава 4. Ценители культуры
1. Borges, 1964, p. 30.
2. Pinker, 1984a.
3. Boyer, 1994; Hirschfeld & Gelman, 1994; Norenzayan & Atran, In press; Schaller & Crandall, In press; Sperber, 1994; Talmy, 2000; Tooby & Cosmides, 1992.
4. Adams et al., 2000.
5. Tomasello, 1999.
6. Baron-Cohen, 1995; Karmiloff-Smith et al., 1995.
7. Rapin, 2001.
8. Baldwin, 1991.
9. Carpenter, Akhtar, & Tomasello, 1998.
10. Meltzoff, 1995.
11. Pinker, 1994; Pinker, 1996; Pinker, 1999.
12. Campbell & Fairey, 1989; Frank, 1985; Kelman, 1958; Latané & Nida, 1981.
13. Deutsch & Gerard, 1955.
14. Harris, 1985.
15. Cronk, 1999; Cronk, Chagnon, & Irons, 2000.
16. Pinker, 1999, chap. 10.
17. Searle, 1995.
18. Sperber, 1985; Sperber, 1994.
19. Boyd & Richerson, 1985; Cavalli-Sforza & Feldman, 1981; Durham, 1982; Lumsden & Wilson, 1981.
20. Cavalli-Sforza, 1991; Cavalli-Sforza & Feldman, 1981.
21. Toussaint-Samat, 1992.
22. Degler, 1991.
23. Sowell, 1996, p. 378. See also Sowell, 1994, and Sowell, 1998.
24. Diamond, 1992; Diamond, 1998.
25. Diamond, 1997.
26. Putnam, 1973.
27. Chomsky, 1980, p. 227; Marr, 1982; Tinbergen, 1952.
28. Pinker, 1999.
Глава 5. Последняя линия обороны «чистого листа»
1. Venter et al., 2001.
2. See, e.g., the contributors to Rose & Rose, 2000.
3. R. McKie, in The Guardian, February 11, 2001. See also S. J. Gould, "Humbled by the genome's mysteries," New York Times, February 19, 2001.
4. The Observer, February 11, 2001.
5. E. Pennisi, "The human genome," Science, 291, 2001, 1177–1180; see pp. 1178–1179.
6. "Gene count," Science, 295, 2002, p. 29; R. Mishar, "Biotech CEO says map missed much of genome," Boston Globe, April 9, 2001; Wright et al., 2001.
7. Claverie, 2001; Szathmáry, Jordán, & Pál, 2001; Venter et al., 2001.
8. Szathmáry, Jordán, & Pál, 2001.
9. Claverie, 2001.
10. Venter et al., 2001.
11. Evan Eichler, quoted by G. Vogel, "Objection #2: Why sequence the junk?" Science, 291, 2001, p. 1184.
12. Elman et al., 1996; McClelland, Rumelhart, & the PDP Research Group, 1986; McLeod, Plunkett, & Rolls, 1998; Pinker, 1997, pp. 98–111; Rumelhart, McClelland, & the PDP Research Group, 1986.
13. Anderson, 1993; Fodor & Pylyshyn, 1988; Hadley, 1994a; Hadley, 1994b; Hummel & Holyoak, 1997; Lachter & Bever, 1988; Marcus, 1998; Marcus, 2001a; McCloskey & Cohen, 1989; Minsky & Papert, 1988; Shastri & Ajjanagadde, 1993; Smolensky, 1995; Sougné, 1998.
14. Berent, Pinker, & Shimron, 1999; Marcus et al., 1995; Pinker, 1997; Pinker, 1999; Pinker, 2001a; Pinker &Prince, 1988.
15. Pinker, 1997, pp. 112–131.
16. Pinker, 1999. See also Clahsen, 1999; Marcus, 2001a; Marslen-Wilson & Tyler, 1998; Pinker, 1991.
17. See Marcus et al., 1995, and Marcus, 2001a, for examples.
18. Hinton & Nowlan, 1987; Nolfi, Elman, & Parisi, 1994.
19. For examples, see Hummel & Biederman, 1992; Marcus, 2001a; Shastri, 1999; Smolensky, 1990.
20. Deacon, 1997; Elman et al., 1996; Hard-castle & Buller, 2000; Panskepp & Panskepp, 2000; Quartz & Sejnowski, 1997.
21. Elman et al, 1996, p. 108.
22. Quartz & Sejnowski, 1997, pp. 552, 555.
23. Maguire et al., 2000.
24. E. Κ. Miller, 2000.
25. Sadato et al., 1996.
26. Neville & Bavelier, 2000; Petitto et al., 2000.
27. Pons et al., 1991; Ramachandran & Blakeslee, 1998.
28. Curtiss, de Bode, & Shields, 2000; Stromswold, 2000.
29. Catalano & Shatz, 1998; Crair, Gillespie, & Stryker, 1998; Katz & Shatz, 1996; Miller, Keller, & Stryker, 1989.
30. Sharma, Angelucci, & Sur, 2000; Sur, 1988; Sur, Angelucci, & Sharma, 1999.
31. For related arguments, see Geary & Huffman, 2002; Katz & Crowley, 2002; Katz & Shatz, 1996; Katz, Weliky, & Crowley, 2000; Marcus, 2001b.
32. R. Restak, "Rewiring" (Review of The talking cure by S. C. Vaughan), New York Times Book Review, June 22, 1997, pp. 14–15.
33. D. Milmore," 'Wiring' the brain for life," Boston Globe, November 2, 1997, pp. N5 — N8.
34. William Jenkins, quoted in A. Ellin, "Can 'neurobics' do for the brain what aerobics do for the lungs?" New York Times, October 3, 1999.
35. Quotations from A. Ellin, "Can 'neurobics' do for the brain what aerobics do for the lungs?" New York Times, October 3, 1999.
36. G. Kolata, "Muddling fact and fiction in policy," New York Times, August 8, 1999.
37. Bruer, 1997; Bruer, 1999.
38. R. Saltus, "Study shows brain adaptable," Boston Globe, April 20, 2000.
39. Van Essen & Deyoe, 1995, p. 388.
40. Crick & Koch, 1995.
41. Bishop, Coudreau, & O'Leary, 2000; Bourgeois, Goldman-Rakic, & Rakic, 2000; Chalupa, 2000; Katz, Weliky, & Crowley, 2000; Levitt, 2000; Miyashita-Lin et al., 1999; Rakic, 2000; Rakic, 2001; Verhage et al., 2000; Zhou & Black, 2000.
42. См. предыдущую ссылку, а также Geary & Huffman, 2002; Krubitzer & Huffman, 2000; Preuss, 2000; Preuss, 2001; Tessier-Lavigne & Goodman, 1996.
43. Geary & Huffman, 2002; Krubitzer & Huffman, 2000; Preuss, 2000; Preuss, 2001.
44. D. Normile, "Gene expression differs in human and chimp brains," Science, 292, 2001, pp. 44–45.
45. Kaas, 2000, p. 224.
46. Hardcastle & Buller, 2000; Panksepp & Panksepp, 2000.
47. Gu & Spitzer, 1995.
48. Catalano & Shatz, 1998; Crair, Gillespie, & Stryker, 1998; Katz & Shatz, 1996.
49. Catalano & Shatz, 1998; Crair, Gillespie, & Stryker, 1998; Katz & Shatz, 1996; Stryker, 1994.
50. Каталано и Шатц, 1998; Страйкер, 1994.
51. Wang et al., 1998.
52. Brown, 1985; Hamer & Copeland, 1994.
53. J. R. Skoyles, June 7, 1999, on an email discussion list for evolutionary psychology.
54. Recanzone, 2000, p. 245.
55. Van Essen & Deyoe, 1995.
56. Kosslyn, 1994.
57. Kennedy, 1993; Kosslyn, 1994, pp. 334–335; Zimler & Keenan, 1983; though see also Arditi, Holtzman, & Kosslyn, 1988.
58. Petitto et al., 2000.
59. Klima & Bellugi, 1979; Padden & Perlmutter, 1987; Siple & Fischer, 1990.
60. Cramer & Sur, 1995; Sharma, Angelucci, & Sur, 2000; Sur, 1988; Sur, Angelucci, & Sharma, 1999.
61. Sur, 1988, pp. 44, 45.
62. Bregman, 1990; Bregman & Pinker, 1978; Kubovy, 1981.
63. Hubel, 1988.
64. Bishop, Coudreau, & O'Leary, 2000; Bourgeois, Goldman-Rakic, & Rakic, 2000; Chalupa, 2000; Geary & Huffman, 2002; Katz, Weliky, & Crowley, 2000; Krubitzer & Huffman, 2000; Levitt, 2000; Miyashita-Lin et al., 1999; Preuss, 2000; Preuss, 2001; Rakic, 2000; Rakic, 2001; Tessier-Lavigne & Goodman, 1996; Verhage et al., 2000; Zhou & Black, 2000.
65. Katz, Weliky, & Crowley, 2000, p. 209.
66. Crowley & Katz, 2000.
67. Verhage et al., 2000.
68. Miyashita-Lin et al., 1999.
69. Bishop, Coudreau, & O'Leary, 2000. See also Rakic, 2001.
70. Thompson et al., 2001.
71. Brugger et al., 2000; Melzack, 1990; Melzack et al., 1997; Ramachandran, 1993.
72. Curtiss, de Bode, & Shields, 2000; Stromswold, 2000.
73. Described in Stromswold, 2000.
74. Farah et al., 2000.
75. Anderson et al., 1999.
76. Anderson, 1976; Pinker, 1979; Pinker, 1984a; Quine, 1969.
77. Adams et al., 2000.
78. Tooby & Cosmides, 1992; Williams, 1966.
79. Gallistel, 2000; Hauser, 2000.
80. Barkow, Cosmides, & Tooby, 1992; Burnham & Phelan, 2000; Wright, 1994.
81. Brown, 1991.
82. Hirschfeld & Gelman, 1994; Pinker, 1997, chap. 5.
83. Baron-Cohen, 1995; Gopnik, Meltzoff, & Kuhl, 1999; Hirschfeld & Gelman, 1994; Leslie, 1994; Spelke, 1995; Spelke et al., 1992.
84. Baron-Cohen, 1995; Fisher et al., 1998; Frangiskakis et al., 1996; Hamer & Copeland, 1998; Lai et al., 2001; Rossen et al., 1996.
85. Bouchard, 1994; Plomin et al., 2001.
86. Caspi, 2000; McCrae et al., 2000.
87. Bouchard, 1994; Harris, 1998a; Plomin et al., 2001; Turkheimer, 2000.
88. См. ссылки к этой главе.
ЧАСТЬ II. СТРАХ И НЕНАВИСТЬ
1. Глава 6. Ученые-политики
2. Weizenbaum, 1976.
3. Lewontin, Rose, & Kamin, 1984, p.x.
4. Herrnstein, 1971.
5. Jensen, 1969; Jensen, 1972.
6. Herrnstein, 1973.
7. Darwin, 1872/1998; Pinker, 1998.
8. Ekman, 1987; Ekman, 1998.
9. Wilson, 1975/2000.
10. Sahlins, 1976, p. 3.
11. Sahlins, 1976, p. x.
12. Allen et al., 1975, p. 43.
13. Chorover, 1979, pp. 108–109.
14. Wilson, 1975/2000, p. 548.
15. Wilson, 1975/2000, p. 555.
16. Wilson, 1975/2000, p. 550.
17. Wilson, 1975/2000, p. 554.
18. Wilson, 1975/2000, p. 569.
19. Segerstråle, 2000; Wilson, 1994.
20. Wright, 1994.
21. Trivers & Newton, 1982.
22. Trivers, 1981.
23. Trivers, 1981, p. 37.
24. Gould, 1976a; Gould, 1981; Gould, 1998a; Lewontin, 1992; Lewontin, Rose, & Kamin, 1984; Rose & Rose, 2000; Rose, 1997.
25. Только в названиях работ мы встречаем слово «детерминизм» у Гулда, 1976a; Роуза, 1997; Роуза и Группы диалектической биологии, 1982; и в четырех из девяти глав у Левонтина, Роуза и Камина, 1984.
26. Lewontin, Rose, & Kamin, 1984, p. 236.
27. Lewontin, Rose, & Kamin, 1984, p. 5.
28. Dawkins, 1976/1989, p. 164.
29. Lewontin, Rose, & Kamin, 1984, p. 11.
30. Dawkins, 1985.
31. Lewontin, Rose, & Kamin, 1984, p. 287.
32. Dawkins, 1976/1989, p. 20, ударение добавлено.
33. Levins & Lewontin, 1985, pp. 88, 128; Lewontin, 1983, p. 68; Lewontin, Rose, & Kamin, 1984, p. 287; Lewontin, 1982, p. 18, здесь перефразировано «управляется нашими генами".
34. Lewontin, Rose, & Kamin, 1984, p. 149.
35. Lewontin, Rose, & Kamin, 1984, p. 260.
36. Rose, 1997, p. 211.
37. Freeman, 1999.
38. Письмо Тернера и Спонсела можно найти на сайте Коннектикутского университета uconn.edu/gradstudents/dhume/darkness_in_el_dorado.
39. Chagnon, 1988; Chagnon, 1992.
40. Tierney, 2000.
41. University of Michigan Report on the Ongoing Investigation of the Neel-Chagnon Allegations (/~urel/darkness.html); John J. Miller, "The Fierce People: The wages of anthropological incorrectness," National Review, November 20, 2000.
42. John Tooby, "Jungle fever: Did two U. S. scientists start a genocidal epidemic in the Amazon, or was The New Yorker duped?" Slate, October 24, 2000; University of Michigan Report on the Ongoing Investigation of the Neel-Chagnon Allegations (/~urel/darkness.html); John J. Miller, "The Fierce People: The wages of anthropological incorrectness," National Review, November 20, 2000; "A statement from Bruce Alberts," National Academy of Sciences, November 9, 2000, ; John Tooby, "Preliminary Report," Department of Anthropology, University of California, Santa Barbara, December 10, 2000 (; see also ); Lou Marano, "Darkness in anthropology," UPI, October 20, 2000; Michael Shermer, "Spin-doctoring the Yanomamö," Skeptic, 2001; Virgilio Bosh & eight other signatories, "Venezuelan response to Yanomamö book," Science, 291, 2001, pp. 985–986; "The Yanomamö and the 1960s measles epidemic": letters from J. V. Neel, Jr., K. Hill, and S. L. Katz, Science, 292, June 8, 2001, pp. 1836–1837; "Yanomamö wars continue," Science, 295, January 4, 2002, p. 41; yahoo,com/group/evolutionary-psychology/files/aaa.html. November 2001. Расширенное собрание документов, касающихся дела Тьерни, можно найти на сайте .
43. Edward Hagen, "Chagnon and Neel saved hundreds of lives," The Fray, Slate, December 8, 2000 (); S. L. Katz, "The Yanomamö and the 1960s measles epidemic" (letter), Science, 292, June 8, 2001, p. 1837.
44. In the Pittsburgh Post-Gazette, quoted in John J. Miller, "The Fierce People: The wages of anthropological incorrectness," National Review, November 20, 2000.
45. Chagnon, 1992, chaps. 5–6.
46. Valero & Biocca, 1965/1996.
47. Ember, 1978; Keeley, 1996; Knauft, 1987.
48. Tierney, 2000, p. 178.
49. Redmond, 1994, p. 125; quoted in John Tooby, Slate, October 24, 2000.
50. Sponsel, 1996, p. 115.
51. Sponsel, 1996, pp. 99, 103.
52. Sponsel, 1998, p. 114.
53. Tierney, 2000, p. 38.
54. Neel, 1994.
55. John J. Miller, "The Fierce People: The wages of anthropological incorrectness," National Review, November 20, 2000.
56. Tierney, 2000, p.xxiv.
Глава 7. Святая троица
1. Hunt, 1999.
2. Halpern, Gilbert, & Coren, 1996.
3. Allen et al., 1975.
4. Gould, 1976a.
5. Lewontin, Rose, & Kamin, 1984, p. 267.
6. Lewontin, Rose, & Kamin, 1984, p. 267.
7. Lewontin, Rose, & Kamin, 1984, p. 14.
8. Lewontin, 1992, p. 123.
9. Précis of Lewontin, 1982, on the book jacket.
10. Lewontin, 1992, p. 123.
11. Montagu, 1973a.
12. S. Gould, "A time of gifts," New York Times, September 26, 2001.
13. Gould, 1998b.
14. Mealey, 1995.
15. Gould, 1998a, p. 262.
16. Bamforth, 1994; Chagnon, 1996; Daly & Wilson, 1988; Divale, 1972; Edgerton, 1992; Ember, 1978; Ghiglieri, 1999; Gibbons, 1997; Keeley, 1996; Kingdon, 1993; Knauft, 1987; Krech, 1994; Krech, 1999; Wrangham & Peterson, 1996.
17. Gould, 1998a, p. 262.
18. Gould, 1998a, p. 265.
19. Levins & Lewontin, 1985, p. 165.
20. Lewontin, Rose, & Kamin, 1984, p. ix.
21. Lewontin, Rose, & Kamin, 1984, p. 76.
22. Lewontin, Rose, & Kamin, 1984, p. 270.
23. Rose, 1997, pp. 7, 309.
24. Gould, 1992.
25. Hunt, 1999.
26. Quoted in J. Salamon, "A stark explanation for mankind from an unlikely rebel" (Review of the PBS series "Evolution"), New York Times, September 24, 2001.
27. D. Wald, "Intelligent design meets congressional designers," Skeptic, 8, 2000, p. 13. Lyrics from "Bad Touch" by the Bloodhound Gang.
28. Quoted in D. Falk, "Design or chance?" Boston Globe Magazine, October 21, 2001, pp. 14–23, quotation on p. 21.
29. National Center for Science Education, . See also Berra, 1990; Kitcher, 1982; Miller, 1999; Pennock, 2000; Pennock, 2001.
30. Quoted in L. Arnhart, M. J. Behe, & W. A. Dembski, "Conservatives, Darwin, and design: An exchange," First Things, 107, November 2000, pp. 23–31.
31. Behe, 1996.
32. Behe, 1996; Crews, 2001; Dorit, 1997; Miller, 1999; Pennock, 2000; Pennock, 2001; Ruse, 1998.
33. R. Bailey, "Origin of the specious," Reason, July 1997.
34. D. Berlinski, "The deniable Darwin," Commentary, June 1996. See R. Bailey, "Origin of the specious," Reason, July 1997. The Pope's views on evolution are discussed in Chapter 11.
35. A 1991 essay, quoted in R. Bailey, "Origin of the specious," Reason, July 1997.
36. Quoted in R. Bailey, "Origin of the specious," Reason, July 1997.
37. R. Bailey, "Origin of the specious," Reason, July 1997.
38. L. Kass, "The end of courtship," Public Interest, 126, Winter 1997.
39. A. Ferguson, "The end of nature and the next man" (Review of F. Fukuyama's The great disruption), Weekly Standard, June 28, 1999.
40. A. Ferguson, "How Steven Pinker's mind works" (Review of S. Pinker's How the mind works), Weekly Standard, January 12, 1998.
41. T. Wolfe, "Sorry, but your soul just died," Forbes ASAP, December 2, 1996; reprinted in slightly different form in Wolfe, 2000. Ellipses in original.
42. T. Wolfe, "Sorry, but your soul just died," Forbes ASAP, December 2, 1996; reprinted in slightly different form in Wolfe, 2000.
43. C. Holden, "Darwin's brush with racism," Science, 292, 2001, p. 1295. Resolution HLS 01–2652, Regular Session, 2001, House Concurrent Resolution No. 74 by Representative Broome.
44. R. Wright, "The accidental creationist," New Yorker, December 13, 1999. Точно так же креационистский Институт Дискавери использовал атаки Левонтина на эволюционную психологию чтобы раскритиковать документальный сериал «Эволюция», вышедший в 2001 году на канале PBS television. .
45. Rose, 1978.
46. T. Wolfe, "Sorry, but your soul just died," Forbes ASAP, December 2, 1996; В слегка измененном виде перепечатано у Wolfe, 2000.
47. Gould, 1976b.
48. A. Ferguson, "The end of nature and the next man" (Review of F. Fukuyama's The great disruption), Weekly Standard, 1999.
49. See Dennett, 1995, p. 263, for a similar report.
50. E. Smith, "Look who's stalking," New York, February 14, 2000.
51. Alcock, 1998.
52. For example, the articles entitled "Eugenics revisited" (Horgan, 1993), "The new Social Darwinists" (Horgan, 1995), and "Is a new eugenics afoot?" (Allen, 2001).
53. New Republic, April 27, 1998, p. 33.
54. New York Times, February 18, 2001, Week in Review, p. 3.
55. Tooby & Cosmides, 1992, p. 49.
56. Chimps: Montagu, 1973b, p. 4. Heritability of IQ: Kamin, 1974; Lewontin, Rose, & Kamin, 1984, p. 116. IQ as reification: Gould, 1981. Personality and social behavior: Lewontin, Rose, & Kamin, 1984, chap. 9. Sex differences: Lewontin, Rose, & Kamin, 1984, p. 156. Pacific clans: Gould, 1998a, p. 262.
57. Daly, 1991.
58. Alcock, 2001.
59. Buss, 1995; Daly & Wilson, 1988; Daly & Wilson, 1999; Etcoff, 1999; Harris, 1998a; Hrdy, 1999; Ridley, 1993; Ridley, 1997; Symons, 1979; Wright, 1994.
60. Plomin et al., 2001.
ЧАСТЬ III. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРИРОДА С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ
Глава 8. Страх неравенства
1. From The Rambler, no. 60.
2. From the Analects.
3. Charlesworth, 1987; Lewontin, 1982; Miller, 2000b; Mousseau & Roff, 1987; Tooby & Cosmides, 1990.
4. Tooby & Cosmides, 1990.
5. Lander et al, 2001.
6. Bodmer & Cavalli-Sforza, 1970.
7. Tooby & Cosmides, 1990.
8. Patai & Patai, 1989.
9. Sowell, 1994; Sowell, 1995a.
10. Patterson, 1995; Patterson, 2000.
11. Cappon, 1959, pp. 387–392.
12. Seventh Lincoln-Douglas debate, October 15, 1858.
13. Mayr, 1963, p. 649. Современный вариант этого же аргумента с точки зрения эволюционной биологии — Crow, 2002.
14. Chomsky, 1973, pp. 362–363. See also Segerstråle, 2000.
15. For further discussion, see Tribe, 1971.
16. Los Angeles Times poll, December 21, 2001.
17. Nozick, 1974.
18. Gould, 1981, pp. 24–25. For reviews, see Blinkhorn, 1982; Davis, 1983; Jensen, 1982; Rushton, 1996; Samelson, 1982.
19. Putnam, 1973, p. 142.
20. See the consensus statements by Neisser et al., 1996; Snyderman & Rothman, 1988; and Gottfredson, 1997; and also Andreasen et al., 1993; Caryl, 1994; Deary, 2000; Haier et al., 1992; Reed & Jensen, 1992; Thompson et al., 2001; Van Valen, 1974; Willerman et al., 1991.
21. Moore & Baldwin, 1903/1996; Rachels, 1990.
22. Rawls, 1976.
23. Hayek, 1960/1978.
24. Chirot, 1994; Courtois et al., 1999; Glover, 1999.
25. Horowitz, 2001; Sowell, 1994; Sowell, 1996.
26. Lykken et al., 1992.
27. Интервью журналу Boston Phoenix в конце 1970х, цитата пересказана условно. По иронии судьбы сын Уолда Элайя стал радикальным научным автором, как и его отец и мать, биолог Руфь Хаббард.
28. Degler, 1991; Kevles, 1985; Ridley, 2000.
29. Bullock, 1991; Chirot, 1994; Glover, 1999; Gould, 1981.
30. Richards, 1987, p. 533.
31. Glover, 1999; Murphy, 1999.
32. Proctor, 1999.
33. Laubichler, 1999.
34. Обсуждение марксистских геноцидов XX века в сравнении с нацистским холокостом: Besançon, 1998; Bullock, 1991; Chandler, 1999; Chirot, 1994; Conquest, 2000; Courtois et al., 1999; Getty, 2000; Minogue, 1999; Shatz, 1999; Short, 1999.
35. Дискуссия об интеллектуальных корнях марксизма в сравнении с интеллектуальными корнями нацизма: Berlin, 1996; Besançon, 1981; Besançon, 1998; Bullock, 1991; Chirot, 1994; Glover, 1999; Minogue, 1985; Minogue, 1999; Scott, 1998; Sowell, 1985. For discussions of the Marxist theory of human nature, see Archibald, 1989; Bauer, 1952; Plamenatz, 1963; Plamenatz, 1975; Singer, 1999; Stevenson & Haberman, 1998; Venable, 1945.
36. See, e.g., Venable, 1945, p. 3.
37. Marx, 1847/1995, chap. 2.
38. Marx & Engels, 1846/1963, part I.
39. Marx, 1859/1979, preface.
40. Marx, 1845/1989; Marx & Engels, 1846/1963.
41. Marx, 1867/1993, vol. 1, p. 10.
42. Marx & Engels, 1844/1988.
43. Glover, 1999, p. 254.
44. Minogue, 1999.
45. Glover, 1999, p. 275.
46. Glover, 1999, pp. 297–298.
47. Courtois et al., 1999, p. 620.
48. See the references cited in notes 34 and 35.
49. Marx quotation from Stevenson & Haberman, 1998, p. 146; Hitler quotation from Glover, 1999, p. 315.
50. Besançon, 1998.
51. Watson, 1985.
52. Tajfel, 1981.
53. Originally in Red Flag (Beijing), June 1, 1958; quoted in Courtois et al., 1999.
Глава 9. Страх невозможности совершенствования
1. The Prelude, Book Sixth, "Cambridge and the Alps," I. Published 1799–1805.
2. Passmore, 1970, epigraph.
3. For example, the Seville Statement on Violence, 1990.
4. "Study says rape has its roots in evolution," Boston Herald, January 11, 2000, p. 3.
5. Thornhill & Palmer, 2001.
6. Brownmiller & Merhof, 1992.
7. Gould, 1995, p. 433.
8. Ну, почти. Художник Джим Джонсон сказал мне, что он, возможно, оклеветал китов. Позже он узнал, что не киты, а морские леопарды убивают пингвинов для забавы.
9. Williams, 1988.
10. Jones, 1999; Williams, 1988.
11. Williams, 1966, p. 255.
12. On the relevance of human nature to morality, see McGinn, 1997; Petrinovich, 1995; Rachels, 1990; Richards, 1987; Singer, 1981; Wilson, 1993.
13. Masters, 1989, p. 240.
14. Daly & Wilson, 1988; Daly & Wilson, 1999.
15. Jones, 1997.
16. Daly & Wilson, 1999, pp. 58–66.
17. Science Friday, National Public Radio, May 7, 1999.
18. Singer, 1981.
19. Maynard Smith &Szathmáry, 1997; Wright, 2000.
20. De Waal, 1998; Fry, 2000.
21. Axelrod, 1984; Brown, 1991; Fry, 2000; Ridley, 1997; Wright, 2000.
22. Singer, 1981.
23. Skinner, 1948/1976; Skinner, 1971; Skinner, 1974.
24. Chomsky, 1973.
25. Berlin, 1996; Chirot, 1994; Conquest, 2000; Glover, 1999; Minogue, 1985; Minogue, 1999; Scott, 1998.
26. Scott, 1998.
27. Quoted in Scott, 1998, pp. 114–115.
28. Perry, 1997.
29. Harris, 1998a.
30. From a dialogue with Betty Friedan in Saturday Review, June 14, 1975, p. 18, quoted in Sommers, 1994, p. 18.
31. Quoted by Elizabeth Powers, Commentary, January 1, 1997.
32. From a talk at the Cornell University Institute on Women and Work, quoted by C. Young, "The mommy wars," Reason, July 2000.
33. Liza Mundy, "The New Critics," Lingua Franca, 3, September/October 1993, p. 27.
34. "From Carol Gilligan's chair," interview by Michael Norman, New York Times Magazine, November 7, 1997.
35. Letter by Bruce Bodner, New York Times Magazine, November 30, 1997.
36. C. Young, "Where the boys are," Reason, February 2, 2001.
37. Sommers, 2000.
Глава 10. Страх детерминизма
1. Kaplan, 1973, p. 10.
2. E. Felsenthal, "Man's genes made him kill, his lawyers claim," Wall Street Journal, November 15, 1994. The defense was unsuccessful: see "Mobley v. The State," Supreme Court of Georgia, March 17, 1995, 265 Ga. 292, 455 S. E. 2d 61.
3. "Lawyers may use genetics study in rape defense," National Post (Canada), January 22, 2000, p.A8.
4. Jones, 2000; Jones, 1999.
5. Dennett, 1984. See also Kane, 1998; Nozick, 1981, pp. 317–362; Ridley, 2000; Staddon, 1999.
6. Dershowitz, 1994; J. Ellement, "Alleged con man's defense: 'Different' mores," Boston Globe, February 25, 1999; N. Hall, "Metis woman avoids jail term for killing her husband," National Post (Canada), January 20, 1999.
7. B. English, "David Lisak seeks out a dialogue with murderers," Boston Globe, July 27, 2000.
8. M. Williams, "Social work in the city: Rewards and risks," New York Times, July 30, 2000.
9. S. Morse, Review of C. Sandford's Springsteen point blank, Boston Globe, November 19, 1999.
10. M. Udovich, Review of M. Meade's The unruly life of Woody Allen, New York Times, March 5, 2000.
11. L. Franks, Interview with Hillary Clinton, Talk, August 1999.
12. K. Q. Seelye, "Clintons try to quell debate over interview," New York Times, August 5, 1999.
13. Dennett, 1984; Kane, 1998; Nozick, 1981, pp. 317–362; Ridley, 2000; Staddon, 1999.
14. Quoted in Kaplan, 1973, p. 16.
15. Daly & Wilson, 1988; Frank, 1988; Pinker, 1997; Schelling, 1960.
16. Quoted in Kaplan, 1973, p. 29.
17. Daly & Wilson, 1988, p. 256.
18. Dershowitz, 1994; Faigman, 1999; Kaplan, 1973; Kirwin, 1997.
19. Rice, 1997.
Глава 11. Страх нигилизма
1. October 22, 1996; reprinted in the English edition of L'Osservatore Romano, October 30, 1996.
2. Macnamara, 1999; Miller, 1999; New-some, 2001; Ruse, 2000.
3. See Nagel, 1970; Singer, 1981.
4. Cummins, 1996; Trivers, 1971; Wright, 1994.
5. Zahn-Wexler et al., 1992.
6. Brown, 1991.
7. Hare, 1993; Lykken, 1995; Mealey, 1995; Rice, 1997.
8. Rachels, 1990.
9. Murphy, 1999.
10. Damewood, 2001.
11. Ron Rosenbaum, "Staring into the heart of darkness," New York Times Magazine, June 4, 1995; Daly & Wilson, 1988, p. 79.
12. Antonaccio & Schweiker, 1996; Brink, 1989; Murdoch, 1993; Nozick, 1981; Sayre-McCord, 1988.
13. Singer, 1981.
ЧАСТЬ IV. ПОЗНАЙ СЕБЯ
1. Alexander, 1987, p. 40.
Глава 12. В контакте с реальностью
1. Quotation from Cartmill, 1998.
2. Shepard, 1990.
3. www-bcs.mit.edu/persci/high/gallery/checkershadowillusion.html.
4. www-bcs.mit.edu/persci/high/gallery/checkershadowillusion.html.
5. From the computer scientist Oliver Selfridge; reproduced in Neisser, 1967.
6. Brown, 1991.
7. Brown, 1985; Lee, Jussim, & McCauley, 1995.
8. "Phony science wars" (Review of Ian Hacking's The social construction of what?), Atlantic Monthly, November 1999.
9. Hacking, 1999.
10. Searle, 1995.
11. Anderson, 1990; Pinker, 1997, chaps.2, 5; Pinker, 1999, chap. 10; Pinker & Prince, 1996.
12. Armstrong, Gleitman, &Gleitman, 1983; Erikson &Kruschke, 1998; Marcus, 2001a; Pinker, 1997, chaps.2, 5; Pinker, 1999, chap. 10; Sloman, 1996.
13. Ahnetal., 2001.
14. Lee, Jussim, &McCauley, 1995.
15. McCauley, 1995; Swim, 1994.
16. Jussim, McCauley, & Lee, 1995; McCauley, 1995.
17. Jussim&Eccles, 1995.
18. Brown, 1985; Jussim, McCauley, & Lee, 1995; McCauley, 1995.
19. Gilbert &Hixon, 1991; Pratto&Bargh, 1991.
20. Brown, 1985, p. 595.
21. Jussim&Eccles, 1995; Smith, Jussim, &Eccles, 1999.
22. Flynn, 1999; Loury, 2002; Valian, 1998.
23. Цит. по: Галилео Галилей. Избранные труды. Т. I. С. 203. — М.: Наука. 1964.
24. Whorf, 1956.
25. Geertz, 1973, p. 45.
26. QuotationsfromLehman, 1992.
27. Barthes, 1972, p. 135.
28. Pinker, 1994, chap. 3.
29. Pinker, 1984a.
30. Lakoff& Johnson, 1980.
31. Jackendoff, 1996.
32. Baddeley, 1986.
33. Dehaene et al., 1999.
34. Pinker, 1994, chap. 3; Siegal, Varley, & Want, 2001; Weiskrantz, 1988.
35. Gallistel, 1992; Gopnik, Meltzoff, &Kuhl, 1999; Hauser, 2000.
36. Anderson, 1983.
37. Pinker, 1994.
38. "Minority' a bad word in San Diego," Boston Globe, April 4, 2001; S. Schweitzer, "Council mulls another word for 'minority, '" Boston Globe, August 9, 2001.
39. Brooker, 1999, pp. 115–116.
40. Leslie, 1995.
41. Abbott, 2001; Leslie, 1995.
42. Frith, 1992.
43. Kosslyn, 1980; Kosslyn, 1994; Pinker, 1984b; Pinker, 1997, chap. 4.
44. Kosslyn, 1980; Pinker, 1997, chap. 5.
45. Chase & Simon, 1973.
46. Dennett, 1991, pp. 56–57.
47. A. Gopnik, "Black studies," New Yorker, December 5, 1994, pp. 138–139.
Глава 13. То, что нам не по плечу
1. Caramazza & Shelton, 1998; Gallistel, 2000; Gardner, 1983; Hirschfeld & Gelman, 1994; Keil, 1989; Pinker, 1997, chap. 5; Tooby & Cosmides, 1992.
2. Spelke, 1995.
3. Atran, 1995; Atran, 1998; Gelman, Coley, & Gottfried, 1994; Keil, 1995.
4. Bloom, 1996; Keil, 1989.
5. Gallistel, 1990; Kosslyn, 1994.
6. Butterworth, 1999; Dehaene, 1997; Devlin, 2000; Geary, 1994; Lakoff & Nunez, 2000.
7. Cosmides & Tooby, 1996; Gigerenzer, 1997; Kahneman & Tversky, 1982.
8. Braine, 1994; Jackendoff, 1990; Macnamara & Reyes, 1994; Pinker, 1989.
9. Pinker, 1994; Pinker, 1999.
10. Quoted in Ravitch, 2000, p. 388.
11. McGuinness, 1997.
12. Geary, 1994; Geary, 1995.
13. Carey, 1986; Carey & Spelke, 1994; Gardner, 1983; Gardner, 1999; Geary, 1994; Geary, 1995; Geary, in press.
14. Carey, 1986; McCloskey, 1983.
15. Gardner, 1999.
16. McGuinness, 1997.
17. Dehaene et al., 1999.
18. Bloom, 1994.
19. Pinker, 1990.
20. Carey & Spelke, 1994.
21. Geary, 1995; Geary, in press; Harris, 1998a.
22. Green, 2001, chap. 2.
23. S. G. Stolberg, "Reconsidering embryo research," New York Times, July 1, 2001.
24. Brock, 1993, p. 372, n. 14 p. 385; Glover, 1977; Tooley, 1972; Warren, 1984.
25. Green, 2001.
26. R. Bailey, "Dr. Strangelunch, or: Why we should learn to stop worrying and love genetically modified food," Reason, January 2001.
27. "EC-sponsored research on safety of genetically modified organisms— A review of results." Report EUR 19884, October 2001, European Union Office for Publications.
28. Ames, Profet, & Gold, 1990.
29. Ames, Profet, & Gold, 1990.
30. E. Schlosser, "Why McDonald's fries tas:_ so good," Atlantic Monthly, January 2001.
31. Ahn et al., 2001; Frazer, 1890/1996; Rozin, 1996; Rozin, Markwith, & Stoess, 1997; p. Stevens, 2001 (but see also M. Stevens, 2001).
32. Rozin & Fallon, 1987.
33. Ahn et al, 2001.
34. Rozin, 1996; Rozin & Fallon, 1987; Rozin, Markwith, & Stoess, 1997.
35. Rozin, 1996.
36. Mayr, 1982.
37. Ames, Profet, & Gold, 1990; Lewis, 1990; G. Gray & D. Ropeik, "What, me worry?" Boston Globe, November 11, 2001, p.E8.
38. Marks & Nesse, 1994; Seligman, 1971.
39. Slovic, Fischof, & Lichtenstein, 1982.
40. Sharpe, 1994.
41. Cosmides & Tooby, 1996; Gigerenzer, 1991; Gigerenzer, 1997; Pinker, 1997, chap. 5.
42. Hoffrage et al., 2000; Tversky & Kahneman, 1973.
43. Slovic, Fischof, & Lichtenstein, 1982.
44. Tooby & DeVore, 1987.
45. Fiske, 1992.
46. Cosmides & Tooby, 1992.
47. Sowell, 1980.
48. Sowell, 1980; Sowell, 1996.
49. Sowell, 1994; Sowell, 1996.
50. R. Radford (writing in 1945), quoted in Sowell, 1994, p. 57.
51. From "The figure of the youth as virile poet"; Stevens, 1965.
52. Jackendoff, 1987; Pinker, 1997; Pinker, 1999.
53. Bailey, 2000.
54. Sen, 1984.
55. Simon, 1996.
56. Bailey, 2000; Romer, 1991; Romer & Nelson, 1996; P. Romer, "Ideas and things," Economist, September 11, 1993.
57. Romer & Nelson, 1996.
58. Quoted in M. Kumar, "Quantum reality," Prometheus, 2, pp. 20–21, 1999.
59. Quoted in M. Kumar, "Quantum reality," Prometheus, 2, pp. 20–21, 1999.
60. Quoted in Dawkins, 1998, p. 50.
61. McGinn, 1993; McGinn, 1999; Pinker, 1997, chap. 8.
Глава 14. Корни наших страданий
1. Trivers, 1976.
2. Trivers, 1971; Trivers, 1972; Trivers, 1974; Trivers, 1976; Trivers, 1985.
3. Alexander, 1987; Cronin, 1992; Dawkins, 1976/1989; Ridley, 1997; Wright, 1994.
4. Hamilton, 1964; Trivers, 1971; Trivers, 1972; Trivers, 1974; Williams, 1966.
5. "Renewing American Civilization," a talk presented at Reinhardt College, January 7, 1995.
6. Chagnon, 1988; Daly, Salmon, & Wilson, 1997; Fox, 1984; Mount, 1992; Shoumatoff, 1985.
7. Chagnon, 1992; Daly, Salmon, & Wilson, 1997; Daly & Wilson, 1988; Gaulin & McBurney, 2001, pp. 321–329.
8. Burnstein, Crandall, & Kitayama, 1994; Petrinovich, O'Neill, & Jorgensen, 1993.
9. Petrinovich, O'Neill, & Jorgensen, 1993; Singer, 1981.
10. Masters, 1989, pp. 207–208.
11. Quoted in J. Muravchick, "Socialism's last stand," Commentary, March 2002, pp. 47–53, quotation from p. 51.
12. Broadcast on Radio Free LA, January 1997, . Transcript available at or as a cached page on .
13. Daly, Salmon, & Wilson, 1997; Mount, 1992.
14. Johnson, Ratwik, & Sawyer, 1987; Salmon, 1998.
15. Fiske, 1992.
16. Fiske, 1992, p. 698.
17. Trivers, 1974; Trivers, 1985.
18. Agrawal, Brodie, & Brown, 2001; Godfray, 1995; Trivers, 1985.
19. Haig, 1993.
20. Daly & Wilson, 1988; Hrdy, 1999.
21. Hrdy, 1999.
22. Trivers, 1976; Trivers, 1981.
23. Trivers, 1985.
24. Harris, 1998a; Plomin & Daniels, 1987; Rowe, 1994; Sulloway, 1996; Turkheimer, 2000.
25. Trivers, 1985, p. 159.
26. Использовалось в качестве эпиграфа к книге Джудит Рич Харрис «The nurture assumption».
27. Dunn & Plomin, 1990.
28. Hrdy, 1999.
29. Daly & Wilson, 1988; Wilson, 1993.
30. Wilson, 1993.
31. Trivers, 1972; Trivers, 1985.
32. Blum, 1997; Buss, 1994; Geary, 1998; Ridley, 1993; Symons, 1979.
33. Buss, 1994; Kenrick et al., 1993; Salmon & Symons, 2001; Symons, 1979.
34. Buss, 2000.
35. Alexander, 1987.
36. Brown, 1991; Symons, 1979.
37. K. Kelleher, "When students 'hook up, 'someone inevitably gets let down," Los Angeles Times, August 13, 2001.
38. Symons, 1979.
39. Daly, Salmon, & Wilson, 1997.
40. Wilson & Daly, 1992.
41. Ridley, 1997. See also Lewontin, 1990.
42. Rose & Rose, 2000.
43. Fiske, 1992.
44. Axelrod, 1984; Dawkins, 1976/1989; Ridley, 1997; Trivers, 1971.
45. Cosmides & Tooby, 1992; Frank, Gilovich, & Regan, 1993; Gigerenzer & Hug, 1992; Kanwisher & Moscovitch, 2000; Mealey, Daood, & Krage, 1996.
46. Yinon & Dovrat, 1987.
47. Gaulin & McBurney, 2001, pp. 329–338; Haidt, in press; Trivers, 1971, pp. 49–54.
48. Fehr & Gächter, 2000; Gintis, 2000; Price, Cosmides, & Tooby, 2002.
49. Ridley, 1997, p. 84.
50. Fehr & Gächter, 2000; Gaulin & McBurney, 2001, pp. 333–335.
51. Fehr & Gächter, 2000; Ridley, 1997.
52. Williams, Harkins, & Latané, 1981.
53. Klaw, 1993; McCord, 1989; Muravchik, 2002; Spann, 1989.
54. J. Muravchik, "Socialism's last stand," Commentary, March 2002, pp. 47–53, quotation from p. 53.
55. Fiske, 1992.
56. Cashdan, 1989; Cosmides & Tooby, 1992; Eibl-Eibesfeldt, 1989; Fiske, 1992; Hawkes, O'Connell, & Rogers, 1997; Kaplan, Hill, & Hurtado, 1990; Ridley, 1997.
57. Ridley, 1997, p. 111.
58. Junger, 1997, p. 76.
59. Cited in Williams, 1966, p. 116.
60. Williams, 1966.
61. Fehr, Fischbacher, & Gächter, in press; Gintis, 2000.
62. Nunney, 1998; Reeve, 2000; Trivers, 1998; Wilson & Sober, 1994.
63. Williams, 1988, pp. 391–392.
64. Frank, 1988; Hirshleifer, 1987; Trivers, 1971.
65. Hare, 1993; Lykken, 1995; Mealey, 1995.
66. По наследуемости асоциальных черт см. Bock & Goode, 1996; Deater-Deckard & Plomin, 1999; Krueger, Hicks, & McGue, 2001; Lykken, 1995; Mealey, 1995; Rushton et al, 1986. Что касается альтруизма, одно исследование не смогло доказать, что он наследуется (Krueger, Hicks, & McGue, 2001); другое (два раза большиее количество испытуемых) показало, что оно в значительной мере наследуемо (Rushton et al, 1986).
67. Miller, 2000b.
68. Tooby & Cosmides, 1990.
69. Axelrod, 1984; Dawkins, 1976/1989; Nowak, May, & Sigmund, 1995; Ridley, 1997.
70. Dugatkin, 1992; Harpending & Sobus, 1987; Mealey, 1995; Rice, 1997.
71. Rice, 1997.
72. Lalumière, Harris, & Rice, 2001.
73. M. Kakutani, "The strange case of the writer and the criminal," New York Times Book Review, September 20, 1981.
74. S. McGraw, "Some used their second chance at life; others squandered it," The Record (Bergen County, N. J.), October 12, 1998.
75. Rice, 1997.
76. Trivers, 1976.
77. Goleman, 1985; Greenwald, 1988; Krebs & Denton, 1997; Lockard & Paulhaus, 1988; Rue, 1994; Taylor, 1989; Trivers, 1985; Wright, 1994.
78. Nesse & Lloyd, 1992.
79. Gazzaniga, 1998.
80. Damasio, 1994, p. 68.
81. Babcock & Loewenstein, 1997; Rue, 1994; Taylor, 1989.
82. Aronson, 1980; Festinger, 1957; Greenwald, 1988.
83. Haidt, 2001.
84. Dutton, 2001, p. 209; Fox, 1989; Hogan, 1997; Polti, 1921/1977; Storey, 1996, pp. 110, 142.
85. Steiner, 1984, p. 1.
86. Steiner, 1984, p. 231.
87. Steiner, 1984, pp. 300–301.
88. Symons, 1979, p. 271.
89. D. Symons, в личном разговоре, July 30, 2001.
Глава 15. Лицемерное животное
1. Alexander, 1987; Haidt, in press; Krebs, 1998; Trivers, 1971; Wilson, 1993; Wright, 1994.
2. Haidt, Koller, & Dias, 1993.
3. Haidt, 2001.
4. Haidt, in press.
5. Shweder et al., 1997.
6. Haidt, in press; Rozin, 1997; Rozin, Markwith, & Stoess, 1997.
7. Glendon, 2001; Sen, 2000.
8. Cronk, 1999; Sommers, 1998; Wilson, 1993; C. Sommers, 1998, "Why Johnny can't tell right from wrong," American Outlook, Summer 98, pp. 45–47.
9. D. Symons, в личном разговоре, July 26, 2001.
10. Etcoff, 1999.
11. Glover, 1999.
12. L. Kass, "The wisdom of repugnance," New Republic, June 2, 1997.
13. Rozin, 1997; Rozin, Markwith, & Stoess, 1997.
14. Tetlock, 1999; Tetlock et al., 2000.
15. Tetlock, 1999.
16. Tetlock et al, 2000.
17. Hume, 1739/2000.
18. I. Buruma, Review of Ian Kershaw's Hitler 1936–45: Nemesis, New York Times Book Review, December 10, 2000, p. 13.
ЧАСТЬ V. ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ
1. Haidt&Hersh, 2001; Tetlock, 1999; Tetlock et al., 2000.
2. Haidt&Hersh, 2001; Tetlock, 1999; Tetlock et al., 2000.
Глава 16. Политика
1. Из комической оперы Салливана и Гилберта «Иоланта».
2. D. Lykken, April 11, 2001, в личном разговоре. Другие оценки наследуемости консервативных взглядов обычно ранжируются от 0,4 до 0,5: Bouchardetal., 1990; Eaves, Eysenck, &Martin, 1989; Holden, 1987; Martinetal., 1986; Plominetal., 1997, p. 206; Scarr&Weinberg, 1981.
3. Tesser, 1993.
4. Wilson, 1994, pp. 338–339.
5. Masters, 1982; Masters, 1989.
6. Dawkins, 1976/1989; Williams, 1966.
7. Boyd & Silk, 1996; Ridley, 1997; Trivers, 1985.
8. Sowell, 1987.
9. Sowell, 1995b.
10. From the preface to On the rocks: A political fantasy in two acts.
11. Smith, 1759/1976, pp. 233–234.
12. Burke, 1790/1967, p. 93.
13. Quoted in E. M. Kennedy, "Tribute to Senator Robert F. Kennedy," June 8, 1968, .
14. Hayek, 1976, pp. 64, 33.
15. QuotedinSowell, 1995, pp. 227, 112.
16. «Если закон так говорит — стало быть, он осел… идиот!» (из «ОливераТвиста»).
17. Quoted in Sowell, 1995, p. 11.
18. Hayek, 1976.
19. Здесь видна точка соприкосновения с альтернативной теорией психологической основы расхождения правых и левых, предложенной лингвистом Джорджем Лакоффом: левые верят, что правительство должно вести себя как заботливый родитель, в то время как правые уверены, что оно должно вести себя как родитель строгий. Lakoff, 1996.
20. See Chapter 14, and also Burnstein, Crandall, &Kitayama, 1994; Chagnon, 1992; Daly, Salmon, & Wilson, 1997; Daly & Wilson, 1988; Fox, 1984; Gaulin&McBurney, 2001, pp. 321–329; Mount, 1992; Petrinovich, O'Neill, & Jorgensen, 1993; Shoumatoff, 1985.
21. See Chapter 14, and also Bowles &Gintis, 1999; Cosmides&Tooby, 1992; Fehr, Fischbacher, &Gächter, in press; Fehr &Gächter, 2000; Fiske, 1992; Gaulin&McBurney, 2001, pp. 333–335; Gintis, 2000; Klaw, 1993; McCord, 1989; Muravchik, 2002; Price, Cosmides, &Tooby, 2002; Ridley, 1997; Spann, 1989; Williams, Harkins, &Latané, 1981.
22. See Chapters 3 and 17, especially the references in notes 39, 52, 53, 72, 73, and 74 in Chapter 3, and notes 42, 43, and 45 in Chapter 17.
23. Brown, 1991; Brown, 1985; Sherif, 1966; Tajfel, 1981.
24. See Chapters 3 and 19, and also Bouchard, 1994; Neisser et al., 1996; Plomin et al., 2001.
25. See Chapter 14, and also Aronson, 1980; Festinger, 1957; Gazzaniga, 1998; Greenwald, 1988; Nesse& Lloyd, 1992; Wright, 1994.
26. See Chapter 15, and also Haidt, in press; Haidt, Koller, & Dias, 1993; Petrinovich, O'Neill, & Jorgensen, 1993; Rozin, Markwith, &Stoess, 1997; Shweder et al., 1997; Singer, 1981; Tetlock, 1999; Tetlock et al., 2000.
27. Sowell, 1987.
28. Marx & Engels, 1844/1988.
29. Quoted in Singer, 1999, p. 4.
30. Bullock, 1991; Chirot, 1994; Conquest, 2000; Courtois et al., 1999; Glover, 1999.
31. Quoted in J. Getlin, "Natural wonder: At heart, Edward Wilson's an ant man," Los Angeles Times, October 21, 1994, p. El.
32. Federalist Papers No. 51, Rossiter, 1961, p. 322.
33. Bailyn, 1967/1992; Maier, 1997.
34. Lutz, 1984.
35. McGinnis, 1996; McGinnis, 1997.
36. Federalist Papers No. 10, Rossiter, 1961, p. 78.
37. Quoted in McGinnis, 1997, p. 236.
38. Federalist Papers No. 72, Rossiter, 1961, p. 437.
39. Federalist Papers No. 51, Rossiter, 1961, p. 322.
40. Federalist Papers No. 51, Rossiter, 1961, pp. 331–332.
41. From Helvedius No. 4, quoted in McGinnis, 1997, p. 130.
42. Boehm, 1999; de Waal, 1998; Dunbar, 1998.
43. Singer, 1999, p. 5.
44. L. Arnhart, M. J. Behe, & W. A. Dembski, "Conservatives, Darwin, and design: An exchange," First Things, 107, November 2000, pp. 23–31.
45. For arguments similar to Singer's, see Brociner, 2001.
46. Singer, 1999, p. 6.
47. Singer, 1999, pp. 8–9.
48. Chomsky, 1970, p. 22.
49. See Barsky, 1997; Chomsky, 1988a.
50. Chomsky, 1975, p. 131.
51. Trivers, 1981.
52. A. Wooldridge, "Bell Curve liberals," New Republic, February 27, 1995.
53. Herrnstein & Murray, 1994, chap. 22. See also Murray's afterword in the 1996 paperback edition.
54. Gigerenzer&Selten, 2001; Jones, 2001; Kahneman&Tversky, 1984; Thaler, 1994; Tversky&Kahneman, 1974.
55. Akerlof, 1984; Daly & Wilson, 1994; Jones, 2001; Rogers, 1994.
56. Frank, 1999; Frank, 1985.
57. Bowles &Gintis, 1998; Bowles &Gintis, 1999.
58. Gintis, 2000.
59. Wilkinson, 2000.
60. Daly & Wilson, 1988; Daly, Wilson, &Vasdev, 2001; Wilson & Daly, 1997.
Глава 17. Насилие
1. Quoted by R. Cooper in "The long peace," Prospect, April 1999.
2. National Defense Council Foundation, Alexandria, Va., .
3. Bamforth, 1994; Chagnon, 1996; Daly & Wilson, 1988; Ember, 1978; Ghiglieri, 1999; Gibbons, 1997; Keeley, 1996; Kingdon, 1993; Knauft, 1987; Krech, 1994; Krech, 1999; Wrangham& Peterson, 1996.
4. Keeley, 1996; Walker, 2001.
5. Gibbons, 1997; Holden, 2000.
6. Fernández-Jalvo et al., 1996.
7. FBI Uniform Crime Reports 1999: .
8. Seville, 1990.
9. Ortega y Gasset, 1932/1985, epilogue.
10. New York Times, June 13, 1999.
11. Paul Billings, quoted in B. H. Kevles& D. J. Kevles, "Scapegoat biology," Discover, October 1997, pp. 59–62, quotation from p. 62.
12. B. H. Kevles& D. J. Kevles, "Scapegoat biology," Discover, October 1997, pp. 59–62, quotation from p. 62.
13. Daphne White, quoted in M. Wilkinson, "Parent group lists 'dirty dozen' toys," Boston Globe, December 5, 2000, p. A5.
14. H. Spivak& D. Prothrow-Stith, "The next tragedy of Jonesboro," Boston Globe, April 5, 1998.
15. C. Burrell, "Study of inmates cites abuse factor," Associated Press, April 27, 1998.
16. G. Kane, "Violence as a cultural imperative," Boston Sunday Globe, October 6, 1996.
17. Quoted in A. Flint, "Some see bombing's roots in a US culture of conflict," Boston Globe, June 1, 1995.
18. A. Flint, "Some see bombing's roots in a US culture of conflict," Boston Globe, June 1, 1995.
19. M. Zuckoff, "More murders, more debate," Boston Globe, July 31, 1999.
20. A. Diamant, "What's the matter with men?" Boston Globe Magazine, March 14, 1993.
21. Mesquida& Wiener, 1996.
22. Freedman, 2002.
23. Fischoff, 1999; Freedman, 1984; Freedman, 1996; Freedman, 2002; Renfrew, 1997.
24. Charlton, 1997.
25. J. Q. Wilson, "Hostility in America," New Republic, August 25, 1997, pp. 38–41.
26. Nisbett& Cohen, 1996.
27. E. Marshal, "The shots heard 'round the world," Science, 289, 2000, pp. 570–574.
28. Wakefield, 1992.
29. M. Enserink, "Searching for the mark of Cain," Science, 289, 2000, pp. 575–579; quotation from p. 579.
30. Clark, 1970, p. 220.
31. Daly & Wilson, 1988, p. be.
32. Shipman, 1994, p. 252.
33. E. Marshal, "A sinister plot or victim of politics?" Science, 289, 2000, p. 571.
34. Shipman, 1994, p. 243.
35. Quoted in R. Wright, "The biology of violence," New Yorker, March 13, 1995, pp. 68–77; quotation from p. 69.
36. Daly & Wilson, 1988.
37. Daly & Wilson, 1988; Rogers, 1994; Wilson & Herrnstein, 1985.
38. Quoted by Frederick Goodwin in R. Wright, "The biology of violence," New Yorker, March 13, 1995, p. 70.
39. C. Holden, "The violence of the lambs," Science, 289, 2000, pp. 580–581.
40. Hare, 1993; Lykken, 1995; Rice, 1997.
41. Ghiglieri, 1999; Wrangham& Peterson, 1996.
42. Davidson, Putnam, & Larson, 2000; Renfrew, 1997.
43. Geary, 1998, pp. 226–227; Sherif, 1966.
44. R. Tremblay, quoted in C. Holden, "The violence of the lambs," Science, 289, 2000, pp. 580–581.
45. Buss &Duntley, in press; Kenrick& Sheets, 1994.
46. Hobbes, 1651/1957, p. 185.
47. Dawkins, 1976/1989, p. 66.
48. Bueno de Mesquita, 1981.
49. Trivers, 1972.
50. Chagnon, 1992; Daly & Wilson, 1988; Keeley, 1996.
51. Daly & Wilson, 1988, p. 163.
52. Rogers, 1994; Wilson & Daly, 1997.
53. Wilson & Herrnstein, 1985.
54. Mesquida& Wiener, 1996.
55. Singer, 1981.
56. Wright, 2000.
57. Glover, 1999.
58. Zimbardo, Maslach, & Haney, 2000.
59. Quoted in Glover, 1999, p. 53.
60. Quoted in Glover, 1999, pp. 37–38.
61. Bourke, 1999, pp. 63–64; Graves, 1992; Spiller, 1988.
62. Bourke, 1999; Glover, 1999; Horowitz, 2001.
63. Daly & Wilson, 1988; Glover, 1999; Schelling, 1960.
64. Chagnon, 1992; Daly & Wilson, 1988; Wrangham& Peterson, 1996.
65. Van den Berghe, 1981.
66. Epstein, 1994; Epstein & Axtell, 1996; Richardson, 1960; Saperstein, 1995.
67. Chagnon, 1988; Chagnon, 1992.
68. Glover, 1999.
69. Vasquez, 1992.
70. Rosen, 1992.
71. Wrangham, 1999.
72. Daly & Wilson, 1988.
73. Daly & Wilson, 1988, pp. 225–226.
74. Daly & Wilson, 1988; Frank, 1988; Schelling, 1960.
75. Brown, 1985; Horowitz, 2001.
76. Daly & Wilson, 1988.
77. Daly & Wilson, 1988; Fox &Zawitz, 2000; Nisbett& Cohen, 1996.
78. Daly & Wilson, 1988, p. 127.
79. Daly & Wilson, 1988, p. 229.
80. Chagnon, 1992; Daly & Wilson, 1988; Frank, 1988.
81. Nisbett& Cohen, 1996.
82. Nisbett&Cohen, 1996.
83. E. Anderson, "The code of the streets," Atlantic Monthly, May 1994, pp. 81–94.
84. See also Patterson, 1997.
85. E. Anderson, "The code of the streets," Atlantic Monthly, May 1994, pp. 81–94, quotation from p. 82.
86. Quoted in L. Helmuth, "Has America's tide of violence receded for good?" Science, 289, 2000, pp. 582–585, quotation from p. 582.
87. L. Helmuth, "Has America's tide of violence receded for good?" Science, 289, 2000, pp. 582–585, quotation from p. 583.
88. Wilkinson, 2000; Wilson & Daly, 1997.
89. Harris, 1998a, pp. 212–213.
90. Hobbes, 1651/1957, p. 190.
91. Hobbes, 1651/1957, p. 223.
92. Fry, 2000.
93. Daly & Wilson, 1988; Keeley, 1996.
94. Daly & Wilson, 1988; Nisbett & Cohen, 1996.
95. Daly & Wilson, 1988.
96. Daly & Wilson, 1988.
97. Wilson & Herrnstein, 1985.
98. L. Helmuth, "Has America's tide of violence receded for good?" Science, 289, 2000; Kelling& Sousa, 2001.
99. Time, October 17, 1969, p. 47.
100. Kennedy, 1997.
101. National Defense Council Foundation, Alexandria, Va., .
102. Quoted by Glover, 1999, p. 227.
103. Horowitz, 2001; Keegan, 1976.
104. C. Nickerson, "Canadians remain gun-shy of Americans," Boston Globe, February 11, 2001.
105. Quoted in Wright, 2000, p. 61.
106. Chagnon, 1988; Chagnon, 1992.
107. Axelrod, 1984.
108. Glover, 1999, p. 159.
109. Glover, 1999, p. 202.
110. Axelrod, 1984; Ridley, 1997.
111. Glover, 1999, pp. 231–232.
112. M. J. Wilkinson, в личном разговоре, October 29, 2001; Wilkinson, in press.
113. See Chapters 3 and 13, and also Fodor & Pylyshyn, 1988; Miller, Galanter, & Pribram, 1960; Pinker, 1997, chap. 2; Pinker, 1999, chap. 1.
Глава 18. Гендер
1. Jaggar, 1983.
2. Quoted in Jaggar, 1983, p. 27.
3. J. N. Wilford, "Sexes equal on South Sea isle," New York Times, March 29, 1994.
4. L. Tye, "Girls appear to be closing aggression gap with boys," Boston Globe, March 26, 1998.
5. M. Zoll, "What about the boys?" Boston Globe, April 23, 1998.
6. Quoted in Young, 1999, p. 247.
7. Crittenden, 1999; Shalit, 1999.
8. L. Kass, "The end of courtship," Public Interest, 126, Winter 1997.
9. Patai, 1998.
10. Grant, 1993; Jaggar, 1983; Tong, 1998.
11. Sommers, 1994. See also Jaggar, 1983.
12. Quoted in Sommers, 1994, p. 22.
13. Gilligan, 1982.
14. Jaffe & Hyde, 2000; Sommers, 1994, chap. 7; Walker, 1984.
15. Belenky et al., 1986.
16. Denfeld, 1995; Kaminer, 1990; Lehrman, 1997; McElroy, 1996; Paglia, 1992; Patai, 1998; Patai&Koertge, 1994; Sommers, 1994; Taylor, 1992; Young, 1999.
17. Sommers, 1994.
18. Denfeld, 1995; Lehrman, 1997; Roiphe, 1993; Walker, 1995.
19. S. Boxer, "One casualty of the women's movement: Feminism," New York Times, December 14, 1997.
20. C. Paglia, "Crying wolf," Salon, February 7, 2001.
21. Patai, 1998; Sommers, 1994.
22. Trivers, 1976; Trivers, 1981; Trivers, 1985.
23. Trivers& Willard, 1973.
24. Jensen, 1998, chap. 13.
25. Blum, 1997; Eagly, 1995; Geary, 1998; Halpern, 2000; Kimura, 1999.
26. Salmon & Symons, 2001; Symons, 1979.
27. Daly & Wilson, 1988. Surgery anecdote from Barry, 1995.
28. Geary, 1998; Maccoby&Jacklin, 1987.
29. Geary, 1998; Halpern, 2000; Kimura, 1999.
30. Blum, 1997; Geary, 1998; Halpern, 2000; Hedges &Nowell, 1995; Lubinski&Benbow, 1992.
31. Hedges &Nowell, 1995; Lubinski& Ben-bow, 1992.
32. Blum, 1997; Geary, 1998; Halpern, 2000; Kimura, 1999.
33. Blum, 1997; Geary, 1998; Halpern, 2000; Kimura, 1999.
34. Provine, 1993.
35. Hrdy, 1999.
36. Fausto-Sterling, 1985, pp. 152–153.
37. Brown, 1991.
38. Buss, 1999; Geary, 1998; Ridley, 1993; Symons, 1979; Trivers, 1972.
39. Daly & Wilson, 1983; Geary, 1998; Hauser, 2000.
40. Geary, 1998; Silverman &Eals, 1992.
41. Gibbons, 2000.
42. Blum, 1997; Geary, 1998; Halpern, 2000; Kimura, 1999.
43. Blum, 1997; Geary, 1998; Gur&Gur, in press; Gur et al., 1999; Halpern, 2000; Jensen, 1998; Kimura, 1999; Neisser et al., 1996.
44. Dabbs&Dabbs, 2000; Geary, 1998; Halpern, 2000; Kimura, 1999; Sapolsky, 1997.
45. A. Sullivan, "Testosterone power," Women's Quarterly, Summer 2000.
46. Kimura, 1999.
47. Blum, 1997; Gangestad&Thornhill, 1998.
48. Blum, 1997; Geary, 1998; Halpern, 2000; Kimura, 1999.
49. Symons, 1979, chap. 9.
50. Reiner, 2000.
51. QuotedinHalpern, 2000, p. 9.
52. QuotedinColapinto, 2000.
53. Colapinto, 2000; Diamond&Sigmundson, 1997.
54. Skuseetal, 1997.
55. Barkley et al., 1977; Harris, 1998a; Lytton & Romney, 1991; Maccoby&Jacklin, 1987.
56. B. Friedan, "The future of feminism," Free Inquiry, Summer 1999.
57. "Land of plenty: Diversity as America's competitive edge in science, engineering, and technology," Report of the Congressional Commission on the Advancement of Women and Minorities in Science, Engineering, and Technology Development, September 2000.
58. J. Alper, "The pipeline is leaking women all the way along," Science, 260, April 16, 1993; J. Mervis, "Efforts to boost diversity face persistent problems," Science, 284, June 11, 1999; J. Mervis, "Diversity: Easier said than done," Science, 289, March 16, 2000; J. Mervis, "NSF searches for right way to help women," Science, 289, July 21, 2000; J. Mervis, "Gender equity: NSF program targets institutional change," Science, 291, July 21, 2001.
59. J. Mervis, "Efforts to boost diversity face persistent problems," Science, 284, June 11, 1999, p. 1757.
60. P. Healy, "Faculty shortage: Women in sciences," Boston Globe, January 31, 2001.
61. C. Holden, "Parity as a goal sparks bitter battle," Science, 289, July 21, 2000, p. 380.
62. QuotedinYoung, 1999, pp. 22, 34–35.
63. Estrich, 2000; Furchtgott-Roth &Stolba, 1999; Goldin, 1990; Gottfredson, 1988; Haus-man, 1999; Kleinfeld, 1999; Lehrman, 1997; Lubinski&Benbow, 1992; Roback, 1993; Schwartz, 1992; Young, 1999.
64. Browne, 1998; Furchtgott-Roth &Stolba, 1999; Goldin, 1990.
65. В случайной выборке из 100 членов Международной ассоциации по изучению языка у детей я насчитал 75 женщин и 25 мужчин. Стэнфордский форум изучения языка у детей на своем сайте (csli.stanford.edu/~clrf/history.html) выложил список 18 ключевых спикеров: 15 женщин и трое мужчин.
66. Browne, 1998; Furchtgott-Roth &Stolba, 1999; Goldin, 1990; Gottfredson, 1988; Kleinfeld, 1999; Roback, 1993; Young, 1999.
67. Lubinski&Benbow, 1992.
68. See Browne, 1998, and the references in note 63.
69. Buss, 1992; Ellis, 1992.
70. Hrdy, 1999.
71. Browne, 1998; Hrdy, 1999.
72. Roback, 1993.
73. Becker, 1991.
74. Furchtgott-Roth &Stolba, 1999.
75. Quoted in C. Young, "Sex and science," Salon, April 12, 2001.
76. Quoted in C. Holden, "Parity as a goal sparks bitter battle," Science, 289, July 21, 2000.
77. Quoted in C. Holden, "Parity as a goal sparks bitter battle," Science, 289, July 21, 2000.
78. Kleinfeld, 1999.
79. National Science Foundation, Women, Minorities, and Persons with Disabilities in Science and Engineering: 1998, .
80. Thornhill& Palmer, 2000.
81. "Report on the situation of human rights in the territory of the former Yugoslavia," 1993. United Nations Document E/CN.4/1993/50.
82. J. E. Beals, "Ending the silence on sexual violence," Boston Globe, April 10, 2000.
83. R. Haynor, "Violence against women," Boston Globe, October 22, 2000.
84. Brownmiller, 1975, p. 14.
85. Young, 1999, p. 139.
86. McElroy, 1996.
87. McElroy, 1996.
88. Thiessen& Young, 1994.
89. Dworkin, 1993.
90. J. Tooby& L. Cosmides, "Reply to Jerry Coyne," .
91. Gordon &Riger, 1991, p. 47.
92. Rose & Rose, 2000, p. 139.
93. M. Wertheim, "Born to rape?" Salon, February 29, 2000.
94. G. Miller, "Why men rape," Evening Standard, March 6, 2000, p. 53.
95. Symons, 1979; Thornhill& Palmer, 2000.
96. Jones, 1999. See also Check &Malamuth, 1985; Ellis & Beattie, 1983; Symons, 1979; Thornhill& Palmer, 2000.
97. Gottschall&Gottschall, 2001.
98. Jones, 1999, p. 890.
99. Bureau of Justice Statistics, .
100. Quoted in A. Humphreys, "Lawyers may use genetics study in rape defense," National Post (Canada), January 22, 2000, p.A8.
101. Quoted in Jones, 1999.
102. Paglia, 1990, pp. 51, 57.
103. McElroy, 1996.
104. J. Phillips, "Exploring inside to live on the outside," Boston Globe, March 21, 1999.
105. S. Satel, "The patriarchy made me do it," Women's Freedom Newsletter, 5, September/October 1998.
Глава 19. Дети
1. Turkheimer, 2000.
2. Goldberg, 1968; Janda, 1998; Neisser et al., 1996.
3. Jensen, 1971.
4. Plomin et al., 2001.
5. Bouchard, 1994; Bouchard et al., 1990; Bouchard, 1998; Loehlin, 1992; Plomin, 1994; Plomin et al., 2001.
6. Plomin et al., 2001.
7. McLearn et al, 1997; Plomin, Owen, & McGuffin, 1994.
8. Bouchard, 1994; Bouchard et al., 1990; Bouchard, 1998; Loehlin, 1992; Lykken et al., 1992; Plomin, 1990; Plomin, 1994; Stromswold, 1998.
9. Plomin et al., 2001.
10. Bouchard et al., 1990; Plomin, 1991; Plomin, 1994; Plomin & Daniels, 1987.
11. Bouchard et al, 1990; Pedersen et al., 1992.
12. Bouchard et al., 1990; Bouchard, 1998.
13. Scarr & Carter-Saltzman, 1979.
14. Loehlin & Nichols, 1976.
15. Bouchard, 1998; Gutknecht, Spitz, & Carlier, 1999.
16. McGue, 1997.
17. Etcoff, 1999; Persico, Postlewaite, & Silverman, 2001.
18. Jackson & Huston, 1975.
19. Bouchard, 1994; Bouchard et al., 1990.
20. Kamin, 1974; Lewontin, Rose, & Kamin, 1984, p. 116.
21. Neisser et al, 1996; Snyderman & Roth-man, 1988.
22. Hunt, 1999, pp. 50–51.
23. Plomin & Daniels, 1987; Plomin et al., 2001.
24. Bouchard, 1994; Harris, 1998a; Plomin & Daniels, 1987; Rowe, 1994; Turkheimer & Wal-dron, 2000. Пример невоспроизводимого открытия — недавнее заявление Krueger, Hicks, & McGue, 2001, что на альтруизм влияет общее окружение, что противоречит исследованию, проведенному Rushton et al., 1986, в котором использовались схожие методы и большая выборка.
25. Stoolmiller, 2000.
26. Bouchard et al., 1990; Plomin & Daniels, 1987; Reiss et al., 2000; Rowe, 1994.
27. Plomin, 1991; Plomin & Daniels, 1987, p. 6; Plomin et al., 2001.
28. Bouchard, 1994; Plomin & Daniels, 1987; Rowe, 1994; Turkheimer, 2000; Turkheimer & Waldron, 2000.
29. Schütze, 1987.
30. B. Singer, "How to raise a perfect child…," Boston Globe Magazine, March 26, 2000, pp. 12–36.
31. D. Barry, "Is your kid's new best friend named 'Bessie'? Be very afraid," Miami Herald, October 31, 1999.
32. Harris, 1998a, chap. 2; Lytton, 1990.
33. Harris, 1998a, chap. 4; Harris, 2000b.
34. Harris, 1998a, pp. 319–320, 323.
35. Harris, 1998a; Harris, 1998b; Harris, 2000a; Harris, 2000b.
36. Harris, 1998a, chaps. 2, 3; Maccoby & Martin, 1983.
37. Harris, 1998a, pp. 300–311.
38. Bruer, 1999, p. 5.
39. Chabris, 1999.
40. T. B. Brazelton, "To curb teenage smoking, nurture children in their earliest years," Boston Globe, May 21, 1998.
41. Bruer, 1999.
42. Collins et al., 2000; Vandell, 2000.
43. Harris, 1995; Harris, 1998b; Harris, 2000b; Loehlin, 2001; Rowe, 2001.
44. Plomin, DeFries, & Fulker, 1988; Reiss et al., 2000; Turkheimer & Waldron, 2000.
45. D. Reiss, quoted in A. M. Paul, "Kid stuff: Do parents really matter?" Psychology Today, January/February 1998, pp. 46–49, 78.
46. Sulloway, 1996.
47. Sulloway, 1995.
48. Harris, 1998a, appendix 1; Harris, in press.
49. Hrdy, 1999.
50. Dunphy, 1963.
51. Pinker, 1994, chaps. 2, 9.
52. Kosof, 1996.
53. Harris, 1998a, chaps. 9, 12, 13.
54. Harris, 1998a, p. 264.
55. Harris, 1998a, chap. 13; Rowe, 1994; Rutter, 1997.
56. Gottfredson & Hirschi, 1990; Harris, 1998a, chap. 13.
57. Harris, 1998a, chap. 8.
58. M. Wertheim, "Mindfield" (Review of S. Pinker's How the mind works), The Australian's Review of Books, 1998.
59. O. James, "It's a free market on the nature of nurture," The Independent, October 20, 1998.
60. . See also Anheuser-Busch's .
61. J. Leo, "Parenting without a care," US News and World Report, September 21, 1998.
62. Quoted in J. Leo, "Parenting without a care," US News and World Report, September 21, 1998.
63. S. Begley, "The parent trap," Newsweek, September 7, 1998, p. 54.
64. S. Begley, "The parent trap," Newsweek, September 7, 1998, p. 54.
65. J. Kagan, "A parent's influence is peerless," Boston Globe, September 13, 1998, p. E3.
66. Harris, 1998b; Harris, 2000a; Harris, 2000b; Loehlin, 2001; Rowe, 2001.
67. See also Miller, 1997.
68. Austad, 2000; Finch & Kirkwood, 2000.
69. Hartman, Garvik, & Hartwell, 2001; Waddington, 1957.
70. Harris, 1998a, pp. 78–79.
71. Quoted in B. M. Rubin, "Raising a ruckus being a parent is difficult, but is it necessary?" Chicago Tribune, August 31, 1998.
72. Harris, 1998a, p. 291.
73. Harris, 1998a, p. 342.
Глава 20. Искусство и гуманитарные науки
1. R. Brustein, "The decline of high culture," New Republic, November 3, 1997.
2. A. Kernan, Yale University Press, 1992.
3. A. Delbanco, New York Review of Books, November 4, 1999.
4. R. Brustein, New Republic, November 3, 1997.
5. Conference at the Stanford University Humanities Center, April 23, 1999.
6. G. Steiner, PN Review, 25, March — April 1999.
7. J. Engell & A. Dangerfield, Harvard Magazine, May — June 1998, pp. 48–55, 111.
8. A. Louch, Philosophy and Literature, 22, April 1998, pp. 231–241.
9. C. Woodring, Columbia University Press, 1999.
10. J. M. Ellis, Yale University Press, 1997.
11. G. Wheatcroft, Prospect, August/September 1998.
12. R. E. Scholes, Yale University Press, 1998.
13. A. Kernan (Ed.), Princeton University Press, 1997.
14. C. P. Freund, Reason, March 1998, pp. 33–38.
15. Quoted in Cowen, 1998, pp. 9–10.
16. J. Engell & A. Dangerfield, "Humanities in the age of money," Harvard Magazine, May — June 1998, pp. 48–55, 111.
17. J. Engell & A. Dangerfield, "Humanities in the age of money," Harvard Magazine, May — June 1998, pp. 48–55, 111.
18. Cowen, 1998; Ν. Gillespie, "All culture, all the time," Reason, April 1999, pp. 24–35.
19. Cowen, 1998.
20. Quoted in Cowen, 1998, p. 188.
21. Cowen, 1998.
22. Actually, "human character changed," from her essay "Mr. Bennett and Mrs. Brown".
23. Crick, 1994; Gardner, 1983; Peretz, Gagnon, & Bouchard, 1998.
24. Miller, 2000a.
25. Dutton, 2001.
26. Dissanayake, 1992; Dissanayake, 2000.
27. Pinker, 1997, chap. 8.
28. Marr, 1982; Pinker, 1997, chap. 8; Ramachandran & Hirstein, 1999; Shepard, 1990. See also Gombrich, 1982/1995; Miller, 2001.
29. Pinker, 1997, chap. 8.
30. Kaplan, 1992; Orians, 1998; Orians & Heerwgen, 1992; Wilson, 1984.
31. Wilson, 1984.
32. Etcoff, 1999; Symons, 1995; Thornhill, 1998.
33. Tooby & DeVore, 1987.
34. Abbott, 2001; Pinker, 1997.
35. 35 Dissanayake, 1998.
36. Dissanayake, 1992.
37. Frank, 1999; Veblen, 1899/1994.
38. Zahavi & Zahavi, 1997.
39. Miller, 2000a, p. 270.
40. Bell, 1992; Wolfe, 1975; Wolfe, 1981.
41. Bourdieu, 1984.
42. From his 1757 essay "Of the standard of taste," quoted in Dutton, 2001, p. 206.
43. Dutton, 2001, p. 213.
44. Dutton, 1998; Komar, Melamid, & Wypijewski, 1997.
45. Dissanayake, 1998.
46. Dutton, 1998.
47. Lingua Franca, 2000.
48. Turner, 1997, pp. 170, 174–175.
49. Etcoff, 1999; Kaplan, 1992; Orians & Heerwgen, 1992.
50. Leslie, 1994; Schellenberg & Trehub, 1996; Storey, 1996; Zentner & Kagan, 1996.
51. Martindale, 1990.
52. Steiner, 2001.
53. Quoted in Dutton, 2000.
54. C. Darwent, "Art of staying pretty," New Statesman, February 13, 2000.
55. Steiner, 2001.
56. Bell, 1992.
57. The Onion, 36, September 21–27, 2000, p. 1.
58. Wolfe, 1975, pp. 2–4.
59. J. Miller, "Is bad writing necessary? George Orwell, Theodor Adorno, and the politics of language," Lingua Franca, December/January, 2000.
60. .
61. Steiner, 1967, preface.
62. New York Times, September 19, 2001.
63. Работа "Gnaw" скульптора Жанин Антони; G. Beauchamp, "Dissing the middle class: The view from Burns Park," American Scholar, Summer 1995, pp. 335–349.
64. K. Limaye, "Adieu to the Avant-Garde," Reason, July 1997.
65. K. Limaye, "Adieu to the Avant-Garde," Reason, July 1997.
66. C. Darwent, "Art of staying pretty," New Statesman, February 13, 2000; C. Lambert, "The stirring of sleeping beauty," Harvard Magazine, September — October 1999, pp. 46–53; K. Limaye, "Adieu to the Avant-Garde," Reason, July 1997; A. Delbanco, "The decline and fall of literature," New York Review of Books, November 4, 1999; Perloff, 1999; Turner, 1985; Turner, 1995.
67. Abbott, 2001; Boyd, 1998; Carroll, 1995; Dutton, 2001; Easterlin, Riebling, & Crews, 1993; Evans, 1998; Gottschall & Jobling, in preparation; Hernadi, 2001; Hogan, 1997; Steiner, 2001; Turner, 1985; Turner, 1995; Turner, 1996.
68. Goguen, 1999; Gombrich, 1982/1995; Kubovy, 1986.
69. Aiello & Sloboda, 1994; Lerdahl & Jackendoff, 1983.
70. Keyser, 1999; Keyser & Halle, 1998; Turner, 1991; Turner, 1996; Williams, 1990.
71. Keyser, 1999; Keyser & Halle, 1998; Turner, 1991; Turner, 1996; Williams, 1990.
72. Abbott, 2001.
73. A. Quart, "David Bordwell blows the whistle on film studies," Lingua Franca, March 2000, pp. 35–43.
74. Abbott, 2001; Aiken, 1998; Cooke & Turner, 1999; Dissanayake, 1992; Etcoff, 1999; Kaplan, 1992; Orians & Heerwgen, 1992; Thornhill, 1998.
75. Teuber, 1997.
76. Behrens, 1998.
77. Quoted in Storey, 1996, p. 182.
78. A. S. Byatt, "Narrate or die," New York Times Magazine, April 18, 1999, pp. 105–107.
79. John Updike, "The tried and the trēowe," Forbes ASAP, October 2, 2000, pp. 201, 215.
80. Storey, 1996, p. 114.
ЧАСТЬ VI. ГОЛОС ВИДА
1. Degler, 1991, p. 135.
2. Dickinson, 1976.
3. Vonnegut, 1968/1998.
4. Orwell, 1949/1983, p.205.
5. For example, Gould, 1981; Lewontin, Rose, & Kamin, 1984, pp. ix-x.
6. Orwell, 1949/1983, p.217.
7. Orwell, 1949/1983, p.220.
8. Orwell, 1949/1983, p.220.
9. Orwell, 1949/1983, p. 222.
10. Twain, 1884/1983, pp.293–295.
11. Twain, 1884/1983, p. 295.
12. Twain, 1884/1983, pp. 330–331.
13. Twain, 1884/1983, p. 332.
14. Twain, 1884/1983, p. 339.
15. Singer, 1972.
16. Singer, 1972, pp. 68–78. Диалог взят в сокращенном виде из текста книги и из кинофильма.
Библиография
Abbott, H. P. E. 2001. Imagination and the adapted mind: A special double issue. SubStance, 30.
Adams, B., Breazeal, C., Brooks, R. A., & Scassellati, B. 2000. Humanoid robots: A new kind of tool. IEEE Intelligent Systems, 25–31.
Agrawal, A. F., Brodie, E. D. I., & Brown, J. 2001. Parent-offspring coadaptation and the dual genetic control of maternal care. Science, 292, 1710–1712.
Ahn, W.-K., Kalish, C., Gelman, S. A., Medin, D. L., Luhmann, C., Atran, S., Coley, J. D., & Shafto, P. 2001. Why essences are essential in the psychology of concepts. Cognition, 82, 59–69.
Aiello, R., & Sloboda, J. A. (Eds.) 1994. Musical perceptions. New York: Oxford University Press.
Aiken, N. E. 1998. The biological origins of art. Westport, Conn.: Praeger.
Akerlof, G. A. 1984. An economic theorist's book of tales: Essays that entertain the consequences of new assumptions in economic theory. New York: Cambridge University Press.
Alcock, J. 1998. Unpunctuated equilibrium in the Natural History essays of Stephen Jay Gould. Evolution and Human Behavior, 19, 321–336.
Alcock, J. 2001. The triumph of sociobiology. New York: Oxford University Press. Alexander, R. D. 1987. The biology of moral systems. Hawthorne, N. Y.: Aldine de Gruyter.
Allen, E., Beckwith, B., Beckwith, J., Chorover, S., Culver, D., Duncan, M., Gould, S. J., Hubbard, R., Inouye, H., Leeds, A., Lewontin, R., Madansky, C., Miller, L., Pyeritz, R., Rosenthal, M., & Schreier, H. 1975. Against "sociobiology." New York Review of Books, 22, 43–44.
Allen, G. E. 2001. Is a new eugenics afoot? Science, 294, 59–61.
Ames, B., Profet, M., & Gold, L. S. 1990. Dietary pesticides (99.9 % all natural). Proceedings of the National Academy of Sciences, 87, 7777–7781.
Anderson, J. R. 1976. Language, memory, and thought. Mahwah, N. J.: Erlbaum. Anderson, J. R. 1983. The architecture of cognition. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Anderson, J. R. 1990. The adaptive character of thought. Hillsdale, N. J.: Erlbaum.
Anderson, J. R. 1993. Rules of the mind. Hillsdale, N. J.: Erlbaum.
Anderson, J. R. 1995. Cognitive psychology and its implications 4th ed. New York: W. H. Freeman.
Anderson, S. W., Bechara, A., Damasio, H., Tranel, D., & Damasio, A. R. 1999. Impairment of social and moral behavior related to early damage in human prefrontal cortex. Nature Neuroscience, 2, 1032–1037.
Andreasen, N. C., Flaum, M., Swayze, V., O'Leary, D. S., Alliger, R., Cohen, G., Ehrharadt, J., & Yuh, W. T. C. 1993. Intelligence and brain structure in normal individuals. American Journal of Psychiatry, 150, 130–134.
Antonaccio, M., & Schweiker, W. (Eds.) 1996. Iris Murdoch and the search for human goodness. Chicago: University of Chicago Press.
Archibald, W. P. 1989. Marx and the missing link: Human nature. Atlantic Highlands, N. J.: Humanities Press International.
Arditi, A., Holtzman, J. D., & Kosslyn, S. M. 1988. Mental imagery and sensory experience in congenital blindness. Neuropsychologia, 26, 1–12.
Armstrong, S. L., Gleitman, L. R., & Gleitman, H. 1983. What some concepts might not be. Cognition, 13, 263–308.
Aronson, E. 1980. The social animal. San Francisco: W. H. Freeman.
Atran, S. 1995. Causal constraints on categories and categorical constraints on biological reasoning across cultures. In D. Sperber, D. Premack, & A. J. Premack (Eds.), Causal cognition. New York: Oxford University Press.
Atran, S. 1998. Folk biology and the anthropology of science: Cognitive universals and cultural particulars. Behavioral and Brain Sciences, 21, 547–609.
Austad, S. 2000. Varied fates from similar states. Science, 290, 944. Axelrod, R. 1984. The evolution of cooperation. New York: Basic Books.
Babcock, L., & Loewenstein, G. 1997. Explaining bargaining impasse: the role of self-serving biases. Journal of Economic Perspectives, 11, 109–126.
Baddeley, A. D. 1986. Working memory. New York: Oxford University Press. Bailey, R. 2000. The law of increasing returns. Public Interest, 59, 113–121.
Bailyn, B. 1967/1992. The ideological origins of the American revolution. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Baker, M. 2001. The atoms of language. New York: Basic Books.
Baldwin, D. A. 1991. Infants' contribution to the achievement of joint reference. Child Development, 62, 875–890.
Bamforth, D. B. 1994. Indigenous people, indigenous violence: Precontact warfare on the North American Great Plains. Man, 29, 95–115.
Barkley, R. A., Ullman, D. G., Otto, L., & Brecht, J. M. 1977. The effects of sex typing and sex appropriateness of modeled behavior on children's imitation. Child Development, 48, 721–725.
Barkow, J. H., Cosmides, L., & Tooby, J. 1992. The adapted mind: Evolutionary psychology and the generation of culture. New York: Oxford University Press.
Baron-Cohen, S. 1995. Mindblindness: An essay on autism and theory of mind. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Barry, D. 1995. Dave Barry's complete guide to guys. New York: Ballantine.
Barsky, R. F. 1997. Noam Chomsky: A life of dissent. Cambridge, Mass.: MIT Press. Barthes, R. 1972. To write: An intransitive verb? In R. Macksey & E. Donato (Eds.), The languages of criticism and the science of man: The structuralist controversy. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Bauer, R. A. 1952. The new man in Soviet psychology. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Becker, G. S. 1991. A treatise on the family enlarged ed. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Behe, M. J. 1996. Darwin's black box: The biochemical challenge to evolution. New York: Free Press.
Behrens, R. R. 1998. Art, design, and gestalt theory. Leonardo, 31, 299–304. Belenky, M. F., Clinchy, B. M., Goldberger, N. R., & Tarule, J. M. 1986. Women's ways of knowing. New York: Basic Books.
Bell, Q. 1992. On human finery. London: Allison & Busby.
Benedict, R. 1934/1959. Anthropology and the abnormal. In M. Mead (Ed.), An anthropologist at work: Writings of Ruth Benedict. Boston: Houghton Mifflin.
Benjamin, J., Li, L., Patterson, C., Greenberg, B. D., Murphy, D. L., & Hamer, D. H. 1996. Population and familial association between the D4 dopamine receptor gene and measures of novelty seeking. Nature Genetics, 12, 81–84.
Berent, I., Pinker, S., & Shimron, J. 1999. Default nominal inflection in Hebrew: Evidence for mental variables. Cognition, 72, 1–44.
Berlin, I. 1996. The sense of reality: Studies in ideas and their history. New York: Farrar, Straus, & Giroux.
Berra, T. M. 1990. Evolution and the myth of creationism. Stanford, Calif.: Stanford University Press.
Besançon, A. 1981. The intellectual origins of Leninism. Oxford: Basil Blackwell. Besançon, A. 1998. Forgotten communism. Commentary, 24–27.
Betzig, L. L. 1997. Human nature: a critical reader. New York: Oxford University Press.
Bishop, K. M., Coudreau, G., & O'Leary, D. D. M. 2000. Regulation of area identity in the mammalian neocortex by Emx2 and Pax6. Science, 288, 344–349.
Blair, J., & Cipolotti, L. 2000. Impaired social response reversal: A case of "acquired sociopathy." Brain, 123, 1122–1141.
Blinkhorn, S. 1982. Review of S. J. Gould's "The mismeasure of man." Nature, 296, 506.
Bloom, P. 1994. Generativity within language and other cognitive domains. Cognition, 51, 177–189.
Bloom, P. 1996. Intention, history, and artifact concepts. Cognition, 60, 1–29. Blum, D. 1997. Sex on the brain: The biological differences between men and women. New York: Viking.
Boas, F. 1911. Language and thought. In Handbook of American Indian languages. Lincoln, NE: Bison Books.
Bock, G. R., & Goode, J. A. (Eds.) 1996. The genetics of criminal and antisocial behavior. New York: Wiley.
Bodmer, W. F., & Cavalli-Sforza, L. L. 1970. Intelligence and race. Scientific American.
Boehm, C. 1999. Hierarchy in the forest: The evolution of egalitarian behavior. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Borges, J. L. 1964. The lottery in Babylon, Labyriths: Selected stories and other writings. New York: New Directions.
Bouchard, T. J., Jr. 1994. Genes, environment, and personality. Science, 264, 1700–1701.
Bouchard, T. J., Jr., Lykken, D. T., McGue, M., Segal, N. L., & Tellegen, A. 1990. Sources of human psychological differences: The Minnesota Study of Twins Reared Apart. Science, 250, 223–228.
Bouchard, T. J. Jr. 1998. Genetic and environmental influences on intelligence and special mental abilities. Human Biology, 70, 257–259.
Bourdieu, P. 1984. Distinction: A social critique of the judgment of taste. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Bourgeois, J.-P., Goldman-Rakic, P. S., & Rakic, P. 2000. Formation, elimination, and stabilization of synapses in the primate cerebral cortex. In M. S. Gazzaniga (Ed.), The new cognitive neurosciences. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Bourke, J. 1999. An intimate history of killing: Face-to-face killing in 20th-century warfare. New York: Basic Books.
Bowles, S., & Gintis, H. 1998. Is equality passé? Homo reciprocans and the future of egalitarian politics. Boston Review.
Bowles, S., & Gintis, H. 1999. Recasting egalitarianism: New rules for communities, states, and markets. New York: Verso.
Boyd, B. 1998. Jane, meet Charles: Literature, evolution, and human nature. Philosophy and Literature, 22, 1–30.
Boyd, R., & Richerson, P. 1985. Culture and the evolutionary process. Chicago: University of Chicago Press.
Boyd, R., & Silk, J. R. 1996. How humans evolved. New York: Norton.
Boyer, P. 1994. Cognitive constraints on cultural representations: Natural ontologies and religious ideas. In L. A. Hirschfeld & S. A. Gelman (Eds.), Mapping the mind: Domain specificity in cognition and culture. New York: Cambridge University Press.
Braine, M. D. S. 1994. Mental logic and how to discover it. In J. Macnamara & G. Reyes (Eds.), The logical foundations of cognition. New York: Oxford University Press.
Bregman, A. S. 1990. Auditory scene analysis: The perceptual organization of sound. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Bregman, A. S., & Pinker, S. 1978. Auditory streaming and the building of timbre. тanadian Journal of Psychology, 32, 19–31.
Breland, K., & Breland, M. 1961. The misbehavior of organisms. American Psychologist, 16, 681–684.
Brink, D. O. 1989. Moral realism and the foundations of ethics. New York: Cambridge University Press.
Brociner, K. 2001. Utopianism, human nature, and the left. Dissent, 89–92.
Brock, D. W. 1993. Life and death: Philosophical essays in biomedical ethics. New York: Cambridge University Press.
Brooker, P. 1999. A concise glossary of cultural theory. New York: Oxford University Press.
Brown, D. E. 1991. Human universals. New York: McGraw-Hill.
Brown, D. E. 2000. Human universals and their implications. In N. Roughley (Ed.), Being humans: Anthropological universality and particularity in transdisciplinary perspectives. New York: Walter de Gruyter.
Brown, R. 1985. Social psychology: The second edition. New York: Free Press. Browne, K. 1998. Divided labors: An evolutionary view of women at work. London: Weidenfeld and Nicholson.
Brownmiller, S. 1975. Against our will: Men, women, and rape. New York: Fawcett Columbine.
Brownmiller, S., & Merhof, B. 1992. A feminist response to rape as an adaptation in men. Behavioral and Brain Sciences, 15, 381–382.
Bruer, J. 1997. Education and the brain: A bridge too far. Educational Researcher, 26, 4–16.
Bruer, J. 1999. The myth of the first three years: A new understanding of brain development and lifelong learning. New York: Free Press.
Brugger, P., Kollias, S. S., Müri, R. M., Crelier, G., Hepp-Reymond, M.-C., & Regard, M. 2000. Beyond re-membering: Phantom sensations of congenitally absent limbs. Proceedings of the National Academy of Science, 97, 6167–6172.
Bueno de Mesquita, B. 1981. The war trap. New Haven: Yale University Press. Bullock, A. 1991. Hitler and Stalin: Parallel lives. London: HarperCollins.
Burke, E. 1790/1967. Reflections on the revolution in France. London: J. M. Dent & Sons.
Burnham, R., & Phelan, J. 2000. Mean genes: From sex to money to food: Taming our primal instincts. Cambridge, Mass.: Perseus.
Burnstein, E., Crandall, C., & Kitayama, S. 1994. Some neo-Darwinian decision rules for altruism: Weighing cues for inclusive fitness as a function of the biological importance of the decision. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 773–789.
Buss, D., & Duntley, J. D. In press. Why the mind is designed for murder: The coevolution of killing and death prevention strategies. Behavioral and Brain Sciences.
Buss, D. M. 1992. Mate preference mechanisms: Consequences for partner choice and intrasexual competition. In J. Barkow, L. Cosmides, & J. Tooby (Eds.), The Adapted Mind: Evolutionary psychology and the generation of culture. New York: Oxford University Press.
Buss, D. M. 1994. The evolution of desire. New York: Basic Books.
Buss, D. M. 1995. Evolutionary psychology: A new paradigm for psychological science. Psychological Inquiry, 6, 1–30.
Buss, D. M. 1999. Evolutionary psychology: The new science of the mind. Boston: Allyn and Bacon.
Buss, D. M. 2000. The dangerous passion: Why jealousy is as necessary as love and sex. New York: Free Press.
Butterworth, B. 1999. The mathematical brain. London: Macmillan. Calvin, W. H. 1996a. The cerebral code. Cambridge, Mass.: MIT Press. Calvin, W. H. 1996b. How brains think. New York: Basic Books.
Calvin, W. H., & Bickerton, D. 2000. Lingua ex machina: Reconciling Darwin and Chomsky with the human brain. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Calvin, W. H., & Ojemann, G. A. 2001. Inside the brain: Mapping the cortex, exploring the neuron: .
Campbell, J. D., & Fairey, P. J. 1989. Informational and normative routes to conformity: The effect of faction size as a function of norm extremity and attention to the stimulus. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 315–324.
Cappon, L. J. (Ed.) 1959. The Adams-Jefferson letters. New York: Simon & Schuster. Caramazza, A., & Shelton, J. A. 1998. Domain-specific knowledge systems in the brain: The animate-inanimate distinction. Journal of Cognitive Neuroscience, 10, 1–34.
Carey, S. 1986. Cognitive science and science education. American Psychologist, 41, 1123–1130.
Carey, S., & Spelke, E. 1994. Domain-specific knowledge and conceptual change. In L. A. Hirschfeld & S. A. Gelman (Eds.), Mapping the mind: Domain specificity in cognition and culture. New York: Cambridge University Press.
Carpenter, M., Akhtar, N., & Tomasello, M. 1998. Fourteen- through eighteen-month- old infants differentially imitate intentional and accidental actions. Infant Behavior and Development, 21, 315–330.
Carroll, J. 1995. Evolution and literary theory. Columbia: University of Missouri Press. Cartmill, M. 1998. Oppressed by evolution. Discover, 19, 78–83.
Cartwright, J. 2000. Evolution and human behavior. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Caryl, P. G. 1994. Early event-related potentials correlate with inspection time and intelligence. Intelligence, 18, 15–46.
Cashdan, E. 1989. Hunters and gatherers: Economic behavior in bands. In S. Plattner (Ed.), Economic anthropology. Stanford, Calif.: Stanford University Press.
Caspi, A. 2000. The child is father of the man: Personality continuities from childhood to adulthood. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 158–172.
Catalano, S. M., & Shatz, C. J. 1998. Activity-dependent cortical target selection by thalamic axons. Science, 24, 559–562.
Cavalli-Sforza, L. L. 1991. Genes, people, and languages. Scientific American, 104–110.
Cavalli-Sforza, L. L., & Feldman, M. W. 1981. Cultural transmission and evolution: A quantitative approach. Princeton, N. J.: Princeton University Press.
Chabris, C. F. 1999. Prelude or requiem for the "Mozart effect"? Nature, 400, 826–828.
Chagnon, N. A. 1988. Life histories, blood revenge, and warfare in a tribal population. Science, 239, 985–992.
Chagnon, N. A. 1992. Yanomamö: The last days of Eden. New York: Harcourt Brace. Chagnon, N. A. 1996. Chronic problems in understanding tribal violence and warfare. In G. Bock & J. Goode (Eds.), The genetics of criminal and antisocial behavior. New York: Wiley.
Chalupa, L. M. 2000. A comparative perspective on the formation of retinal connections in the mammalian brain. In M. S. Gazzaniga (Ed.), The new cognitive neurosciences. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Chandler, D. P. 1999. Brother number one: A political biography of Pol Pot. Boulder, Colo.: Westview Press.
Charlesworth, B. 1987. The heritability of fitness. In J. W. Bradbury & M. B. Andersson (Eds.), Sexual selection: Testing the hypotheses. New York: Wiley.
Charlton, T. 1997. The inception of broadcast television: A naturalistic study of television's effects in St. Helena, South Atlantic. In T. Charlton & K. David (Eds.), Elusive links: Television, video games, and children's behavior. Cheltenham, UK: Park Published Papers.
Chase, W. G., & Simon, H. A. 1973. Perception in chess. Cognitive Psychology, 4, 55–81.
Check, J. V. P., & Malamuth, N. 1985. An empirical assessment of some feminist hypotheses about rape. International Journal of Women's Studies, 8, 414–423.
Chirot, D. 1994. Modern tyrants. Princeton: Princeton University Press. Chomsky, N. 1970. Language and freedom. Abraxas, I, 9–24.
Chomsky, N. 1973. Psychology and ideology. In N. Chomsky (Ed.), For reasons of state. New York: Vintage.
Chomsky, N. 1975. Reflections on language. New York: Pantheon.
Chomsky, N. 1980. Rules and representations. New York: Columbia University Press.
Chomsky, N. 1988a. Language and politics. Montreal: Black Rose Books.
Chomsky, N. 1988b. Language and problems of knowledge: The Managua lectures.
Cambridge, Mass.: MIT Press.
Chomsky, N. 1993. Language and thought. Wakefield, R. I.: Moyer Bell. Chomsky, N. 2000. New horizons in the study of language and mind. New York:
Cambridge University Press.
Chorney, M. J., Chorney, K., Seese, N., Owen, M. J., McGuffin, P., Daniels, J., Thompson, L. A., Detterman, D. K., Benbow, C. P., Lubinski, D., Eley, T. C., & Plomin, R. 1998. A quantitative trait locus (QTL) associated with cognitive ability in children. Psychological Science, 9, 159–166.
Chorover, S. L. 1979. From genesis to genocide: The meaning of human nature and the power of behavior control. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Clahsen, H. 1999. Lexical entries and rules of language: A multidisciplinary study of German inflection. Behavioral and Brain Sciences, 22, 991–1013.
Clark, R. 1970. Crime in America: Observations on its nature, causes, prevention, and control. New York: Simon & Schuster.
Claverie, J.-M. 2001. What if there are only 30,000 human genes? Science, 291, 1255–1257.
Cohen, J. 1997. The natural goodness of humanity. In A. Reath, B. Herman, & C. Korsgaard (Eds.), Reclaiming the history of ethics: Essays for John Rawls. New York: Cambridge University Press.
Colapinto, J. 2000. As nature made him: The boy who was raised as a girl. New York: HarperCollins.
Collins, W. A., Maccoby, E. E., Steinberg, L., Hetherington, E. M., & Bornstein, M. H. 2000. Contemporary research on parenting: The case for nature and nurture. American Psychologist, 55, 218–232.
Conquest, R. 2000. Reflections on a ravaged century. New York: Norton.
Cooke, B., & Turner, F. (Eds.) 1999. Biopoetics: Evolutionary explorations in the arts. St. Paul, MN: Paragon House.
Cosmides, L., & Tooby, J. 1992. Cognitive adaptations for social exchange. In J. H. Barkow, L. Cosmides, & J. Tooby (Eds.), The adapted mind: Evolutionary psychology and the generation of culture. New York: Oxford University Press.
Cosmides, L., & Tooby, J. 1996. Are humans good intuitive statisticians after all? Rethinking some conclusions from the literature on judgment under uncertainty. Cognition, 58, 1–73.
Courtois, S., Werth, N., Panné, J.-L., Paczkowski, A., Bartoek, K., & Margolin, J.-L. 1999. The black book of communism: Crimes, terror, repression. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Cowen, T. 1998. In praise of commercial culture. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Cowie, F. 1999. What's within? Nativism reconsidered. New York: Oxford University Press.
Crair, M. C., Gillespie, D. C., & Stryker, M. P. 1998. The role of visual experience in the development of columns in cat visual cortex. Science, 279, 566–570.
Cramer, K. S., & Sur, M. 1995. Activity-dependent remodeling of connections in the mammalian visual system. Current Opinion in Neurobiology, 5, 106–111.
Crawford, C., & Krebs, D. L. (Eds.) 1998. Handbook of evolutionary psychology: Ideas, issues, and applications. Mahwah, N. J.: Erlbaum.
Crevier, D. 1993. AI: The tumultuous history of the search for artificial intelligence. New York: Basic Books.
Crews, F. 2001. Saving us from Darwin. New York Review of Books.
Crick, F. 1994. The astonishing hypothesis: The scientific search for the soul. New York: Simon & Schuster.
Crick, F., & Koch, C. 1995. Are we aware of neural activity in primary visual cortex? Nature, 375, 121–123.
Crittenden, D. 1999. What our mothers didn't tell us: Why happiness eludes the modern woman. New York: Simon & Schuster.
Cronin, H. 1992. The ant and the peacock. New York: Cambridge University Press. Cronk, L. 1999. That complex whole: Culture and the evolution of human behavior. Boulder, Colo.: Westview Press.
Cronk, L., Chagnon, N., & Irons, W. (Eds.) 2000. Adaptation and human behavior. Hawthorne, N. Y.: Aldine de Gruyter.
Crow, J. F. 2002. Unequal by nature: A geneticist's perspective on human differences. Daedalus, Winter, 81–88.
Crowley, J. C., & Katz, L. C. 2000. Early development of ocular dominance columns. Science, 290, 1321–1324.
Cummins, D. D. 1996. Evidence for the innateness of deontic reasoning. Mind and Language, 11, 160–190.
Curti, M. 1980. Human nature in American thought: A history. Madison: University of Wisconsin Press.
Curtiss, S., de Bode, S., & Shields, S. 2000. Language after hemispherectomy. In J. Gilkerson, M. Becker, & N. Hyams (Eds.), UCLA Working Papers in Linguistics (Vol. 5, pp. 91–112). Los Angeles: UCLA Department of Linguistics.
Dabbs, J. M., & G., D. M. 2000. Heroes, rogues, and lovers: Testosterone and behavior. New York: McGraw Hill.
Daly, M. 1991. Natural selection doesn't have goals, but it's the reason organisms do (commentary on P. J. H. Shoemaker, "The quest for optimality: A positive heuristic of science?"). Behavioral and Brain Sciences, 14, 219–220.
Daly, M., Salmon, C., & Wilson, M. 1997. Kinship: The conceptual hole in psychological studies of social cognition and close relationships. In J. Simpson & D. Kenrick (Eds.), Evolutionary social psychology. Mahwah, N. J.: Erlbaum.
Daly, M., & Wilson, M. 1983. Sex, evolution, and behavior 2nd ed. Belmont, Calif.: Wadsworth.
Daly, M., & Wilson, M. 1988. Homicide. Hawthorne, N. Y.: Aldine de Gruyter.
Daly, M., & Wilson, M. 1994. Evolutionary psychology of male violence. In J. Archer (Ed.), Male violence. London: Routledge.
Daly, M., & Wilson, M. 1999. The truth about Cinderella: A Darwinian view of parental love. New Haven: Yale University Press.
Daly, M., Wilson, M., & Vasdev, S. 2001. Income inequality and homicide rates in Canada and the United States. Canadian Journal of Criminology, 43, 219–236.
Damasio, A. R. 1994. Descartes' error: Emotion, reason, and the human brain. New York: Putnam.
Damasio, H. 2000. The lesion method in cognitive neuroscience. In F. Boller & J. Grafman (Eds.), Handbook of neuropsychology (2nd ed., Vol. 1,).
Damewood, M. D. 2001. Ethical implications of a new application of preimplantation diagnosis. Journal of the American Medical Association, 285, 3143–3144.
Darwin, C. 1872/1998. The expression of the emotions in man and animals: Definitive edition. New York: Oxford University Press.
Davidson, R. J., Putnam, K. M., & Larson, C. L. 2000. Dysfunction in the neural circuitry of emotion regulation-A possible prelude to violence. Science, 289, 591–594.
Davis, B. D. 1983. Neo-Lysenkoism, IQ, and the press. Public Interest, 73, 41–59. Dawkins, R. 1976/1989. The selfish gene new ed. New York: Oxford University Press.
Dawkins, R. 1983. Universal Darwinism. In D. S. Bendall (Ed.), Evolution from molecules to man. New York: Cambridge University Press.
Dawkins, R. 1985. Sociobiology: The debate continues (Review of Lewontin, Rose, & Kamin's "Not in our genes"). New Scientist, 24, 59–60.
Dawkins, R. 1986. The blind watchmaker: Why the evidence of evolution reveals a universe without design. New York: Norton.
Dawkins, R. 1998. Unweaving the rainbow: Science, delusion and the appetite for wonder. Boston: Houghton Mifflin.
De Waal, F. 1998. Chimpanzee politics: Power and sex among the apes. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Deacon, T. 1997. The symbolic species: The coevolution of language and the brain. New York: Norton.
Deary, J. J. 2000. Looking down on human intelligence: From psychometrics to the brain. New York: Oxford University Press.
Deater-Deckard, K., & Plomin, R. 1999. An adoption study of the etiology of teacher and parent reports of externalising behavior problems in middle childhood. Child Development, 70, 144–154.
Degler, C. N. 1991. In search of human nature: The decline and revival of Darwinism in American social thought. New York: Oxford University Press.
Dehaene, S. 1997. The number sense: How the mind creates mathematics. New York: Oxford University Press.
Dehaene, S., Spelke, L., Pinel, P., Stanescu, R., & Tsivkin, S. 1999. Sources of mathematical thinking: behavioral and brain-imaging evidence. Science, 284, 970–974.
Denfeld, R. 1995. The new Victorians: A young woman's challenge to the old feminist order. New York: Warner Books.
Dennett, D. C. 1984. Elbow room: The varieties of free will worth wanting. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Dennett, D. C. 1986. The logical geography of computational approaches: A view from the East Pole. In M. Harnish & M. Brand (Eds.), The representation of knowledge and belief. Tucson: University of Arizona Press.
Dennett, D. C. 1991. Consciousness explained. Boston: Little, Brown.
Dennett, D. C. 1995. Darwin's dangerous idea: Evolution and the meanings of life. New York: Simon & Schuster.
Dershowitz, A. M. 1994. The abuse excuse. Boston: Little, Brown. Descartes, R. 1637/2001. Discourse on method. New York: Bartleby.com. Descartes, R. 1641/1967. Meditations on first philosophy. In R. Popkin (Ed.), The philosophy of the 16th and 17th centuries. New York: Free Press.
Deutsch, M., & Gerard, G. B. 1955. A study of normative and informational social influence upon individual judgment. Journal of Abnormal and Social Psychology, 51, 629–636.
Devlin, K. 2000. The Math Gene: How mathematical thinking evolved and why numbers are like gossip. New York: Basic Books.
Diamond, J. 1992. The third chimpanzee: The evolution and future of the human animal. New York: HarperCollins.
Diamond, J. 1998. Why is sex fun? The evolution of human sexuality. New York: Basic Books.
Diamond, J. M. 1997. Guns, germs, and steel: The fates of human societies 1st ed. New York: Norton.
Diamond, M., & Sigmundson, K. 1997. Sex reassignment at birth: Long-term review and clinical implications. Archives of Pediatric and Adolescent Medicine, 151, 298–304.
Dickinson, E. 1976. The complete poems of Emily Dickinson. New York: Little, Brown & Co.
Dissanayake, E. 1992. Homo aestheticus: Where art comes from and why. New York: Free Press.
Dissanayake, E. 1998. Komar and Melamid discover Pleistocene taste. Philosophy and Literature, 22, 486–496.
Dissanayake, E. 2000. Art and intimacy: How the arts began. Seattle: University of Washington Press.
Divale, W. T. 1972. System population control in the middle and upper paleolithic: Inferences based on contemporary hunter-gatherers. World Archeology, 4, 222–243.
Dorit, R. 1997. Review of Michael Behe's "Darwin's Black Box." American Scientist, 85, 474–475.
Drake, S. 1970. Galileo studies: Personality, tradition, and revolution. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Dugatkin, L. 1992. The evolution of the con artist. Ethology and Sociobiology, 13, 3–18.
Dunbar, R. 1998. Grooming, gossip, and the evolution of language. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Dunn, J., & Plomin, R. 1990. Separate lives: Why siblings are so different. New York: Basic Books.
Dunphy, D. 1963. The social structure of early adolescent peer groups. Sociometry, 26, 230–246.
Durham, W. H. 1982. Interactions of genetic and cultural evolution: Models and examples. Human Ecology, 10, 299–334.
Durkheim, E. 1895/1962. The rules of the sociological method. Glencoe, IL: Free Press.
Dutton, D. 1998. America's most wanted, and why no one wants it. Philosophy and Literature, 22, 530–543.
Dutton, D. 2000. Mad about flowers. Philosophy and Literature, 24, 249–260.
Dutton, D. 2001. Aesthetic universals. In B. Gaut & D. M. Lopes (Eds.), The
Routledge Companion to Aesthetics. New York: Routledge.
Dworkin, A. 1993. Sexual economics: The terrible truth. In Letters from a war-zone. New York: Lawrence Hill.
Eagly, A. H. 1995. The science and politics of comparing women and men. American Psychologist, 50, 145–158.
Easterlin, N., Riebling, B., & Crews, F. 1993. After poststructuralism: Interdisciplinarity and literary theory (rethinking theory). Evanston, IL: Northwestern University Press.
Eaves, L. J., Eysenck, H. J., & Martin, N. G. 1989. Genes, culture, and personality: An empirical approach. San Diego: Academic Press.
Edgerton, R. B. 1992. Sick societies: Challenging the myth of primitive harmony. New York: Free Press.
Eibl-Eibesfeldt, I. 1989. Human ethology. Hawthorne, N. Y.: Aldine de Gruyter. Ekman, P. 1987. A life's pursuit. In T. A. Sebeok & J. Umiker-Sebeok (Eds.), The semiotic web 86: An international yearbook. Berlin: Mouton de Gruyter.
Ekman, P. 1998. Afterword: Universality of emotional expression? A personal history of the dispute. In C. Darwin, The expression of the emotions in man and animals: Definitive edition. New York: Oxford University Press.
Ekman, P., & Davidson, R. J. 1994. The nature of emotion. New York: Oxford University Press.
Ellis, B. J. 1992. The evolution of sexual attraction: Evaluative mechanisms in women. In J. H. Barkow, L. Cosmides, & J. Tooby (Eds.), The Adapted Mind: Evolutionary psychology and the generation of culture. New York: Oxford University Press.
Ellis, L., & Beattie, C. 1983. The feminist explanation for rape: An empirical test. Journal of Sex Research, 19, 74–91.
Elman, J. L., Bates, E. A., Johnson, M. H., Karmiloff-Smith, A., Parisi, D., & Plunkett, K. 1996. Rethinking innateness: A connectionist perspective on development. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Ember, C. 1978. Myths about hunter-gatherers. Ethnology, 27, 239–248.
Epstein, J. 1994. On the mathematical biology of arms races, wars, and revolutions. In L. Nadel & D. Stein (Eds.), 1992 lectures in complex systems (Vol. 5,). Readin, Mass.: Addison Wesley.
Epstein, J., & Axtell, R. L. 1996. Growing artificial societies: Social science from the bottom up. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Erikson, M. A., & Kruschke, J. K. 1998. Rules and exemplars in category learning. Journal of Experimental Psychology: General, 127, 107–140.
Estrich, S. 2000. Sex and power. New York: Riverhead Press.
Etcoff, N. L. 1999. Survival of the prettiest: The science of beauty. New York: Doubleday.
Evans, D., & Zarate, O. 1999. Introducing evolutionary psychology. New York: Totem Books.
Evans, D. A. 1998. Evolution and literature. South Dakota Review, 36, 33–46. Faigman, D. L. 1999. Legal alchemy: The use and misuse of science in the law. New York: W. H. Freeman.
Farah, M. J., Rabinowitz, C., Quinn, G. E., & Liu, G. T. 2000. Early commitment of neural substrates for face recognition. Cognitive Neuropsychology, 17, 117–123.
Fausto-Sterling, A. 1985. Myths of gender: Biological theories about women and men. New York: Basic Books.
Fehr, E., Fischbacher, U., & Gächter, S. In press. Strong reciprocity, human cooperation and the enforcement of social norms. Human Nature.
Fehr, E., & Gächter, S. 2000. Fairness and retaliation: the economics of reciprocity. Journal of Economic Perspectives, 14, 159–181.
Fernández-Jalvo, Y., Diez, J. C., Bermúdez de Castro, J. M., Carbonell, E., & Arsuaga, J. L. 1996. Evidence of early cannibalism. Science, 271, 277–278.
Festinger, L. 1957. A theory of cognitive dissonance. Stanford, Calif.: Stanford University Press.
Finch, C. E., & Kirkwood, T. B. L. 2000. Chance, development, and aging. New York: Oxford University Press.
Fischoff, S. 1999. Psychology's quixotic quest for the media-violence connection. Journal of Media Psychology, 4.
Fisher, S. E., Vargha-Khadem, F., Watkins, K. E., Monaco, A. P., & Pembrey, M. E. 1998. Localisation of a gene implicated in a severe speech and language disorder. Nature Genetics, 18, 168–170.
Fiske, A. P. 1992. The four elementary forms of sociality: Framework for a unified theory of social relations. Psychological Review, 99, 689–723.
Flynn, J. R. 1999. Searching for justice: The discovery of IQ gains over time. American Psychologist, 54, 5–20.
Fodor, J. A. 1981. The present status of the innateness controversy. In J. A. Fodor (Ed.), RePresentations. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Fodor, J. A. 1983. The modularity of mind. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Fodor, J. A. 1994. The elm and the expert: Mentalese and its semantics. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Fodor, J. A., & Pylyshyn, Z. 1988. Connectionism and cognitive architecture: A critical analysis. Cognition, 28, 3–71.
Fox, J. A., & Zawitz, M. W. 2000. Homicide trends in the United States. Washington, D. C.: U. S. Department of Justice. Available: .
Fox, R. 1984. Kinship and marriage: An anthropological perspective. New York: Cambridge University Press.
Fox, R. 1989. The search for society: Quest for a biosocial science and morality. New Brunswick, N. J.: Rutgers University Press.
Frangiskakis, J. M., Ewart, A. K., Morris, A. C., Mervis, C. B., Bertrand, J., Robinson, B. F., Klein, B. P., Ensing, G. J., Everett, L. A., Green, E. D., Proschel, C., Gutowski, N. J., Noble, M., Atkinson, D. L., Odelberg, S. J., & Keating, M. T. 1996. LIM-Kinase: 1 hemizygosity implicated in impaired visuospatial constructive cognition. Cell, 86, 59–69.
Frank, R. 1999. Luxury fever: When money fails to satisfy in an era of excess. New York: Free Press.
Frank, R. H. 1985. Choosing the right pond: Human behavior and the quest for status. New York: Oxford University Press.
Frank, R. H. 1988. Passions within reason: The strategic role of the emotions. New York: Norton.
Frank, R. H., Gilovich, T., & Regan, D. 1993. The evolution of one-shot cooperation: An experiment. Ethology and Sociobiology, 14, 247–256.
Frazer, J. G. 1890/1996. The golden bough. New York: Simon & Schuster. Freedman, J. L. 1984. Effect of television violence on aggressiveness. Psychological Bulletin, 96, 227–246.
Freedman, J. L. 1996. Violence in the mass media and violence in society: The link is unproven. Harvard Mental Health Letter, 12, 4–6.
Freedman, J. L. 2002. Media violence and aggression: No evidence for a connection. Toronto: University of Toronto Press.
Freeman, D. 1983. Margaret Mead and Samoa: The making and unmaking of an anthropological myth. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Freeman, D. 1999. The fateful hoaxing of Margaret Mead: A historical analysis of her Samoan research. Boulder, Colo.: Westview Press.
Frith, C. 1992. The cognitive neuropsychology of schizophrenia. New York: Psychology Press.
Fry, D. 2000. Conflict management in cross-cultural perspective. In F. Aureli & F. B. M. de Waal (Eds.), Natural conflict resolution. Berkeley: University of California Press.
Furchtgott-Roth, D., & Stolba, C. 1999. Women's figures: An illustrated guide to the economic progress of women in America. Washington, DC: American Enterprise Institute Press.
Galileo, G. 1632/1967. Dialogue concerning the two chief world systems. Berkeley: University of California Press.
Gallistel, C. R. 1990. The organization of learning. Cambridge, Mass.: MIT Press. Gallistel, C. R. (Ed.) 1992. Animal cognition. Cambridge, Mass.: MIT Press. Gallistel, C. R. 2000. The replacement of general-purpose theories with adaptive specializations. In M. S. Gazzaniga (Ed.), The new cognitive neurosciences (2nd ed.,). Cambridge, Mass.: MIT Press.
Gangestad, S., & Thornhill, R. 1998. Menstrual cycle variation in women's preferences for the scent of symmetrical men. Proceedings of the Royal Society of London B, 265, 927–933.
Gardner, H. 1983. Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York: Basic Books.
Gardner, H. 1985. The mind's new science: A history of the cognitive revolution. New York: Basic Books.
Gardner, H. 1999. Intelligence reframed: Multiple intelligences for the 21st century. New York: Basic Books.
Gaulin, S., & McBurney, D. 2000. Evolutionary psychology. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall.
Gaulin, S. J. C., & McBurney, D. H. 2001. Psychology: An evolutionary approach. Upper Saddle River, N. J.: Prentice Hall.
Gazzaniga, M. S. 1992. Nature's mind: The biological roots of thinking, emotion, sexuality, language, and intelligence. New York: Basic Books.
Gazzaniga, M. S. 1998. The mind's past. Berkeley: University of California Press. Gazzaniga, M. S. 2000a. Cognitive neuroscience: A reader. Malden, Mass.: Blackwell.
Gazzaniga, M. S. (Ed.) 2000b. The new cognitive neurosciences (2nd ed.). Cambridge, Mass.: MIT Press.
Gazzaniga, M. S., Ivry, R. B., & Mangun, G. R. 1998. Cognitive neuroscience: The biology of the mind. New York: Norton.
Geary, D. C. 1994. Children's mathematical development. Washington, D. C.: American Psychological Association.
Geary, D. C. 1995. Reflections on evolution and culture in children's cognition. American Psychologist, 50, 24–37.
Geary, D. C. 1998. Male, female: The evolution of human sex differences. Washington, DC: American Psychological Association.
Geary, D. C. In press. Principles of evolutionary educational psychology. Learning and Individual Differences.
Geary, D. C., & Huffman, K. J. 2002. Brain and cognitive evolution: Forms of modularity and functions of mind. Psychological Bulletin.
Geertz, C. 1973. The interpretation of cultures: Selected essays. New York: Basic Books.
Gelman, S. A., Coley, J. D., & Gottfried, G. M. 1994. Essentialist beliefs in children: The acquisition of concepts and theories. In L. A. Hirschfeld & S. A. Gelman (Eds.), Mapping the mind: Domain specificity in cognition and culture. New York: Cambridge University Press.
Getty, J. A. 2000. The future did not work (Reviews of Furet's "The passing of an illusion" and Courtois et al.'s "The black book of communism"). Atlantic Monthly, 113–116.
Ghiglieri, M. P. 1999. The dark side of man: tracing the origins of male violence. Reading, Mass.: Perseus Books.
Gibbons, A. 1997. Archeologists rediscover cannibals. Science, 277, 635–637. Gibbons, A. 2000. Europeans trace ancestry to paleolithic people. Science, 290, 1080–1081.
Gigerenzer, G. 1991. How to make cognitive illusions disappear: Beyond heuristics and biases. European Review of Social Psychology, 2, 83–115.
Gigerenzer, G. 1997. Ecological intelligence: An adaptation for frequencies. In D. Cummins & C. Allen (Eds.), The evolution of mind. New York: Oxford University Press.
Gigerenzer, G., & Hug, K. 1992. Domain specific reasoning: Social contracts, cheating and perspective change. Cognition, 43, 127–171.
Gigerenzer, G., & Selten, R. (Eds.) 2001. Bounded rationality: The adaptive toolbox. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Gilbert, D. T., & Hixon, J. G. 1991. The trouble of thinking: Activation and application of stereotypic beliefs. Journal of Personality and Social Psychology, 60, 509–517.
Gilligan, C. 1982. In a different voice: Psychological theory and women's development. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Gintis, H. 2000. Strong reciprocity and human sociality. Journal of Theoretical Biology, 206, 169–179.
Glendon, M. A. 2001. A world made new: Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights. New York: Random House.
Glover, J. 1977. Causing death and saving lives. London: Penguin.
Glover, J. 1999. Humanity: A moral history of the twentieth century. London: Jonathan Cape.
Godfray, H. C. 1995. Evolutionary theory of parent-offspring conflict. Nature, 376, 133–138.
Goguen, J. A. E. 1999. Special Issue on Art and the Brain. Journal of Consciousness Studies, 6.
Goldberg, L. R. 1968. Simple models or simple processes? Some research on clinical judgments. American Psychologist, 23, 483–496.
Goldenberg, J., Mazursky, D., & Solomon, S. 1999. Creative sparks. Science, 285, 1495–1496.
Goldin, C. 1990. Understanding the gender gap: An economic history of American workers. New York: Oxford University Press.
Goleman, D. 1985. Vital lies, simple truths: The psychology of self-deception. New York: Simon & Schuster.
Gombrich, E. 1982/1995. The sense of order: A study in the psychology of decorative art 2nd ed. London: Phaidon Press.
Gopnik, A., Meltzoff, A. N., & Kuhl, P. K. 1999. The scientist in the crib: Minds, brains, and how children learn 1st ed. New York: William Morrow.
Gopnik, A., Meltzoff, A. N., & Kuhl, P. K. 2000. The scientist in the crib: What early learning tells us about the mind. New York: HarperCollins.
Gordon, M. T., & Riger, S. 1991. The female fear: The social cost of rape. Urbana: University of Illinois Press.
Gottfredson, L. S. 1988. Reconsidering fairness: A matter of social and ethical priorities. Journal of Vocational Behavior, 29, 379–410.
Gottfredson, L. S. 1997. Mainstream science on intelligence: An editorial with 52 signatories, history, and bibliography. Intelligence, 24, 13–23.
Gottfredson, M. R., & Hirschi, T. 1990. A general theory of crime. Stanford: Stanford University Press.
Gottschall, J., & Gottschall, R. 2001, June 13–17. The reproductive success of rapists: An exploration of the per-incident rape-pregnancy rate. Paper presented at the Annual Meeting of the Human Behavior and Evolution Society, London.
Gottschall, J., & Jobling, I. (Eds.) in preparation. Evolutionary psychology and literary studies: Toward Integration.
Gould, S. J. 1976a. Biological potential vs. biological determinism. In S. J. Gould (Ed.), Ever since Darwin: Reflections in natural history. New York: Norton.
Gould, S. J. 1976b. Criminal man revived. Natural History, 85, 16–18. Gould, S. J. 1980. The panda's thumb. New York: Norton.
Gould, S. J. 1981. The mismeasure of man. New York: Norton. Gould, S. J. 1992. Life in a punctuation. Natural History, 101, 10–21.
Gould, S. J. 1995. Ordering nature by budding and full-breasted sexuality. In Dinosaur in a haystack. New York: Harmony Books.
Gould, S. J. 1998a. The diet of worms and the defenestration of Prague. In S. J.
Gould (Ed.), Leonardo's mountain of clams and the Diet of Worms: Essays in natural history. New York: Harmony Books.
Gould, S. J. 1998b. The great asymmetry. Science, 279, 812–813.
Grant, J. 1993. Fundamental feminism: Contesting the core concepts of feminist theory. New York: Routledge.
Graves, D. E. 1992. "Naked truths for the asking": Twentieth-century military historians and the battlefield narrative. In D. A. Charters, M. Milner, & J. B. Wilson (Eds.), MIlitary history and the military profession. Westport, Conn.: Greenwood Publishing Group.
Green, R. M. 2001. The human embryo research debates: Bioethics in the vortex of controversy. New York: Oxford University Press.
Greenwald, A. 1988. Self-knowledge and self-deception. In J. S. Lockard & D. L. Paulhaus (Eds.), Self-deception: An adaptive mechanism. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall.
Gu, X., & Spitzer, N. C. 1995. Distinct aspects of neuronal differentiation encoded by frequency of spontaneous Ca2+ transients. Nature, 375, 784–787.
Gur, R. C., & Gur, R. E. In press. Gender differences in neuropsychological functions. In L. J. Dickstein & B. L. Kennedy (Eds.), Gender differences in the brain: Linking biology to psychiatry. New York: Guilford Publications.
Gur, R. C., Turetsky, B. I., Matsui, M., Yan, M., Bilker, W., Hughett, P., & Gur, R. E. 1999. Sex differences in brain gray and white matter in healthy young adults: Correlations with cognitive performance. Journal of Neuroscience, 19, 4065–4072.
Gutknecht, L., Spitz, E., & Carlier, M. 1999. Long-term effect of placental type on anthropometrical and psychological traits among monozygotic twins: a follow-up study. Twin Research, 2, 212–217.
Hacking, I. 1999. The social construction of what? Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Hadley, R. F. 1994a. Systematicity in connectionist language learning. Mind and Language, 9, 247–272.
Hadley, R. F. 1994b. Systematicity revisited: Reply to Christiansen and Chater and Niklasson and Van Gelder. Mind and Language, 9, 431–444.
Haidt, J. 2001. The emotional dog and its rational tail: A social intuitionist approach to moral judgment. Psychological Review, 108, 813–834.
Haidt, J. In press. The moral emotions. In R. J. Davidson (Ed.), Handbook of affective sciences. New York: Oxford University Press.
Haidt, J., & Hersh, M. A. 2001. Sexual morality: The cultures and emotions of conservatives and liberals. Journal of Applied Social Psychology, 31, 191–221.
Haidt, J., Koller, H., & Dias, M. G. 1993. Affect, culture, and morality, or Is it wrong to eat your dog? Journal of Personality and Social Psychology, 65, 613–628.
Haier, R. J., Siegel, B., Tang, C., Abel, L., & Buchsbaum, M. S. 1992. Intelligence and changes in regional cerebral glucose metabolic rate following learning. Intelligence, 16, 415–426.
Haig, D. 1993. Genetic conflicts in human pregnancy. Quarterly Review of Biology, 68, 495–532.
Halpern, D. 2000. Sex differences in cognitive abilities 3rd ed. Mahwah, N. J.: Erlbaum.
Halpern, D. F., Gilbert, R., & Coren, S. 1996. PC or not PC? Contemporary challenges to unpopular research findings. Journal of Social Distress and the Homeless, 5, 251–271.
Hamer, D., & Copeland, P. 1994. The science of desire: The search for the gay gene and the biology of behavior. New York: Simon & Schuster.
Hamer, D., & Copeland, P. 1998. Living with our genes: Why they matter more than you think. New York: Doubleday.
Hamilton, W. D. 1964. The genetical evolution of social behaviour (I and II). Journal of Theoretical Biology, 7, 1–16,17–52.
Hardcastle, V. G., & Buller, D. J. 2000. Evolutionary psychology, meet developmental neurobiology: Against promiscuous modularity. Brain and Mind, 1, 307–325.
Hare, R. D. 1993. Without conscience: The disturbing world of the psychopaths around us. New York: Guilford Press.
Harpending, H., & Sobus, J. 1987. Sociopathy as an adaptation. Ethology and sociobiology, 8, 63–72.
Harris, J. R. 1995. Where is the child's environment? A group socialization theory of development. Psychological Review, 102, 458–489.
Harris, J. R. 1998a. The nurture assumption: Why children turn out the way they do. New York: Free Press.
Harris, J. R. 1998b. The trouble with assumptions (Commentary on "Parental socialization of emotion" by Eisenberg, Cumberland, and Spinrad). Psychological Inquiry, 9, 294–297.
Harris, J. R. 2000a. Research on child development: What we can learn from medical research. Paper presented at the Children's Roundable.
Harris, J. R. 2000b. Socialization, personality development, and the child's environments: Comment on Vandell (2000). Developmental Psychology, 36, 711–723.
Harris, J. R. In press. Personality and birth order: Explaining the differences between siblings. Politics and the Life Sciences.
Harris, M. 1985. Good to eat: Riddles of food and culture. New York: Simon & Schuster.
Hartman, J. L., Garvik, B., & Hartwell, L. 2001. Principles for the buffering of genetic variation. Science, 291, 1001–1004.
Haugeland, J. 1981. Semantic engines: An introduction to mind design. In J.
Haugeland (Ed.), Mind design: Philosophy, psychology, artificial intelligence. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Hauser, M. D. 1996. The evolution of communication. Cambridge, Mass.: MIT Press. Hauser, M. D. 2000. Wild minds: What animals really think. New York: Henry Holt.
Hausman, P. 1999. On the rarity of mathematically and mechanically gifted females., The Fielding Institute, Santa Barbara, CA.
Hawkes, K., O'Connell, J., & Rogers, L. 1997. The behavioral ecology of modern hunter-gatherers, and human evolution. Trends in Evolution and Ecology, 12, 29–32.
Hayek, F. A. 1976. Law, legislation, and liberty (Vol. 2: The mirage of social justice). Chicago: University of Chicago Press.
Hayek, F. A. v. 1960/1978. The constitution of liberty. Chicago: University of Chicago Press.
Hedges, L. V., & Nowell, A. 1995. Sex differences in mental test scores, variability, and numbers of high-scoring individuals. Science, 269, 41–45.
Hernadi, P. 2001. Literature and evolution. SubStance, 30, 55–71. Herrnstein, R. 1971. I. Q. Atlantic Monthly, 43–64.
Herrnstein, R. J. 1973. On challenging an orthodoxy. Commentary, 52–62.
Herrnstein, R. J., & Murray, C. 1994. The bell curve: Intelligence and class structure in American life. New York: Free Press.
Hinton, G. E., & Nowlan, S. J. 1987. How learning can guide evolution. Complex Systems, 1, 495–502.
Hirschfeld, L. A., & Gelman, S. A. 1994. Mapping the mind: Domain specificity in cognition and culture. New York: Cambridge University Press.
Hirshleifer, J. 1987. On the emotions as guarantors of threats and promises. In J. Dupré (Ed.), The latest on the best: Essays on evolution and optimality. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Hobbes, T. 1651/1957. Leviathan. New York: Oxford University Press.
Hoffrage, U., Lindsey, S., Hertwig, R., & Gigerenzer, G. 2000. Communicating statistical information. Science, 290, 2261–2262.
Hogan, P. C. 1997. Literary universals. Poetics Today, 18, 224–249. Holden, C. 1987. The genetics of personality. Science, 237, 598–601.
Holden, C. 2000. Molecule shows Anasazi ate their enemies. Science, 289, 1663.
Horgan, J. 1993. Eugenics revisited: Trends in behaivoral genetics. Scientific American, 122–131.
Horgan, J. 1995. The new Social Darwinists. Scientific American, 174–181.
Horowitz, D. L. 2001. The deadly ethnic riot. Berkeley: University of California Press. Hrdy, S. B. 1999. Mother nature: A history of mothers, infants, and natural selection. New York: Pantheon Books.
Hubel, D. H. 1988. Eye, brain, and vision. New York: Scientific American.
Hume, D. 1739/2000. A treatise of human nature. New York: Oxford University Press. Hummel, J. E., & Biederman, I. 1992. Dynamic binding in a neural network for shape recognition. Psychological Review, 99, 480–517.
Hummel, J. E., & Holyoak, K. J. 1997. Distributed representations of structure: A theory of analogical access and mapping. Psychological Review, 104, 427–466.
Hunt, M. 1999. The new know-nothings: The political foes of the scientific study of human nature. New Brunswick, N. J.: Transaction Publishers.
Hyman, S. E. 1999. Introduction to the complex genetics of mental disorders. Biological Psychiatry, 45, 518–521.
Jackendoff, R. 1990. Semantic structures. Cambridge, Mass.: MIT Press. Jackendoff, R. 1996. How language helps us think. Pragmatics and cognition, 4, 1–34.
Jackendoff, R. S. 1987. Consciousness and the computational mind. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Jackson, D. J., & Huston, T. L. 1975. Physical attractiveness and assertiveness. Journal of Social Psychology, 96, 79–84.
Jaffe, S., & Hyde, J. S. 2000. Gender differences in moral orientation. Psychological Bulletin, 126, 703–726.
Jaggar, A. M. 1983. Feminist politics and human nature. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield.
James, W. 1890/1950. The principles of psychology. New York: Dover.
Janda, L. H. 1998. Psychological testing: Theory and applications. Boston: Allyn & Bacon.
Jensen, A. 1969. How much can we boost IQ and scholastic achievement? Harvard Educational Review, 39, 1–123.
Jensen, A. 1971. A note on why genetic correlations are not squared. Psychological Bulletin, 75, 223–224.
Jensen, A. R. 1972. Genetics and education. New York: Harper and Row.
Jensen, A. R. 1982. The debunking of scientific fossils and straw persons: Review of The Mismeasure of Man. Contemporary Education Review, 1, 121–135.
Jensen, A. R. 1998. The g factor: The science of mental ability. Westport, Conn.: Praeger.
Jespersen, O. 1938/1982. Growth and structure of the English language. Chicago: University of Chicago Press.
Johnson, G. R., Ratwik, S. H., & Sawyer, T. J. 1987. The evocative significance of kin terms in patriotic speech. In V. Reynolds, V. Falger, & I. Vine (Eds.), The sociobiology of ethnocentrism (pp. 157–174). London: Croon Helm.
Jones, O. 2000. Reconsidering rape. National Law Journal, A21.
Jones, O. 2001. Time-shifted rationality and the Law of Law's Leverage: Behavioral economics meets behavioral biology. Northwestern University Law Review, 95.
Jones, O. D. 1997. Evolutionary analysis in law: An introduction and application to child abuse. North Carolina Law Review, 75, 1117–1242.
Jones, O. D. 1999. Sex, culture, and the biology of rape: Toward explanation and prevention. California Law Review, 87, 827–942.
Junger, S. 1997. The perfect storm: A true story of men against the sea. New York: Norton.
Jussim, L. J., & Eccles, J. 1995. Are teacher expectations biased by students' gender, social class, or ethnicity? In Y.-T. Lee, L. J. Jussim, & C. R. McCauley (Eds.), Stereotype accuracy: Toward appreciating group differences. Washington, DC: American Psychological Association.
Jussim, L. J., McCauley, C. R., & Lee, Y.-T. 1995. Why study stereotype accuracy and inaccuracy? In Y.-T. Lee, L. J. Jussim, & C. R. McCauley (Eds.), Stereotype accuracy: toward appreciating group differences. Washington, DC: American Psychological Association.
Kaas, J. H. 2000. The reorganization of sensory and motor maps after injury in adult mammals. In M. S. Gazzaniga (Ed.), The new cognitive neurosciences. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Kahneman, D., & Tversky, A. 1982. On the study of statistical intuitions. Cognition, 11, 123–141.
Kahneman, D., & Tversky, A. 1984. Choices, values, and frames. American Psychologist, 39, 341–350.
Kamin, L. 1974. The science and politics of IQ. Mahwah, N. J.: Erlbaum.
Kaminer, W. 1990. A fearful freedom: Women's flight from equality. Reading, Mass.: Addison-Wesley.
Kandel, E. R., Schwartz, J. H., & Jessell, T. M. 2000. Principles of neural science 4th ed. New York: McGraw-Hill.
Kane, R. 1998. The significance of free will. New York: Oxford University Press. Kanwisher, N., & Moscovitch, M. 2000. The cognitive neuroscience of face processing: An introduction. Cognitive Neuropsychology, 17, 1–13.
Kaplan, H., Hill, K., & Hurtado, A. M. 1990. Risk, foraging, and food sharing among the Ache. In E. Cashdan (Ed.), Risk and uncertainty in tribal and peasant economies. Boulder, Colo.: Westview Press.
Kaplan, J. 1973. Criminal justice: Introductory cases and materials. Mineola, N. Y.: The Foundation Press.
Kaplan, S. 1992. Environmental preference in a knowledge-seeking, knowledge- using organism. In J. H. Barkow, L. Cosmides, & J. Tooby (Eds.), The adapted mind: Evolutionary psychology and the generation of culture. New York: Oxford University Press.
Karmiloff-Smith, A. 1992. Beyond modularity: a developmental perspective on cognitive science. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Karmiloff-Smith, A., Klima, E. S., Bellugi, U., Grant, J., & Baron-Cohen, S. 1995. Is there a social module? Language, face processing, and Theory of Mind in individuals with Williams syndrome. Journal of Cognitive Neuroscience, 7, 196–208.
Katz, L. C., & Crowley, J. C. 2002. Development of cortical circuits: Lessons from ocular dominance columns. Nature Neuroscience Reviews.
Katz, L. C., & Shatz, C. J. 1996. Synaptic activity and the construction of cortical circuits. Science, 274, 1133–1137.
Katz, L. C., Weliky, M., & Crowley, J. C. 2000. Activity and the development of the visual cortex: New perspectives. In M. S. Gazzaniga (Ed.), The new cognitive neurosciences. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Keegan, J. 1976. The face of battle. New York: Penguin.
Keeley, L. H. 1996. War before civilization: The myth of the peaceful savage. New York: Oxford University Press.
Keil, F. C. 1989. Concepts, kinds, and cognitive development. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Keil, F. C. 1995. The growth of causal understandings of natural kinds. In D. Sperber, D. Premack, & A. J. Premack (Eds.), Causal cognition. New York: Oxford University Press.
Kelling, G. L., & Sousa, W. H. 2001. Do police matter? An analysis of the impact of New York City's police reforms (Civic Report 22). New York: Manhattan Institute for Policy Research.
Kelman, H. 1958. Compliance, identification, and internalization: Three processes of attitude change. Journal of Conflict Resolution, 2, 51–60.
Kennedy, J. 1993. Drawings in the blind. New Haven: Yale University Press. Kennedy, R. 1997. Race, crime, and the law. New York: Vintage.
Kenrick, D., Groth, G., Trost, M., & Sadalla, E. 1993. Integrating evolutionary and social exchange perspectives on relationships: Effects of gender, self-appraisal, and involvement level on mate selection criteria. Journal of Personality and Social Psychology, 64, 951–969.
Kenrick, D., & Sheets, V. 1994. Homicide fantasies. Ethology and Sociobiology, 14, 231–246.
Kevles, D. J. 1985. In the name of eugenics: Genetics and the uses of human heredity. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Keyser, S. J. 2000. Meter and poetry. In R. A. Wilson & F. C. Keil (Eds.), The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Keyser, S. J., & Halle, M. 1998. On meter in general and on Robert Frost's loose iambics in particular. In E. Iwamoto (Ed.), Festschrift for Professor K. Inoue. Tokyo: Kanda University of International Studies.
Kimura, D. 1999. Sex and cognition. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Kingdon, J. 1993. Self-made man: Human evolution from Eden to extinction? New York: Wiley.
Kirwin, B. R. 1997. The mad, the bad, and the innocent: The criminal mind on trial. Boston: Little, Brown.
Kitcher, P. 1982. Abusing science: The case against creationism. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Klaw, S. 1993. Without sin: The life and death of the Oneida community. New York: Penguin.
Klein, R. G. 1989. The human career: Human biological and cultural origins. Chicago: University of Chicago Press.
Kleinfeld, J. 1999. MIT tarnishes its reputation with gender junk science (Special report ). Arlington, VA: Independent Women's Forum.
Klima, E., & Bellugi, U. 1979. The signs of language. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Knauft, B. 1987. Reconsidering violence in simple human societies. Current Anthropology, 28, 457–500.
Koestler, A. 1959. The sleepwalkers: A history of man's changing vision of the universe. London: Penguin.
Komar, B., Malamid, A., & Wypijewski, J. 1997. Painting by numbers: Komar and Melamid's scientific guide to art. New York: Farrar, Straus & Giroux.
Kors, A. C., & Silverglate, H. A. 1998. The shadow university: The betrayal of liberty on America's campuses. New York: Free Press.
Kosof, A. 1996. Living in two worlds: The immigrant children's experience. New York: Twenty-First Century Books.
Kosslyn, S. M. 1980. Image and mind. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Kosslyn, S. M. 1994. Image and brain: The resolution of the imagery debate. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Krebs, D., & Denton, K. 1997. Social illusions and self-deception: the evolution of biases in person perception. In J. A. Simpson & D. T. Kenrick (Eds.), Evolutionary social psychology. Mahwah, N. J.: Erlbaum.
Krebs, D. L. 1998. The evolution of moral behaviors. In C. Crawford & D. L. Krebs (Eds.), Handbook of evolutionary psychology: Ideas, issues, and applications. Mahwah, N. J.: Erlbaum.
Krech, S. 1994. Genocide in tribal society. Nature, 371, 14–15.
Krech, S. 1999. The ecological Indian: Myth and history. New York: Norton. Krubitzer, L., & Huffman, K. J. 2000. Arealization of the neocortex in mammals: Genetic and epigenetic contributions to the phenotype. Brain, Behavior, and Evolution, 55, 322–335.
Krueger, R. F., Hicks, B. M., & McGue, M. 2001. Altruism and antisocial behavior: Independent tendencies, unique personality correlates, distinct etiologies. Psychological Science, 12, 397–402.
Kubovy, M. 1981. Concurrent pitch segregation and the theory of indispensable attributes. In M. Kubovy & J. Pomerantz (Eds.), Perceptual organization. Mahwah, N. J.: Erlbaum.
Kubovy, M. 1986. The psychology of perspective and Renaissance art. New York: Cambridge University Press.
Lachter, J., & Bever, T. G. 1988. The relation between linguistic structure and associative theories of language learning-A constructive critique of some connectionist learning models. Cognition, 28, 195–247.
Lai, C. S. L., Fisher, S. E., Hurst, J. A., Vargha-Khadem, F., & Monaco, A. P. 2001. A novel forkhead-domain gene is mutated in a severe speech and language disorder. Nature, 413, 519–523.
Lakoff, G. 1996. Moral politics: What conservatives know that liberals don't. Chicago: University of Chicago Press.
Lakoff, G., & Johnson, M. 1980. Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press.
Lakoff, G., & Nunez, R. E. 2000. Where mathematics comes from: How the embodied mind brings mathematics into being. New York: Basic Books.
Lalumière, M. L., Harris, G. T., & Rice, M. E. 2001. Psychopathy and developmental instability. Evolution and Human Behavior, 22, 75–92.
Lander, E. S., Patrinos, A., Morgan, J. J., & International Human Genome Sequencing Consortium. 2001. Intitial sequencing and analysis of the human genome. Nature, 409, 813–958.
Latané, B., & Nida, S. 1981. Ten years of research on group size and helping. Psychological Bulletin, 89, 308–324.
Laubichler, M. D. 1999. Frankenstein in the land of Dichter and Denker. Science, 286, 1859–1860.
Lazarus, R. S. 1991. Emotion and adaptation. New York: Oxford University Press.
Lee, Y.-T., Jussim, L. J., & McCauley, C. R. (Eds.) 1995. Stereotype accuracy: Toward appreciating group differences. Washington, DC: American Psychological Association.
Lehman, D. 1992. Signs of the times: Deconstructionism and the fall of Paul de Man. New York: Simon & Schuster.
Lehrman, K. 1997. The lipstick proviso: Women, sex, and power in the real world. New York: Doubleday.
Leibniz, G. W. 1768/1996. New essays on human understanding (Remnant, P. Bennett, J., Trans.). New York: Cambridge University Press.
Lerdahl, F., & Jackendoff, R. 1983. A generative theory of tonal music. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Lesch, K.-P., Bengel, D., Heils, A., Sabol, S. Z., Greenberg, B. D., Petri, S., Benjamin, J., Muller, C. R., Hamer, D. H., & Murphy, D. L. 1996. Association of anxiety-related traits with a polymorphism in the serotonin transporter gene regulatory region. Science, 274, 1527–1531.
Leslie, A. M. 1994. ToMM, ToBY, and agency: Core architecture and domain specificity. In L. A. Hirschfeld & S. A. Gelman (Eds.), Mapping the mind: Domain specificity in cognition and culture. New York: Cambridge University Press.
Leslie, A. M. 1995. Pretending and believing: Issues in the theory of ToMM. Cognition, 50, 193–220.
LeVay, S. 1993. The sexual brain. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Levins, R., & Lewontin, R. C. 1985. The dialectical biologist. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Levitt, P. 2000. Molecular determinants of regionalization of the forebrain and cerebral cortex. In M. S. Gazzaniga (Ed.), The new cognitive neurosciences. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Lewis, H. W. 1990. Technological risk. New York: Norton.
Lewontin, R. 1990. How much did the brain have to change for speech? (Commentary on Pinker & Bloom's "Natural language and natural selection"). Behavioral and Brain Sciences, 13, 740–741.
Lewontin, R. 1992. Biology as ideology: The doctrine of DNA. New York: HarperCollins.
Lewontin, R. C. 1982. Human diversity. San Francisco: Scientific American.
Lewontin, R. C. 1983. The organism as the subject and object of evolution. Scientia, 118, 65–82.
Lewontin, R. C., Rose, S., & Kamin, L. J. 1984. Not in our genes. New York: Pantheon.
Lingua Franca, Editors of. 2000. The Sokal hoax: The sham that shook the academy.
Lincoln: Unviersity of Nebraska Press.
Lockard, J. S., & Paulhaus, D. L. (Eds.) 1988. Self-deception: An adaptive mechanism. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall.
Locke, J. 1690/1947. An essay concerning human understanding. New York: E. P. Dutton.
Loehlin, J. C. 1992. Genes and environment in personality development. Newbury Park, Calif.: Sage.
Loehlin, J. C. 2001. Behavior genetics and parenting theory. American Psychologist, 56, 169–170.
Loehlin, J. C., & Nichols, R. C. 1976. Heredity, environment, and personality: A study of 850 sets of twins. Austin: University of Texas Press.
Loury, G. 2002. The Anatomy of racial inequality: Stereotypes, stigma, and the elusive quest for racial justice in the United States. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Lubinski, D., & Benbow, C. 1992. Gender differences in abilities and preferences among the gifted: Implications for the math-science pipeline. Current Directions in Psychological Science, 1, 61–66.
Lumsden, C., & Wilson, E. O. 1981. Genes, mind, and culture. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Lutz, D. 1984. The relative influence of European writers on late eighteenth-century American political thought. American Political Science Review, 78, 189–197. Lykken, D. T. 1995. The antisocial personalities. Mahwah, N. J.: Erlbaum.
Lykken, D. T. 2000. The causes and costs of crime and a controversial cure. Journal of Personality, 68, 559–605.
Lykken, D. T., McGue, M., Tellegen, A., & Bouchard, T. J., Jr. 1992. Emergenesis: Genetic traits that may not run in families. American Psychologist, 47, 1565–1577.
Lytton, H. 1990. Child effects-Still unwelcome? Response to Dogge and Wahler. Developmental Psychology, 26, 705–709.
Lytton, H., & Romney, D. M. 1991. Parents' differential socialization of boys and girls: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 109, 267–296.
Maccoby, E. E., & Jacklin, C. N. 1987. The psychology of sex differences. Stanford, Calif.: Stanford University Press.
Maccoby, E. E., & Martin, J. A. 1983. Socialization in the context of the family: Parent-child interaction. In P. H. Mussen & E. M. Hetherington (Eds.), Handbook of child psychology: Socialization, personality, and social development (4 ed., Vol. 4,). New York: Wiley.
Macnamara, J. 1999. Through the rearview mirror: Historical reflections on psychology. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Macnamara, J., & Reyes, G. E. (Eds.) 1994. The logical foundations of cognition. New York: Oxford University Press.
Maguire, E. A., Gadian, D. G., Johnsrude, I. S., Good, C. D., Ashburner, J., Frackowiak, R. S. J., & Frith, C. D. 2000. Navigation-related structural change in the hippocampi of taxi drivers. PNAS, 97, 4398–4403.
Maier, P. 1997. American scripture: Making the Declaration of Independence. New York: Knopf.
Mallon, R., & Stich, S. 2000. The odd couple: The compatibility of social construction and evolutionary psychology. Philosophy of Science, 67, 133–154.
Marcus, G. F. 1998. Rethinking eliminative connectionism. Cognitive Psychology, 37, 243–282.
Marcus, G. F. 2001a. The algebraic mind: Reflections on connectionism and cognitive science. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Marcus, G. F. 2001b. Plasticity and nativism: Towards a resolution of an apparent paradox. In S. Wermter, J. Austin, & D. Willshaw (Eds.), Emergent neural computational architectures based on neuroscience. New York: Springer-Verlag.
Marcus, G. F., Brinkmann, U., Clahsen, H., Wiese, R., & Pinker, S. 1995. German inflection: The exception that proves the rule. Cognitive Psychology, 29, 189–256.
Marks, I. M., & Nesse, R. M. 1994. Fear and fitness: An evolutionary analysis of anxiety disorders. Ethology and Sociobiology, 15, 247–261.
Marr, D. 1982. Vision. San Francisco: W. H. Freeman.
Marslen-Wilson, W. D., & Tyler, L. K. 1998. Rules, representations, and the English past tense. Trends in Cognitive Science, 2, 428–435.
Martin, N. G., Eaves, L. J., Heath, A. C., Jardine, R., Feingold, L. M., & Eysenck, H. J. 1986. Transmission of social attitudes. Proceedings of the National Academy of Science, 83, 4364–4368.
Martindale, C. 1990. The clockwork muse: The predictability of artistic change. New York: Basic Books.
Marx, K. 1845/1989. Theses on Feuerbach. In K. Marx & F. Engels, Basic writings on politics and philosophy. New York: Anchor Books.
Marx, K. 1847/1995. The poverty of philosophy (Quelch, H., Trans.). Amherst, N. Y.: Prometheus Books.
Marx, K. 1859/1979. Contribution to the critique of political economy. New York: International Publishers.
Marx, K. 1867/1993. Capital: A critique of political economy (Ernest Mandel, Trans.). London: Penguin.
Marx, K., & Engels, F. 1844/1988. The economic and philosophic manuscripts of 1844. Amherst, N. Y.: Prometheus Books.
Marx, K., & Engels, F. 1846/1963. The German ideology: Parts I & III. New York: New World Paperbacks/International Publishers.
Masters, R. D. 1982. Is sociobiology reactionary? The political implications of inclusive-fitness theory. Quarterly Review of Biology, 57, 275–292.
Masters, R. D. 1989. The Nature of Politics. New Haven: Yale University Press. Maynard Smith, J. 1975/1993. The theory of evolution. New York: Cambridge University Press. Maynard Smith, J., & Szathmáry, E. 1997. The major transitions in evolution. New York: Oxford University Press.
Mayr, E. 1963. Animal species and evolution. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Mayr, E. 1982. The growth of biological thought. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
McCauley, C. R. 1995. Are streotypes exaggerated? A sampling of racial, gender, academic, occupational, and political stereotypes. In Y.-T. Lee, L. J. Jussim, & C. R. McCauley (Eds.), Stereotype accuracy: Toward appreciating group differences. Washington, DC: American Psychological Association.
McClelland, J. L., Rumelhart, D. E., & the PDP Research Group. 1986. Parallel distributed processing: Explorations in the microstructure of cognition (Vol. Vol. 2: Psychological and biological models). Cambridge, Mass.: Bradford Books/MIT Press.
McCloskey, M. (1983,). Intuitive physics. Scientific American, 248, 122–130. McCloskey, M., & Cohen, N. J. 1989. Catastrophic interference in connectionist networks: The sequential learning problem. In G. H. Bower (Ed.), The psychology of learning and motivation (Vol. Vol. 23,). New York: Academic Press.
McCord, W. M. 1989. Voyages to Utopia: from monastery to commune: the search for the perfect society in modern times. New York: Norton.
McCrae, R. R., Costa, P. T., Ostendorf, F., Angleitner, A., Hrebickova, M., Avia, M. D., Sanz, J., Sanchez-Bernardos, M. L., Kusdil, M. E., Woodfield, R., Saunders, P. R., & Smith, P. B. 2000. Nature over nurture: Temperament, personality, and life span development. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 173–186.
McElroy, W. 1996. Sexual correctness: The gender-feminist attack on women. Jefferson, NC: McFarland.
McGinn, C. 1993. Problems in philosophy: The limits of inquiry. Cambridge, Mass.: Blackwell.
McGinn, C. 1997. Evil, ethics, and fiction. New York: Oxford University Press. McGinn, C. 1999. The mysterious flame: Conscious minds in a material world. New York, N. Y.: Basic Books.
McGinnis, J. O. 1996. The original constitution and our origins. Harvard Journal of Law and Public Policy, 19, 251–261.
McGinnis, J. O. 1997. The human constitution and constitutive law: A prolegomenon. Journal of Contemporary Legal Issues, 8, 211–239.
McGue, M. 1997. The democracy of the genes. Nature, 388, 417–418. McGuinness, D. 1997. Why our children can't read. New York: Free Press.
McLearn, G. E., Johansson, B., Berg, S., Pedersen, N. L., Ahern, F., Petrill, S. A., & Plomin, R. 1997. Substantial genetic influence on cognitive abilities in twins 80 or more years old. Science, 276, 1560–1563.
McLeod, P., Plunkett, K., & Rolls, E. T. 1998. Introduction to connectionist modeling of cognitive processes. New York: Oxford University Press.
Mead, M. 1928. Coming of age in Samoa: A psychological study of primitive youth for western civilisation. New York: Blue Ribbon Books.
Mead, M. 1935/1963. Sex and temperament in three primitive societies. New York: William Morrow.
Mealey, L. 1995. The sociobiology of sociopathy: An integrated evolutionary model. Behavioral and Brain Sciences, 18, 523–541.
Mealey, L., Daood, C., & Krage, M. 1996. Enhanced memory for faces of cheaters. Ethology and Sociobiology, 17, 119–128.
Meltzoff, A. N. 1995. Understanding the intentions of others: Re-enactment of intended acts by 18 — month-old children. Developmental Psychology, 31, 838–850.
Melzack, R. 1990. Phantom limbs and the concept of a neuromatrix. Trends in Neurosciences, 13, 88–92.
Melzack, R., Israel, R., Lacroix, R., & Schultz, G. 1997. Phantom limbs in people with congenital limb deficiency or amputation in early childhood. Brain, 120, 1603–1620.
Mesquida, C. G., & Wiener, N. I. 1996. Human collective aggression: A behavioral ecology perspective. Ethology and Sociobiology, 17, 247–262.
Miller, E. E. 1997. Could nonshared environmental variation have evolved to assure diversification through randomness? Evolution and Human Behavior, 18, 195–221.
Miller, E. K. 2000a. The prefrontal cortex and cognitive control. Nature Reviews Neuroscience, 1, 59–65.
Miller, G. A., Galanter, E., & Pribram, K. H. 1960. Plans and the structure of behavior. New York: Adams-Bannister-Cox.
Miller, G. F. 2000b. The mating mind: How sexual choice shaped the evolution of human nature. New York: Doubleday.
Miller, G. F. 2000c. Sexual selection for indicators of intelligence. In G. Bock, J. A. Goode, & K. Webb (Eds.), The nature of intelligence. Chichester, UK: Wiley.
Miller, G. F. 2001. Aesthetic fitness: How sexual selection shaped artistic virtuosity as a fitness indicator and aesthetic preferences as mate choice criteria. Bulletin of Psychology and the Arts, 2, 20–25.
Miller, K. D., Keller, J. B., & Stryker, M. P. 1989. Ocular dominance and column development: Analysis and simulation. Science, 245, 605–615.
Miller, K. R. 1999. Finding Darwin's God: A scientist's search for common ground between God and evolution. New York: Cliff Street Books.
Minogue, K. 1985. Alien powers: The pure theory of ideology. New York: St. Martin's Press.
Minogue, K. 1999. Totalitarianism: Have we seen the last of it? National Interest, 35–44.
Minsky, M., & Papert, S. 1988. Epilogue: The new connectionism. In Minsky & Papert (Eds.), Perceptrons: Expanded Edition. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Mithen, S. J. 1996. The prehistory of the mind: A search for the origins of art, religion, and science. London: Thames and Hudson.
Miyashita-Lin, E. M., Hevner, R., Wassarman, K. M., Martinez, S., & Rubenstein, J. L. R. 1999. Early neocortical regionalization in the absence of thalamic innervation. Science, 285, 906–909.
Monaghan, E., & Glickman, S. 1992. Hormones and aggressive behavior. In J. Becker, M. Breedlove, & D. Crews (Eds.), Behavioral endocrinology. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Montagu, A. (Ed.) 1973a. Man and aggression (2nd ed.). New York: Oxford University Press.
Montagu, A. 1973b. The new litany of "innate depravity," or original sin revisited. In Man and aggression. New York: Oxford University Press.
Moore, G. E., & Baldwin, T. 1903/1996. Principia ethica. New York: Cambridge University Press.
Mount, F. 1992. The subversive family: An alternative history of love and marriage. New York: Free Press.
Mousseau, T. A., & Roff, D. A. 1987. Natural selection and the heritability of fitness components. Heredity, 59, 181–197.
Muravchik, J. 2002. Heaven on Earth: The rise and fall of socialism. San Francisco: Encounter Books.
Murdoch, I. 1993. Metaphysics as a guide to morals. London: Allen Lane. Murphy, J. P. M. 1999. Hitler was not an atheist. Free Inquiry, 9.
Nagel, T. 1970. The possibility of altruism. Princeton, N. J.: Princeton University Press.
Neel, J. V. 1994. Physician to the gene pool: Genetic lessons and other stories. New York: J. Wiley.
Neisser, U. 1967. Cognitive psychology. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall.
Neisser, U., Boodoo, G., Bouchard, T. J. Jr., Boykin, A. W., Brody, N., Ceci, S. J., Halpern, D. F., Loehlin, J. C., Perloff, R., Sternberg, R. J., & Urbina, S. 1996. Intelligence: Knowns and unknowns. American Psychologist, 51, 77–101.
Nesse, R. M., & Lloyd, A. T. 1992. The evolution of psychodynamic mechanisms. In J. H. Barkow, L. Cosmides, & J. Tooby (Eds.), The adapted mind: Evolutionary psychology and the generation of culture. New York: Oxford University Press.
Neville, H. J., & Bavelier, D. 2000. Specificity and plasticity in neurocognitive development in humans. In M. S. Gazzaniga (Ed.), The new cognitive neurosciences. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Newell, A. 1980. Physical symbol systems. Cognitive Science, 4, 135–183. Newsome, W. T. 2001. Life of faith, life of science. Paper presented at the Science and the Spiritual Quest, Memorial Church, Cambridge, Mass..
Nisbett, R. E., & Cohen, D. 1996. Culture of honor: The psychology of violence in the South. New York: HarperCollins.
Nolfi, S., Elman, J. L., & Parisi, D. 1994. Learning and evolution in neural networks. Adaptive Behavior, 3, 5–28.
Norenzayan, A., & Atran, S. In press. Cognitive and emotional processes in the cultural transmission of natural and nonnatural beliefs. In M. Schaller & C. Crandall (Eds.), The psychological foundations of culture. Mahwah, N. J.: Erbaum.
Nowak, M. A., May, R. M., & Sigmund, K. 1995. The arithmetic of mutual help. Scientific American, 272, 50–55.
Nozick, R. 1974. Anarchy, state, and utopia. New York: Basic Books.
Nozick, R. 1981. Philosophical explanations. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Nunney, L. 1998. Are we selfish, are we nice, or are we nice because we are selfish? (Review of E. Sober and D. S. Wilson's "Unto others"). Science, 281, 1619–1621.
Orians, G. H. 1998. Human behavioral ecology: 140 years without Darwin is too long. Bulletin of the Ecological Society of America, 79, 15–28.
Orians, G. H., & Heerwgen, J. H. 1992. Evolved responses to landscapes. In J. H. Barkow, L. Cosmides, & J. Tooby (Eds.), The adapted mind: Evolutionary psychology and the generation of culture. New York: Oxford University Press.
Ortega y Gasset, J. 1932/1985. The revolt of the masses. Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press.
Ortega y Gassett, J. 1935/2001. Toward a philosophy of history. Chicago: University of Illinois Press.
Orwell, G. 1949/1983. 1984. New York: Harcourt Brace Jovanovich. Padden, C. A., & Perlmutter, D. M. 1987. American Sign Language and the architecture of phonological theory. Natural Language and Linguistic Theory, 5, 335–375.
Paglia, C. 1990. Sexual personae: Art and decadence from Nefertiti to Emily Dickinson. New Haven: Yale University Press.
Paglia, C. 1992. Sex, art, and American culture. New York: Vintage.
Panskepp, J., & Panskepp, J. B. 2000. The seven sins of evolutionary psychology. Evolution and Cognition, 6, 108–131.
Passmore, J. 1970. The perfectibility of man. New York: Scribner.
Patai, D. 1998. Heterophobia: Sexual harassment and the future of feminism. New York: Rowman & Littlefield.
Patai, D., & Koertge, N. 1994. Professing feminism: Cautionary tales from the strange world of women's studies. New York: Basic Books.
Patai, R., & Patai, J. 1989. The myth of the Jewish race rev. ed. Detroit: Wayne State University Press.
Patterson, O. 1995. For whom the bell curves. In S. Fraser (Ed.), The Bell Curve wars: Race, intelligence, and the future of America. New York: Basic Books.
Patterson, O. 1997. The ordeal of integration. Washington, DC: Civitas. Patterson, O. 2000. Taking culture seriously: A framework and an Afro-American illustration. In L. E. Harrison & S. P. Huntington (Eds.), Culture matters: How values shape human progress. New York: Basic Books.
Pedersen, N. L., McClearn, G. E., Plomin, R., & Nesselroade, J. R. 1992. Effects of early rearing environment on twin similarity in the last half of the life span. British Journal of Developmental Psychology, 10, 255–267.
Pennock, R. T. 2000. Tower of Babel: The evidence against the new creationism. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Pennock, R. T. (Ed.) 2001. Intelligent design: Creationism and its critics. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Peretz, I., Gagnon, L., & Bouchard, B. 1998. Music and emotion: Perceptual determinants, immediacy, and isolation after brain damage. Cognition, 68, 111–141.
Perloff, M. 1999. In defense of poetry: Put the literature back into literary studies. Boston Review.
Perry, B. D. 1997. Incubated in terror: Neurobiological factors in the "cycle of violence." In J. D. Osofsky (Ed.), Children in a violent society. New York: Guilford Press.
Persico, N., Postlewaite, A., & Silverman, D. 2001. The effect of adolescent experience on labor market outcomes: The case of height. Philadelphia: Department of Economics, University of Pennsylvania.
Petitto, L. A., Zatorre, R. J., Gauna, K., Nikelski, E. J., Dostie, D., & Evans, A. C. 2000. Speech-like cerebral activity in profoundly deaf people while processing signed language: Implications for the neural basis of all human language. Proceedings of the National Academy of Sciences, 97, 13961–13966.
Petrinovich, L. F. 1995. Human evolution, reproduction, and morality. New York: Plenum Press.
Petrinovich, L. F., O'Neill, P., & Jorgensen, M. 1993. An empirical study of moral intuitions: Toward an evolutionary ethics. Journal of Personality and Social Psychology, 64, 467–478.
Pinker, S. 1979. Formal models of language learning. Cognition, 7, 217–283.
Pinker, S. 1984a. Language learnability and language development (Reprinted with a new introduction, 1996). Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Pinker, S. 1984b. Visual cognition: an introduction. Cognition, 18, 1–63.
Pinker, S. 1989. Learnability and cognition: The acquisition of argument structure. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Pinker, S. 1990. A theory of graph comprehension. In R. Friedle (Ed.), Artificial intelligence and the future of testing. Hillsdale, N. J.: Erlbaum.
Pinker, S. 1991. Rules of language. Science, 253, 530–535. Pinker, S. 1994. The language instinct. New York: HarperCollins.
Pinker, S. 1996. Language learnability and language development revisited, Language learnability and language development. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Pinker, S. 1997. How the mind works. New York: Norton.
Pinker, S. 1998. Still relevant after all these years (Review of Darwin's The expression of the emotions in man and animals, Third Edition"). Science, 281, 522–523.
Pinker, S. 1999. Words and rules: The ingredients of language. New York: HarperCollins.
Pinker, S. 2001a. Four decades of rules and associations, or whatever happened to the past tense debate? In E. Dupoux (Ed.), Language, the brain, and cognitive development. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Pinker, S. 2001b. Talk of genetics and vice-versa. Nature, 413, 465–466.
Pinker, S., & Mehler, J. (Eds.) 1988. Connections and symbols. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Pinker, S., & Prince, A. 1988. On language and connectionism: Analysis of a Parallel Distributed Processing model of language acquisition. Cognition, 28, 73–193.
Pinker, S., & Prince, A. 1996. The nature of human concepts: Evidence from an unusual source. Communication and Cognition, 29, 307–361.
Plamenatz, J. 1963. Man and society: A critical examination of some important social and political theories form Machiavelli to Marx (Vol. 2). London: Longman.
Plamenatz, J. 1975. Karl Marx's philosophy of man. New York: Oxford University Press.
Plomin, R. 1990. The role of inheritance in behavior. Science, 248, 183–248. Plomin, R. 1991. Continuing commentary: Why children in the same family are so different from one another. Behavioral and Brain Sciences, 13, 336–337.
Plomin, R. 1994. Genetics and experience: The interplay between nature and nurture. Thousand Oaks, Calif.: Sage.
Plomin, R., & Daniels, D. 1987. Why are children in the same family so different from one another? Behavioral and Brain Sciences, 10, 1–60.
Plomin, R., DeFries, J. C., & Fulker, D. W. 1988. Nature and nurture in infancy and early childhood. New York: Cambridge University Press.
Plomin, R., DeFries, J. C., McClearn, G. E., & McGuffin, P. 2001. Behavior genetics 4th ed. New York: Worth.
Plomin, R., DeFries, J. C., McClearn, G. E., & Rutter, M. 1997. Behavioral genetics 3rd ed. New York: W. H. Freeman.
Plomin, R., Owen, M. J., & McGuffin, P. 1994. The genetic basis of complex human behaviors. Science, 264, 1733–1739.
Polti, G. 1921/1977. The thirty-six dramatic situations. Boston: The Writer, Inc.
Pons, T. M., Garraghty, P. E., Ommaya, A. K., Kaas, J. H., Taub, E., & Mishkin, M. 1991. Massive cortical reorganization after sensory deafferentation in adult macaques. Science, 1991, 1857–1860.
Pope, G. G. 2000. The biological bases of human behavior. Needham Heights, Mass.: Allyn & Bacon.
Pratto, F., & Bargh, J. A. 1991. Stereotyping based on apparently individuating information: Trait and global components of sex stereotypes under attention overload. Journal of Experimental Social Psychology, 27, 26–47.
Preuss, T. 1995. The argument from animals to humans in cognitive neuroscience. In Gazzaniga (Ed.), The cognitive neurosciences. Cambrdige, Mass.: MIT Press.
Preuss, T. M. 2000. What's human about the human brain? In M. S. Gazzaniga (Ed.), The new cognitive neurosciences. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Preuss, T. M. 2001. The discovery of cerebral diversity: An unwelcome scientific revolution. In D. Falk & K. Gibson (Eds.), Evolutionary anatomy of the primate cerebral cortex. New York: Cambridge University Press.
Price, M. E., Cosmides, L., & Tooby, J. In press. Punitive sentiment as an anti-free rider psychological device. Evolution and Human Behavior.
Proctor, R. 1999. The Nazi war on cancer. Princeton, N. J.: Princeton University Press.
Provine, R. R. 1993. Laughter punctuates speech: Linguistic, social, and gender contexts of laughter. Ethology, 95, 291–298.
Putnam, H. 1973. Reductionism and the nature of psychology. Cognition, 2, 131–146.
Quartz, S. R., & Sejnowski, T. J. 1997. The neural basis of cognitive development: A constructivist manifesto. Behavioral and Brain Sciences, 20, 537–596.
Quine, W. V. O. 1969. Natural kinds. In W. V. O. Quine (Ed.), Ontological relativity and other essays. New York: Columbia University Press.
Rachels, J. 1990. Created from animals: The moral implications of Darwinism. New York: Oxford University Press.
Raine, A., Lencz, T., Bihrle, S., LaCasse, L., & Colletti, P. 2000. Reduced prefrontal gray matter volume and reduced autonomic activity in antisocial personality disorder. Arch Gen Psychiatry, 57, 119–127; discussion 128–129.
Rakic, P. 2000. Setting the stage for cognition: Genesis of the primate cerebral cortex. In M. S. Gazzaniga (Ed.), The new cognitive neurosciences. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Rakic, P. 2001. Neurocrationism-Making new cortical maps. Science, 294, 1011–1012.
Ramachandran, V. S. 1993. Behavioral and magnetoencephalographic correlates of plasticity in the adult human brain. Proceedings of the National Academy of Sciences, 90, 10413–10420.
Ramachandran, V. S., & Blakeslee, S. 1998. Phantoms in the brain: Probing the mysteries of the human mind. New York: William Morrow.
Ramachandran, V. S., & Hirstein, W. 1999. The science of art. Journal of Conciousness Studies, 6/7, 15–41.
Rapin, I. 2001. An 8 — year-old boy with autism. Journal of the American Medical Association, 285, 1749–1757.
Ravitch, D. 2000. Left back: A century of failed school reforms. New York: Simon & Schuster.
Rawls, J. 1976. A theory of justice. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Recanzone, G. H. 2000. Cerebral cortical plasticity: Perception and skill acquisition. In M. S. Gazzaniga (Ed.), The new cognitive neurosciences. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Reed, T. E., & Jensen, A. R. 1992. Conduction velocity in a brain nerve pathway of normal adults corelates with intelligence level. Intelligence, 17, 191–203.
Reeve, H. K. 2000. Review of Sober & Wilson's "Unto others." Evolution and Human Behavior, 21, 65–72.
Reiner, W. G. 2000. Cloacal exstrophy. Paper presented at the Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society, Boston.
Reiss, D., Neiderhiser, J. M., Hetherington, E. M., & Plomin, R. 2000. The relationship code: Deciphering genetic and social influences on adolescent development. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Renfrew, J. W. 1997. Aggression and its causes: A biopsychosocial approach. New York: Oxford University Press.
Rice, M. 1997. Violent offender research and implications for the criminal justice system. American Psychologist, 52, 414–423.
Richards, R. J. 1987. Darwin and the emergence of evolutionary theories of mind and behavior. Chicago: University of Chicago Press.
Richardson, L. F. 1960. Statistics of deadly quarrels. Pittsburgh: Boxwood Press. Ridley, M. 1986. The problems of evolution. New York: Oxford University Press.
Ridley, M. 1993. The red queen: Sex and the evolution of human nature. New York: Macmillan.
Ridley, M. 1997. The origins of virtue: Human instincts and the evolution of cooperation 1st American ed. New York: Viking.
Ridley, M. 2000. Genome: The autobiography of a species in 23 chapters. New York: HarperCollins.
Roback, J. 1993. Beyond equality. Georgetown Law Journal, 82, 121–133. Rogers, A. R. 1994. Evolution of time preference by natural selection. American Economic Review, 84, 460–481.
Roiphe, K. 1993. The morning after: Sex, fear, and feminism on campus. Boston: Little, Brown.
Romer, P. 1991. Increasing returns and new developments in the theory of growth. In W. Barnett, B. Cornet, C. d'Aspremont, J. Gabszewicz, & Mas-Collel (Eds.), International Symposium in Economic Theory and Econometrics. New York: Cambridge Unviersity Press.
Romer, P., & Nelson, R. R. 1996. Science, economic growth, and public policy. In B. L. R. Smith & C. E. Barfield (Eds.), Technology, R&D, and the economy. Washington, DC: Brookings Institution.
Rose, H., & Rose, S. (Eds.) 2000. Alas, poor Darwin! Arguments against evolutionary psychology. New York: Harmony Books.
Rose, S. 1978. Pre-Copernican sociobiology? New Scientist, 80, 45–46.
Rose, S. 1997. Lifelines: Biology beyond determinism. New York: Oxford University Press.
Rose, S., & the Dialectics of Biology Group. 1982. Against biological determinism. London: Allison & Busby.
Rosen, S. 1992. War power and the willingness to suffer. In J. A. Vasquez & M. T. Henehan (Eds.), The scientific study of peace and war: A text reader. New York: Lexington Books.
Rossen, M., Klima, E. S., Bellugi, U., Bihrle, A., & Jones, W. 1996. Interaction between language and cognition: Evidence from Williams syndrome. In J. H. Beitchman, N. J. Cohen, M. M. Konstantareas, & R. Tannock (Eds.), Language, learning, and behavior disorders: Developmental, biological, and clinical perspectives. New York: Cambridge University Press.
Rossiter, C. (Ed.) 1961. The Federalist Papers. New York: New American Library.
Rousseau, J.-J. 1755/1986. The first and second discourses together with the replies to critics and Essay on the origin of languages (Gourevitch, Victor, Trans.) 1st ed. New York: Perennial Library.
Rousseau, J.-J. 1755/1994. Discourse upon the origin and foundation of inequality among mankind. New York: Oxford University Press.
Rousseau, J.-J. 1762/1979. Emile (Allan Bloom, Trans.). New York: Basic Books. Rowe, D. 1994. The limits of family influence: Genes, experience, and behavior. New York: Guilford Press.
Rowe, D. C. 2001. The nurture assumption persists. American Psychologist, 56, 168–169.
Rozin, P. 1996. Towards a psychology of food and eating: From motivation to module to model to marker, morality, meaning, and metaphor. Current Directions in Psychological Science, 5, 18–24.
Rozin, P. 1997. Moralization. In A. Brandt & P. Rozin (Eds.), Morality and health. New York: Routledge.
Rozin, P., & Fallon, A. 1987. A perspective on disgust. Psychological Review, 94, 23–41.
Rozin, P., Markwith, M., & Stoess, C. 1997. Moralization and becoming a vegetarian: The transformation of preferences into values and the recruitment of disgust. Psychological Science, 8, 67–73.
Rue, L. 1994. By the grace of guile: The role of deception in natural history and human affairs. New York: Oxford University Press.
Rumelhart, D. E., & McClelland, J. L. 1986. PDP models and general issues in cognitive science. In D. E. Rumelhart, J. L. McClelland, & the PDP Research Group (Eds.), Parallel distributed processing: Explorations in the microstructure of cognition (Vol. 1: Foundations). Cambridge, Mass.: MIT Press.
Rumelhart, D. E., McClelland, J. L., & the PDP Research Group. 1986. Parallel distributed processing: Explorations in the microstructure of cognition (vol. 1: Foundations). Cambridge, Mass.: MIT Press.
Ruse, M. 1998. Taking Darwin seriously: A naturalistic approach to philosophy. Amherst, N. Y.: Prometheus Books.
Ruse, M. 2000. Can a Darwinian be a Christian? The relationship between science and religion. New York: Cambridge University Press.
Rushton, J. P. 1996. Race, intelligence, and the brain: The errors and omissions of the "revised" edition of S. J. Gould's The mismeasure of man. Personality and Individual Differences, 23, 169–180.
Rushton, J. P., Fulker, D. W., Neale, M. C., Nias, D. K. B., & Eysenck, H. J. 1986. Altruism and aggression: The heritability of individual differences. Journal of Personality and Social Psychology, 50, 1192–1198.
Rutter, M. 1997. Nature-nurture integration: The example of antisocial behavior. American Psychologist, 52, 390–398.
Ryle, G. 1949. The concept of mind. London: Penguin.
Sadato, N., Pascual-Leone, A., Grafman, J., Ibañez, V., Delber, M.-P., Dold, G., & Hallett, M. 1996. Activation of the primary visual cortex by Braille reading in blind subjects. Nature, 380, 526–528.
Sahlins, M. 1976. The use and abuse of biology: An anthropological critique of sociobiology. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Salmon, C. A. 1998. The evocative nature of kin terminology in political rhetoric. Politics and the Life Sciences, 17, 51–57.
Salmon, C. A., & Symons, D. 2001. Warrior lovers. New Haven: Yale University Press.
Samelson, F. 1982. Intelligence and some of its testers (Review of S. J. Gould's "The Mismeasure of Man"). Science, 215, 656–657. Saperstein, A. M. 1995. War and chaos. American Scientist.
Sapolsky, R. M. 1997. The trouble with testosterone: And other essays on the biology of the human predicament. New York: Simon & Schuster.
Sayre-McCord, G. 1988. Essays on moral realism. Ithaca, N. Y.: Cornell University Press.
Scarr, S., & Carter-Saltzman. 1979. Twin method: Defense of a critical assumption. Behavior Genetics, 9, 527–542.
Scarr, S., & Weinberg, R. A. 1981. The transmission of authoritarian attitudes in families: Genetic resemblance in social-political attitudes? In S. Scarr (Ed.), Race, social class, and individual differences in IQ. Mahwah, N. J.: Erlbaum.
Scarry, E. 1999. Dreaming by the book. New York: Farrar Straus & Giroux.
Schaller, M., & Crandall, C. (Eds.) In press. The psychological foundations of culture. Mahwah, N. J.: Erlbaum.
Schellenberg, E. G., & Trehub, S. E. 1996. Natural musical intervals: Evidence from infant listeners. Psychological Science, 7, 272–277.
Schelling, T. 1960. The strategy of conflict. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Schütze, Y. 1987. The good mother: The history of the normative model "mother- love." In P. A. Adler, P. Adler, & N. Mandell (Eds.), Sociological studies of child development (Vol. 2,). Greenwich, Conn.: JAI Press.
Schwartz, F. N. 1992. Breaking with tradition: Women and work, the new facts of life. New York: Warner Books.
Scott, J. C. 1998. Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition failed. New Haven: Yale University Press.
Searle, J. R. 1995. The construction of social reality. New York: Free Press.
Segal, N. 2000. Virtual twins: New findings on within-family environmental influences on intelligence. Journal of Educational Psychology, 92, 442–448.
Segerstråle, U. 2000. Defenders of the truth: The battle for sociobiology and beyond. New York: Oxford University Press.
Seligman, M. E. P. 1971. Phobias and preparedness. Behavior Therapy, 2, 307–320. Sen, A. 1984. Poverty and famines: An essay on entitlement and deprivation. New York: Oxford University Press.
Sen, A. 2000. East and West: The reach of reason. New York Review of Books. The Seville Statement on Violence. 1990. American Psychologist, 45, 1167–1168. Shalit, W. 1999. A return to modesty: Discovering the lost virtue. New York: Free Press.
Sharma, J., Angelucci, A., & Sur, M. 2000. Induction of visual orientation modules in auditory cortex. Nature, 404, 841–847.
Sharpe, G. 1994. William Hill's bizarre bets. London: Virgin Books.
Shastri, L. 1999. Advances in SHRUTI: A neurally motivated model of relational knowledge representation and rapid inference using temporal synchrony. Applied Intelligence, 11, 79–108.
Shastri, L., & Ajjanagadde, V. 1993. From simple associations to systematic reasoning: A connectionist representation of rules, variables, and dynamic bindings using temporal synchrony. Behavioral and Brain Sciences, 16, 417–494.
Shatz, A. 1999. The guilty party. Lingua Franca, B17 — B21.
Shepard, R. N. 1990. Mind sights: Original visual illusions, ambiguities, and other anomalies. New York: W. H. Freeman.
Sherif, M. 1966. Group conflict and cooperation: Their social psychology. London: Routledge & Kegan Paul.
Shipman, P. 1994. The evolution of racism. New York: Simon & Schuster. Short, P. 1999. Mao: A life. New York: Henry Holt.
Shoumatoff, A. 1985. The mountain of names: A history of the human family. New York: Simon & Schuster.
Shweder, R. A. 1990. Cultural psychology: What is it? In J. W. Stigler, R. A. Shweder, & G. H. Herdt (Eds.), Cultural psychology: Essays on comparative human development (pp. ix, 625). New York: Cambridge University Press.
Shweder, R. A. 1994. "You're not sick, you're just in love": Emotion as an interpretive system. In P. Ekman & R. J. Davidson (Eds.), The nature of emotion. New York: Oxford University Press.
Shweder, R. A., Much, N. C., Mahapatra, M., & Park, L. 1997. The "big three" of morality (autonomy, community, and divinity) and the "big three" explanations of suffering. In A. Brandt & P. Rozin (Eds.), Morality and health. New York: Routledge.
Siegal, M., Varley, R., & Want, S. C. 2001. Mind over grammar: Reasoning in aphasia and development. Trends in Cognitive Sciences, 5, 296–301.
Silverman, I., & Eals, M. 1992. Sex differences in spatial abilities: Evolutionary theory and data. In J. Barkow, L. Cosmides, & J. Tooby (Eds.), The adapted mind: Evolutionary psychology and the generation of culture. New York: Oxford University Press.
Simon, J. L. 1996. The Ultimate Resource 2. Princeton, N. J.: Princeton University Press.
Singer, I. B. 1972. Enemies, a love story. New York: Farrar, Straus & Giroux. Singer, P. 1981. The expanding circle: Ethics and sociobiology. New York: Farrar, Straus & Giroux.
Singer, P. 1999. A Darwinian left: Politics, evolution, and cooperation. New Haven: Yale University Press.
Siple, P., & Fischer, S. D. (Eds.) 1990. Theoretical issues in sign language research. Chicago: University of Chicago Press.
Skinner, B. F. 1948/1976. Walden Two. New York: Macmillan. Skinner, B. F. 1971. Beyond freedom and dignity. New York: Knopf. Skinner, B. F. 1974. About behaviorism. New York: Knopf.
Skuse, D. H., James, R. S., Bishop, D. V. M., Coppin, B., Dalton, P., Aamodt-Leeper, G., Bacarese-Hamilton, M., Cresswell, C., McGurk, R., & Jacobs, P. A. 1997. Evidence from Turner's Syndrome of an imprinted X-linked locus affecting cognitive function. Nature, 287, 705–708.
Sloman, S. A. 1996. The empirical case for two systems of reasoning. Psychological Bulletin, 119, 3–22.
Slovic, P., Fischof, B., & Lichtenstein, S. 1982. Facts versus fears: Understanding perceived risk. In D. Kahneman, P. Slovic, & A. Tversky (Eds.), Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. New York: Cambridge University Press.
Smith, A. 1759/1976. The theory of moral sentiments. Indianapolis: Liberty Classics. Smith, A., Jussim, L., & Eccles, J. 1999. Do self-fulfilling prophesies accumulate, dissipate, or remain stable over time? Journal of Personality and Social Psychology, 77, 548–565.
Smolensky, P. 1990. Tensor product variable binding and the representation of symbolic structures in connectionist systems. Artificial Intelligence, 46, 159–216.
Smolensky, P. 1995. Reply: Constituent structure and explanation in an integrated connectionist/symbolic cognitive architecture. In C. MacDonald & G. MacDonald (Eds.), Connectionism: Debates on Psychological Explanations (Vol. Vol.2,). Cambridge, Mass.: Blackwell.
Snyderman, M., & Rothman, S. 1988. The IQ controversy: The media and public policy. New Brunswick, N. J.: Transaction.
Sommers, C. H. 1994. Who stole feminism? New York: Simon & Schuster. Sommers, C. H. 1998. Why Johnny can't tell right from wrong. American Outlook, 45–47.
Sommers, C. H. 2000. The war against boys: How misguided feminism is harming our young men. New York: Touchstone Books.
Sougné, J. 1998. Connectionism and the problem of multiple instantiation. Trends in Cognitive Sciences, 2, 183–189.
Sowell, T. 1980. Knowledge and decisions. New York: Basic Books. Sowell, T. 1985. Marxism: Philosophy and economics. New York: Quill.
Sowell, T. 1987. A conflict of visions: Ideological origins of political struggles. New York: Quill.
Sowell, T. 1994. Race and culture: A world view. New York: Basic Books.
Sowell, T. 1995a. Ethnicity and IQ. In S. Fraser (Ed.), The Bell Curve wars: Race, intelligence, and the future of America. New York: Basic Books.
Sowell, T. 1995b. The vision of the anointed: Self-congratulation as a basis for social policy. New York: Basic Books.
Sowell, T. 1996. Migrations and cultures: A world view. New York: Basic Books. Sowell, T. 1998. Conquests and cultures: An international history. New York: Basic Books.
Spann, E. K. 1989. Brotherly tomorrows: movements for a cooperative society in America, 1820–1920. New York: Columbia University Press.
Spelke, E. 1995. Initial knowledge: Six suggestions. Cognition, 50, 433–447. Spelke, E. S., Breinlinger, K., Macomber, J., & Jacobson, K. 1992. Origins of knowledge. Psychological Review, 99, 605–632.
Sperber, D. 1985. Anthropology and psychology: Towards an epidemiology of representations. Man, 20, 73–89.
Sperber, D. 1994. The modularity of thought and the epidemiology of representations. In L. Hirschfeld & S. Gelman (Eds.), Mapping the mind: Domain specificity in cognition and culture. New York: Cambridge University Press.
Spiller, R. J. 1988. S. L. A. Marshall and the ratio of fire. RUSI Journal, 133. Staddon, J. R. 1999. On responsibility in science and law. In E. Paul, F. Miller, & J. Paul (Eds.), Responsibility (Vol. 16,). New York: Cambridge University Press.
Steiner, G. 1967. Language and silence: Essays on language, literature, and the inhuman. New Haven: Yale University Press.
Steiner, G. 1984. Antigones: How the Antigone legend has endured in Western literature, art, and thought. New Haven: Yale University Press.
Steiner, W. 2001. Venus in exile: the rejection of beauty in 20th-century art. New York: Free Press.
Stevens, M. 2001a. Only causation matters: reply to Ahn et al. Cognition, 82, 71–76. Stevens, P. 2001b. Magical thinking in complementary and alternative medicine.
Skeptical Inquirer, 32–37.
Stevens, W. 1965. The necessary angel. New York: Random House.
Stevenson, L., & Haberman, D. L. 1998. Ten theories of human nature. New York: Oxford Univesity Press.
Stoolmiller. 2000. Implications of the restricted range of family environments for estimates of heritability and nonshared environment in behavior-genetic adoption studies. Psychological Bulletin, 125, 392–407.
Storey, R. 1996. Mimesis and the human animal. Evanston, IL: Northwestern University Press.
Stromswold, K. 1998. Genetics of spoken language disorders. Human Biology, 70, 297–324.
Stromswold, K. 2000. The cognitive neuroscience of language acquisition. In M. S. Gazzaniga (Ed.), The new cognitive neurosciences. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Stryker, M. P. 1994. Precise development from imprecise rules. Science, 263, 1244–1245.
Sulloway, F. J. 1995. Birth order and evolutionary psychology: A meta-analytic overview. Psychological Inquiry, 6, 75–80.
Sulloway, F. J. 1996. Born to rebel: Family conflict and radical genius. New York: Pantheon.
Sur, M. 1988. Visual plasticity in the auditory pathway: Visual inputs induced into auditory thalamus and cortex illustrate principles of adaptive organization in sensory systems. In M. A. Arbib & S. Amari (Eds.), Dynamic interactions in neural networks (Vol. 1: Models and data,). New York: Springer-Verlag.
Sur, M., Angelucci, A., & Sharma, J. 1999. Rewiring cortex: The role of patterned activity in development and plasticity of neocortical circuits. Journal of Neurobiology, 41, 33–43.
Swim, J. K. 1994. Perceived versus meta-analytic effect sizes: An assessment of the accuracy of gender stereotypes. Journal of Personality and Social Psychology, 66, 21–36.
Symons, D. 1979. The evolution of human sexuality. New York: Oxford University Press.
Symons, D. 1995. Beauty is in the adaptations of the beholder: The evolutionary psychology of human female sexual attractiveness. In P. R. Abramson & S. D. Pinkerton (Eds.), Sexual nature, sexual culture. Chicago: University of Chicago Press.
Szathmáry, E., Jordán, F., & Pál, C. 2001. Can genes explain biological complexity? Science, 292, 1315–1316.
Tajfel, H. 1981. Human groups and social categories. New York: Cambridge University Press.
Talmy, L. 2000. The cognitive culture system. In L. Talmy (Ed.), Toward a cognitive semantics (Vol. 2: Typology and process in concept structuring,). Cambridge, Mass.: MIT Press.
Taylor, J. K. 1992. Reclaiming the mainstream: Individualist feminism rediscovered. Buffalo, N. Y.: Prometheus Books.
Taylor, S. E. 1989. Positive illusions: Creative self-deception and the healthy mind. New York: Basic Books.
Tesser, A. 1993. The importance of heritability in psychological research: The case of attitudes. Psychological Review, 100, 129–142.
Tessier-Lavigne, M., & Goodman, C. S. 1996. The molecular biology of axon guidance. Science, 274, 1123–1132.
Tetlock, P. E. 1999. Coping with tradeoffs: Psychological constraints and political implications. In A. Lupia, M. McCubbins, & S. Popkin (Eds.), Political reasoning and choice. Berkeley: University of California Press.
Tetlock, P. E., Kristel, O. V., Elson, B., Green, M. C., & Lerner, J. 2000. The psychology of the unthinkable: Taboo tradeoffs, forbidden base rates, and heretical counterfactuals. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 853–870.
Teuber, M. 1997. Gertrude Stein, William James, and Pablo Picasso's Cubism. In W. G. Bringmann, H. E. Luck, R. Miller, & C. E. Early (Eds.), A pictorial history of psychology. Chicago: Quintessence Publishing.
Thaler, R. H. 1994. The winner's curse. Princeton, N. J.: Princeton University Press. Thiessen, D., & Young, R. K. 1994. Investigating sexual coercion. Society, 31, 60–63. Thompson, P. M., Cannon, T. D., Narr, K. L., Theo G. M. van Erp, Poutanen, V.-P., Huttunen, M., Lönnqvist, J., Standertskjöld-Nordenstam, C.-G., Kaprio, J., Khaledy, M., Dail, R., Zoumalan, C. I., & Toga, A. W. 2001. Genetic influences on brain structure. Nature Neuroscience, 4, 1–6.
Thornhill, R. 1998. Darwinian aesthetics. In C. Crawford & D. L. Krebs (Eds.), Handbook of evolutionary psychology: Ideas, issues, and applications. Mahwah, N. J.: Erlbaum.
Thornhill, R., & Palmer, C. T. 2000. A natural history of rape: Biological bases of sexual coercion. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Thornhill, R., & Palmer, C. T. 2001. Rape and evolution: A reply to our critics (Preface to the paperback edition), A natural history of rape: Biological bases of sexual coercion (paperback ed.,). Cambridge, Mass.: MIT Press.
Tierney, P. 2000. Darkness in El Dorado: How Scientists and Journalists Devastated the Amazon. New York: Norton.
Tinbergen, N. 1952. Derived activities: Their causation, biological significance, origin, and emancipation during evolution. Quarterly Review of Biology, 27, 1–32.
Tomasello, M. 1999. The cultural origins of human cognition. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Tong, R. 1998. Feminist thought: A more comprehensive introduction 2nd ed. Boulder, Colo.: Westview Press.
Tooby, J., & Cosmides, L. 1990. On the universality of human nature and the uniqueness of the individual: The role of genetics and adaptation. Journal of Personality, 58, 17–67.
Tooby, J., & Cosmides, L. 1992. Psychological foundations of culture. In J. Barkow, L. Cosmides, & J. Tooby (Eds.), The adapted mind: Evolutionary psychology and the generation of culture. New York: Oxford University Press.
Tooby, J., & DeVore, I. 1987. The reconstruction of hominid evolution through strategic modeling. In W. G. Kinzey (Ed.), The evolution of human behavior: Primate models. Albany, N. Y.: SUN.Y. Press.
Tooley, M. 1972. Abortion and infanticide. Philosophy and Public Affairs, 2, 37–65. Toussaint-Samat, M. 1992. History of food. Cambridge, Mass.: Blackwell.
Tramo, M. J., Loftus, W. C., Thomas, C. E., Green, R. L., & Mott, L. A., Gazzaniga, M. S. 1995. Surface area of human cerebral cortex and its gross morphological subdivisions: In vivo measurements in monozygotic twins suggest differential hemispheric effects of genetic factors. Journal of Cognitive Neuroscience, 7, 267–91.
Tribe, L. 1971. Trial by mathematics: Precision and ritual in the legal process. Harvard Law Review, 84, 1329–1393.
Trivers, R. 1971. The evolution of reciprocal altruism. Quarterly Review of Biology, 46, 35–57.
Trivers, R. 1972. Parental investment and sexual selection. In B. Campbell (Ed.), Sexual selection and the descent of man. Chicago: Aldine.
Trivers, R. 1974. Parent-offspring conflict. American Zoologist, 14, 249–264. Trivers, R. 1976. Foreword. In R. Dawkins, The selfish gene. New York: Oxford University Press.
Trivers, R. 1981. Sociobiology and politics. In E. White (Ed.), Sociobiology and human politics. Lexington, Mass.: D. C. Heath.
Trivers, R. 1985. Social evolution. Reading, Mass.: Benjamin/Cummings. Trivers, R. 1998. As they would do to you: A review of E. Sober & D. S. Wilson's "Unto others." Skeptic, 6, 81–83.
Trivers, R., & Newton, H. P. 1982. The crash of Flight 90: Doomed by self-deception? Science Digest, 66–68.
Trivers, R. L., & Willard, D. E. 1973. Natural selection of parental ability to vary the sex ratio of offspring. Science, 179, 90–91.
Turkheimer, E. 2000. Three laws of behavior genetics and what they mean. Current Directions in Psychological Science, 5, 160–164.
Turkheimer, E., & Waldron, M. 2000. Nonshared environment: A theoretical, methodological, and quantitative review. Psychological Bulletin, 126, 78–108.
Turner, F. 1985. Natural classicism: Essays on literature and science. New York: Paragon.
Turner, F. 1995. The culture of hope. New York: Free Press.
Turner, F. 1997. Modernism: Cure or disease? Critical Review, 11, 169–180. Turner, M. 1991. Reading minds: The study of English in the age of cognitive science. Princeton, N. J.: Princeton University Press.
Turner, M. 1996. The literary mind. New York: Oxford University Press.
Tversky, A., & Kahneman, D. 1973. Availability: A heuristic for judging frequency and probability. Cognitive Psychology, 4, 207–232.
Tversky, A., & Kahneman, D. 1974. Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. Science, 185, 1124–1131.
Twain, M. 1884/1983. Adventures of Huckleberry Finn. In D. Voto (Ed.), The portable Mark Twain. New York: Penguin.
Valero, H., & Biocca, E. 1970. Yanoama: The narrative of a white girl kidnapped by Amazonian Indians (Rhodes, D., Trans.). New York: Dutton.
Valian, V. 1998. Why so slow? the advancement of women. Cambridge, Mass.: MIT Press.
van den Berghe, P. L. 1981. The ethnic phenomenon. Westport, Conn.: Praeger. Van Essen, D. C., & Deyoe, E. A. 1995. Concurrent processing in the primate visual cortex. In M. S. Gazzaniga (Ed.), The cognitive neurosciences. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Van Valen, L. 1974. Brain size and intelligence in man. American Journal of Physical Anthropology, 40, 417–424.
Vandell, D. L. 2000. Parents, peer groups, and other socializing influences. Developmental Psychology, 36, 699–710.
Vasquez, J. A. 1992. The steps to war: Toward a scientific explanation of Correlates of War findings. In J. A. Vasquez & M. T. Henehan (Eds.), The scientific study of peace and war: A text reader. New York: Lexington Books.
Veblen, T. 1899/1994. The theory of the leisure class. New York: Penguin. Venable, V. 1945. Human nature: the Marxian view. New York: Knopf.
Venter, C., & et al. 2001. The sequence of the human genome. Science, 291, 1304–1348.
Verhage, M., Maia, A. S., Plomp, J. J., Brussaard, A. B., Heeroma, J. H., Vermeer, H., Toonen, R. F., Hammer, R. E., van der Berg, T. K., Missler, M., Geuze, H. J., & Südhoff, T. C. 2000. Synaptic assembly of the brain in the absence of neurotransmitter secretion. Science, 287, 864–869.
Vonnegut, K. 1968/1998. Welcome to the monkey house. New York: Doubleday. Waddington, D. H. 1957. The strategy of the genes. London: Allen & Unwin. Wakefield, J. C. 1992. The concept of mental disorder: On the boundary between biological facts and social values. American Psychologist, 47, 373–388.
Walker, L. J. 1984. Sex differences in the development of moral reasoning: A critical review. Child Development, 55, 677–691.
Walker, P. L. 2001. A bioarchaeological perspective on the history of violence. Annual Review of Anthropology, 30, 573–596.
Walker, R. (Ed.) 1995. To be real: Telling the truth and changing the face of feminism. New York: Anchor Books.
Wang, F. A., Nemes, A., Mendelsohn, M., & Axel, R. 1998. Odorant receptors govern the formation of a precise topographic map. Cell, 93, 47–60.
Ward, K. 1998. Religion and human nature. New York: Oxford University Press. Warren, M. A. 1984. On the moral and legal status of abortion. In J. Feinberg (Ed.), The problem of abortion. Belmont, Calif.: Wadsworth.
Watson, G. 1985. The idea of liberalism. London: Macmillan.
Watson, J. B. 1924/1998. Behaviorism. New Brunswick, N. J.: Transaction. Weiskrantz, L. (Ed.) 1988. Thought without language. New York: Oxford University Press.
Weizenbaum, J. 1976. Computer power and human reason. San Francisco: W. H. Freeman.
White, S. H. 1996. The relationships of developmental psychology to social policy. In E. Zigler, S. L. Kagan, & N. Hall (Eds.), Children, family, and government: Preparing for the 21st century (pp. 409–426). New York: Cambridge University Press.
Whorf, B. L. 1956. Language, thought, and reality: Selected writings of Benjamin Lee
Whorf. Cambridge, Mass.: MIT press.
Wilkinson, M. J. In press. The Greek-Turkish-American Triangle. In M. Abramovitz (Ed.), Turkey and the United States. New York: Century Foundation.
Wilkinson, R. 2000. Mind the gap: Hierarchies, health, and human evolution. London: Weidenfeld and Nicholson.
Willerman, L., Schultz, R., Rutledge, J. N., & Bigler, E. D. 1991. In vivo brain size and intelligence. American Journal of Physical Anthropology, 15, 223–238.
Williams, G. C. 1966. Adaptation and natural selection: A critique of some current evolutionary thought. Princeton, N. J.: Princeton University Press.
Williams, G. C. 1988. Huxley's evolution and ethics in sociobiological perspective. Zygon: Journal of Religion and Science, 23, 383–407.
Williams, J. M. 1990. Style: Toward clarity and grace. Chicago: University of Chicago Press.
Williams, K., Harkins, S., & Latané, B. 1981. Identifiability as a deterrent to social loafing: Two cheering experiments. Journal of Personality and Social Psychology, 40, 303–311.
Wilson, D. S., & Sober, E. 1994. Re-introducing group selection to the human behavior sciences. Behavioral and Brain Sciences, 17, 585–608.
Wilson, E. O. 1975/2000. Sociobiology: The new synthesis 25th anniversary ed. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Wilson, E. O. 1984. Biophilia. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Wilson, E. O. 1994. Naturalist. Washington, D. C.: Island Press.
Wilson, E. O. 1998. Consilience: The unity of knowledge. New York: Knopf. Wilson, J. Q. 1993. The moral sense. New York: Free Press.
Wilson, J. Q., & Herrnstein, R. J. 1985. Crime and human nature. New York: Simon & Schuster.
Wilson, M., & Daly, M. 1992. The man who mistook his wife for a chattel. In J. H. Barkow, L. Cosmides, & J. Tooby (Eds.), The adapted mind: Evolutionary psychology and the generation of culture. New York: Oxford University Press.
Wilson, M., & Daly, M. 1997. Life expectancy, economic inequality, homicide, and reproductive timing in Chicago neighborhoods. British Medical Journal, 314, 1271–1274.
Wilson, R. A., & Keil, F. C. 1999. The MIT encyclopedia of the cognitive sciences. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Witelson, S. F., Kigar, D. L., & Harvey, T. 1999. The exceptional brain of Albert Einstein. Lancet, 353, 2149–2153.
Wolfe, T. 1975. The painted word. New York: Bantam Books.
Wolfe, T. 1981. From Bauhaus to our house. New York: Bantam Books.
Wolfe, T. 2000. Sorry, but your soul just died, Hooking up. New York: Farrar Straus Giroux.
Wrangham, R. 1999. Is military incompetence adaptive? Evolution and Human Behavior, 20, 3–17.
Wrangham, R. W., & Peterson, D. 1996. Demonic males: Apes and the origins of human violence. Boston: Houghton Mifflin.
Wright, F. A., Lemon, W. J., Zhao, W. D., Sears, R., Zhuo, D., Wang, J.-P., Yang, H. — Y., Baer, T., Stredney, D., Spitzner, J., Stutz, A., Krahe, R., & Yuan, B. 2001. A draft annotation and overview of the human genome. Genome Biology, 2, 0025.1–0025.18.
Wright, L. (1995,). Double mystery. New Yorker, 45–62.
Wright, R. 1994. The moral animal: Evolutionary psychology and everyday life. New York: Pantheon.
Wright, R. 2000. NonZero: The logic of human destiny. New York: Pantheon. Yinon, Y., & Dovrat, M. 1987. The reciprocity-arousing potential of the requestor's occupation, its status, and the cost and urgency of the request as determinants of helping behavior. Journal of Applied Social Psychology, 17, 429–435.
Young, C. 1999. Ceasefire! Why women and men must join forces to achieve true equality. New York: Free Press.
Zahavi, A., & Zahavi, A. 1997. The handicap principle: A missing piece of Darwin's puzzle. New York: Oxford University Press.
Zahn-Wexler, C., Radke-Yarrow, M., Wagner, E., & Chapman, M. 1992. Development of concern for others. Developmental Psychology, 28, 126–136.
Zentner, M. R., & Kagan, J. 1996. Perception of music by infants. Nature, 383, 29.
Zhou, R., & Black, I. B. 2000. Development of neural maps: Molecular mechanisms. In M. S. Gazzaniga (Ed.), The new cognitive neurosciences. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Zimbardo, P. G., Maslach, C., & Haney, C. 2000. Reflections on the Stanford Prison Experiment: Genesis, transformations, consequences. In T. Blass (Ed.), Current perspectives on the Milgram paradigm. Mahwah, N. J.: Erlbaum.
Zimler, J., & Keenan, J. M. 1983. Imagery in the congenitally blind: How visual are visual images? Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 9, 269–282.
Примечания
1
Herrnstein & Murray, 1994, p. 311.
(обратно)2
Harris, 1998a, p. 2.
(обратно)3
Thornhill & Palmer, 2000, p. 176; цитата изменена, чтобы сделать ее гендерно нейтральной.
(обратно)4
Hunt, 1999; Jensen, 1972; Kors & Silverglate, 1998; P. Rushton, "The new enemies of evolutionary science," Liberty, March 1998, pp. 31–35; "Psychologist Hans Eysenck, Freudian critic, dead at 81," Associated Press, September 8, 1997.
(обратно)1
Macnamara, 1999; Passmore, 1970; Stevenson & Haberman, 1998; Ward, 1998.
(обратно)2
Бытие 1:21.
(обратно)3
Бытие 3:16.
(обратно)4
В соответствии с более поздними интер¬претациями Библии, которые не разделяют тело и душу явным образом.
(обратно)5
Творение: Opinion Dynamics, August 30, 1999; чудеса: Princeton Survey Research Associates, April 15, 2000; ангелы: Opinion Dynamics, December 5, 1997; дьявол: Princeton Survey Research Associates, April 20, 2000; жизнь после смерти: Gallup. Organization, April 1, 1998; эволюция: Opinion Dynamics, August 30, 1999. Available through the Roper Center at the University of Connecticut Public Opinion Online: .
(обратно)1
Locke, 1690/1947, Book II, chap. 1, p. 26.
(обратно)2
Hacking, 1999.
(обратно)3
Rousseau, 1755/1994, pp. 61–62.
(обратно)4
Hobbes, 1651/1957, pp. 185–186.
(обратно)5
Descartes, 1641/1967, Meditation VI, p. 177.
(обратно)6
Ryle, 1949, pp. 13–17.
(обратно)7
Descartes, 1637/2001, Part V, p. 10.
(обратно)8
Ryle, 1949, p. 20.
(обратно)9
Cohen, 1997.
(обратно)10
Rousseau, 1755/1986, p. 208.
(обратно)11
Rousseau, 1762/1979, p. 92.
(обратно)12
Quoted in Sowell, 1987, p. 63.
(обратно)13
Originally in Red Flag (Beijing), June 1, 1958; quoted in Courtois et al., 1999.
(обратно)14
J. Kalb, "The downtown gospel according to Reverend Billy." New York Times, February 27, 2000.
(обратно)15
D. R. Vickery, "And who speaks for our earth?" Boston Globe, December 1, 1997.
(обратно)16
Green, 2001; R. Mishra, "What can stem cells really do?" Boston Globe, August 21, 2001.
(обратно)1
Jespersen, 1938/1982, pp. 2–3.
(обратно)2
Degler, 1991; Fox, 1989; Gould, 1981; Richards, 1987.
(обратно)3
Degler, 1991; Fox, 1989; Gould, 1981; Rachels, 1990; Richards, 1987; Ridley, 2000.
(обратно)4
Degler, 1991; Gould, 1981; Kevles, 1985; Richards, 1987; Ridley, 2000.
(обратно)5
Термин «стандартная модель социальной науки» был введен Джоном Туби и Ледой Космидес (1992 г.). Философы Рон Маллон и Стивен Стич (2000 г.) использовали термин «социальный конструкционизм», поскольку он близок по смыслу, но короче. «Социальное конструирование» было придумано одним из основателей социологии, Эмилем Дюркгеймом, и проанализировано Хакингом в 1999 г.
(обратно)6
See Curti, 1980; Degler, 1991; Fox, 1989; Freeman, 1999; Richards, 1987; Shipman, 1994; Tooby & Cosmides, 1992.
(обратно)7
Degler, 1991, p. viii.
(обратно)8
White, 1996.
(обратно)9
Quoted in Fox, 1989, p. 68.
(обратно)10
Watson, 1924/1998.
(обратно)11
Quoted in Degler, 1991, p. 139.
(обратно)12
Quoted in Degler, 1991, pp. 158–159.
(обратно)13
Breland & Breland, 1961.
(обратно)14
Skinner, 1974.
(обратно)15
Skinner, 1971.
(обратно)16
Fodor & Pylyshyn, 1988; Gallistel, 1990; Pinker & Mehler, 1988.
(обратно)17
Gallistel, 2000.
(обратно)18
Preuss, 1995; Preuss, 2001.
(обратно)19
Hirschfeld & Gelman, 1994.
(обратно)20
Ekman & Davidson, 1994; Haidt, In press.
(обратно)21
Daly, Salmon, & Wilson, 1997.
(обратно)22
McClelland, Rumelhart, & the PDP Research Group, 1986; Rumelhart, McClelland, & the PDP Research Group, 1986.
(обратно)23
Rumelhart & McClelland, 1986, p. 143.
(обратно)24
Quoted in Degler, 1991, p. 148.
(обратно)25
Boas, 1911. За примеры благодарю Дэвида Кеммерера.
(обратно)26
Degler, 1991; Fox, 1989; Freeman, 1999.
(обратно)27
Quoted in Degler, 1991, p. 84.
(обратно)28
Quoted in Degler, 1991, p. 95.
(обратно)29
Quoted in Degler, 1991, p. 96.
(обратно)30
Durkheim, 1895/1962, pp. 103–106.
(обратно)31
Durkheim, 1895/1962, p. 110.
(обратно)32
Quoted in Degler, 1991, p. 161.
(обратно)33
Quoted in Tooby & Cosmides, 1992, p. 26.
(обратно)34
Ortega y Gassett, 1935/2001.
(обратно)35
Montagu, 1973a, p. 9. Часть перед многоточием взята из более раннего издания, процитировано у Деглера, 1991, с. 209.
(обратно)36
Benedict, 1934/1959, p. 278.
(обратно)37
Mead, 1935/1963, p. 280.
(обратно)38
Quoted in Degler, 1991, p. 209.
(обратно)39
Mead, 1928.
(обратно)40
Geertz, 1973, p. 50.
(обратно)41
Geertz, 1973, p. 44.
(обратно)42
Shweder, 1990.
(обратно)43
Quoted in Tooby & Cosmides, 1992, p. 22.
(обратно)44
Quoted in Degler, 1991, p. 208.
(обратно)45
Quoted in Degler, 1991, p. 204.
(обратно)46
Degler, 1991; 1990; Shipman, 1994.
(обратно)47
Quoted in Degler, 1991, p. 188.
(обратно)48
Quoted in Degler, 1991, pp. 103–104.
(обратно)49
Quoted in Degler, 1991, 210.
(обратно)50
Cowie, 1999; Elman et al., 1996, pp. 390–391.
(обратно)51
Quoted in Degler, 1991, p. 330.
(обратно)52
Quoted in Degler, 1991, p. 95.
(обратно)53
Quoted in Degler, 1991, p. 100.
(обратно)54
Charles Singer, A short history of biology; quoted in Dawkins, 1998, p. 90.
(обратно)1
Wilson, 1998. Идея была выдвинута Джоном Туби и Ледой Космидес в 1992 г.
(обратно)2
Anderson, 1995; Crevier, 1993; Gardner, 1985; Pinker, 1997.
(обратно)3
Fodor, 1994; Haugeland, 1981; Newell, 1980; Pinker, 1997, chap. 2.
(обратно)4
Brutus.1, by Selmer Bringsjord. S. Bringsjord, "Chess is too easy," Technology Review, March/April 1998, pp. 23–28.
(обратно)5
EMI (Experiments in Musical Intelligence), by David Cope. George Johnson, "The artist's angst is all in your head." New York Times, November 16, 1997, p. 16.
(обратно)6
Aaron, by Harold Cohen. George Johnson, "The artist's angst is all in your head". New York Times, November 16, 1997, p. 16.
(обратно)7
Goldenberg, Mazursky, & Solomon, 1999.
(обратно)8
Leibniz, 1768/1996, bk. II, chap. i, p. 111.
(обратно)9
Leibniz, 1768/1996, preface, p. 68.
(обратно)10
Chomsky, 1975; Chomsky, 1988b; Fodor, 1981.
(обратно)11
Elman et al., 1996; Rumelhart & McClelland, 1986.
(обратно)12
Dennett, 1986.
(обратно)13
Elman et al., 1996, p. 82.
(обратно)14
Elman et al., 1996, pp. 99–100.
(обратно)15
Chomsky, 1975; Chomsky, 1993; Chomsky, 2000; Pinker, 1994.
(обратно)16
See also Miller, Galanter, & Pribram, 1960; Pinker, 1997, chap. 2; Pinker, 1999, chaps. 1, 10.
(обратно)17
Baker, 2001.
(обратно)18
Baker, 2001.
(обратно)19
Shweder, 1994; see Ekman & Davidson, 1994, and Lazarus, 1991, обсуждение.
(обратно)20
See Lazarus, 1991, обзор теории эмоций.
(обратно)21
Mallon & Stich, 2000.
(обратно)22
Ekman & Davidson, 1994; Lazarus, 1991.
(обратно)23
Ekman & Davidson, 1994.
(обратно)24
Fodor, 1983; Gardner, 1983; Hirschfeld & Gelman, 1994; Pinker, 1994; Pinker, 1997.
(обратно)25
Elman et al., 1996; Karmiloff-Smith, 1992.
(обратно)26
Anderson, 1995; Gazzaniga, Ivry, & Mangun, 1998.
(обратно)27
Calvin, 1996a; Calvin, 1996b; Calvin & Ojemann, 2001; Crick, 1994; Damasio, 1994; Gazzaniga, 2000a; Gazzaniga, 2000b; Gazzaniga, Ivry, & Mangun, 1998; Kandel, Schwartz, & Jessell, 2000.
(обратно)28
Crick, 1994.
(обратно)29
Достоевский Ф. Братья Карамазовы. — М.: Терра-Нова, 2007.
(обратно)30
Damasio, 1994.
(обратно)31
Damasio, 1994; Dennett, 1991; Gazzaniga, 1998.
(обратно)32
Gazzaniga, 1992; Gazzaniga, 1998.
(обратно)33
Anderson et al., 1999; Blair & Cipolotti, 2000; Lykken, 1995.
(обратно)34
Monaghan & Glickman, 1992.
(обратно)35
Bourgeois, Goldman-Rakic, & Rakic, 2000; Chalupa, 2000; Geary & Huffman, 2002; Katz, Weliky, & Crowley, 2000; Rakic, 2000; Rakic, 2001. Также см. главу V.
(обратно)36
Thompson et al., 2001.
(обратно)37
Thompson et al., 2001.
(обратно)38
Witelson, Kigar, & Harvey, 1999.
(обратно)39
LeVay, 1993.
(обратно)40
Davidson, Putnam, & Larson, 2000; Raine et al., 2000.
(обратно)41
Bouchard, 1994; Hamer & Copeland, 1998; Lykken, 1995; Plomin, 1994; Plomin et al., 2001; Ridley, 2000.
(обратно)42
Hyman, 1999; Plomin, 1994.
(обратно)43
Bouchard, 1994; Bouchard, 1998; Damasio, 2000; Lykken et al., 1992; Plomin, 1994; Thompson et al., 2001; Tramo et al., 1995; Wright, 1995.
(обратно)44
Segal, 2000.
(обратно)45
Lai et al., 2001; Pinker, 2001b.
(обратно)46
Frangiskakis et al., 1996.
(обратно)47
Chorney et al., 1998.
(обратно)48
Benjamin et al., 1996.
(обратно)49
Lesch et al., 1996.
(обратно)50
Lai et al., 2001; Pinker, 2001b.
(обратно)51
Charlesworth, 1987; Miller, 2000c; Mousseau & Roff, 1987; Tooby & Cosmides, 1990.
(обратно)52
Bock & Goode, 1996; Lykken, 1995; Mealey, 1995.
(обратно)53
Blair & Cipolotti, 2000; Hare, 1993; Kirwin, 1997; Lykken, 1995; Mealey, 1995.
(обратно)54
Anderson et al., 1999; Blair & Cipolotti, 2000; Lalumière, Harris, & Rice, 2001; Lykken, 2000; Mealey, 1995; Rice, 1997.
(обратно)55
Barkow, Cosmides, & Tooby, 1992; Betzig, 1997; Buss, 1999; Cartwright, 2000; Crawford & Krebs, 1998; Evans & Zarate, 1999; Gaulin & McBurney, 2000; Pinker, 1997; Pope, 2000; Wright, 1994.
(обратно)56
Dawkins, 1983; Dawkins, 1986; Gould, 1980; Maynard Smith, 1975/1993; Ridley, 1986; Williams, 1966.
(обратно)57
Dawkins, 1983; Dawkins, 1986; Maynard Smith, 1975/1993; Ridley, 1986; Williams, 1966.
(обратно)58
Улучшенная метафора «мегаломаниакальный ген» предложена философом Колином Макгинном.
(обратно)59
Etcoff, 1999.
(обратно)60
Frank, 1988; Trivers, 1971; Haidt, In press.
(обратно)61
Daly & Wilson, 1988; Frank, 1988.
(обратно)62
McGuinness, 1997; Pinker, 1994.
(обратно)63
Brown, 1991; Brown, 2000.
(обратно)64
Baron-Cohen, 1995; Hirschfeld & Gelman, 1994; Spelke, 1995.
(обратно)65
Boyd & Silk, 1996; Calvin & Bickerton, 2000; Kingdon, 1993; Klein, 1989; Mithen, 1996.
(обратно)66
Gallistel, 1992; Hauser, 1996; Hauser, 2000; Trivers, 1985.
(обратно)67
James, 1890/1950, vol. 2, chap. 24.
(обратно)68
Freeman, 1983; Freeman, 1999.
(обратно)69
Wrangham & Peterson, 1996.
(обратно)70
Wrangham & Peterson, 1996.
(обратно)71
Keeley, 1996, graph adapted by Ed Hagen.
(обратно)72
Ghiglieri, 1999; Keeley, 1996; Wrangham & Peterson, 1996.
(обратно)73
Ember, 1978. See also Ghiglieri, 1999; Keeley, 1996; Knauft, 1987; Wrangham &Peterson, 1996.
(обратно)74
Divale, 1972; see Eibl-Eibesfeldt, 1989, p. 323, обсуждение.
(обратно)75
Bamforth, 1994; Chagnon, 1996; Daly & Wilson, 1988; Divale, 1972; Edgerton, 1992; Ember, 1978; Ghiglieri, 1999; Gibbons, 1997; Keeley, 1996; Kingdon, 1993; Knauft, 1987; Krech, 1994; Krech, 1999; Wrangham & Peterson, 1996.
(обратно)76
Axelrod, 1984; Brown, 1991; Ridley, 1997; Wright, 2000.
(обратно)77
Brown, 1991.
(обратно)1
Borges, 1964, p. 30.
(обратно)2
Pinker, 1984a.
(обратно)3
Boyer, 1994; Hirschfeld & Gelman, 1994; Norenzayan & Atran, In press; Schaller & Crandall, In press; Sperber, 1994; Talmy, 2000; Tooby & Cosmides, 1992.
(обратно)4
Adams et al., 2000.
(обратно)5
Tomasello, 1999.
(обратно)6
Baron-Cohen, 1995; Karmiloff-Smith et al., 1995.
(обратно)7
Rapin, 2001.
(обратно)8
Baldwin, 1991.
(обратно)9
Carpenter, Akhtar, & Tomasello, 1998.
(обратно)10
Meltzoff, 1995.
(обратно)11
Pinker, 1994; Pinker, 1996; Pinker, 1999.
(обратно)12
Campbell & Fairey, 1989; Frank, 1985; Kelman, 1958; Latané & Nida, 1981.
(обратно)13
Deutsch & Gerard, 1955.
(обратно)14
Harris, 1985.
(обратно)15
Cronk, 1999; Cronk, Chagnon, & Irons, 2000.
(обратно)16
Pinker, 1999, chap. 10.
(обратно)17
Searle, 1995.
(обратно)18
Sperber, 1985; Sperber, 1994.
(обратно)19
Boyd & Richerson, 1985; Cavalli-Sforza & Feldman, 1981; Durham, 1982; Lumsden & Wilson, 1981.
(обратно)20
Cavalli-Sforza, 1991; Cavalli-Sforza & Feldman, 1981.
(обратно)21
Toussaint-Samat, 1992.
(обратно)22
Degler, 1991.
(обратно)23
Sowell, 1996, p. 378. See also Sowell, 1994, and Sowell, 1998.
(обратно)24
Diamond, 1992; Diamond, 1998.
(обратно)25
Diamond, 1997.
(обратно)26
Putnam, 1973.
(обратно)27
Chomsky, 1980, p. 227; Marr, 1982; Tinbergen, 1952.
(обратно)28
Pinker, 1999.
(обратно)1
Venter et al., 2001.
(обратно)2
See, e.g., the contributors to Rose & Rose, 2000.
(обратно)3
R. McKie, in The Guardian, February 11, 2001. See also S. J. Gould, "Humbled by the genome's mysteries," New York Times, February 19, 2001.
(обратно)4
The Observer, February 11, 2001.
(обратно)5
E. Pennisi, "The human genome," Science, 291, 2001, 1177–1180; see pp. 1178–1179.
(обратно)6
"Gene count," Science, 295, 2002, p. 29; R. Mishar, "Biotech CEO says map missed much of genome," Boston Globe, April 9, 2001; Wright et al., 2001.
(обратно)7
Claverie, 2001; Szathmáry, Jordán, & Pál, 2001; Venter et al., 2001.
(обратно)8
Szathmáry, Jordán, & Pál, 2001.
(обратно)9
Claverie, 2001.
(обратно)10
Venter et al., 2001.
(обратно)11
Evan Eichler, quoted by G. Vogel, "Objection #2: Why sequence the junk?" Science, 291, 2001, p. 1184.
(обратно)12
Elman et al., 1996; McClelland, Rumelhart, & the PDP Research Group, 1986; McLeod, Plunkett, & Rolls, 1998; Pinker, 1997, pp. 98–111; Rumelhart, McClelland, & the PDP Research Group, 1986.
(обратно)13
Anderson, 1993; Fodor & Pylyshyn, 1988; Hadley, 1994a; Hadley, 1994b; Hummel & Holyoak, 1997; Lachter & Bever, 1988; Marcus, 1998; Marcus, 2001a; McCloskey & Cohen, 1989; Minsky & Papert, 1988; Shastri & Ajjanagadde, 1993; Smolensky, 1995; Sougné, 1998.
(обратно)14
Berent, Pinker, & Shimron, 1999; Marcus et al., 1995; Pinker, 1997; Pinker, 1999; Pinker, 2001a; Pinker &Prince, 1988.
(обратно)15
Pinker, 1997, pp. 112–131.
(обратно)16
Pinker, 1999. See also Clahsen, 1999; Marcus, 2001a; Marslen-Wilson & Tyler, 1998; Pinker, 1991.
(обратно)17
See Marcus et al., 1995, and Marcus, 2001a, for examples.
(обратно)18
Hinton & Nowlan, 1987; Nolfi, Elman, & Parisi, 1994.
(обратно)19
For examples, see Hummel & Biederman, 1992; Marcus, 2001a; Shastri, 1999; Smolensky, 1990.
(обратно)20
Deacon, 1997; Elman et al., 1996; Hard-castle & Buller, 2000; Panskepp & Panskepp, 2000; Quartz & Sejnowski, 1997.
(обратно)21
Elman et al, 1996, p. 108.
(обратно)22
Quartz & Sejnowski, 1997, pp. 552, 555.
(обратно)23
Maguire et al., 2000.
(обратно)24
E. Κ. Miller, 2000.
(обратно)25
Sadato et al., 1996.
(обратно)26
Neville & Bavelier, 2000; Petitto et al., 2000.
(обратно)27
Pons et al., 1991; Ramachandran & Blakeslee, 1998.
(обратно)28
Curtiss, de Bode, & Shields, 2000; Stromswold, 2000.
(обратно)29
Catalano & Shatz, 1998; Crair, Gillespie, & Stryker, 1998; Katz & Shatz, 1996; Miller, Keller, & Stryker, 1989.
(обратно)30
Sharma, Angelucci, & Sur, 2000; Sur, 1988; Sur, Angelucci, & Sharma, 1999.
(обратно)31
For related arguments, see Geary & Huffman, 2002; Katz & Crowley, 2002; Katz & Shatz, 1996; Katz, Weliky, & Crowley, 2000; Marcus, 2001b.
(обратно)32
R. Restak, "Rewiring" (Review of The talking cure by S. C. Vaughan), New York Times Book Review, June 22, 1997, pp. 14–15.
(обратно)33
D. Milmore," 'Wiring' the brain for life," Boston Globe, November 2, 1997, pp. N5 — N8.
(обратно)34
William Jenkins, quoted in A. Ellin, "Can 'neurobics' do for the brain what aerobics do for the lungs?" New York Times, October 3, 1999.
(обратно)35
Quotations from A. Ellin, "Can 'neurobics' do for the brain what aerobics do for the lungs?" New York Times, October 3, 1999.
(обратно)36
G. Kolata, "Muddling fact and fiction in policy," New York Times, August 8, 1999.
(обратно)37
Bruer, 1997; Bruer, 1999.
(обратно)38
R. Saltus, "Study shows brain adaptable," Boston Globe, April 20, 2000.
(обратно)39
Van Essen & Deyoe, 1995, p. 388.
(обратно)40
Crick & Koch, 1995.
(обратно)41
Bishop, Coudreau, & O'Leary, 2000; Bourgeois, Goldman-Rakic, & Rakic, 2000; Chalupa, 2000; Katz, Weliky, & Crowley, 2000; Levitt, 2000; Miyashita-Lin et al., 1999; Rakic, 2000; Rakic, 2001; Verhage et al., 2000; Zhou & Black, 2000.
(обратно)42
См. предыдущую ссылку, а также Geary & Huffman, 2002; Krubitzer & Huffman, 2000; Preuss, 2000; Preuss, 2001; Tessier-Lavigne & Goodman, 1996.
(обратно)43
Geary & Huffman, 2002; Krubitzer & Huffman, 2000; Preuss, 2000; Preuss, 2001.
(обратно)44
D. Normile, "Gene expression differs in human and chimp brains," Science, 292, 2001, pp. 44–45.
(обратно)45
Kaas, 2000, p. 224.
(обратно)46
Hardcastle & Buller, 2000; Panksepp & Panksepp, 2000.
(обратно)47
Gu & Spitzer, 1995.
(обратно)48
Catalano & Shatz, 1998; Crair, Gillespie, & Stryker, 1998; Katz & Shatz, 1996.
(обратно)49
Catalano & Shatz, 1998; Crair, Gillespie, & Stryker, 1998; Katz & Shatz, 1996; Stryker, 1994.
(обратно)50
Каталано и Шатц, 1998; Страйкер, 1994.
(обратно)51
Wang et al., 1998.
(обратно)52
Brown, 1985; Hamer & Copeland, 1994.
(обратно)53
J. R. Skoyles, June 7, 1999, on an email discussion list for evolutionary psychology.
(обратно)54
Recanzone, 2000, p. 245.
(обратно)55
Van Essen & Deyoe, 1995.
(обратно)56
Kosslyn, 1994.
(обратно)57
Kennedy, 1993; Kosslyn, 1994, pp. 334–335; Zimler & Keenan, 1983; though see also Arditi, Holtzman, & Kosslyn, 1988.
(обратно)58
Petitto et al., 2000.
(обратно)59
Klima & Bellugi, 1979; Padden & Perlmutter, 1987; Siple & Fischer, 1990.
(обратно)60
Cramer & Sur, 1995; Sharma, Angelucci, & Sur, 2000; Sur, 1988; Sur, Angelucci, & Sharma, 1999.
(обратно)61
Sur, 1988, pp. 44, 45.
(обратно)62
Bregman, 1990; Bregman & Pinker, 1978; Kubovy, 1981.
(обратно)63
Hubel, 1988.
(обратно)64
Bishop, Coudreau, & O'Leary, 2000; Bourgeois, Goldman-Rakic, & Rakic, 2000; Chalupa, 2000; Geary & Huffman, 2002; Katz, Weliky, & Crowley, 2000; Krubitzer & Huffman, 2000; Levitt, 2000; Miyashita-Lin et al., 1999; Preuss, 2000; Preuss, 2001; Rakic, 2000; Rakic, 2001; Tessier-Lavigne & Goodman, 1996; Verhage et al., 2000; Zhou & Black, 2000.
(обратно)65
Katz, Weliky, & Crowley, 2000, p. 209.
(обратно)66
Crowley & Katz, 2000.
(обратно)67
Verhage et al., 2000.
(обратно)68
Miyashita-Lin et al., 1999.
(обратно)69
Bishop, Coudreau, & O'Leary, 2000. See also Rakic, 2001.
(обратно)70
Thompson et al., 2001.
(обратно)71
Brugger et al., 2000; Melzack, 1990; Melzack et al., 1997; Ramachandran, 1993.
(обратно)72
Curtiss, de Bode, & Shields, 2000; Stromswold, 2000.
(обратно)73
Described in Stromswold, 2000.
(обратно)74
Farah et al., 2000.
(обратно)75
Anderson et al., 1999.
(обратно)76
Anderson, 1976; Pinker, 1979; Pinker, 1984a; Quine, 1969.
(обратно)77
Adams et al., 2000.
(обратно)78
Tooby & Cosmides, 1992; Williams, 1966.
(обратно)79
Gallistel, 2000; Hauser, 2000.
(обратно)80
Barkow, Cosmides, & Tooby, 1992; Burnham & Phelan, 2000; Wright, 1994.
(обратно)81
Brown, 1991.
(обратно)82
Hirschfeld & Gelman, 1994; Pinker, 1997, chap. 5.
(обратно)83
Baron-Cohen, 1995; Gopnik, Meltzoff, & Kuhl, 1999; Hirschfeld & Gelman, 1994; Leslie, 1994; Spelke, 1995; Spelke et al., 1992.
(обратно)84
Baron-Cohen, 1995; Fisher et al., 1998; Frangiskakis et al., 1996; Hamer & Copeland, 1998; Lai et al., 2001; Rossen et al., 1996.
(обратно)85
Bouchard, 1994; Plomin et al., 2001.
(обратно)86
Caspi, 2000; McCrae et al., 2000.
(обратно)87
Bouchard, 1994; Harris, 1998a; Plomin et al., 2001; Turkheimer, 2000.
(обратно)88
См. ссылки к этой главе.
(обратно)1
Глава 6. Ученые-политики
(обратно)2
Weizenbaum, 1976.
(обратно)3
Lewontin, Rose, & Kamin, 1984, p.x.
(обратно)4
Herrnstein, 1971.
(обратно)5
Jensen, 1969; Jensen, 1972.
(обратно)6
Herrnstein, 1973.
(обратно)7
Darwin, 1872/1998; Pinker, 1998.
(обратно)8
Ekman, 1987; Ekman, 1998.
(обратно)9
Wilson, 1975/2000.
(обратно)10
Sahlins, 1976, p. 3.
(обратно)11
Sahlins, 1976, p. x.
(обратно)12
Allen et al., 1975, p. 43.
(обратно)13
Chorover, 1979, pp. 108–109.
(обратно)14
Wilson, 1975/2000, p. 548.
(обратно)15
Wilson, 1975/2000, p. 555.
(обратно)16
Wilson, 1975/2000, p. 550.
(обратно)17
Wilson, 1975/2000, p. 554.
(обратно)18
Wilson, 1975/2000, p. 569.
(обратно)19
Segerstråle, 2000; Wilson, 1994.
(обратно)20
Wright, 1994.
(обратно)21
Trivers & Newton, 1982.
(обратно)22
Trivers, 1981.
(обратно)23
Trivers, 1981, p. 37.
(обратно)24
Gould, 1976a; Gould, 1981; Gould, 1998a; Lewontin, 1992; Lewontin, Rose, & Kamin, 1984; Rose & Rose, 2000; Rose, 1997.
(обратно)25
Только в названиях работ мы встречаем слово «детерминизм» у Гулда, 1976a; Роуза, 1997; Роуза и Группы диалектической биологии, 1982; и в четырех из девяти глав у Левонтина, Роуза и Камина, 1984.
(обратно)26
Lewontin, Rose, & Kamin, 1984, p. 236.
(обратно)27
Lewontin, Rose, & Kamin, 1984, p. 5.
(обратно)28
Dawkins, 1976/1989, p. 164.
(обратно)29
Lewontin, Rose, & Kamin, 1984, p. 11.
(обратно)30
Dawkins, 1985.
(обратно)31
Lewontin, Rose, & Kamin, 1984, p. 287.
(обратно)32
Dawkins, 1976/1989, p. 20, ударение добавлено.
(обратно)33
Levins & Lewontin, 1985, pp. 88, 128; Lewontin, 1983, p. 68; Lewontin, Rose, & Kamin, 1984, p. 287; Lewontin, 1982, p. 18, здесь перефразировано «управляется нашими генами".
(обратно)34
Lewontin, Rose, & Kamin, 1984, p. 149.
(обратно)35
Lewontin, Rose, & Kamin, 1984, p. 260.
(обратно)36
Rose, 1997, p. 211.
(обратно)37
Freeman, 1999.
(обратно)38
Письмо Тернера и Спонсела можно найти на сайте Коннектикутского университета uconn.edu/gradstudents/dhume/darkness_in_el_dorado.
(обратно)39
Chagnon, 1988; Chagnon, 1992.
(обратно)40
Tierney, 2000.
(обратно)41
University of Michigan Report on the Ongoing Investigation of the Neel-Chagnon Allegations (/~urel/darkness.html); John J. Miller, "The Fierce People: The wages of anthropological incorrectness," National Review, November 20, 2000.
(обратно)42
John Tooby, "Jungle fever: Did two U. S. scientists start a genocidal epidemic in the Amazon, or was The New Yorker duped?" Slate, October 24, 2000; University of Michigan Report on the Ongoing Investigation of the Neel-Chagnon Allegations (/~urel/darkness.html); John J. Miller, "The Fierce People: The wages of anthropological incorrectness," National Review, November 20, 2000; "A statement from Bruce Alberts," National Academy of Sciences, November 9, 2000, ; John Tooby, "Preliminary Report," Department of Anthropology, University of California, Santa Barbara, December 10, 2000 (; see also ); Lou Marano, "Darkness in anthropology," UPI, October 20, 2000; Michael Shermer, "Spin-doctoring the Yanomamö," Skeptic, 2001; Virgilio Bosh & eight other signatories, "Venezuelan response to Yanomamö book," Science, 291, 2001, pp. 985–986; "The Yanomamö and the 1960s measles epidemic": letters from J. V. Neel, Jr., K. Hill, and S. L. Katz, Science, 292, June 8, 2001, pp. 1836–1837; "Yanomamö wars continue," Science, 295, January 4, 2002, p. 41; yahoo,com/group/evolutionary-psychology/files/aaa.html. November 2001. Расширенное собрание документов, касающихся дела Тьерни, можно найти на сайте .
(обратно)43
Edward Hagen, "Chagnon and Neel saved hundreds of lives," The Fray, Slate, December 8, 2000 (); S. L. Katz, "The Yanomamö and the 1960s measles epidemic" (letter), Science, 292, June 8, 2001, p. 1837.
(обратно)44
In the Pittsburgh Post-Gazette, quoted in John J. Miller, "The Fierce People: The wages of anthropological incorrectness," National Review, November 20, 2000.
(обратно)45
Chagnon, 1992, chaps. 5–6.
(обратно)46
Valero & Biocca, 1965/1996.
(обратно)47
Ember, 1978; Keeley, 1996; Knauft, 1987.
(обратно)48
Tierney, 2000, p. 178.
(обратно)49
Redmond, 1994, p. 125; quoted in John Tooby, Slate, October 24, 2000.
(обратно)50
Sponsel, 1996, p. 115.
(обратно)51
Sponsel, 1996, pp. 99, 103.
(обратно)52
Sponsel, 1998, p. 114.
(обратно)53
Tierney, 2000, p. 38.
(обратно)54
Neel, 1994.
(обратно)55
John J. Miller, "The Fierce People: The wages of anthropological incorrectness," National Review, November 20, 2000.
(обратно)56
Tierney, 2000, p.xxiv.
(обратно)1
Hunt, 1999.
(обратно)2
Halpern, Gilbert, & Coren, 1996.
(обратно)3
Allen et al., 1975.
(обратно)4
Gould, 1976a.
(обратно)5
Lewontin, Rose, & Kamin, 1984, p. 267.
(обратно)6
Lewontin, Rose, & Kamin, 1984, p. 267.
(обратно)7
Lewontin, Rose, & Kamin, 1984, p. 14.
(обратно)8
Lewontin, 1992, p. 123.
(обратно)9
Précis of Lewontin, 1982, on the book jacket.
(обратно)10
Lewontin, 1992, p. 123.
(обратно)11
Montagu, 1973a.
(обратно)12
S. Gould, "A time of gifts," New York Times, September 26, 2001.
(обратно)13
Gould, 1998b.
(обратно)14
Mealey, 1995.
(обратно)15
Gould, 1998a, p. 262.
(обратно)16
Bamforth, 1994; Chagnon, 1996; Daly & Wilson, 1988; Divale, 1972; Edgerton, 1992; Ember, 1978; Ghiglieri, 1999; Gibbons, 1997; Keeley, 1996; Kingdon, 1993; Knauft, 1987; Krech, 1994; Krech, 1999; Wrangham & Peterson, 1996.
(обратно)17
Gould, 1998a, p. 262.
(обратно)18
Gould, 1998a, p. 265.
(обратно)19
Levins & Lewontin, 1985, p. 165.
(обратно)20
Lewontin, Rose, & Kamin, 1984, p. ix.
(обратно)21
Lewontin, Rose, & Kamin, 1984, p. 76.
(обратно)22
Lewontin, Rose, & Kamin, 1984, p. 270.
(обратно)23
Rose, 1997, pp. 7, 309.
(обратно)24
Gould, 1992.
(обратно)25
Hunt, 1999.
(обратно)26
Quoted in J. Salamon, "A stark explanation for mankind from an unlikely rebel" (Review of the PBS series "Evolution"), New York Times, September 24, 2001.
(обратно)27
D. Wald, "Intelligent design meets congressional designers," Skeptic, 8, 2000, p. 13. Lyrics from "Bad Touch" by the Bloodhound Gang.
(обратно)28
Quoted in D. Falk, "Design or chance?" Boston Globe Magazine, October 21, 2001, pp. 14–23, quotation on p. 21.
(обратно)29
National Center for Science Education, . See also Berra, 1990; Kitcher, 1982; Miller, 1999; Pennock, 2000; Pennock, 2001.
(обратно)30
Quoted in L. Arnhart, M. J. Behe, & W. A. Dembski, "Conservatives, Darwin, and design: An exchange," First Things, 107, November 2000, pp. 23–31.
(обратно)31
Behe, 1996.
(обратно)32
Behe, 1996; Crews, 2001; Dorit, 1997; Miller, 1999; Pennock, 2000; Pennock, 2001; Ruse, 1998.
(обратно)33
R. Bailey, "Origin of the specious," Reason, July 1997.
(обратно)34
D. Berlinski, "The deniable Darwin," Commentary, June 1996. See R. Bailey, "Origin of the specious," Reason, July 1997. The Pope's views on evolution are discussed in Chapter 11.
(обратно)35
A 1991 essay, quoted in R. Bailey, "Origin of the specious," Reason, July 1997.
(обратно)36
Quoted in R. Bailey, "Origin of the specious," Reason, July 1997.
(обратно)37
R. Bailey, "Origin of the specious," Reason, July 1997.
(обратно)38
L. Kass, "The end of courtship," Public Interest, 126, Winter 1997.
(обратно)39
A. Ferguson, "The end of nature and the next man" (Review of F. Fukuyama's The great disruption), Weekly Standard, June 28, 1999.
(обратно)40
A. Ferguson, "How Steven Pinker's mind works" (Review of S. Pinker's How the mind works), Weekly Standard, January 12, 1998.
(обратно)41
T. Wolfe, "Sorry, but your soul just died," Forbes ASAP, December 2, 1996; reprinted in slightly different form in Wolfe, 2000. Ellipses in original.
(обратно)42
T. Wolfe, "Sorry, but your soul just died," Forbes ASAP, December 2, 1996; reprinted in slightly different form in Wolfe, 2000.
(обратно)43
C. Holden, "Darwin's brush with racism," Science, 292, 2001, p. 1295. Resolution HLS 01–2652, Regular Session, 2001, House Concurrent Resolution No. 74 by Representative Broome.
(обратно)44
R. Wright, "The accidental creationist," New Yorker, December 13, 1999. Точно так же креационистский Институт Дискавери использовал атаки Левонтина на эволюционную психологию чтобы раскритиковать документальный сериал «Эволюция», вышедший в 2001 году на канале PBS television. .
(обратно)45
Rose, 1978.
(обратно)46
T. Wolfe, "Sorry, but your soul just died," Forbes ASAP, December 2, 1996; В слегка измененном виде перепечатано у Wolfe, 2000.
(обратно)47
Gould, 1976b.
(обратно)48
A. Ferguson, "The end of nature and the next man" (Review of F. Fukuyama's The great disruption), Weekly Standard, 1999.
(обратно)49
See Dennett, 1995, p. 263, for a similar report.
(обратно)50
E. Smith, "Look who's stalking," New York, February 14, 2000.
(обратно)51
Alcock, 1998.
(обратно)52
For example, the articles entitled "Eugenics revisited" (Horgan, 1993), "The new Social Darwinists" (Horgan, 1995), and "Is a new eugenics afoot?" (Allen, 2001).
(обратно)53
New Republic, April 27, 1998, p. 33.
(обратно)54
New York Times, February 18, 2001, Week in Review, p. 3.
(обратно)55
Tooby & Cosmides, 1992, p. 49.
(обратно)56
Chimps: Montagu, 1973b, p. 4. Heritability of IQ: Kamin, 1974; Lewontin, Rose, & Kamin, 1984, p. 116. IQ as reification: Gould, 1981. Personality and social behavior: Lewontin, Rose, & Kamin, 1984, chap. 9. Sex differences: Lewontin, Rose, & Kamin, 1984, p. 156. Pacific clans: Gould, 1998a, p. 262.
(обратно)57
Daly, 1991.
(обратно)58
Alcock, 2001.
(обратно)59
Buss, 1995; Daly & Wilson, 1988; Daly & Wilson, 1999; Etcoff, 1999; Harris, 1998a; Hrdy, 1999; Ridley, 1993; Ridley, 1997; Symons, 1979; Wright, 1994.
(обратно)60
Plomin et al., 2001.
(обратно)1
From The Rambler, no. 60.
(обратно)2
From the Analects.
(обратно)3
Charlesworth, 1987; Lewontin, 1982; Miller, 2000b; Mousseau & Roff, 1987; Tooby & Cosmides, 1990.
(обратно)4
Tooby & Cosmides, 1990.
(обратно)5
Lander et al, 2001.
(обратно)6
Bodmer & Cavalli-Sforza, 1970.
(обратно)7
Tooby & Cosmides, 1990.
(обратно)8
Patai & Patai, 1989.
(обратно)9
Sowell, 1994; Sowell, 1995a.
(обратно)10
Patterson, 1995; Patterson, 2000.
(обратно)11
Cappon, 1959, pp. 387–392.
(обратно)12
Seventh Lincoln-Douglas debate, October 15, 1858.
(обратно)13
Mayr, 1963, p. 649. Современный вариант этого же аргумента с точки зрения эволюционной биологии — Crow, 2002.
(обратно)14
Chomsky, 1973, pp. 362–363. See also Segerstråle, 2000.
(обратно)15
For further discussion, see Tribe, 1971.
(обратно)16
Los Angeles Times poll, December 21, 2001.
(обратно)17
Nozick, 1974.
(обратно)18
Gould, 1981, pp. 24–25. For reviews, see Blinkhorn, 1982; Davis, 1983; Jensen, 1982; Rushton, 1996; Samelson, 1982.
(обратно)19
Putnam, 1973, p. 142.
(обратно)20
See the consensus statements by Neisser et al., 1996; Snyderman & Rothman, 1988; and Gottfredson, 1997; and also Andreasen et al., 1993; Caryl, 1994; Deary, 2000; Haier et al., 1992; Reed & Jensen, 1992; Thompson et al., 2001; Van Valen, 1974; Willerman et al., 1991.
(обратно)21
Moore & Baldwin, 1903/1996; Rachels, 1990.
(обратно)22
Rawls, 1976.
(обратно)23
Hayek, 1960/1978.
(обратно)24
Chirot, 1994; Courtois et al., 1999; Glover, 1999.
(обратно)25
Horowitz, 2001; Sowell, 1994; Sowell, 1996.
(обратно)26
Lykken et al., 1992.
(обратно)27
Интервью журналу Boston Phoenix в конце 1970х, цитата пересказана условно. По иронии судьбы сын Уолда Элайя стал радикальным научным автором, как и его отец и мать, биолог Руфь Хаббард.
(обратно)28
Degler, 1991; Kevles, 1985; Ridley, 2000.
(обратно)29
Bullock, 1991; Chirot, 1994; Glover, 1999; Gould, 1981.
(обратно)30
Richards, 1987, p. 533.
(обратно)31
Glover, 1999; Murphy, 1999.
(обратно)32
Proctor, 1999.
(обратно)33
Laubichler, 1999.
(обратно)34
Обсуждение марксистских геноцидов XX века в сравнении с нацистским холокостом: Besançon, 1998; Bullock, 1991; Chandler, 1999; Chirot, 1994; Conquest, 2000; Courtois et al., 1999; Getty, 2000; Minogue, 1999; Shatz, 1999; Short, 1999.
(обратно)35
Дискуссия об интеллектуальных корнях марксизма в сравнении с интеллектуальными корнями нацизма: Berlin, 1996; Besançon, 1981; Besançon, 1998; Bullock, 1991; Chirot, 1994; Glover, 1999; Minogue, 1985; Minogue, 1999; Scott, 1998; Sowell, 1985. For discussions of the Marxist theory of human nature, see Archibald, 1989; Bauer, 1952; Plamenatz, 1963; Plamenatz, 1975; Singer, 1999; Stevenson & Haberman, 1998; Venable, 1945.
(обратно)36
See, e.g., Venable, 1945, p. 3.
(обратно)37
Marx, 1847/1995, chap. 2.
(обратно)38
Marx & Engels, 1846/1963, part I.
(обратно)39
Marx, 1859/1979, preface.
(обратно)40
Marx, 1845/1989; Marx & Engels, 1846/1963.
(обратно)41
Marx, 1867/1993, vol. 1, p. 10.
(обратно)42
Marx & Engels, 1844/1988.
(обратно)43
Glover, 1999, p. 254.
(обратно)44
Minogue, 1999.
(обратно)45
Glover, 1999, p. 275.
(обратно)46
Glover, 1999, pp. 297–298.
(обратно)47
Courtois et al., 1999, p. 620.
(обратно)48
See the references cited in notes 34 and 35.
(обратно)49
Marx quotation from Stevenson & Haberman, 1998, p. 146; Hitler quotation from Glover, 1999, p. 315.
(обратно)50
Besançon, 1998.
(обратно)51
Watson, 1985.
(обратно)52
Tajfel, 1981.
(обратно)53
Originally in Red Flag (Beijing), June 1, 1958; quoted in Courtois et al., 1999.
(обратно)1
The Prelude, Book Sixth, "Cambridge and the Alps," I. Published 1799–1805.
(обратно)2
Passmore, 1970, epigraph.
(обратно)3
For example, the Seville Statement on Violence, 1990.
(обратно)4
"Study says rape has its roots in evolution," Boston Herald, January 11, 2000, p. 3.
(обратно)5
Thornhill & Palmer, 2001.
(обратно)6
Brownmiller & Merhof, 1992.
(обратно)7
Gould, 1995, p. 433.
(обратно)8
Ну, почти. Художник Джим Джонсон сказал мне, что он, возможно, оклеветал китов. Позже он узнал, что не киты, а морские леопарды убивают пингвинов для забавы.
(обратно)9
Williams, 1988.
(обратно)10
Jones, 1999; Williams, 1988.
(обратно)11
Williams, 1966, p. 255.
(обратно)12
On the relevance of human nature to morality, see McGinn, 1997; Petrinovich, 1995; Rachels, 1990; Richards, 1987; Singer, 1981; Wilson, 1993.
(обратно)13
Masters, 1989, p. 240.
(обратно)14
Daly & Wilson, 1988; Daly & Wilson, 1999.
(обратно)15
Jones, 1997.
(обратно)16
Daly & Wilson, 1999, pp. 58–66.
(обратно)17
Science Friday, National Public Radio, May 7, 1999.
(обратно)18
Singer, 1981.
(обратно)19
Maynard Smith &Szathmáry, 1997; Wright, 2000.
(обратно)20
De Waal, 1998; Fry, 2000.
(обратно)21
Axelrod, 1984; Brown, 1991; Fry, 2000; Ridley, 1997; Wright, 2000.
(обратно)22
Singer, 1981.
(обратно)23
Skinner, 1948/1976; Skinner, 1971; Skinner, 1974.
(обратно)24
Chomsky, 1973.
(обратно)25
Berlin, 1996; Chirot, 1994; Conquest, 2000; Glover, 1999; Minogue, 1985; Minogue, 1999; Scott, 1998.
(обратно)26
Scott, 1998.
(обратно)27
Quoted in Scott, 1998, pp. 114–115.
(обратно)28
Perry, 1997.
(обратно)29
Harris, 1998a.
(обратно)30
From a dialogue with Betty Friedan in Saturday Review, June 14, 1975, p. 18, quoted in Sommers, 1994, p. 18.
(обратно)31
Quoted by Elizabeth Powers, Commentary, January 1, 1997.
(обратно)32
From a talk at the Cornell University Institute on Women and Work, quoted by C. Young, "The mommy wars," Reason, July 2000.
(обратно)33
Liza Mundy, "The New Critics," Lingua Franca, 3, September/October 1993, p. 27.
(обратно)34
"From Carol Gilligan's chair," interview by Michael Norman, New York Times Magazine, November 7, 1997.
(обратно)35
Letter by Bruce Bodner, New York Times Magazine, November 30, 1997.
(обратно)36
C. Young, "Where the boys are," Reason, February 2, 2001.
(обратно)37
Sommers, 2000.
(обратно)1
Kaplan, 1973, p. 10.
(обратно)2
E. Felsenthal, "Man's genes made him kill, his lawyers claim," Wall Street Journal, November 15, 1994. The defense was unsuccessful: see "Mobley v. The State," Supreme Court of Georgia, March 17, 1995, 265 Ga. 292, 455 S. E. 2d 61.
(обратно)3
"Lawyers may use genetics study in rape defense," National Post (Canada), January 22, 2000, p.A8.
(обратно)4
Jones, 2000; Jones, 1999.
(обратно)5
Dennett, 1984. See also Kane, 1998; Nozick, 1981, pp. 317–362; Ridley, 2000; Staddon, 1999.
(обратно)6
Dershowitz, 1994; J. Ellement, "Alleged con man's defense: 'Different' mores," Boston Globe, February 25, 1999; N. Hall, "Metis woman avoids jail term for killing her husband," National Post (Canada), January 20, 1999.
(обратно)7
B. English, "David Lisak seeks out a dialogue with murderers," Boston Globe, July 27, 2000.
(обратно)8
M. Williams, "Social work in the city: Rewards and risks," New York Times, July 30, 2000.
(обратно)9
S. Morse, Review of C. Sandford's Springsteen point blank, Boston Globe, November 19, 1999.
(обратно)10
M. Udovich, Review of M. Meade's The unruly life of Woody Allen, New York Times, March 5, 2000.
(обратно)11
L. Franks, Interview with Hillary Clinton, Talk, August 1999.
(обратно)12
K. Q. Seelye, "Clintons try to quell debate over interview," New York Times, August 5, 1999.
(обратно)13
Dennett, 1984; Kane, 1998; Nozick, 1981, pp. 317–362; Ridley, 2000; Staddon, 1999.
(обратно)14
Quoted in Kaplan, 1973, p. 16.
(обратно)15
Daly & Wilson, 1988; Frank, 1988; Pinker, 1997; Schelling, 1960.
(обратно)16
Quoted in Kaplan, 1973, p. 29.
(обратно)17
Daly & Wilson, 1988, p. 256.
(обратно)18
Dershowitz, 1994; Faigman, 1999; Kaplan, 1973; Kirwin, 1997.
(обратно)19
Rice, 1997.
(обратно)1
October 22, 1996; reprinted in the English edition of L'Osservatore Romano, October 30, 1996.
(обратно)2
Macnamara, 1999; Miller, 1999; New-some, 2001; Ruse, 2000.
(обратно)3
See Nagel, 1970; Singer, 1981.
(обратно)4
Cummins, 1996; Trivers, 1971; Wright, 1994.
(обратно)5
Zahn-Wexler et al., 1992.
(обратно)6
Brown, 1991.
(обратно)7
Hare, 1993; Lykken, 1995; Mealey, 1995; Rice, 1997.
(обратно)8
Rachels, 1990.
(обратно)9
Murphy, 1999.
(обратно)10
Damewood, 2001.
(обратно)11
Ron Rosenbaum, "Staring into the heart of darkness," New York Times Magazine, June 4, 1995; Daly & Wilson, 1988, p. 79.
(обратно)12
Antonaccio & Schweiker, 1996; Brink, 1989; Murdoch, 1993; Nozick, 1981; Sayre-McCord, 1988.
(обратно)13
Singer, 1981.
(обратно)1
Alexander, 1987, p. 40.
(обратно)1
Quotation from Cartmill, 1998.
(обратно)2
Shepard, 1990.
(обратно)3
www-bcs.mit.edu/persci/high/gallery/checkershadowillusion.html.
(обратно)4
www-bcs.mit.edu/persci/high/gallery/checkershadowillusion.html.
(обратно)5
From the computer scientist Oliver Selfridge; reproduced in Neisser, 1967.
(обратно)6
Brown, 1991.
(обратно)7
Brown, 1985; Lee, Jussim, & McCauley, 1995.
(обратно)8
"Phony science wars" (Review of Ian Hacking's The social construction of what?), Atlantic Monthly, November 1999.
(обратно)9
Hacking, 1999.
(обратно)10
Searle, 1995.
(обратно)11
Anderson, 1990; Pinker, 1997, chaps.2, 5; Pinker, 1999, chap. 10; Pinker & Prince, 1996.
(обратно)12
Armstrong, Gleitman, &Gleitman, 1983; Erikson &Kruschke, 1998; Marcus, 2001a; Pinker, 1997, chaps.2, 5; Pinker, 1999, chap. 10; Sloman, 1996.
(обратно)13
Ahnetal., 2001.
(обратно)14
Lee, Jussim, &McCauley, 1995.
(обратно)15
McCauley, 1995; Swim, 1994.
(обратно)16
Jussim, McCauley, & Lee, 1995; McCauley, 1995.
(обратно)17
Jussim&Eccles, 1995.
(обратно)18
Brown, 1985; Jussim, McCauley, & Lee, 1995; McCauley, 1995.
(обратно)19
Gilbert &Hixon, 1991; Pratto&Bargh, 1991.
(обратно)20
Brown, 1985, p. 595.
(обратно)21
Jussim&Eccles, 1995; Smith, Jussim, &Eccles, 1999.
(обратно)22
Flynn, 1999; Loury, 2002; Valian, 1998.
(обратно)23
Цит. по: Галилео Галилей. Избранные труды. Т. I. С. 203. — М.: Наука. 1964.
(обратно)24
Whorf, 1956.
(обратно)25
Geertz, 1973, p. 45.
(обратно)26
QuotationsfromLehman, 1992.
(обратно)27
Barthes, 1972, p. 135.
(обратно)28
Pinker, 1994, chap. 3.
(обратно)29
Pinker, 1984a.
(обратно)30
Lakoff& Johnson, 1980.
(обратно)31
Jackendoff, 1996.
(обратно)32
Baddeley, 1986.
(обратно)33
Dehaene et al., 1999.
(обратно)34
Pinker, 1994, chap. 3; Siegal, Varley, & Want, 2001; Weiskrantz, 1988.
(обратно)35
Gallistel, 1992; Gopnik, Meltzoff, &Kuhl, 1999; Hauser, 2000.
(обратно)36
Anderson, 1983.
(обратно)37
Pinker, 1994.
(обратно)38
"Minority' a bad word in San Diego," Boston Globe, April 4, 2001; S. Schweitzer, "Council mulls another word for 'minority, '" Boston Globe, August 9, 2001.
(обратно)39
Brooker, 1999, pp. 115–116.
(обратно)40
Leslie, 1995.
(обратно)41
Abbott, 2001; Leslie, 1995.
(обратно)42
Frith, 1992.
(обратно)43
Kosslyn, 1980; Kosslyn, 1994; Pinker, 1984b; Pinker, 1997, chap. 4.
(обратно)44
Kosslyn, 1980; Pinker, 1997, chap. 5.
(обратно)45
Chase & Simon, 1973.
(обратно)46
Dennett, 1991, pp. 56–57.
(обратно)47
A. Gopnik, "Black studies," New Yorker, December 5, 1994, pp. 138–139.
(обратно)1
Caramazza & Shelton, 1998; Gallistel, 2000; Gardner, 1983; Hirschfeld & Gelman, 1994; Keil, 1989; Pinker, 1997, chap. 5; Tooby & Cosmides, 1992.
(обратно)2
Spelke, 1995.
(обратно)3
Atran, 1995; Atran, 1998; Gelman, Coley, & Gottfried, 1994; Keil, 1995.
(обратно)4
Bloom, 1996; Keil, 1989.
(обратно)5
Gallistel, 1990; Kosslyn, 1994.
(обратно)6
Butterworth, 1999; Dehaene, 1997; Devlin, 2000; Geary, 1994; Lakoff & Nunez, 2000.
(обратно)7
Cosmides & Tooby, 1996; Gigerenzer, 1997; Kahneman & Tversky, 1982.
(обратно)8
Braine, 1994; Jackendoff, 1990; Macnamara & Reyes, 1994; Pinker, 1989.
(обратно)9
Pinker, 1994; Pinker, 1999.
(обратно)10
Quoted in Ravitch, 2000, p. 388.
(обратно)11
McGuinness, 1997.
(обратно)12
Geary, 1994; Geary, 1995.
(обратно)13
Carey, 1986; Carey & Spelke, 1994; Gardner, 1983; Gardner, 1999; Geary, 1994; Geary, 1995; Geary, in press.
(обратно)14
Carey, 1986; McCloskey, 1983.
(обратно)15
Gardner, 1999.
(обратно)16
McGuinness, 1997.
(обратно)17
Dehaene et al., 1999.
(обратно)18
Bloom, 1994.
(обратно)19
Pinker, 1990.
(обратно)20
Carey & Spelke, 1994.
(обратно)21
Geary, 1995; Geary, in press; Harris, 1998a.
(обратно)22
Green, 2001, chap. 2.
(обратно)23
S. G. Stolberg, "Reconsidering embryo research," New York Times, July 1, 2001.
(обратно)24
Brock, 1993, p. 372, n. 14 p. 385; Glover, 1977; Tooley, 1972; Warren, 1984.
(обратно)25
Green, 2001.
(обратно)26
R. Bailey, "Dr. Strangelunch, or: Why we should learn to stop worrying and love genetically modified food," Reason, January 2001.
(обратно)27
"EC-sponsored research on safety of genetically modified organisms— A review of results." Report EUR 19884, October 2001, European Union Office for Publications.
(обратно)28
Ames, Profet, & Gold, 1990.
(обратно)29
Ames, Profet, & Gold, 1990.
(обратно)30
E. Schlosser, "Why McDonald's fries tas:_ so good," Atlantic Monthly, January 2001.
(обратно)31
Ahn et al., 2001; Frazer, 1890/1996; Rozin, 1996; Rozin, Markwith, & Stoess, 1997; p. Stevens, 2001 (but see also M. Stevens, 2001).
(обратно)32
Rozin & Fallon, 1987.
(обратно)33
Ahn et al, 2001.
(обратно)34
Rozin, 1996; Rozin & Fallon, 1987; Rozin, Markwith, & Stoess, 1997.
(обратно)35
Rozin, 1996.
(обратно)36
Mayr, 1982.
(обратно)37
Ames, Profet, & Gold, 1990; Lewis, 1990; G. Gray & D. Ropeik, "What, me worry?" Boston Globe, November 11, 2001, p.E8.
(обратно)38
Marks & Nesse, 1994; Seligman, 1971.
(обратно)39
Slovic, Fischof, & Lichtenstein, 1982.
(обратно)40
Sharpe, 1994.
(обратно)41
Cosmides & Tooby, 1996; Gigerenzer, 1991; Gigerenzer, 1997; Pinker, 1997, chap. 5.
(обратно)42
Hoffrage et al., 2000; Tversky & Kahneman, 1973.
(обратно)43
Slovic, Fischof, & Lichtenstein, 1982.
(обратно)44
Tooby & DeVore, 1987.
(обратно)45
Fiske, 1992.
(обратно)46
Cosmides & Tooby, 1992.
(обратно)47
Sowell, 1980.
(обратно)48
Sowell, 1980; Sowell, 1996.
(обратно)49
Sowell, 1994; Sowell, 1996.
(обратно)50
R. Radford (writing in 1945), quoted in Sowell, 1994, p. 57.
(обратно)51
From "The figure of the youth as virile poet"; Stevens, 1965.
(обратно)52
Jackendoff, 1987; Pinker, 1997; Pinker, 1999.
(обратно)53
Bailey, 2000.
(обратно)54
Sen, 1984.
(обратно)55
Simon, 1996.
(обратно)56
Bailey, 2000; Romer, 1991; Romer & Nelson, 1996; P. Romer, "Ideas and things," Economist, September 11, 1993.
(обратно)57
Romer & Nelson, 1996.
(обратно)58
Quoted in M. Kumar, "Quantum reality," Prometheus, 2, pp. 20–21, 1999.
(обратно)59
Quoted in M. Kumar, "Quantum reality," Prometheus, 2, pp. 20–21, 1999.
(обратно)60
Quoted in Dawkins, 1998, p. 50.
(обратно)61
McGinn, 1993; McGinn, 1999; Pinker, 1997, chap. 8.
(обратно)1
Trivers, 1976.
(обратно)2
Trivers, 1971; Trivers, 1972; Trivers, 1974; Trivers, 1976; Trivers, 1985.
(обратно)3
Alexander, 1987; Cronin, 1992; Dawkins, 1976/1989; Ridley, 1997; Wright, 1994.
(обратно)4
Hamilton, 1964; Trivers, 1971; Trivers, 1972; Trivers, 1974; Williams, 1966.
(обратно)5
"Renewing American Civilization," a talk presented at Reinhardt College, January 7, 1995.
(обратно)6
Chagnon, 1988; Daly, Salmon, & Wilson, 1997; Fox, 1984; Mount, 1992; Shoumatoff, 1985.
(обратно)7
Chagnon, 1992; Daly, Salmon, & Wilson, 1997; Daly & Wilson, 1988; Gaulin & McBurney, 2001, pp. 321–329.
(обратно)8
Burnstein, Crandall, & Kitayama, 1994; Petrinovich, O'Neill, & Jorgensen, 1993.
(обратно)9
Petrinovich, O'Neill, & Jorgensen, 1993; Singer, 1981.
(обратно)10
Masters, 1989, pp. 207–208.
(обратно)11
Quoted in J. Muravchick, "Socialism's last stand," Commentary, March 2002, pp. 47–53, quotation from p. 51.
(обратно)12
Broadcast on Radio Free LA, January 1997, . Transcript available at or as a cached page on .
(обратно)13
Daly, Salmon, & Wilson, 1997; Mount, 1992.
(обратно)14
Johnson, Ratwik, & Sawyer, 1987; Salmon, 1998.
(обратно)15
Fiske, 1992.
(обратно)16
Fiske, 1992, p. 698.
(обратно)17
Trivers, 1974; Trivers, 1985.
(обратно)18
Agrawal, Brodie, & Brown, 2001; Godfray, 1995; Trivers, 1985.
(обратно)19
Haig, 1993.
(обратно)20
Daly & Wilson, 1988; Hrdy, 1999.
(обратно)21
Hrdy, 1999.
(обратно)22
Trivers, 1976; Trivers, 1981.
(обратно)23
Trivers, 1985.
(обратно)24
Harris, 1998a; Plomin & Daniels, 1987; Rowe, 1994; Sulloway, 1996; Turkheimer, 2000.
(обратно)25
Trivers, 1985, p. 159.
(обратно)26
Использовалось в качестве эпиграфа к книге Джудит Рич Харрис «The nurture assumption».
(обратно)27
Dunn & Plomin, 1990.
(обратно)28
Hrdy, 1999.
(обратно)29
Daly & Wilson, 1988; Wilson, 1993.
(обратно)30
Wilson, 1993.
(обратно)31
Trivers, 1972; Trivers, 1985.
(обратно)32
Blum, 1997; Buss, 1994; Geary, 1998; Ridley, 1993; Symons, 1979.
(обратно)33
Buss, 1994; Kenrick et al., 1993; Salmon & Symons, 2001; Symons, 1979.
(обратно)34
Buss, 2000.
(обратно)35
Alexander, 1987.
(обратно)36
Brown, 1991; Symons, 1979.
(обратно)37
K. Kelleher, "When students 'hook up, 'someone inevitably gets let down," Los Angeles Times, August 13, 2001.
(обратно)38
Symons, 1979.
(обратно)39
Daly, Salmon, & Wilson, 1997.
(обратно)40
Wilson & Daly, 1992.
(обратно)41
Ridley, 1997. See also Lewontin, 1990.
(обратно)42
Rose & Rose, 2000.
(обратно)43
Fiske, 1992.
(обратно)44
Axelrod, 1984; Dawkins, 1976/1989; Ridley, 1997; Trivers, 1971.
(обратно)45
Cosmides & Tooby, 1992; Frank, Gilovich, & Regan, 1993; Gigerenzer & Hug, 1992; Kanwisher & Moscovitch, 2000; Mealey, Daood, & Krage, 1996.
(обратно)46
Yinon & Dovrat, 1987.
(обратно)47
Gaulin & McBurney, 2001, pp. 329–338; Haidt, in press; Trivers, 1971, pp. 49–54.
(обратно)48
Fehr & Gächter, 2000; Gintis, 2000; Price, Cosmides, & Tooby, 2002.
(обратно)49
Ridley, 1997, p. 84.
(обратно)50
Fehr & Gächter, 2000; Gaulin & McBurney, 2001, pp. 333–335.
(обратно)51
Fehr & Gächter, 2000; Ridley, 1997.
(обратно)52
Williams, Harkins, & Latané, 1981.
(обратно)53
Klaw, 1993; McCord, 1989; Muravchik, 2002; Spann, 1989.
(обратно)54
J. Muravchik, "Socialism's last stand," Commentary, March 2002, pp. 47–53, quotation from p. 53.
(обратно)55
Fiske, 1992.
(обратно)56
Cashdan, 1989; Cosmides & Tooby, 1992; Eibl-Eibesfeldt, 1989; Fiske, 1992; Hawkes, O'Connell, & Rogers, 1997; Kaplan, Hill, & Hurtado, 1990; Ridley, 1997.
(обратно)57
Ridley, 1997, p. 111.
(обратно)58
Junger, 1997, p. 76.
(обратно)59
Cited in Williams, 1966, p. 116.
(обратно)60
Williams, 1966.
(обратно)61
Fehr, Fischbacher, & Gächter, in press; Gintis, 2000.
(обратно)62
Nunney, 1998; Reeve, 2000; Trivers, 1998; Wilson & Sober, 1994.
(обратно)63
Williams, 1988, pp. 391–392.
(обратно)64
Frank, 1988; Hirshleifer, 1987; Trivers, 1971.
(обратно)65
Hare, 1993; Lykken, 1995; Mealey, 1995.
(обратно)66
По наследуемости асоциальных черт см. Bock & Goode, 1996; Deater-Deckard & Plomin, 1999; Krueger, Hicks, & McGue, 2001; Lykken, 1995; Mealey, 1995; Rushton et al, 1986. Что касается альтруизма, одно исследование не смогло доказать, что он наследуется (Krueger, Hicks, & McGue, 2001); другое (два раза большиее количество испытуемых) показало, что оно в значительной мере наследуемо (Rushton et al, 1986).
(обратно)67
Miller, 2000b.
(обратно)68
Tooby & Cosmides, 1990.
(обратно)69
Axelrod, 1984; Dawkins, 1976/1989; Nowak, May, & Sigmund, 1995; Ridley, 1997.
(обратно)70
Dugatkin, 1992; Harpending & Sobus, 1987; Mealey, 1995; Rice, 1997.
(обратно)71
Rice, 1997.
(обратно)72
Lalumière, Harris, & Rice, 2001.
(обратно)73
M. Kakutani, "The strange case of the writer and the criminal," New York Times Book Review, September 20, 1981.
(обратно)74
S. McGraw, "Some used their second chance at life; others squandered it," The Record (Bergen County, N. J.), October 12, 1998.
(обратно)75
Rice, 1997.
(обратно)76
Trivers, 1976.
(обратно)77
Goleman, 1985; Greenwald, 1988; Krebs & Denton, 1997; Lockard & Paulhaus, 1988; Rue, 1994; Taylor, 1989; Trivers, 1985; Wright, 1994.
(обратно)78
Nesse & Lloyd, 1992.
(обратно)79
Gazzaniga, 1998.
(обратно)80
Damasio, 1994, p. 68.
(обратно)81
Babcock & Loewenstein, 1997; Rue, 1994; Taylor, 1989.
(обратно)82
Aronson, 1980; Festinger, 1957; Greenwald, 1988.
(обратно)83
Haidt, 2001.
(обратно)84
Dutton, 2001, p. 209; Fox, 1989; Hogan, 1997; Polti, 1921/1977; Storey, 1996, pp. 110, 142.
(обратно)85
Steiner, 1984, p. 1.
(обратно)86
Steiner, 1984, p. 231.
(обратно)87
Steiner, 1984, pp. 300–301.
(обратно)88
Symons, 1979, p. 271.
(обратно)89
D. Symons, в личном разговоре, July 30, 2001.
(обратно)1
Alexander, 1987; Haidt, in press; Krebs, 1998; Trivers, 1971; Wilson, 1993; Wright, 1994.
(обратно)2
Haidt, Koller, & Dias, 1993.
(обратно)3
Haidt, 2001.
(обратно)4
Haidt, in press.
(обратно)5
Shweder et al., 1997.
(обратно)6
Haidt, in press; Rozin, 1997; Rozin, Markwith, & Stoess, 1997.
(обратно)7
Glendon, 2001; Sen, 2000.
(обратно)8
Cronk, 1999; Sommers, 1998; Wilson, 1993; C. Sommers, 1998, "Why Johnny can't tell right from wrong," American Outlook, Summer 98, pp. 45–47.
(обратно)9
D. Symons, в личном разговоре, July 26, 2001.
(обратно)10
Etcoff, 1999.
(обратно)11
Glover, 1999.
(обратно)12
L. Kass, "The wisdom of repugnance," New Republic, June 2, 1997.
(обратно)13
Rozin, 1997; Rozin, Markwith, & Stoess, 1997.
(обратно)14
Tetlock, 1999; Tetlock et al., 2000.
(обратно)15
Tetlock, 1999.
(обратно)16
Tetlock et al, 2000.
(обратно)17
Hume, 1739/2000.
(обратно)18
I. Buruma, Review of Ian Kershaw's Hitler 1936–45: Nemesis, New York Times Book Review, December 10, 2000, p. 13.
(обратно)1
Haidt&Hersh, 2001; Tetlock, 1999; Tetlock et al., 2000.
(обратно)2
Haidt&Hersh, 2001; Tetlock, 1999; Tetlock et al., 2000.
(обратно)1
Из комической оперы Салливана и Гилберта «Иоланта».
(обратно)2
D. Lykken, April 11, 2001, в личном разговоре. Другие оценки наследуемости консервативных взглядов обычно ранжируются от 0,4 до 0,5: Bouchardetal., 1990; Eaves, Eysenck, &Martin, 1989; Holden, 1987; Martinetal., 1986; Plominetal., 1997, p. 206; Scarr&Weinberg, 1981.
(обратно)3
Tesser, 1993.
(обратно)4
Wilson, 1994, pp. 338–339.
(обратно)5
Masters, 1982; Masters, 1989.
(обратно)6
Dawkins, 1976/1989; Williams, 1966.
(обратно)7
Boyd & Silk, 1996; Ridley, 1997; Trivers, 1985.
(обратно)8
Sowell, 1987.
(обратно)9
Sowell, 1995b.
(обратно)10
From the preface to On the rocks: A political fantasy in two acts.
(обратно)11
Smith, 1759/1976, pp. 233–234.
(обратно)12
Burke, 1790/1967, p. 93.
(обратно)13
Quoted in E. M. Kennedy, "Tribute to Senator Robert F. Kennedy," June 8, 1968, .
(обратно)14
Hayek, 1976, pp. 64, 33.
(обратно)15
QuotedinSowell, 1995, pp. 227, 112.
(обратно)16
«Если закон так говорит — стало быть, он осел… идиот!» (из «ОливераТвиста»).
(обратно)17
Quoted in Sowell, 1995, p. 11.
(обратно)18
Hayek, 1976.
(обратно)19
Здесь видна точка соприкосновения с альтернативной теорией психологической основы расхождения правых и левых, предложенной лингвистом Джорджем Лакоффом: левые верят, что правительство должно вести себя как заботливый родитель, в то время как правые уверены, что оно должно вести себя как родитель строгий. Lakoff, 1996.
(обратно)20
See Chapter 14, and also Burnstein, Crandall, &Kitayama, 1994; Chagnon, 1992; Daly, Salmon, & Wilson, 1997; Daly & Wilson, 1988; Fox, 1984; Gaulin&McBurney, 2001, pp. 321–329; Mount, 1992; Petrinovich, O'Neill, & Jorgensen, 1993; Shoumatoff, 1985.
(обратно)21
See Chapter 14, and also Bowles &Gintis, 1999; Cosmides&Tooby, 1992; Fehr, Fischbacher, &Gächter, in press; Fehr &Gächter, 2000; Fiske, 1992; Gaulin&McBurney, 2001, pp. 333–335; Gintis, 2000; Klaw, 1993; McCord, 1989; Muravchik, 2002; Price, Cosmides, &Tooby, 2002; Ridley, 1997; Spann, 1989; Williams, Harkins, &Latané, 1981.
(обратно)22
See Chapters 3 and 17, especially the references in notes 39, 52, 53, 72, 73, and 74 in Chapter 3, and notes 42, 43, and 45 in Chapter 17.
(обратно)23
Brown, 1991; Brown, 1985; Sherif, 1966; Tajfel, 1981.
(обратно)24
See Chapters 3 and 19, and also Bouchard, 1994; Neisser et al., 1996; Plomin et al., 2001.
(обратно)25
See Chapter 14, and also Aronson, 1980; Festinger, 1957; Gazzaniga, 1998; Greenwald, 1988; Nesse& Lloyd, 1992; Wright, 1994.
(обратно)26
See Chapter 15, and also Haidt, in press; Haidt, Koller, & Dias, 1993; Petrinovich, O'Neill, & Jorgensen, 1993; Rozin, Markwith, &Stoess, 1997; Shweder et al., 1997; Singer, 1981; Tetlock, 1999; Tetlock et al., 2000.
(обратно)27
Sowell, 1987.
(обратно)28
Marx & Engels, 1844/1988.
(обратно)29
Quoted in Singer, 1999, p. 4.
(обратно)30
Bullock, 1991; Chirot, 1994; Conquest, 2000; Courtois et al., 1999; Glover, 1999.
(обратно)31
Quoted in J. Getlin, "Natural wonder: At heart, Edward Wilson's an ant man," Los Angeles Times, October 21, 1994, p. El.
(обратно)32
Federalist Papers No. 51, Rossiter, 1961, p. 322.
(обратно)33
Bailyn, 1967/1992; Maier, 1997.
(обратно)34
Lutz, 1984.
(обратно)35
McGinnis, 1996; McGinnis, 1997.
(обратно)36
Federalist Papers No. 10, Rossiter, 1961, p. 78.
(обратно)37
Quoted in McGinnis, 1997, p. 236.
(обратно)38
Federalist Papers No. 72, Rossiter, 1961, p. 437.
(обратно)39
Federalist Papers No. 51, Rossiter, 1961, p. 322.
(обратно)40
Federalist Papers No. 51, Rossiter, 1961, pp. 331–332.
(обратно)41
From Helvedius No. 4, quoted in McGinnis, 1997, p. 130.
(обратно)42
Boehm, 1999; de Waal, 1998; Dunbar, 1998.
(обратно)43
Singer, 1999, p. 5.
(обратно)44
L. Arnhart, M. J. Behe, & W. A. Dembski, "Conservatives, Darwin, and design: An exchange," First Things, 107, November 2000, pp. 23–31.
(обратно)45
For arguments similar to Singer's, see Brociner, 2001.
(обратно)46
Singer, 1999, p. 6.
(обратно)47
Singer, 1999, pp. 8–9.
(обратно)48
Chomsky, 1970, p. 22.
(обратно)49
See Barsky, 1997; Chomsky, 1988a.
(обратно)50
Chomsky, 1975, p. 131.
(обратно)51
Trivers, 1981.
(обратно)52
A. Wooldridge, "Bell Curve liberals," New Republic, February 27, 1995.
(обратно)53
Herrnstein & Murray, 1994, chap. 22. See also Murray's afterword in the 1996 paperback edition.
(обратно)54
Gigerenzer&Selten, 2001; Jones, 2001; Kahneman&Tversky, 1984; Thaler, 1994; Tversky&Kahneman, 1974.
(обратно)55
Akerlof, 1984; Daly & Wilson, 1994; Jones, 2001; Rogers, 1994.
(обратно)56
Frank, 1999; Frank, 1985.
(обратно)57
Bowles &Gintis, 1998; Bowles &Gintis, 1999.
(обратно)58
Gintis, 2000.
(обратно)59
Wilkinson, 2000.
(обратно)60
Daly & Wilson, 1988; Daly, Wilson, &Vasdev, 2001; Wilson & Daly, 1997.
(обратно)1
Quoted by R. Cooper in "The long peace," Prospect, April 1999.
(обратно)2
National Defense Council Foundation, Alexandria, Va., .
(обратно)3
Bamforth, 1994; Chagnon, 1996; Daly & Wilson, 1988; Ember, 1978; Ghiglieri, 1999; Gibbons, 1997; Keeley, 1996; Kingdon, 1993; Knauft, 1987; Krech, 1994; Krech, 1999; Wrangham& Peterson, 1996.
(обратно)4
Keeley, 1996; Walker, 2001.
(обратно)5
Gibbons, 1997; Holden, 2000.
(обратно)6
Fernández-Jalvo et al., 1996.
(обратно)7
FBI Uniform Crime Reports 1999: .
(обратно)8
Seville, 1990.
(обратно)9
Ortega y Gasset, 1932/1985, epilogue.
(обратно)10
New York Times, June 13, 1999.
(обратно)11
Paul Billings, quoted in B. H. Kevles& D. J. Kevles, "Scapegoat biology," Discover, October 1997, pp. 59–62, quotation from p. 62.
(обратно)12
B. H. Kevles& D. J. Kevles, "Scapegoat biology," Discover, October 1997, pp. 59–62, quotation from p. 62.
(обратно)13
Daphne White, quoted in M. Wilkinson, "Parent group lists 'dirty dozen' toys," Boston Globe, December 5, 2000, p. A5.
(обратно)14
H. Spivak& D. Prothrow-Stith, "The next tragedy of Jonesboro," Boston Globe, April 5, 1998.
(обратно)15
C. Burrell, "Study of inmates cites abuse factor," Associated Press, April 27, 1998.
(обратно)16
G. Kane, "Violence as a cultural imperative," Boston Sunday Globe, October 6, 1996.
(обратно)17
Quoted in A. Flint, "Some see bombing's roots in a US culture of conflict," Boston Globe, June 1, 1995.
(обратно)18
A. Flint, "Some see bombing's roots in a US culture of conflict," Boston Globe, June 1, 1995.
(обратно)19
M. Zuckoff, "More murders, more debate," Boston Globe, July 31, 1999.
(обратно)20
A. Diamant, "What's the matter with men?" Boston Globe Magazine, March 14, 1993.
(обратно)21
Mesquida& Wiener, 1996.
(обратно)22
Freedman, 2002.
(обратно)23
Fischoff, 1999; Freedman, 1984; Freedman, 1996; Freedman, 2002; Renfrew, 1997.
(обратно)24
Charlton, 1997.
(обратно)25
J. Q. Wilson, "Hostility in America," New Republic, August 25, 1997, pp. 38–41.
(обратно)26
Nisbett& Cohen, 1996.
(обратно)27
E. Marshal, "The shots heard 'round the world," Science, 289, 2000, pp. 570–574.
(обратно)28
Wakefield, 1992.
(обратно)29
M. Enserink, "Searching for the mark of Cain," Science, 289, 2000, pp. 575–579; quotation from p. 579.
(обратно)30
Clark, 1970, p. 220.
(обратно)31
Daly & Wilson, 1988, p. be.
(обратно)32
Shipman, 1994, p. 252.
(обратно)33
E. Marshal, "A sinister plot or victim of politics?" Science, 289, 2000, p. 571.
(обратно)34
Shipman, 1994, p. 243.
(обратно)35
Quoted in R. Wright, "The biology of violence," New Yorker, March 13, 1995, pp. 68–77; quotation from p. 69.
(обратно)36
Daly & Wilson, 1988.
(обратно)37
Daly & Wilson, 1988; Rogers, 1994; Wilson & Herrnstein, 1985.
(обратно)38
Quoted by Frederick Goodwin in R. Wright, "The biology of violence," New Yorker, March 13, 1995, p. 70.
(обратно)39
C. Holden, "The violence of the lambs," Science, 289, 2000, pp. 580–581.
(обратно)40
Hare, 1993; Lykken, 1995; Rice, 1997.
(обратно)41
Ghiglieri, 1999; Wrangham& Peterson, 1996.
(обратно)42
Davidson, Putnam, & Larson, 2000; Renfrew, 1997.
(обратно)43
Geary, 1998, pp. 226–227; Sherif, 1966.
(обратно)44
R. Tremblay, quoted in C. Holden, "The violence of the lambs," Science, 289, 2000, pp. 580–581.
(обратно)45
Buss &Duntley, in press; Kenrick& Sheets, 1994.
(обратно)46
Hobbes, 1651/1957, p. 185.
(обратно)47
Dawkins, 1976/1989, p. 66.
(обратно)48
Bueno de Mesquita, 1981.
(обратно)49
Trivers, 1972.
(обратно)50
Chagnon, 1992; Daly & Wilson, 1988; Keeley, 1996.
(обратно)51
Daly & Wilson, 1988, p. 163.
(обратно)52
Rogers, 1994; Wilson & Daly, 1997.
(обратно)53
Wilson & Herrnstein, 1985.
(обратно)54
Mesquida& Wiener, 1996.
(обратно)55
Singer, 1981.
(обратно)56
Wright, 2000.
(обратно)57
Glover, 1999.
(обратно)58
Zimbardo, Maslach, & Haney, 2000.
(обратно)59
Quoted in Glover, 1999, p. 53.
(обратно)60
Quoted in Glover, 1999, pp. 37–38.
(обратно)61
Bourke, 1999, pp. 63–64; Graves, 1992; Spiller, 1988.
(обратно)62
Bourke, 1999; Glover, 1999; Horowitz, 2001.
(обратно)63
Daly & Wilson, 1988; Glover, 1999; Schelling, 1960.
(обратно)64
Chagnon, 1992; Daly & Wilson, 1988; Wrangham& Peterson, 1996.
(обратно)65
Van den Berghe, 1981.
(обратно)66
Epstein, 1994; Epstein & Axtell, 1996; Richardson, 1960; Saperstein, 1995.
(обратно)67
Chagnon, 1988; Chagnon, 1992.
(обратно)68
Glover, 1999.
(обратно)69
Vasquez, 1992.
(обратно)70
Rosen, 1992.
(обратно)71
Wrangham, 1999.
(обратно)72
Daly & Wilson, 1988.
(обратно)73
Daly & Wilson, 1988, pp. 225–226.
(обратно)74
Daly & Wilson, 1988; Frank, 1988; Schelling, 1960.
(обратно)75
Brown, 1985; Horowitz, 2001.
(обратно)76
Daly & Wilson, 1988.
(обратно)77
Daly & Wilson, 1988; Fox &Zawitz, 2000; Nisbett& Cohen, 1996.
(обратно)78
Daly & Wilson, 1988, p. 127.
(обратно)79
Daly & Wilson, 1988, p. 229.
(обратно)80
Chagnon, 1992; Daly & Wilson, 1988; Frank, 1988.
(обратно)81
Nisbett& Cohen, 1996.
(обратно)82
Nisbett&Cohen, 1996.
(обратно)83
E. Anderson, "The code of the streets," Atlantic Monthly, May 1994, pp. 81–94.
(обратно)84
See also Patterson, 1997.
(обратно)85
E. Anderson, "The code of the streets," Atlantic Monthly, May 1994, pp. 81–94, quotation from p. 82.
(обратно)86
Quoted in L. Helmuth, "Has America's tide of violence receded for good?" Science, 289, 2000, pp. 582–585, quotation from p. 582.
(обратно)87
L. Helmuth, "Has America's tide of violence receded for good?" Science, 289, 2000, pp. 582–585, quotation from p. 583.
(обратно)88
Wilkinson, 2000; Wilson & Daly, 1997.
(обратно)89
Harris, 1998a, pp. 212–213.
(обратно)90
Hobbes, 1651/1957, p. 190.
(обратно)91
Hobbes, 1651/1957, p. 223.
(обратно)92
Fry, 2000.
(обратно)93
Daly & Wilson, 1988; Keeley, 1996.
(обратно)94
Daly & Wilson, 1988; Nisbett & Cohen, 1996.
(обратно)95
Daly & Wilson, 1988.
(обратно)96
Daly & Wilson, 1988.
(обратно)97
Wilson & Herrnstein, 1985.
(обратно)98
L. Helmuth, "Has America's tide of violence receded for good?" Science, 289, 2000; Kelling& Sousa, 2001.
(обратно)99
Time, October 17, 1969, p. 47.
(обратно)100
Kennedy, 1997.
(обратно)101
National Defense Council Foundation, Alexandria, Va., .
(обратно)102
Quoted by Glover, 1999, p. 227.
(обратно)103
Horowitz, 2001; Keegan, 1976.
(обратно)104
C. Nickerson, "Canadians remain gun-shy of Americans," Boston Globe, February 11, 2001.
(обратно)105
Quoted in Wright, 2000, p. 61.
(обратно)106
Chagnon, 1988; Chagnon, 1992.
(обратно)107
Axelrod, 1984.
(обратно)108
Glover, 1999, p. 159.
(обратно)109
Glover, 1999, p. 202.
(обратно)110
Axelrod, 1984; Ridley, 1997.
(обратно)111
Glover, 1999, pp. 231–232.
(обратно)112
M. J. Wilkinson, в личном разговоре, October 29, 2001; Wilkinson, in press.
(обратно)113
See Chapters 3 and 13, and also Fodor & Pylyshyn, 1988; Miller, Galanter, & Pribram, 1960; Pinker, 1997, chap. 2; Pinker, 1999, chap. 1.
(обратно)1
Jaggar, 1983.
(обратно)2
Quoted in Jaggar, 1983, p. 27.
(обратно)3
J. N. Wilford, "Sexes equal on South Sea isle," New York Times, March 29, 1994.
(обратно)4
L. Tye, "Girls appear to be closing aggression gap with boys," Boston Globe, March 26, 1998.
(обратно)5
M. Zoll, "What about the boys?" Boston Globe, April 23, 1998.
(обратно)6
Quoted in Young, 1999, p. 247.
(обратно)7
Crittenden, 1999; Shalit, 1999.
(обратно)8
L. Kass, "The end of courtship," Public Interest, 126, Winter 1997.
(обратно)9
Patai, 1998.
(обратно)10
Grant, 1993; Jaggar, 1983; Tong, 1998.
(обратно)11
Sommers, 1994. See also Jaggar, 1983.
(обратно)12
Quoted in Sommers, 1994, p. 22.
(обратно)13
Gilligan, 1982.
(обратно)14
Jaffe & Hyde, 2000; Sommers, 1994, chap. 7; Walker, 1984.
(обратно)15
Belenky et al., 1986.
(обратно)16
Denfeld, 1995; Kaminer, 1990; Lehrman, 1997; McElroy, 1996; Paglia, 1992; Patai, 1998; Patai&Koertge, 1994; Sommers, 1994; Taylor, 1992; Young, 1999.
(обратно)17
Sommers, 1994.
(обратно)18
Denfeld, 1995; Lehrman, 1997; Roiphe, 1993; Walker, 1995.
(обратно)19
S. Boxer, "One casualty of the women's movement: Feminism," New York Times, December 14, 1997.
(обратно)20
C. Paglia, "Crying wolf," Salon, February 7, 2001.
(обратно)21
Patai, 1998; Sommers, 1994.
(обратно)22
Trivers, 1976; Trivers, 1981; Trivers, 1985.
(обратно)23
Trivers& Willard, 1973.
(обратно)24
Jensen, 1998, chap. 13.
(обратно)25
Blum, 1997; Eagly, 1995; Geary, 1998; Halpern, 2000; Kimura, 1999.
(обратно)26
Salmon & Symons, 2001; Symons, 1979.
(обратно)27
Daly & Wilson, 1988. Surgery anecdote from Barry, 1995.
(обратно)28
Geary, 1998; Maccoby&Jacklin, 1987.
(обратно)29
Geary, 1998; Halpern, 2000; Kimura, 1999.
(обратно)30
Blum, 1997; Geary, 1998; Halpern, 2000; Hedges &Nowell, 1995; Lubinski&Benbow, 1992.
(обратно)31
Hedges &Nowell, 1995; Lubinski& Ben-bow, 1992.
(обратно)32
Blum, 1997; Geary, 1998; Halpern, 2000; Kimura, 1999.
(обратно)33
Blum, 1997; Geary, 1998; Halpern, 2000; Kimura, 1999.
(обратно)34
Provine, 1993.
(обратно)35
Hrdy, 1999.
(обратно)36
Fausto-Sterling, 1985, pp. 152–153.
(обратно)37
Brown, 1991.
(обратно)38
Buss, 1999; Geary, 1998; Ridley, 1993; Symons, 1979; Trivers, 1972.
(обратно)39
Daly & Wilson, 1983; Geary, 1998; Hauser, 2000.
(обратно)40
Geary, 1998; Silverman &Eals, 1992.
(обратно)41
Gibbons, 2000.
(обратно)42
Blum, 1997; Geary, 1998; Halpern, 2000; Kimura, 1999.
(обратно)43
Blum, 1997; Geary, 1998; Gur&Gur, in press; Gur et al., 1999; Halpern, 2000; Jensen, 1998; Kimura, 1999; Neisser et al., 1996.
(обратно)44
Dabbs&Dabbs, 2000; Geary, 1998; Halpern, 2000; Kimura, 1999; Sapolsky, 1997.
(обратно)45
A. Sullivan, "Testosterone power," Women's Quarterly, Summer 2000.
(обратно)46
Kimura, 1999.
(обратно)47
Blum, 1997; Gangestad&Thornhill, 1998.
(обратно)48
Blum, 1997; Geary, 1998; Halpern, 2000; Kimura, 1999.
(обратно)49
Symons, 1979, chap. 9.
(обратно)50
Reiner, 2000.
(обратно)51
QuotedinHalpern, 2000, p. 9.
(обратно)52
QuotedinColapinto, 2000.
(обратно)53
Colapinto, 2000; Diamond&Sigmundson, 1997.
(обратно)54
Skuseetal, 1997.
(обратно)55
Barkley et al., 1977; Harris, 1998a; Lytton & Romney, 1991; Maccoby&Jacklin, 1987.
(обратно)56
B. Friedan, "The future of feminism," Free Inquiry, Summer 1999.
(обратно)57
"Land of plenty: Diversity as America's competitive edge in science, engineering, and technology," Report of the Congressional Commission on the Advancement of Women and Minorities in Science, Engineering, and Technology Development, September 2000.
(обратно)58
J. Alper, "The pipeline is leaking women all the way along," Science, 260, April 16, 1993; J. Mervis, "Efforts to boost diversity face persistent problems," Science, 284, June 11, 1999; J. Mervis, "Diversity: Easier said than done," Science, 289, March 16, 2000; J. Mervis, "NSF searches for right way to help women," Science, 289, July 21, 2000; J. Mervis, "Gender equity: NSF program targets institutional change," Science, 291, July 21, 2001.
(обратно)59
J. Mervis, "Efforts to boost diversity face persistent problems," Science, 284, June 11, 1999, p. 1757.
(обратно)60
P. Healy, "Faculty shortage: Women in sciences," Boston Globe, January 31, 2001.
(обратно)61
C. Holden, "Parity as a goal sparks bitter battle," Science, 289, July 21, 2000, p. 380.
(обратно)62
QuotedinYoung, 1999, pp. 22, 34–35.
(обратно)63
Estrich, 2000; Furchtgott-Roth &Stolba, 1999; Goldin, 1990; Gottfredson, 1988; Haus-man, 1999; Kleinfeld, 1999; Lehrman, 1997; Lubinski&Benbow, 1992; Roback, 1993; Schwartz, 1992; Young, 1999.
(обратно)64
Browne, 1998; Furchtgott-Roth &Stolba, 1999; Goldin, 1990.
(обратно)65
В случайной выборке из 100 членов Международной ассоциации по изучению языка у детей я насчитал 75 женщин и 25 мужчин. Стэнфордский форум изучения языка у детей на своем сайте (csli.stanford.edu/~clrf/history.html) выложил список 18 ключевых спикеров: 15 женщин и трое мужчин.
(обратно)66
Browne, 1998; Furchtgott-Roth &Stolba, 1999; Goldin, 1990; Gottfredson, 1988; Kleinfeld, 1999; Roback, 1993; Young, 1999.
(обратно)67
Lubinski&Benbow, 1992.
(обратно)68
See Browne, 1998, and the references in note 63.
(обратно)69
Buss, 1992; Ellis, 1992.
(обратно)70
Hrdy, 1999.
(обратно)71
Browne, 1998; Hrdy, 1999.
(обратно)72
Roback, 1993.
(обратно)73
Becker, 1991.
(обратно)74
Furchtgott-Roth &Stolba, 1999.
(обратно)75
Quoted in C. Young, "Sex and science," Salon, April 12, 2001.
(обратно)76
Quoted in C. Holden, "Parity as a goal sparks bitter battle," Science, 289, July 21, 2000.
(обратно)77
Quoted in C. Holden, "Parity as a goal sparks bitter battle," Science, 289, July 21, 2000.
(обратно)78
Kleinfeld, 1999.
(обратно)79
National Science Foundation, Women, Minorities, and Persons with Disabilities in Science and Engineering: 1998, .
(обратно)80
Thornhill& Palmer, 2000.
(обратно)81
"Report on the situation of human rights in the territory of the former Yugoslavia," 1993. United Nations Document E/CN.4/1993/50.
(обратно)82
J. E. Beals, "Ending the silence on sexual violence," Boston Globe, April 10, 2000.
(обратно)83
R. Haynor, "Violence against women," Boston Globe, October 22, 2000.
(обратно)84
Brownmiller, 1975, p. 14.
(обратно)85
Young, 1999, p. 139.
(обратно)86
McElroy, 1996.
(обратно)87
McElroy, 1996.
(обратно)88
Thiessen& Young, 1994.
(обратно)89
Dworkin, 1993.
(обратно)90
J. Tooby& L. Cosmides, "Reply to Jerry Coyne," .
(обратно)91
Gordon &Riger, 1991, p. 47.
(обратно)92
Rose & Rose, 2000, p. 139.
(обратно)93
M. Wertheim, "Born to rape?" Salon, February 29, 2000.
(обратно)94
G. Miller, "Why men rape," Evening Standard, March 6, 2000, p. 53.
(обратно)95
Symons, 1979; Thornhill& Palmer, 2000.
(обратно)96
Jones, 1999. See also Check &Malamuth, 1985; Ellis & Beattie, 1983; Symons, 1979; Thornhill& Palmer, 2000.
(обратно)97
Gottschall&Gottschall, 2001.
(обратно)98
Jones, 1999, p. 890.
(обратно)99
Bureau of Justice Statistics, .
(обратно)100
Quoted in A. Humphreys, "Lawyers may use genetics study in rape defense," National Post (Canada), January 22, 2000, p.A8.
(обратно)101
Quoted in Jones, 1999.
(обратно)102
Paglia, 1990, pp. 51, 57.
(обратно)103
McElroy, 1996.
(обратно)104
J. Phillips, "Exploring inside to live on the outside," Boston Globe, March 21, 1999.
(обратно)105
S. Satel, "The patriarchy made me do it," Women's Freedom Newsletter, 5, September/October 1998.
(обратно)1
Turkheimer, 2000.
(обратно)2
Goldberg, 1968; Janda, 1998; Neisser et al., 1996.
(обратно)3
Jensen, 1971.
(обратно)4
Plomin et al., 2001.
(обратно)5
Bouchard, 1994; Bouchard et al., 1990; Bouchard, 1998; Loehlin, 1992; Plomin, 1994; Plomin et al., 2001.
(обратно)6
Plomin et al., 2001.
(обратно)7
McLearn et al, 1997; Plomin, Owen, & McGuffin, 1994.
(обратно)8
Bouchard, 1994; Bouchard et al., 1990; Bouchard, 1998; Loehlin, 1992; Lykken et al., 1992; Plomin, 1990; Plomin, 1994; Stromswold, 1998.
(обратно)9
Plomin et al., 2001.
(обратно)10
Bouchard et al., 1990; Plomin, 1991; Plomin, 1994; Plomin & Daniels, 1987.
(обратно)11
Bouchard et al, 1990; Pedersen et al., 1992.
(обратно)12
Bouchard et al., 1990; Bouchard, 1998.
(обратно)13
Scarr & Carter-Saltzman, 1979.
(обратно)14
Loehlin & Nichols, 1976.
(обратно)15
Bouchard, 1998; Gutknecht, Spitz, & Carlier, 1999.
(обратно)16
McGue, 1997.
(обратно)17
Etcoff, 1999; Persico, Postlewaite, & Silverman, 2001.
(обратно)18
Jackson & Huston, 1975.
(обратно)19
Bouchard, 1994; Bouchard et al., 1990.
(обратно)20
Kamin, 1974; Lewontin, Rose, & Kamin, 1984, p. 116.
(обратно)21
Neisser et al, 1996; Snyderman & Roth-man, 1988.
(обратно)22
Hunt, 1999, pp. 50–51.
(обратно)23
Plomin & Daniels, 1987; Plomin et al., 2001.
(обратно)24
Bouchard, 1994; Harris, 1998a; Plomin & Daniels, 1987; Rowe, 1994; Turkheimer & Wal-dron, 2000. Пример невоспроизводимого открытия — недавнее заявление Krueger, Hicks, & McGue, 2001, что на альтруизм влияет общее окружение, что противоречит исследованию, проведенному Rushton et al., 1986, в котором использовались схожие методы и большая выборка.
(обратно)25
Stoolmiller, 2000.
(обратно)26
Bouchard et al., 1990; Plomin & Daniels, 1987; Reiss et al., 2000; Rowe, 1994.
(обратно)27
Plomin, 1991; Plomin & Daniels, 1987, p. 6; Plomin et al., 2001.
(обратно)28
Bouchard, 1994; Plomin & Daniels, 1987; Rowe, 1994; Turkheimer, 2000; Turkheimer & Waldron, 2000.
(обратно)29
Schütze, 1987.
(обратно)30
B. Singer, "How to raise a perfect child…," Boston Globe Magazine, March 26, 2000, pp. 12–36.
(обратно)31
D. Barry, "Is your kid's new best friend named 'Bessie'? Be very afraid," Miami Herald, October 31, 1999.
(обратно)32
Harris, 1998a, chap. 2; Lytton, 1990.
(обратно)33
Harris, 1998a, chap. 4; Harris, 2000b.
(обратно)34
Harris, 1998a, pp. 319–320, 323.
(обратно)35
Harris, 1998a; Harris, 1998b; Harris, 2000a; Harris, 2000b.
(обратно)36
Harris, 1998a, chaps. 2, 3; Maccoby & Martin, 1983.
(обратно)37
Harris, 1998a, pp. 300–311.
(обратно)38
Bruer, 1999, p. 5.
(обратно)39
Chabris, 1999.
(обратно)40
T. B. Brazelton, "To curb teenage smoking, nurture children in their earliest years," Boston Globe, May 21, 1998.
(обратно)41
Bruer, 1999.
(обратно)42
Collins et al., 2000; Vandell, 2000.
(обратно)43
Harris, 1995; Harris, 1998b; Harris, 2000b; Loehlin, 2001; Rowe, 2001.
(обратно)44
Plomin, DeFries, & Fulker, 1988; Reiss et al., 2000; Turkheimer & Waldron, 2000.
(обратно)45
D. Reiss, quoted in A. M. Paul, "Kid stuff: Do parents really matter?" Psychology Today, January/February 1998, pp. 46–49, 78.
(обратно)46
Sulloway, 1996.
(обратно)47
Sulloway, 1995.
(обратно)48
Harris, 1998a, appendix 1; Harris, in press.
(обратно)49
Hrdy, 1999.
(обратно)50
Dunphy, 1963.
(обратно)51
Pinker, 1994, chaps. 2, 9.
(обратно)52
Kosof, 1996.
(обратно)53
Harris, 1998a, chaps. 9, 12, 13.
(обратно)54
Harris, 1998a, p. 264.
(обратно)55
Harris, 1998a, chap. 13; Rowe, 1994; Rutter, 1997.
(обратно)56
Gottfredson & Hirschi, 1990; Harris, 1998a, chap. 13.
(обратно)57
Harris, 1998a, chap. 8.
(обратно)58
M. Wertheim, "Mindfield" (Review of S. Pinker's How the mind works), The Australian's Review of Books, 1998.
(обратно)59
O. James, "It's a free market on the nature of nurture," The Independent, October 20, 1998.
(обратно)60
. See also Anheuser-Busch's .
(обратно)61
J. Leo, "Parenting without a care," US News and World Report, September 21, 1998.
(обратно)62
Quoted in J. Leo, "Parenting without a care," US News and World Report, September 21, 1998.
(обратно)63
S. Begley, "The parent trap," Newsweek, September 7, 1998, p. 54.
(обратно)64
S. Begley, "The parent trap," Newsweek, September 7, 1998, p. 54.
(обратно)65
J. Kagan, "A parent's influence is peerless," Boston Globe, September 13, 1998, p. E3.
(обратно)66
Harris, 1998b; Harris, 2000a; Harris, 2000b; Loehlin, 2001; Rowe, 2001.
(обратно)67
See also Miller, 1997.
(обратно)68
Austad, 2000; Finch & Kirkwood, 2000.
(обратно)69
Hartman, Garvik, & Hartwell, 2001; Waddington, 1957.
(обратно)70
Harris, 1998a, pp. 78–79.
(обратно)71
Quoted in B. M. Rubin, "Raising a ruckus being a parent is difficult, but is it necessary?" Chicago Tribune, August 31, 1998.
(обратно)72
Harris, 1998a, p. 291.
(обратно)73
Harris, 1998a, p. 342.
(обратно)1
R. Brustein, "The decline of high culture," New Republic, November 3, 1997.
(обратно)2
A. Kernan, Yale University Press, 1992.
(обратно)3
A. Delbanco, New York Review of Books, November 4, 1999.
(обратно)4
R. Brustein, New Republic, November 3, 1997.
(обратно)5
Conference at the Stanford University Humanities Center, April 23, 1999.
(обратно)6
G. Steiner, PN Review, 25, March — April 1999.
(обратно)7
J. Engell & A. Dangerfield, Harvard Magazine, May — June 1998, pp. 48–55, 111.
(обратно)8
A. Louch, Philosophy and Literature, 22, April 1998, pp. 231–241.
(обратно)9
C. Woodring, Columbia University Press, 1999.
(обратно)10
J. M. Ellis, Yale University Press, 1997.
(обратно)11
G. Wheatcroft, Prospect, August/September 1998.
(обратно)12
R. E. Scholes, Yale University Press, 1998.
(обратно)13
A. Kernan (Ed.), Princeton University Press, 1997.
(обратно)14
C. P. Freund, Reason, March 1998, pp. 33–38.
(обратно)15
Quoted in Cowen, 1998, pp. 9–10.
(обратно)16
J. Engell & A. Dangerfield, "Humanities in the age of money," Harvard Magazine, May — June 1998, pp. 48–55, 111.
(обратно)17
J. Engell & A. Dangerfield, "Humanities in the age of money," Harvard Magazine, May — June 1998, pp. 48–55, 111.
(обратно)18
Cowen, 1998; Ν. Gillespie, "All culture, all the time," Reason, April 1999, pp. 24–35.
(обратно)19
Cowen, 1998.
(обратно)20
Quoted in Cowen, 1998, p. 188.
(обратно)21
Cowen, 1998.
(обратно)22
Actually, "human character changed," from her essay "Mr. Bennett and Mrs. Brown".
(обратно)23
Crick, 1994; Gardner, 1983; Peretz, Gagnon, & Bouchard, 1998.
(обратно)24
Miller, 2000a.
(обратно)25
Dutton, 2001.
(обратно)26
Dissanayake, 1992; Dissanayake, 2000.
(обратно)27
Pinker, 1997, chap. 8.
(обратно)28
Marr, 1982; Pinker, 1997, chap. 8; Ramachandran & Hirstein, 1999; Shepard, 1990. See also Gombrich, 1982/1995; Miller, 2001.
(обратно)29
Pinker, 1997, chap. 8.
(обратно)30
Kaplan, 1992; Orians, 1998; Orians & Heerwgen, 1992; Wilson, 1984.
(обратно)31
Wilson, 1984.
(обратно)32
Etcoff, 1999; Symons, 1995; Thornhill, 1998.
(обратно)33
Tooby & DeVore, 1987.
(обратно)34
Abbott, 2001; Pinker, 1997.
(обратно)35
35 Dissanayake, 1998.
(обратно)36
Dissanayake, 1992.
(обратно)37
Frank, 1999; Veblen, 1899/1994.
(обратно)38
Zahavi & Zahavi, 1997.
(обратно)39
Miller, 2000a, p. 270.
(обратно)40
Bell, 1992; Wolfe, 1975; Wolfe, 1981.
(обратно)41
Bourdieu, 1984.
(обратно)42
From his 1757 essay "Of the standard of taste," quoted in Dutton, 2001, p. 206.
(обратно)43
Dutton, 2001, p. 213.
(обратно)44
Dutton, 1998; Komar, Melamid, & Wypijewski, 1997.
(обратно)45
Dissanayake, 1998.
(обратно)46
Dutton, 1998.
(обратно)47
Lingua Franca, 2000.
(обратно)48
Turner, 1997, pp. 170, 174–175.
(обратно)49
Etcoff, 1999; Kaplan, 1992; Orians & Heerwgen, 1992.
(обратно)50
Leslie, 1994; Schellenberg & Trehub, 1996; Storey, 1996; Zentner & Kagan, 1996.
(обратно)51
Martindale, 1990.
(обратно)52
Steiner, 2001.
(обратно)53
Quoted in Dutton, 2000.
(обратно)54
C. Darwent, "Art of staying pretty," New Statesman, February 13, 2000.
(обратно)55
Steiner, 2001.
(обратно)56
Bell, 1992.
(обратно)57
The Onion, 36, September 21–27, 2000, p. 1.
(обратно)58
Wolfe, 1975, pp. 2–4.
(обратно)59
J. Miller, "Is bad writing necessary? George Orwell, Theodor Adorno, and the politics of language," Lingua Franca, December/January, 2000.
(обратно)60
.
(обратно)61
Steiner, 1967, preface.
(обратно)62
New York Times, September 19, 2001.
(обратно)63
Работа "Gnaw" скульптора Жанин Антони; G. Beauchamp, "Dissing the middle class: The view from Burns Park," American Scholar, Summer 1995, pp. 335–349.
(обратно)64
K. Limaye, "Adieu to the Avant-Garde," Reason, July 1997.
(обратно)65
K. Limaye, "Adieu to the Avant-Garde," Reason, July 1997.
(обратно)66
C. Darwent, "Art of staying pretty," New Statesman, February 13, 2000; C. Lambert, "The stirring of sleeping beauty," Harvard Magazine, September — October 1999, pp. 46–53; K. Limaye, "Adieu to the Avant-Garde," Reason, July 1997; A. Delbanco, "The decline and fall of literature," New York Review of Books, November 4, 1999; Perloff, 1999; Turner, 1985; Turner, 1995.
(обратно)67
Abbott, 2001; Boyd, 1998; Carroll, 1995; Dutton, 2001; Easterlin, Riebling, & Crews, 1993; Evans, 1998; Gottschall & Jobling, in preparation; Hernadi, 2001; Hogan, 1997; Steiner, 2001; Turner, 1985; Turner, 1995; Turner, 1996.
(обратно)68
Goguen, 1999; Gombrich, 1982/1995; Kubovy, 1986.
(обратно)69
Aiello & Sloboda, 1994; Lerdahl & Jackendoff, 1983.
(обратно)70
Keyser, 1999; Keyser & Halle, 1998; Turner, 1991; Turner, 1996; Williams, 1990.
(обратно)71
Keyser, 1999; Keyser & Halle, 1998; Turner, 1991; Turner, 1996; Williams, 1990.
(обратно)72
Abbott, 2001.
(обратно)73
A. Quart, "David Bordwell blows the whistle on film studies," Lingua Franca, March 2000, pp. 35–43.
(обратно)74
Abbott, 2001; Aiken, 1998; Cooke & Turner, 1999; Dissanayake, 1992; Etcoff, 1999; Kaplan, 1992; Orians & Heerwgen, 1992; Thornhill, 1998.
(обратно)75
Teuber, 1997.
(обратно)76
Behrens, 1998.
(обратно)77
Quoted in Storey, 1996, p. 182.
(обратно)78
A. S. Byatt, "Narrate or die," New York Times Magazine, April 18, 1999, pp. 105–107.
(обратно)79
John Updike, "The tried and the trēowe," Forbes ASAP, October 2, 2000, pp. 201, 215.
(обратно)80
Storey, 1996, p. 114.
(обратно)1
Degler, 1991, p. 135.
(обратно)2
Dickinson, 1976.
(обратно)3
Vonnegut, 1968/1998.
(обратно)4
Orwell, 1949/1983, p.205.
(обратно)5
For example, Gould, 1981; Lewontin, Rose, & Kamin, 1984, pp. ix-x.
(обратно)6
Orwell, 1949/1983, p.217.
(обратно)7
Orwell, 1949/1983, p.220.
(обратно)8
Orwell, 1949/1983, p.220.
(обратно)9
Orwell, 1949/1983, p. 222.
(обратно)10
Twain, 1884/1983, pp.293–295.
(обратно)11
Twain, 1884/1983, p. 295.
(обратно)12
Twain, 1884/1983, pp. 330–331.
(обратно)13
Twain, 1884/1983, p. 332.
(обратно)14
Twain, 1884/1983, p. 339.
(обратно)15
Singer, 1972.
(обратно)16
Singer, 1972, pp. 68–78. Диалог взят в сокращенном виде из текста книги и из кинофильма.
(обратно)






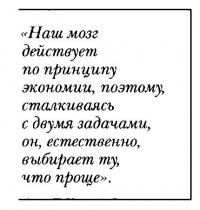




Комментарии к книге «Чистый лист: Природа человека. Кто и почему отказывается признавать её сегодня», Стивен Пинкер
Всего 0 комментариев