Описательная психология
В.Дильтей - выдающийся немецкий историк культуры, философ и психолог. Он является основателем т.н. `описательной психологии`, в основе которой лежит метод `понимания` как непосредственного постижения духовной целостности. `Описательная психология` оказалабольшое влияние на ведущих представителей различных психологических школ XX века. Книга предназначена для широкого круга читателей.
Вильгельм Дильтей
ГЛАВА ПЕРВАЯ МЫСЛИ ОБ ОПИСАТЕЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Задача психологического обоснования наук о духе
Объяснительная психология, привлекающая к себе в настоящее время столь значительную долю внимания и труда, устанавливает систему причинной связи, предъявляющую притязание на то, чтобы сделать понятными все явления душевной жизни. Она хочет объяснить уклад душевного мира, с его составными частями, силами и законами, точно так, как химия или физика объясняют строение мира телесного. Особенно яркими представителями этой объяснительной психологии являются сторонники психологии ассоциативной, Гербарт, Спенсер, Тэн, выразители различных форм материализма. Различие между науками объяснительными и описательными, на котором мы здесь основываемся, соответствует обычному словоупотреблению. Под объяснительной наукой следует разуметь всякое подчинение какой-либо области явлений причинной связи при посредстве ограниченного числа однозначно определяемых элементов (т.е. составных частей связи). Это понятие является идеалом подобной науки, образовавшимся в особенности под влиянием развития атомистической физики. Объяснительная психология, следовательно, стремится подчинить явления душевной жизни некоторой причинной связи при посредстве ограниченного числа однозначно определяемых элементов. Мысль – смелости чрезвычайной, – она заключала бы в себе возможность неизмеримого развития наук о духе до строгой системы причинного познания, соответствующей системе естественных наук. Если всякое учение о душе стремится осознать причинные соотношения в душевной жизни, то отличительным признаком объяснительной психологии является ее убеждение в возможности вывести вполне законное и ясное познание душевных явлений из ограниченного числа однозначно определяемых элементов. Название конструктивной психологии было бы еще более точным и ярким наименованием ее. Вместе с тем это название выделило бы и подчеркнуло великую историческую связь, к которой она относится.
Объяснительная психология может достигнуть свою цель только путем сцепления гипотез. Понятие гипотезы может рассматриваться различным образом. Прежде всего, можно обозначить именем гипотезы всякое заключение, дополняющее при помощи индукции совокупность того, что добыто опытным путем. Содержащийся в таком заключении конечный вывод, в свою очередь, содержит в себе ожидание, простирающееся из области данного также и на не-данное. Психологические изложения всякого рода содержат в себе подобные дополнительные заключения, как нечто само собою разумеющееся. Я даже не в состоянии отнести воспоминание к прежнему впечатлению без такого рода заключения. Было бы просто неразумно желать исключить из психологии гипотетические составные части; и несправедливо было бы ставить употребление их в упрек объяснительной психологии, так как психология описательная точно так же не могла бы обойтись без них. Но в области естественных наук понятие гипотезы получило развитие в более определенном смысле на основании данных в познании природы условий. Так как чувствам даны только сосуществование и последовательность без причинной связи между одновременным или последовательным, то причинная связь в нашем понимании природы возникает лишь путем дополнения. Таким образом, гипотеза является необходимым вспомогательным средством прогрессирующего познания природы. Если, как обычно бывает, несколько гипотез представляются одинаково возможными, то задача состоит в том, чтобы, путем развития вытекающих из них следствий и сравнения этих последних с фактами, одну гипотезу доказать, а остальные исключить. Сила естественных наук заключается в том, что они в лице математики и эксперимента обладают вспомогательными средствами, придающими указанному методу высшую степень точности и достоверности. Наиболее значительным и поучительным примером того, как гипотеза переходит в область постоянного владения науки, может служить гипотеза Коперника о вращении Земли вокруг собственной оси в течении 24 часов без 4-х минут и о поступательном движении ее одновременно вокруг Солнца в 365 1/4 солнечных дней, гипотеза, развитая и обоснованная Кеплером, Галилеем, Ньютоном и другими, и ставшая теорией, не подлежащей более сомнениям. Другим известным примером возрастания вероятности гипотезы до степени, когда нет надобности уже принимать в соображение иные возможности, представляется объяснение световых явлений гипотезой колебаний в противоположность гипотезе эманации. Вопрос о наступлении момента, когда лежащая в основании естественнонаучной теории гипотеза достигает, путем проверки вытекающих из нее выводов на фактах действительности и в связи с общим познанием природы, такой степени вероятности, что может быть отброшено название гипотезы, – является, естественно, вопросом праздным и вместе с тем неразрешимым. Существует весьма простой признак, при помощи которого я различаю гипотезы в обширной области положений, основанных на заключениях. Пусть какое-нибудь заключение в состоянии ввести явление или круг явлений в подходящую для них связь, согласующуюся со всеми известными фактами и признанными теориями, но если оно не исключает других возможностей объяснения, тогда мы, конечно, имеем дело с гипотезой. Лишь только признак этот имеет место, подобное положение носит характер гипотетический. Но даже и при отсутствии этого признака, даже там, где противоположные гипотезы не выставлялись или не утверждались, все-таки остается открытым вопрос, не носит ли положение, основанное на индуктивных заключениях, гипотетического характера. Ведь мы не располагаем, в конце концов, безусловным признаком, при помощи которого мы при всяких обстоятельствах в состоянии были бы отличать естественнонаучные положения, нашедшие окончательную формулировку на вечные времена, от таких положений, которые выражают связь явлений лишь применительно к нынешнему состоянию наших знаний об этих явлениях. Между наивысшей степенью вероятности, которой может достигнуть индуктивно обоснованная теория, и аподиктичностью, свойственной математическим основным соотношениям, всегда лежит пропасть, через которую невозможно перекинуть мост. Не одни только численные соотношения носят такой аподиктический характер; как бы ни образовался наш пространственный образ, память об этом процессе изгладилась из нашего сознания; этот образ просто существует; мы можем в любом месте пространства представить себе одни и те же основные соотношения, совершенно независимо от места, в котором они возникают. Геометрия есть анализ этого совершенно независимого от существования отдельных предметов пространственного образа. В этом смысле гипотезам принадлежит решающее значение не только как определенным стадиям в возникновении естественнонаучных теорий; нельзя предвидеть, каким образом, даже при самом крайнем увеличении степени вероятности нашего объяснения природы, может когда-нибудь вполне исчезнуть гипотетический характер этого объяснения. Естественнонаучные убеждения наши нисколько от этого не колеблются. Когда Лаплас ввел теорию вероятности в рассмотрение индуктивных заключений, этот метод исчисления был распространен и на степень достоверности нашего познания природы. Этим вырывается почва у того, кто хотел бы пользоваться гипотетическим характером нашего объяснения природы в интересах как бесплодного скептицизма, так и подчиненного богословию мистицизма. Но так как объяснительная психология в область душевной жизни переносит метод естественнонаучного образования гипотез, благодаря которому то, что дано, дополняется присоединением причинной связи, то возникает вопрос, правомерно ли подобное перенесение. Требуется доказать, что в объяснительной психологии это перенесение точно имеет место и указать на те точки зрения, при которых возникают против него возражения; и то и другое затрагивается здесь лишь мимоходом, так как во всем дальнейшем изложении будут встречаться прямые или косвенные соображения по этому поводу.
Установим прежде всего тот факт, что в основе всякой объяснительной психологии лежит комбинация гипотез, несомненно отличающихся вышеуказанным признаком, ибо они не в состоянии исключить иные возможности. Против каждой подобной системы гипотез выставляются десятки других. В этой области идет борьба всех против всех, не менее бурная, нежели на полях метафизики. Нигде и на самом дальнем горизонте не видно пока ничего, что могло бы положить решающий предел борьбе. Правда, объяснительная психология утешает себя ссылкой на те времена, когда положение химии и физики казалось не лучшим; но какими неизмеримыми преимуществами перед нею обладают эти науки в виде устойчивости объектов, возможности свободно пользоваться экспериментом, измеримости пространственного мира! Кроме того, и неразрешимость метафизической проблемы об отношении духовного мира к телесному препятствует точному проведению достоверного причинного познания в этой области. Поэтому, никто не в состоянии предсказать, придет ли когда-либо борьба гипотез в объяснительной психологии к концу, и когда это может произойти.
Итак, если мы желаем достигнуть полного причинного познания, мы попадаем в туманное море гипотез, возможности проверки которых на психических фактах даже не предвидится. Влиятельнейшие направления психологии ясно это показывают. Так, гипотезой такого рода представляется учение и сведение всех явлений сознания к атомообразно представляемым элементам, воздействующим друг на друга по определенным законам. Такой же гипотезою является и выступающее с притязаниями на причинное объяснение конструирование всех душевных явлений при помощи двух классов ощущений и чувств, причем имеющему столь огромное значение для нашего сознания и для нашей жизни желанию отводится место явления вторичного. При посредстве одних лишь гипотез, высшие душевные процессы сводятся к ассоциациям. Путем одних лишь гипотез самосознание выводится из психических элементов и процессов, происходящих между ними. Ничем, кроме гипотез, мы не располагаем относительно причинных процессов, благодаря которым благоприобретенный душевный комплекс постоянно влияет, столь могущественно и загадочно, на наши сознательные процессы заключения и желания. Гипотезы, всюду одни гипотезы! И притом не в роли подчиненных составных частей, в отдельности входящих в ход научного мышления – (как мы видели, в качестве таковых они неизбежны) – но гипотезы, которые, как элементы психологического причинного объяснения, должны сделать возможным выведение всех душевных явлений и найти себе в них подтверждение.
Представители объяснительной психологии для обоснования столь обширного применения гипотез обычно ссылаются на естественные науки. Но мы тут же, в самом начале нашего исследования, заявляем требование наук о духе на право самостоятельного определения методов, соответствующих их предмету. Науки о духе должны, исходя от наиболее общих понятий учения о методе и испытывая их на своих особых объектах, дойти до определенных приемов и принципов в своей области, совершенно так же, как это сделали в свое время науки естественные. Не тем мы окажемся истинными учениками великих естественнонаучных мыслителей, что перенесем найденные ими методы в нашу область, а тем, что наше познание применится к природе нашего предмета и что мы по отношению к нему будем поступать так, как они по отношению к своему. Natura parendo vincitur. Первейшим отличием наук о духе от естественных служит то, что в последних факты даются извне, при посредстве чувств, как единичные феномены, между тем как для наук о духе они непосредственно выступают изнутри, как реальность и как некоторая живая связь. Отсюда следует, что в естественных науках связь природных явлений может быть дана только путем дополняющих заключений, через посредство ряда гипотез. Для наук о духе, наоборот, вытекает то последствие, что в их области в основе всегда лежит связь душевной жизни, как первоначально данное. Природу мы объясняем, душевную жизнь мы постигаем. Во внутреннем опыте даны также процессы воздействия, связи в одно целое функций как отдельных членов душевной жизни. Переживаемый комплекс тут является первичным, различение отдельных членов его – дело уже последующего. Этим обусловливается весьма значительное различие методов, с помощью которых мы изучаем душевную жизнь, историю и общество, от тех, благодаря коим достигается познание природы. Из указанного различия вытекает для трактуемого здесь вопроса вывод, что в области психологии гипотезы никоим образом не могут играть той же роли, какая им присуща в познании природы. В познании природы связные комплексы устанавливаются благодаря образованию гипотез, в психологии же именно связанные комплексы первоначальны и постепенно даны в переживании: жизнь существует везде лишь в виде связного комплекса. Таким образом, психология не нуждается ни в каких подставляемых понятиях, добытых путем заключений, для того чтобы установить прочную связь между главными группами душевных фактов. Определенному внутренним опытом, основному причинному расчленению целого она может подчинить описание и расчленение и таких процессов, в которых ряд действий, хотя и обусловливается изнутри, но все же свершается без сознания действующих в нем причин, как например, при репродукции или при влиянии, оказываемом на сознательные процессы изгладившимся из нашего сознания приобретенным душевным комплексом. Поэтому для нее нет надобности, строя гипотезу относительно причины подобных явлений, замуровать ее, так сказать, в фундамент психологии. Метод ее совершенно отличен от методов физики или химии. Гипотеза не является неизбежною ее основой. Поэтому, если объяснительная психология и подчиняет явления душевной жизни ограниченному числу однозначно определяемых объяснительных элементов преимущественно гипотетического характера, мы никак не можем согласиться с представителями названного течения, утверждающими, что такова неизбежная судьба всей психологии, и выводящими это заключение из аналогии с ролью, которую гипотезы играют в познании природы. С другой стороны, в области психологии гипотезы отнюдь не проявляют той полезности, которой они обладают в естественном познании. В области душевной жизни факты не могут достичь степени точной определенности, необходимой для проверки теории путем сравнения вытекающих из нее выводов с этими фактами. Таким образом, ни в одном имеющем решающее значение пункте не удалось достигнуть исключения других гипотез и оправдания гипотезы остающейся. В граничащих областях природы и душевной жизни эксперимент и количественное определение оказались столь же полезными для образования гипотез, как и при познании природы. В центральных же областях психологии подобное явление не наблюдается. В частности, имеющий решающее значение для конструктивной психологии вопрос о причинных отношениях, обусловливающих как влияние, оказываемое на сознательные процессы приобретенными душевными комплексами, так и воспроизведение, – не подвинулся еще, несмотря на все старания, ни на шаг к своему разрешению. Сколь разнообразно можно комбинировать гипотезы и затем с одинаковым успехом или неуспехом выводить из них крупные, решающие душевные факты, как самосознание, логический процесс и очевидность его, совесть и проч. Поборники подобной гипотетической связи одарены чрезвычайно острым зрением относительно того, что ее подтверждает, и совершенно слепы ко всему, что ей противоречит. Тут применимо то, что Шопенгауэр ошибочно утверждал вообще о гипотезе как таковой: подобная гипотеза ведет в голове, в которой обрела пристанище или, паче того, зародилась, существование, сходное с жизнью организма, в том смысле, что она от внешнего мира воспринимает лишь то, что полезно или сродно ей, а все для нее чуждое или вредное либо просто отметает, либо, по необходимости восприняв его, изрыгает. Поэтому подобные связи гипотез в объяснительной психологии никогда не могут возвыситься до ранга, занимаемого естественнонаучными теориями. Таким образом, мы приходим к вопросу, нельзя ли путем иного метода – мы будем обозначать его, как метод описательный и расчленяющий – избежать в психологии обоснования нашего понимания всей душевной жизни на системе гипотез.
Господство объяснительной или конструктивной психологии, оперирующей гипотезами по аналогии с познаванием природы, ведет к последствиям, чрезвычайно вредным для развития наук о духе. Позитивным исследователям этих областей ныне представляется необходимым либо отказаться от всякого психологического обоснования, либо примириться со всеми недочетами объяснительной психологии. Вследствие этого современная наука оказалась поставленной перед дилеммой в чрезвычайной степени усилившей дух скептицизма и чисто внешней, бесплодной эмпирики, а также углубившей разделение жизни и знания: или науки о духе пользуются представляемыми психологией основаниями и приобретают тем самым гипотетический характер, или же они пытаются разрешить свои задачи, отказавшись от научно обоснованного и систематизированного взгляда на факты душевной жизни и опираясь лишь на двусмысленную и субъективную психологию повседневной жизни. Но в первом случае объяснительная психология сообщает свой вполне гипотетический характер также теории познания и наукам о духе.
Теория познания и науки о духе могут быть сопоставлены в смысле необходимости психологического обоснования, несмотря на значительные различия в требуемых объеме и глубине такого обоснования. Правда, в ряду наук теория познания занимает совершенно иное место, нежели науки о духе. Ей никоим образом не может быть предпослана психология. Тем не менее и для нее, хотя и в другой форме, существует та же дилемма. Может ли она быть поставлена независимо от психологических предпосылок? А если нет, то каковы были бы последствия обоснования ее на психологии объяснительной? Теория познания возникла ведь из потребности обеспечить среди океана метафизических колебаний уголок твердой почвы, общезначимого познания, независимо от размеров этого островка: а при названных условиях она стала бы неустойчивой и гипотетической, – она сама устранила бы возможность достичь своей цели. Таким образом, для теории познания существует та же дилемма, что и для наук о духе.
Науки о духе как раз ищут для понятий и положений, которыми они принуждены оперировать, твердого, общезначимого обоснования. Они испытывают слишком понятное отвращение к философским конструкциям, подверженным спору, и следовательно, привносящим этот спор в область эмпирических анализов и сравнений. Поэтому-то так широко распространилось теперь стремление юриспруденции, политической экономии и теологии совершенно исключить психологические обоснования. Каждая из них пытается из эмпирического соединения фактов и правил или норм в своей области установить такую связь, анализ которой дал бы некоторые общие элементарные понятия и положения, способные лечь в основание соответственной науки о духе. Принимая во внимание состояние объяснительной психологии, они не могут поступить иначе, поскольку они желают избежать омутов и водоворотов объяснительной психологии. Но спасаясь от Харибды философских водоворотов, они попадают на утес Сциллы, в данном случае – бесплодной эмпирики.
Нет надобности особо доказывать, что объяснительная психология, поскольку она может основываться лишь на гипотезах, неспособных возвыситься до степени убедительной и исключающей все прочие гипотезы теории, необходимо должна сообщить свой недостоверный характер опытным наукам о духе, пытающимся опереться на нее. А то, что всякая объяснительная психология нуждается в подобных гипотезах для своего обоснования, и составит один из главных предметов нашего рассуждения. Но сейчас необходимо показать, что всякая попытка создать опытную науку о духе без психологии также никоим образом не может повести к положительным результатам.
Эмпирика, отказывающаяся от того, чтобы обосновать происходящее в области духа на понимаемых связях духовной жизни, по необходимости бесплодна. Это можно показать па любой науке о духе. Каждая из них требует психологических познаний. Так, например, всякий анализ факта религии приводит к понятиям:
чувство, воля, зависимость, свобода, мотив, которые могут быть разъяснены исключительно в психологической связи. Тут приходится иметь дело с определенными комплексами душевной жизни, так как в ней зарождается и укрепляется сознание божества. Но эти комплексы обусловливаются общей планомерной связью душевной жизни и понятны только из этой связи. Юриспруденция исследует такие понятия, как норма, закон, вменяемость, т.е. психологические связи, требующие психологического анализа. Она в состоянии изобразить связь, в которой возникает чувство права, или связь, в которой действительно проявляются цели в праве и отдельные воли подчиняются закону, без ясного понимания планомерной связи во всякой душевной жизни. Науки о государстве, ведающие внешней организацией общества, находят во всяком связующем общество отношении психические факты общения, владычества и зависимости. Факты эти требуют психологического анализа. История и теория литературы и искусств повсюду сталкиваются со сложными эстетическими основными настроениями прекрасного, возвышенного, юмористического или смешного, которые без психологического анализа остаются темными и мертвыми представлениями для историка литературы. Не может он постичь жизни поэта без знания процесса воображения. Так оно есть, и никакое разграничение по специальностям тут ничего поделать не может: как культурные системы – хозяйство, право, религия, искусство и наука – и как внешняя организация общества в союзы семьи, общины, церкви, государства, возникли из живой связи человеческой души, так они не могут в конце концов быть поняты иначе, как из того же источника. Психические факты образуют их важнейшую составную часть, и потому они не могут быть рассмотрены без психического анализа. Они содержат связь в себе, ибо душевная жизнь есть связь. Поэтому-то познание их всюду обусловливается пониманием внутренней связности в нас самих. Они только потому могли возникнуть в качестве силы, господствующей над отдельной личностью, что в душевной жизни существуют известное единообразие и планомерность, допускающие возможность одинакового порядка для многих жизненных единств[ 1 ].
И подобно тому, как развитие отдельных наук о духе связано с разработкой психологии, так и соединение их в одно целое невозможно без понимания душевной связи, в которой они соединены. Вне психической связи, в которой коренятся их отношения, науки о духе представляют собою агрегат, связку, но не систему. Какое бы грубое представление об их связи между собой мы ни взяли, оно покоится на каком-либо грубом представлении о связи душевных явлений. Связи, в которых хозяйство, право, религия, искусство, знание находятся как между собой, так и с внешней организацией человеческого общества, могут сделаться понятными только на почве единообразного, охватывающего их душевного комплекса, из которого они возникли друг подле друга и в силу которого они существуют во всяком психическом жизненном единстве, взаимно не смешиваясь и не разрушая друг друга.
То же затруднение тяготеет и над теорией познания. Школа, отличающаяся острым умом своих представителей, требует полнейшей независимости теории познания от психологии. Она утверждает, что в Кантовой критике разума это отделение теории познания от психологии проведено в принципе особым методом. Этот метод она и желает развить. В этом, как ей кажется, заключается будущее теории познания.
Но совершенно очевидно, что духовные факты, составляющие материал теории познания, не могут быть связаны между собой иначе, как на фоне какого-нибудь представления душевной связи. Никакая магия трансцендентального метода не может сделать возможным то, что само по себе невозможно. Никакое заклинание из школы Канта тут не поможет. Кажущаяся возможность это сделать сводится, в конце концов, к тому, что гносеолог располагает этой связью в своем собственном живом сознании и переносит ее оттуда в свою теорию. Он предполагает ее. Он пользуется ею. Но он ее не контролирует. Поэтому тут неизбежно подставляются, взятые из современного круга слов и мыслей, истолкования этой связи в психологических понятиях. Таким образом и вышло, что основные понятия критики разума Канта целиком принадлежат определенной психологической школе. Современное Канту классифицирующее учение о способностях повело к резким обособлениям, к разграничивающим перегородкам в его критике разума. Поясню это ссылкой на его разграничения воззрения и мышления или содержания и формы познания. Оба этих обособления, проведенные с такой резкостью как у Канта, разрывают живую связь.
Ни одному из своих открытий Кант не придавал большего значения, нежели резкому обособлению природы и принципов воззрения и мышления. Но в том, что он называет воззрением, всюду участвуют мыслительные или эквивалентные им акты. Таковы, например, различение, измерение степеней, отожествление, соединение и разделение. Поэтому дело тут идет лишь о различных ступенях в действии одних и тех же процессов. Те же элементарные процессы ассоциации, воспроизведения, сравнения, различения, измерения степеней, разделения, отвлечения одного и выделения другого, на чем покоится абстракция, процессы, которые затем господствуют и в нашем дискурсивном мышлении, оказывают свое действие в развитии наших восприятий, воспроизведенных образов, геометрических фигур, фантастических представлений фантазии. Процессы эти составляют обширное и безмерно плодородное поле бессловесного мышления. Формальные категории абстрагируются из подобных первичных логичных функций. Канту, поэтому, и не было надобности выводить эти категории из дискурсивного мышления. Всякое дискурсивное мышление может быть изображено как более высокая ступень этих бессловесных мыслительных процессов.
Точно так же теперь уже нельзя в полной мере удержать проведенного в системе Канта разделения содержания и формы познания. Внутренние соотношения, всюду существующие между многообразием ощущений, как содержанием нашего познания, и формой, в которой мы это содержание воспринимаем, гораздо важнее этого разделения. Мы воспринимаем одновременно отличные друг от друга звуки и объединяем их в нашем сознании, не понимаем их данности друг вне друга как данности одного ряда. Наоборот, множество осязательных или зрительных ощущений мы можем воспринять лишь рядоположно. Мы даже не в состоянии представить два цвета вместе и одновременно иначе, как друг рядом с другом. Не очевидно ли, что в этой необходимости воспринимать их рядоположно играет роль природа зрительных впечатлений и осязательных ощущений. Не представляется ли весьма вероятным, что природа содержания ощущения тут обусловливает форму его синтеза? Насколько Кантово учение о форме и содержании познания нуждается в дополнении, видно также из следующего: многообразие ощущений, как чистое содержание, на каждом шагу включает в себя различия, хотя бы, например, в степенях и отношениях между собою цветов. Эти различия и степени, однако, существуют только для объединяющего их сознания; поэтому форма должна быть налицо для того, чтобы могло быть содержание, подобно тому, как, конечно, должно быть содержание для того, чтобы появилась форма. Было бы совершенно непонятно, каким образом психические элементы содержания связались бы извне связью объединяющего сознания[ 2 ].
Таким образом, и в области теории познания можно будет избежать произвольного и случайного введения психологических воззрений лишь путем сознательного и научного подведения под нее основания в виде ясного понимания душевной связи. Освободиться от случайных влияний ошибочных психологических теорий в гносеологии можно будет лишь тогда, когда удастся предоставить в ее распоряжение значимые положения о связи душевной жизни. Конечно, было бы невозможно в виде основания предпослать теории познания законченную систему описательной психологии. Но, с другой стороны, теория познания без предпосылок есть иллюзия.
Отношение между психологией и теорией познания пока что можно было бы представить себе нижеследующим образом. Точно так же, как теория познания черпает общезначимые и достоверные положения из остальных научных дисциплин, она могла бы заимствовать из описательной и анализирующей психологии сумму положений, потребную ей и не подлежащую никаким сомнениям. Искусно сплетенная из себя самой логическая паутина, носящаяся без привязи в пустом пространстве – неужели она достовернее и прочнее теории познания, пользующейся общезначимыми и твердыми положениями, выведенными из проверенных уже воззрений отдельных отраслей науки? Можно ли указать какую-нибудь теорию познания, которая не делала бы молчаливо или открыто таких заимствований? Вопрос может заключаться только в том, действительно ли заимствуемые положения выдержали испытание в смысле общеобязательности и строжайшей очевидности, причем, конечно, понятие подобной проверки должно обрести смысл и оправдание своего применения опять-таки в основах теории познания, заключающихся, в конечном итоге, во внутреннем опыте. Только об этом одном могла бы пока идти речь и при допущении психологических положений. Вопрос сводится лишь к тому, могут ли подобного рода положения быть добыты без помощи психологии, базирующейся на гипотезах. Одно это обстоятельство уже приводит к проблеме такой психологии, в которой гипотезы играли бы иную роль, нежели в господствующей ныне объяснительной психологии.
Но отношение психологии к теории познания отлично от отношения к ней прочих наук, даже предпосылаемых ей Кантом: математики, математического естествознания и логики. Душевная связь составляет подпочвенный слой процесса познания, и поэтому процесс познания может изучаться лишь в этой душевной связи и определяться лишь по его состоянию. Но мы видели уже методическое преимущество психологии в том, что душевная связь дана ей непосредственно, живо, в виде переживаемой действительности. Переживание связи лежит в основе всякого постижения фактов духовного, исторического и общественного порядка, в более или менее выясненном, расчлененном и исследованном виде. История наук о духе основывается именно на такой переживаемой связи, и она постепенно доводит ее до более ясного сознания. Исходя отсюда и можно разрешить проблему отношения между теорией познания и психологией. Основание теории познания заключается в живом сознании и общезначимом описании этой душевной связи. Теория познания не нуждается в законченной, завершенной психологии, но тем не менее всякая завершенная психология есть лишь научное осуществление того, что составляет и подпочву теории познания. Теория познания есть психология в движении, и притом в движении, направленном к определенной цели. Основанием ее является самосознание, охватывающее всю наличность душевной жизни в неискалеченном виде: общезначимость, истинность, действительность осмысленно определяются лишь из этой наличности.
Подведем итоги. Все, чего можно было требовать от психологии и что составляет ядро ей свойственного метода, одинаково ведет нас в одном и том же направлении. От всех изложенных выше затруднений освободить нас может лишь развитие науки, которую я, в отличие от объяснительной и конструктивной психологии, предложил бы называть описательной и расчленяющей. Под описательной психологией я разумею изображение единообразно проявляющихся во всякой развитой человеческой душевной жизни составных частей и связей, объединяющихся в одну единую связь, которая не примышляется и не выводится, а переживается. Таким образом, этого рода психология представляет собою описание и анализ связи, которая дана нам изначально и всегда в виде самой жизни. Она изображает эту связь внутренней жизни в некоторого рода типическом человеке. Она пользуется всяким возможным вспомогательным средством для разрешения своей задачи. Но значение ее в шкале наук основывается именно на том, что всякая связь, к которой она обращается, может быть однозначно удостоверена внутренним восприятием, и каждая такая связь может быть показана как член объемлющей ее, в свою очередь, более широкой связи, которая не выводится путем умозаключения, а изначально дана.
То, что я обозначаю именем описательной и расчленяющей психологии, должно удовлетворять еще одному требованию, вытекающему из потребностей наук о духе и из руководства, которое они дают жизни.
Единообразия, составляющие главный предмет психологии нашего века, относятся к формам внутреннего процесса. Могучая по содержанию действительность душевной жизни выходит за пределы этой психологии. В творениях поэтов, в размышлениях о жизни, высказанных великими писателями, как Сенека, Марк Аврелий, Блаженный Августин, Макиавелли, Монтень, Паскаль, заключено такое понимание человека во всей его действительности, что всякая объяснительная психология остается далеко позади. Но во всей рефлектирующей литературе, стремящейся охватить в полном объеме действительность человека, до сих пор проявляется наряду с ее превосходством в отношении содержания – неспособность к систематическому изложению и изображению. Некоторые отдельные соображения поражают нас в самое сердце. Кажется, точно в них раскрывается глубина самой жизни. Но как только мы пытаемся привести их в ясную связь, обнаруживается их несостоятельность в этом отношении. Совершенно отлична от таких размышлений мудрость поэтов, говорящая нам о людях и о жизни лишь образами и голосами судьбы, разве только иногда освещаемыми, словно молнией, рефлексией. Но и эта мудрость не заключает в себе осязаемой общей связи душевной жизни. Со всех сторон приходится слышать, что в Лире, Гамлете и Макбете скрыто больше психологии, нежели во всех учебниках психологии вместе взятых. Но если бы эти фанатические поклонники искусства когда-нибудь раскрыли перед нами тайну заключающейся в этих произведениях психологии! Если под психологией разуметь изображение планомерной связи душевной жизни, то в произведениях поэтов никакой психологии нет; нет ее там даже в скрытом виде и никаким изощрением невозможно извлечь оттуда такого учения о единообразиях душевных процессов. Зато в способе, каким подходят великие писатели и поэты к жизни человеческой, находится обильная пища и задача для психологии. Тут имеется налицо интуитивное понимание всей связи, к которой на своем пути психология, обобщая и абстрагируя, также должна приблизиться. Нельзя не пожелать появления психологии, способной уловить в сети своих описаний то, чего в произведениях поэтов и писателей заключается больше, нежели в нынешних учениях о душе, – появления такой психологии, которая могла бы сделать пригодным для человеческого знания, приведя их в общезначимую связь, именно те мысли, что у Августина, Паскаля и Лихтенберга производят столь сильное впечатление благодаря резкому одностороннему освещению. К разрешению подобной задачи способна подойти лишь описательная и расчленяющая психология; разрешение этой задачи возможно только в ее пределах. Ибо психология эта исходит из переживаемых связей, данных первично и с непосредственной мощью; она же изображает в неизуродованном виде и то, что еще недоступно расчленению.
Если объединить все определения, последовательно данные относительно такой описательной и расчленяющей психологии, то в результате выяснится значение, которое имело бы разрешение этой задачи также и для объяснительной психологии. В лице психологии описательной она бы обрела прочную дескриптивную опору, определенную терминологию, точные анализы и важное подспорье для контроля над ее гипотетическими объяснениями.
ГЛАВА ВТОРАЯ РАЗЛИЧИЕ ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ И ОПИСАТЕЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Различение объяснительной и описательной психологии не ново. В истории современной психологии неоднократно повторялись попытки проведения двух взаимно дополняющих способов трактовки ее. Христиан Вольф видел в отделении рациональной психологии от эмпирической особую заслугу своей философии[ 3 ]. На его взгляд, эмпирическая психология представляет собой опытную науку, дающую познание того, что происходит в человеческой душе Она может быть сравнима с экспериментальной физикой (Нем. Логика, § 152). Она не предполагает рациональной психологии, как не предполагает вообще никакой другой науки. Наоборот, она служит для проверки и подтверждения того, что априорно развивает психология рациональная (Psych. emp. §§ 1, 4, 5). Рациональную психологию Вольф называет также объяснительной (Ps. rat. § 4). Опытным обоснованием ее является эмпирическая психология. При поддержке ее она априорно развивает из онтологии и космологии то, что возможно благодаря человеческой душе. И подобно тому, как она в эмпирической психологии имеет свою опытную основу, она в ней же находит и свой контрольный орган (Ps. emp. § 5). Кант, правда, доказывал невозможность рациональной психологии, – тем не менее из вышеприведенных положений Вольфа уцелело ценное ядро в виде различения между описательным и объяснительным методом, а также признание того, что описательная психология является опытной основой и контрольным органом для психологии объяснительной.
В гербартовской школе Теодор Вайц впоследствии развил это различение в современном смысле. В вышедшей в 1849 году "Психологии как естественной науке" он дал определение метода этого труда, по которому данные в опыте психические явления объясняются посредством соответствующих гипотез; таким образом, он первый в Германии обосновал объяснительную психологию по современному естественнонаучному образцу; затем в 1852 году в Кильском Ежемесячнике он предложил наряду с этой объяснительной психологией план психологии описательной. Различение это он обосновал существующим в познании природы разделением наук описательных и теоретических. Описательная психология, соответственно наукам об органической жизни, располагает следующими методическими вспомогательными средствами: описанием, анализом, классификацией, сравнением и учением о развитии; ей предстоит особо развиться в сторону сравнительной психологии и учения о психическом развитии. Объяснительная или естественнонаучная психология оперирует материалом, доставляемым ей психологией описательной; на нем она исследует общие законы, управляющие развитием и течением психической жизни, и она же устанавливает отношения зависимости, в которых душевная жизнь находится к своему организму и к внешнему миру; таким образом, она состоит из объяснительной науки о душевной жизни и из науки о взаимоотношениях между этой жизнью, организмом и внешним миром, – ныне мы бы назвали ее психофизикой. В заключение Вайц констатирует: "Ясность научной обработки существенно зависит от того, насколько резко и точно будет проведено разделение задач, и насколько его станут придерживаться". Его большой труд об антропологии первобытных племен составлял часть задуманных им тогда работ по описательной психологии. В недрах той же гербартовской школы этим разделением пользовался также Дробиш; наряду со своей математической психологией он поставил образцовую эмпирическую, описательная часть которой сохранила свою ценность и поныне.
Таким образом, Вайц не только придерживался взглядов Вольфа, но также сделал, вследствие выделения метафизического элемента из объяснительной психологии, некоторые важные успехи в определении отношения обоих видов изложения между собой. Он установил, что элементам объяснения, из которых исходит естественнонаучная психология, присущ гипотетический характер, и он даже высказал мысль, согласно которой объяснительная психология в состоянии "лишь указать возможность того, что посредством взаимодействия данных элементов, по общему закономерному плану, образуются именно такие сложные психические явления, какие мы обнаруживаем в себе путем наблюдения" (Psychol. S. 26). Он также предвидел уже чрезвычайное расширение вспомогательных средств описательной психологии: сравнительное изучение, пользующееся, как материалом, душевной жизнью животных, первобытных народов, душевными изменениями в связи с прогрессом культуры, словом, историей развития индивидов и общества. И не оглядываясь больше на учебники гербартовской школы, он смело пустился в плавание по открытому морю антропологии первобытных племен и необозримой истории религий, – отважный и настойчивый открыватель новых путей, которого, однако, безвременно постиг конец, иначе он бы приобрел наряду с Лотце и Фехнером совсем иное влияние в истории современной психологии, нежели то, какое выпало на его долю.
На мой взгляд, дальнейшее преобразование отношения между описательной и объяснительной психологией, выводящее за пределы, указанные Вайцем, необходимо с двух точек зрения.
Объяснительная психология возникла из расчленения восприятия и воспоминания. Ядро ее с самого начала составляли ощущения, представления, чувства удовольствия и неудовольствия, в качестве элементов, а также процессы между этими элементами, в особенности процесс ассоциации, к которому затем присоединялись, в качестве дальнейших объяснительных процессов, апперцепция и слияние. Таким образом, предметом ее вовсе не являлась вся полнота человеческой природы и ее связное содержание. Поэтому я в то время, когда эти границы объяснительной психологии выступали еще резче, чем теперь, противопоставил ей понятие реальной психологии (статья о Новалисе, Прусск. Ежегодник за 1865 год, стр. 622), описания которой должны были передать всю ценность душевной жизни и обстоящие в ней связи, и притом не только по форме, но и по содержанию. К этому содержанию относятся факты, сопротивления которых не могло до сих пор преодолеть самое убедительное расчленение. Таково в жизни наших чувств и инстинктов стремление к сохранению и расширению нашего "я" в сфере нашего познания – характер необходимости некоторых положений, а в области наших волевых действий – долженствование и появляющиеся в сознании абсолютные нормы. Необходима психологическая систематика, в которой могла бы уместиться вся содержательность душевной жизни. И в самом деле, могучая действительность жизни, какою великие писатели и поэты стремились и стремятся ее постичь, выходит далеко за пределы нашей школьной психологии. То, что там высказывается интуитивно, в поэтических символах и гениальных прозрениях, – психология, описывающая всё содержание душевной жизни, должна в своем месте попытаться изобразить и расчленить.
Наряду с этим приобретает значение для того, кого занимает связь наук о духе, еще и другая точка зрения. Науки о духе нуждаются в такой психологии, которая была бы, прежде всего, прочно обоснована и достоверна, чего о нынешней объяснительной психологии никто сказать не может, и которая вместе с тем описывала бы и, насколько возможно, анализировала бы всю мощную действительность душевной жизни. Ибо анализ столь сложной общественной и исторической действительности может быть произведен лишь тогда, когда эта действительность будет сначала разложена на отдельные целевые системы, из которых она состоит; каждая из этих целевых систем, как хозяйственная жизнь, право, искусство и религия, допускает тогда, благодаря своей однородности, расчленения своего целого. Но это целое в такой системе есть не что иное, как душевная связь в человеческих личностях, в ней взаимодействующих. Таким образом, она, в конце концов, является связью психологической. Поэтому она может быть понята только такой психологией, которая заключает в себе анализ именно этих связей, и результат такой психологии пригоден для теологов, юристов, экономистов или историков литературы только в том случае, если в опытные науки о духе не проникают из этой психологии элементы недостоверности, односторонности, научной партийности.
Очевидно, обе изложенные точки зрения находятся во внутреннем взаимоотношении. Рассмотрение самой жизни требует, чтобы вся неискалеченная и мощная действительность человеческой души проявилась целиком, от своих низших до своих высочайших возможностей. Это входит в состав требований, которые психология должна предъявлять сама к себе, если она не желает оставаться позади опыта жизни и поэтической интуиции. Именно этого и требуют науки о духе. Все психические силы, все формы психики, от самых низших до самых высоких, вплоть до религиозного гения, до основателя религий, до героя истории и художественного творца, подвигающих вперед историю и общество – все они должны найти свое изображение и как бы локализацию в психологическом обосновании. И именно при таком определении задачи для психологии открывается путь, предвещающий значительно более высокую степень достоверности, нежели тот, какой достижим по методу объяснительной психологии. За исходную точку берут развитого культурного человека. Затем описывают связь его душевной жизни, насколько можно яснее показывают, при посредстве всех вспомогательных средств художественного воплощения, главнейшие явления этой связи, тщательно и подробно анализируют отдельные связи, заключающиеся в охватывающей их общей связи. Это расчленение доводят до крайних пределов; то, что расчленению не поддается, рассматривают так, как оно есть; относительно состава того, где можно заглянуть глубже, дается объяснение его возникновения, с указанием, однако, степени достоверности, присущей этому объяснению; везде призывается на помощь сравнительная психология, история развития, эксперимент, анализ исторических образований; – тогда психология станет орудием в руках историка, экономиста, политика и теолога; тогда ею может руководствоваться также и практик, наблюдающий жизнь и людей.
С этих точек зрения, по способу, который будет точнее указан в последующих главах, могут быть установлены понятие объяснительной психологии, понятие описательной психологии и отношение обоих этих методов изображения душевной жизни друг к другу.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
В дальнейшем под объяснительной психологией разумеется выведение фактов, данных во внутреннем опыте, в нарочитом испытании, в изучении других людей и в исторической действительности, из ограниченного числа добытых путем анализа элементов. Под элементом разумеется всякая составная часть психологического основания, служащая для объяснения душевных явлений. Таким образом, причинная связь душевных процессов по принципу: causa aequat effectum, или закон ассоциации, является таким же элементом для построения объяснительной психологии, как и допущение бессознательных представлений или пользование ими.
Первым признаком объяснительной психологии, таким образом, служит, как то полагали уже Вольф и Вайц, ее синтетический и конструктивный ход. Она выводит все находимые во внутреннем опыте и его расширениях факты из ограниченного числа однозначно определенных элементов. Возникновение этого конструктивного направления в психологии исторически связано с конструктивным духом великого естествознания XVII века: Декарт и его школа, так же как и Спиноза и Лейбниц, конструировали соотношения между телесными и душевными процессами, исходя из гипотез и принимая за предпосылку полную прозрачность этого отношения. После того Лейбниц первый, как бы проникая за завесу данной душевной жизни, начал конструировать как влияние, оказываемое на сознательный ход мысли благоприобретенными связями душевной жизни, так и воспроизведение представлений. Он делал это путем вспомогательных понятий, придуманных им в дополнение к тому, что дано, – принцип постоянства и обусловленная им непрерывность в различии степеней состояний сознания, вверх от бесконечно малых степеней сознательности, были такого рода вспомогательными понятиями, и связь, в которой они находились с его математическими и метафизическими открытиями, подметить нетрудно. Из того же конструктивного направления ума, постулировавшего, что оно может путем дополнительных и вспомогательных понятий возвысить данное в душевной жизни до совершенно прозаичной понятности, исходил и материализм. Больше того, некоторые отличительные черты конструктивной психологии XVII и начала XVIII века, продолжающие оказывать свое действие и поныне, так же обусловливаются характером сознания конструктивной тенденции. Прослеживая эти отношения, можно уловить историческую обусловленность конструктивной психологии: в ней выражается проявляющаяся во всех областях знания мощь методов и основных понятий естествознания; отсюда она могла бы быть подвержена и исторической критике.
Ограниченное число однозначно определенных элементов, из которых должны быть конструируемы все явления душевной жизни, – таков, следовательно, капитал, с которым оперирует объяснительная психология. Однако происхождение этого капитала может быть различно. В этом пункте прежние школы психологии отличаются от ныне господствующих. Если прежняя психология вплоть до Гербарта, Дробиша и Лотце и выводила еще некоторую часть этих элементов из метафизики, то современная психология, – это учение о душе без души, – добывает элементы для своих синтезов только из анализа психических явлений в их связи с физиологическими фактами. Таким образом, строгое проведение современной объяснительной психологической системы состоит из анализа, дочерпывающего составные элементы из душевных явлений, и синтеза или конструкции, составляющей из них явления душевной жизни и таким образом доказывающей свою полноту. Совокупность и отношение этих элементов образует гипотезу, при помощи которой объясняются душевные явления.
Таким образом, метод объясняющего психолога совершенно тот же, каким в своей области пользуется естествоиспытатель. Это сходство обоих методов еще увеличивается оттого, что в настоящее время, благодаря примечательным успехам, эксперимент стал во многих отраслях психологии вспомогательным средством ее. И в дальнейшем это сходство еще увеличилось бы, если бы удался хотя бы один опыт применения количественных определений не в одних только внешних отрогах психологии, то также и внутри ее самой. Для включения какой-либо системы в объяснительную психологию, разумеется, безразлично, в каком порядке будут вводимы эти элементы. Важно только одно, чтобы объяснительная психология работала с капиталом, состоящим из ограниченного числа однозначных элементов.
При помощи этого признака можно показать лишь относительно некоторых из наиболее значительных психологических трудов настоящего времени, что они принадлежат к этому объяснительному направлению психологии; вместе с тем, исходя из этого признака, можно сделать понятными главнейшие течения современной объяснительной психологии.
Как известно, имея предшественников в лице Юма (1739–1740) и Гартли (1746), английская психология свое первое связное изложение нашла в крупном труде Джеймса Милля "Анализ явлений человеческого духа". В основе этого труда заложена гипотеза о том, что вся душевная жизнь в наивысших своих проявлениях с причинной необходимостью развивается из простых, чувственных элементов, в среде, в которой действуют законы ассоциации. Метод доказательства этой объяснительной психологии заключается в расчленении и составлении, в доказательстве того, что намеченные элементы в достаточной мере объясняют высшие процессы душевной жизни. Сын Джеймса Милля, наследовавший его мысли, Джон Стюарт Милль, описывает в своей "Логике" метод психологии, как взаимодействие индуктивного нахождения элементов и синтетического испытания их–в полном согласии с методом, применявшимся его отцом.
Но он уже с большим подчеркиванием развивает мысли о логической ценности некоторого средства мышления, оказавшегося необходимым для психологии обоих Миллей. Он предполагает своего рода психическую химию; если простые идеи или чувства соединяются, то они могут вызвать состояние, для внутреннего восприятия простое и вместе с тем качественно совершенно отличное от вызвавших его факторов. Законы жизни духа сравнимы подчас с механическими, а подчас и с химическими законами. Когда в уме взаимодействует много впечатлений и представлений, то иногда имеет место процесс, не лишенный сходства с химическим соединением. Когда впечатления были испытаны в соединении настолько часто, что каждое из них легко и быстро вызывает всю группу, то идеи эти сливаются иногда между собою и кажутся уже не несколькими, а одной только идеей; подобно тому как семь цветов призмы, быстро сменяясь перед глазами, производят впечатление белого цвета. Ясно, что допущение такого весьма общего и расплывчатого положения, которое странным образом контрастирует с точностью действительных законов природы, должно исключительно облегчить задачу объясняющего психолога. Ибо оно прикрывает недостаток выведения. Оно позволяет придерживаться некоторых регулярных предшествующих и заполнять при помощи психической химии пробелы между ними и последующим состоянием. Но вместе с тем степень убедительности, присущая этой конструкции и ее результатам, и без того незначительная, понижается до нуля.
Над этой психологической школой возвысился в Англии Герберт Спенсер. В 1855 году впервые появились два тома его "Психологии" и достигли большого влияния на европейскую психологическую мысль. Метод этого труда весьма отличался от метода, применявшегося обоими Миллями. Спенсер не только пользовался естественнонаучным методом, подобно указанным двум авторам, но, в согласии с Кантом, он пошел дальше, подчинив психические явления реальной связи явлений физических, и тем самым психологию – естествознанию. При этом он обосновывал психологию на общей биологии. В этой же последней он проводил понятия приспособления живых существ к своей среде, эволюции всего органического мира и параллелизма процессов в нервной системе с внутренними или душевными процессами. Таким образом, он интерпретировал внутренние состояния и связь между ними при помощи изучения нервной системы, сравнительного рассмотрения внешних организаций в животном царстве, и прослеживал приспособления к внешнему миру. Так снова в объяснительную психологию дедуктивно вводятся определенные элементы объяснения, совершенно так же, как то имело место у Вольфа, Гербарта и Лотце. С тем только различием, что раньше они вводились из метафизики, а теперь, соответственно изменившемуся времени, из общего естествознания. Но и при этих новых условиях труд Спенсера остается психологией объяснительной. Даже в смысле внешнего распорядка психология эта делится на две части, из которых первая путем конвертирующих заключений выводит связь гипотез из изучения нервной системы, из сравнительного обзора животного царства и из внутреннего опыта, между тем как вторая кладет эти гипотезы в основание объяснительного метода, с тем, однако, различием, что Спенсер не распространяет этот метод за пределы человеческого интеллекта. Объяснение эмоциональных состояний казалось ему пока невыполнимым. "Если что-либо желают объяснить путем выделения отдельных частей и исследования способов соединений последних между собой, то это должно быть нечто действительно состоящее из различных и определенным образом связанных между собой частей. Если же мы имеем дело с предметом, который хотя очевидно и является составным, но разнообразные элементы которого так смешаны и слиты между собой, что не поддаются в отдельности точному различению, то надо сразу предположить, что попытка анализа если и не останется вполне бесплодной, то приведет лишь к сомнительным и недостаточным выводам. Противоположение это действительно существует между формами сознания, которые мы различаем как интеллектуальные и эмоциональные".
В этой связи появляются у Спенсера и дальнейшие приемы объяснительной психологии. Он переносит с внешнего развития животного царства на внутреннее принцип возрастающей дифференциации частей и функций, а затем их интеграции, т.е. восстановления более высоких и более тонких связей между этими дифференцировавшими функциями, и при этом он для объяснения проблем, которые индивидуальная психология убедительно разрешить оказалась не в состоянии, пользуется прежде всего проблемой происхождения априори, – этого принципа развития, действующего во всем животном царстве. После этого он из строения нервной системы, ее нервных клеток и соединительных нервных волокон изъясняет расчленение душевной жизни, ее элементов и существующих между ними отношений. Наконец, там, где в психологической связи оказываются пробелы, на основании гипотезы о психофизическом параллелизме, может быть включена связь физиологическая.
Очевидно, что эта объяснительная психология Спенсера во многих пунктах приближается к жизненности душевной связи в большей мере, нежели это было достигнуто школой Миллей. Включение в естествознание также сообщает связи гипотез более прочную основу и большую авторитетность. Но подобное включение, через посредство учения о психофизическом параллелизме, превращает обусловленную таким образом объяснительную психологию в дело одной научной партии. Оно сообщает ей оттенок утонченного материализма. Для юриста или историка литературы подобная психология является не прочной основой, а опасностью. Все последующее развитие показало, насколько этот скрытый материализм объяснительной психологии, учрежденный Спенсером, разлагающе влиял на политическую экономию, уголовное право, учение о государстве. Что касается самого психологического исчисления, поскольку оно оперирует внутренними восприятиями, оно становится благодаря введению новой гипотезы все же еще менее достоверным.
Эта объяснительная психология спенсеровского направления неудержимо распространялась также и во Франции, и в Германии. Она не раз связывалась с материализмом. Последний во всех своих оттенках есть объяснительная психология. Всякая теория, полагающая в основу связь физических процессов и лишь включающая в них психические факты, есть материализм. Психология величайших французских научных писателей прошлого поколения выступала под влиянием материализма; но сильнее всего она была обусловлена именно взглядами Спенсера. Первый отрывок из "Психологии" Спенсера был опубликован им еще в 1853 году, до появления в печати всего труда (1855), и предметом его служило исследование основ нашего интеллекта. В 1870 году появился главный философский труд Ипполита Тэна о человеческом интеллекте[ 4 ]. Он опирался преимущественно на Спенсера, пользуясь, однако, работами обоих Миллей. По поводу распространения своих психологических мыслей Спенсер сам писал: "Во Франции г. Тэн нашел случай придать некоторым из них более широкую известность в своем труде De l'Intelligence". Но Тэн и со своей стороны кое-что прибавил к методам объяснительной психологии. В то время во Франции предпочтительно занимались изучением аномалий в психическом мире, и существовала склонность применять явления, собранные и интерпретированные психиатрами, невропатологами, магнитизерами и криминалистами, при изучении законов душевной жизни. Учение о сродстве гения с помешательством – чисто французская выдумка; как всё французское, она возымела в Италии большой успех. Тэн был первым объяснительным психологом, принесшим такое расширение методов психологии, путем изучения аномалий душевных явлений, на благо подлинной психологии. Здесь нет надобности подробно останавливаться на странной гипотезе, которую он, при этих условиях, присоединил к допущениям объяснительной психологии, так как она не возымела обширного действия: "С помощью восприятий и целых групп образов природа создает внутри нас, по определенным законам, призраки, которые мы считаем внешними предметами, и при этом по большей части даже не заблуждаемся, так как соответствующие им внешние предметы действительно существуют. Внешние восприятия суть подлинные галлюцинации". Зато более общего интереса заслуживает наблюдение над роковым влиянием, которое эта теория оказала на исторические труды Тэна. Подобно тому, как односторонняя объяснительная психология Миллей в высшей степени вредоносно повлияла на крупные исторические таланты Грота и Бокля, так и философ Тэн, превращающий нас всех в постоянных галлюцинантов, внушил историку Тэну его изображение Шекспира и его понимание французской революции как своего рода массового помешательства. – К Тэну затем примкнул Рибо.
Тем временем в Германии Гербарт развил систему объяснительной психологии, овладевшую университетскими кафедрами, в особенности в Австрии и Саксонии. Чрезвычайное значение ее для успехов объяснительной психологии состояло в том, что она строго научно относилась к методическим требованиям, заключавшимся в задаче – давать объяснения по образу естественных наук. Если объяснительная психология должна сделать понятным всю связь душевных процессов без исключения, то в основу ее должна быть положена предпосылка детерминизма. Но исходя из этой предпосылки, она лишь тогда может надеяться на преодоление затруднений, связанных с непостоянством психических процессов, их индивидуальных различий и тесных рамок наблюдения, если она подобно физическим наукам окажется в состоянии ввести количественные определения в свои объяснительные подсчеты. Тогда и она будет способна придать законам более точную формулировку, тогда может возникнуть механика душевной жизни. Хотя Гербарту в его собственных трудах этого сделать и не удалось, но Фехнер стал продолжать работу в том же направлении; пользуясь опытами Эрнста Генриха Вебера, он установил количественное соотношение между увеличением силы чувственных раздражителей и ростом величин ощущений. И столь же важным для введения измерения и счета в область психофизики и психики оказалось то, что он в своих исследованиях развивал методы минимальных изменений, средних степеней, средних ошибок, правильных и неправильных случаев. Но и с другой еще точки зрения количественное рассмотрение открыло себе доступ к душевным процессам. Сравнивая определения времени, данные различными астрономами при изучении одного и того же явления, немецкий астроном Бессель наткнулся на открытие персональных различий между этими учеными. Время прохождения светила через меридиан определяется различными наблюдателями различно, что вызвано разницей в продолжительности времени, потребного в каждом данном случае для того, чтобы чувственное восприятие состоялось и было зарегистрировано. Астрономы и биологи обратили внимание на чрезвычайное психологическое значение этого факта. Возникли опыты, имевшие целью измерить время, потребное для совершения различных психических процессов.
Ввиду того, что эти работы изображались в то же время как психофизические и психологические опыты, они действовали в направлении экспериментальной психологии вместе с великими анализами наших зрительных и слуховых восприятий, которыми в особенности Гельмгольц проложил для эксперимента совершенно иной путь в душевную жизнь. Таким образом, благодаря этому в Германии через развитие психофизического и психологического эксперимента методические средства объяснительной психологии чрезвычайно расширились. То был процесс, обеспечивший за Германией, начиная с 60-х годов нашего столетия, неоспоримое господство в психологической науке. С введением эксперимента могущество объяснительной психологии на первых порах чрезвычайно возросло. Перед нею открывались необозримые перспективы. Благодаря введению опытного метода и количественного определения объяснительное учение о душе могло, по образцу естествознания, приобрести прочную основу в экспериментально обеспеченных и выраженных на языке чисел закономерных отношениях. Но в этот решительный момент произошло нечто обратное тому, чего ожидали энтузиасты экспериментального метода.
В области психофизики опыт привел к чрезвычайно ценному расчленению чувственного восприятия у человека. Он оказался необходимым орудием психолога для составления точного описания некоторых внутренних психических явлений, каковы узость сознания, скорость душевных процессов, факторы памяти и чувства времени, и, конечно, казалось, что умение и терпение экспериментаторов дадут им возможность приобрести точки опоры для производства опытов также и при изучении других внутрипсихический х соотношений. Но к познанию законов во внутренней области психики опытный метод все-таки не привел. Таким образом, он оказался чрезвычайно полезным для описания и анализа, надежды же, возлагавшиеся на него объяснительной психологией, он до сих пор не оправдал.
При этих обстоятельствах в современной немецкой психологии наблюдается два примечательных явления по отношению к применению объяснительного метода.
Одна влиятельная школа решительно идет дальше по пути подчинения психологии познанию природы при помощи гипотезы о параллелизме физиологических и психических процессов[ 5 ]. Основой объяснительной психологии является следующий постулат: ни одного психического феномена без сопутствующего ему физического. Таким образом, в жизненном течении ряды физиологических процессов и сопровождающих их психических явлений соответствуют друг другу. Физиологический ряд образует законченную, непрерывную и необходимую связь. Наоборот, психические изменения, какими они попадают во внутреннее восприятие, в такого рода связь объединить нельзя. Какой же образ действий вытекает отсюда для сторонника объяснительной психологии? Он должен перенести необходимую связь, которую он находит в физическом ряду, на ряд психический. Точнее его задача определяется так: "Разложить совокупность содержаний сознания на их элементы, установить законы соединения этих элементов, а также их отдельные соединения, и затем для всякого элементарного психического содержания эмпирическим путем отыскать сопутствующее ему физиологическое возбуждение для того, чтобы посредством причинно понятных сосуществования и последовательности этих физиологических возбуждений косвенно объяснить не поддающиеся чисто психологическому объяснению законы соединения и сами соединения отдельных психических содержаний". Этим самым, однако, объявляется банкротство самостоятельной объяснительной психологии. Дела ее переходят в руки физиологии. В распоряжение естествоиспытателя, занимающегося психологией, поступают весьма обширные вспомогательные средства для истолкования психических фактов. Там, где во внутреннем опыте между условиями и действием не существует равенства, надобно лишь вставить промежуточные физиологические члены, не имеющие психического эквивалента. При помощи их легко может быть объяснено то, что в таком явлении, как волевое действие, не поддается объяснению из принятых психических объяснительных элементов.
Но ход экспериментального исследования вместе с тем привел еще к одному в высшей степени примечательному обороту. Вильгельм Вундт, первый из всех психологов, отграничивший совокупность экспериментальной психологии в качестве особой отрасли знания, создавший для нее огромного размаха институт, из которого исходило сильнейшее побуждение к систематической работе над экспериментальной психологией, Вундт, впервые связавший воедино в своем учебнике выводы экспериментальной психологии, – в дальнейшем течении своих широко объемлющих экспериментальных наблюдений сам оказался вынужденным перейти к пониманию душевной жизни, покидающему господствующую до того в психологии точку зрения. "Когда, – рассказывает он, – я впервые подошел к психологическим проблемам, я разделял общий, естественный для физиолога, предрассудок, будто образование чувственных восприятий является исключительно делом физиологических свойств наших органов чувств. На деятельности зрительного чувства я прежде всего научился постигать акт творческого синтеза, ставший постепенно для меня проводником, с помощью которого я из развития высших функций фантазии и ума стал извлекать психологическое понимание, для которого прежняя психология не давала мне никакой помощи". Принцип параллелизма он определил теперь точнее в том смысле, что "психофизический параллелизм может быть применим только к тем элементарным психическим процессам, с которыми именно единственно и идут параллельно определенно ограниченные двигательные процессы, но не к каким угодно сложным продуктам духовной жизни, получившимся лишь в результате духовного формирования чувственного материала, и уже никак не к общим интеллектуальным силам, из которых выводятся эти продукты". ("Душа человека и животного", 2 изд., ср. также о психической причинности и принципе психического параллелизма). Впоследствии он отказался и от применения закона causa aequat effectum к духовному миру; он признал факт существования творческого синтеза; "под этим понятием я разумею тот факт, что благодаря своим причинным взаимодействиям и вызываемым ими последствиям психические элементы порождают соединения, которые хотя и могут быть психологически объяснены из их компонентов, то тем не менее обладают новыми качественными свойствами, не содержавшимися ранее в составных элементах, причем необходимо отметить, что с этими новыми свойствами связаны специфические, не встречавшиеся в элементах, определения соединений со стороны их ценности. Поскольку психический синтез во всех этих случаях порождает нечто новое, я его и называю творческим"; в противоположность закону постоянства физической энергии, по Вундту, в "сцеплении творческих синтезов, образующем прогрессивный ряд развития", заключается "принцип роста духовной энергии" (ib.). Джеймс в своей "Психологии" и Зигварт в новых главах своей "Логики", – где они говорят о методе психологии и рекомендуют развивать описательную психологию, – оба подчеркивают свободу и творчество в душевной жизни еще резче, нежели Вундт. В той мере, в какой это движение развивается, объяснительная и конструктивная психология должна терять в своем влиянии.
Первый признак объяснительной психологии заключается в том, что она делает выводы из ограниченного числа однозначных объяснительных элементов. В современной психологии тем самым обусловливается и второй признак, а именно, что соединение этих объяснительных элементов носит лишь гипотетический характер. Обстоятельство это было признано уже Вайцем. При взгляде на ход развития объяснительной психологии особенно бросается в глаза постоянное увеличение числа объяснительных элементов и приемов. Это естественно вытекает из стремления по возможности приблизить гипотезы к жизненности душевного процесса. Но, одновременно с этим, следствием этого стремления является также и постоянное возрастание гипотетического характера объяснительной психологии. В той же мере, в какой накопляются элементы и приемы объяснения, понижается ценность их испытания на явлениях. В особенности же приемы психической химии и восполнения психических рядов посредствующими физиологическими звеньями, не имеющими представительства во внутреннем опыте, открывают для объяснения простор неограниченных возможностей. Тем самым разбивается основное ядро объяснительного метода – испытание гипотетических объяснительных элементов на самих явлениях.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ ОПИСАТЕЛЬНАЯ И РАСЧЛЕНЯЮЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Понятие описательной и расчленяющей психологии добыто нами из самой природы наших душевных переживаний, из потребности в непредвзятом и неизвращенном понимании нашей душевной жизни, а также из связи наук о духе между собой и из функции психологии в их среде. Поэтому-то и свойства такой психологии должны быть выведены из тех же мотивов, в особенности из задачи ее внутри упомянутой связи наук о духе и из обзора средств к разрешению этой задачи. Тут требования двоякие. Вся действительная полнота душевной жизни должна подлежать изложению, а по возможности и анализу, и как описание, так и анализ должны обладать наивысшей достижимой степенью достоверности. В этой связи важнее дать в сравнительно более тесных рамках познания достоверные сведения, нежели расточить целую уйму предположений по поводу наук о духе. Если в этом заключается задача психологии по отношению к наукам о духе, то таковая не может быть разрешена путем конструирования гипотетических элементов объяснения. Психологические факты даны нам столь многозначно, что приемами конструктивной психологии, с которыми мы ознакомились в предыдущей главе, может быть построена лишенная противоречия логическая связь психологической системы, исходящая из совершенно различных предположений. Конструктивный метод совершенно не в состоянии дать решительного перевеса одной из соперничающих в нынешней психологии партий. Каким же образом возможен метод, который мог бы разрешить задачу, поставленную психологии науками о духе?
Психология должна пойти путем, обратным тому, на который вступили представители метода конструктивного. Ход ее должен быть аналитический, а не построительный. Она должна исходить из развитой душевной жизни, а не выводить ее из элементарных процессов. Разумеется, синтез и анализ, со включенными в них дедукцией и индукцией, не могут быть разъединены и в пределах психологии. По прекрасному выражению Гете, они в жизненном процессе познания обусловливают друг друга так же, как вдыхание и выдыхание. Разложив восприятие и воспоминание на их факторы, я проверяю значение достигнутых мной результатов тем, что пускаю в ход связь этих факторов, причем, конечно, задача не может быть решена без остатка, так как хотя я и способен различать факторы в живом процессе, но не могу составить из их связи жизнь. Но тут дело идет лишь о том, что ход такой психологии должен быть исключительно описательным и расчленяющим, независимо от того, необходимы ли для этого метода синтетические мыслительные акты. Этому соответствует и другая основная методическая черта такой психологии. Предметом ее должны являться развитой человек и полнота готовой душевной жизни. Последняя должна быть понята, описана и анализирована во всей цельности ее.
Как это возможно? И каков точный смысл, в котором здесь мыслятся описательный и чисто аналитические способы, как части одного и того же психологического метода, и противопоставляются объяснительному методу в психологии? В начале настоящего исследования было указано на то, что общие методы человеческого знания принимают особый характер в различных областях; и что преимущественно особая природа нашего опыта о душевных явлениях придает особые свойства познанию связи этого опыта, и что таким путем общие методы приобретают в этой области более точные определения. В данном случае это проявляется в методических операциях описания и анализа, объяснения и образования гипотез.
Предметы природы мы познаем извне при помощи наших чувств. Как бы мы их ни разбивали или разлагали, мы все же не можем этим путем проникнуть до их последних составных частей. Такого рода элементы мы примышляем в дополнение к опыту. Кроме того, и сами внешние чувства, рассматриваемые с точки зрения их физиологического действия, никогда не дают нам единства объекта. Единство это также существует для нас лишь благодаря исходящему изнутри синтезу чувственных возбуждений. Положение это осталось бы правильным даже в том случае, если бы мы стали рассматривать разложение цельного восприятия на ощущения и их синтезы лишь как эвристический прием. Если мы при этом и ставим предметы в соотношения причины и следствия, то в чувственных впечатлениях содержится лишь условие, заключающееся в планомерном следовании, между тем как причинная связь сама возникает из происходящего внутри нас синтеза. И справедливость этого положения не зависит от того, привносится этот синтез из интеллекта или же (как я имел случай изложить это в одной более ранней статье)[ 6 ] в отношении причины и следствия заключается всего только дериват живой реакции воли, подвергающейся давлению другой воли, т.е. в основании этого отношения лежит первичный и конститутивный элемент, а живая реакция потом интеллектуально истолковывается только в отвлеченном мышлении. Следовательно, как бы мы ни понимали возникновение предметных представлений и их причинных отношений – во всяком случае, в чувственных раздражениях, в их сосуществовании и последовательности, не заключается ничего из той связи, которая присуща предметам и их причинным отношениям. Насколько иначе нам дана жизнь душевная! В противоположность внешнему восприятию, внутреннее покоится на прямом усмотрении, на переживании, оно дано непосредственно. Тут нам в ощущении или в чувстве удовольствия, его сопровождающем, дано нечто неделимое и простое. Независимо от того, как могло возникнуть ощущение фиолетового цвета, оно, будучи рассматриваемо как внутреннее явление, едино и неделимо. Когда мы совершаем какой-нибудь мыслительных акт, различимое в нем множество внутренних фактов вместе с тем собрано в неделимое единство одной функции, вследствие чего во внутреннем опыте выступает нечто новое, не имеющее в природе никакой аналогии. Если же еще принять во внимание тождественность, связующую несколько одновременно происходящих внутренних процессов и сводящую последовательность этих процессов к единству жизни, то здесь еще удивительнее выступает данное во внутреннем опыте, как переживание, которое не имеет ровно никакой аналогии в природе. Таким образом, внутри нас соединения, связи мы постоянно переживаем, тогда как под чувственные возбуждения мы должны подставлять связь и соединение. То, что мы таким образом переживаем, мы никогда не можем сделать ясным для рассудка. Тождественность, связующую одновременность и последовательность в отдельных жизненных процессах, раскрывает перед лицом рассудка противоречия, на которые указывал уже Гербарт. Некоторую более широкую связь мы переживаем, когда, напр., у нас из данных посылок возникает заключение: перед нами в таком случае – связь, которая ведет от причин к действиям, эта связь также проистекает изнутри, дана в переживании как реальность. Так мы концептируем понятия единства в многообразии, частей в целом, причинных отношений, и при посредстве их затем понимаем природу, прилагая к ней эти концепции при определенных условиях единообразного сосуществования или последовательности.
Связь эту внутри нас мы переживаем лишь отрывочно; то тут, то там падает на нее свет, когда она доходит до сознания; ибо психическая сила вследствие важной особенности ее доводит до сознания всегда лишь ограниченное число членов внутренней связи. Но мы постоянно сознаем такие соединения. При всей безмерной изменчивости содержаний сознания всегда повторяются одни и те же соединения, и таким образом постепенно вырисовывается достаточно ясный облик их. Точно так же все яснее, отчетливее и вернее становится сознание того, как эти синтезы входят в более обширные соединения и, в конце концов, образуют единую связь. Если какой-либо член регулярно вызывал за собою другой член, или одна группа членов вызывала другую, если затем в других повторных случаях этот второй член вызывал за собою третий, или вторая группа членов вызывала третью, если то же самое продолжалось и при четвертом и пятом члене, то из этого должно образоваться с общеобязательной достоверностью сознание связи между всеми этими членами, а также сознание связи между целыми группами членов. Подобно этому мы в других случаях выделяем путем внимательного сосредоточения наблюдательной деятельности один какой-либо процесс из целого хаоса их и стараемся закрепить его, для более точного постижения, в длительном восприятии или воспоминании. В быстром, слишком быстром течении внутренних процессов мы выделяем один из них, изолируем его и поднимаем до усиленного внимания. В этой выделяющей деятельности дано условие для дальнейшего хода абстракции. Только путем абстракции возможно выделить функцию, способ соединения из конкретной связи. И только путем обобщения мы устанавливаем постоянно повторяющуюся форму функции или постоянство определенной градации чувственных содержаний, шкалу интенсивности ощущений или чувств, известную нам всем. Во всех этих логических актах заключаются также акты различения, приравнения, установления степеней различия. Из указанных логических действий необходимо вытекают и акты деления и обозначения, в последнем из которых заключается зародыш определения. Я решился бы даже сказать, что элементарные логические операции, вспыхивающие при впечатлениях и переживаниях, лучше всего постигаются именно из внутреннего опыта. Различение, приравнивание, определение степеней различия, соединение, разделение, абстрагирование, связывание воедино нескольких комплексов, выделение единообразия из многих фактов: вот сколько процессов заключено во всяком внутреннем восприятии или выступает из сосуществования таковых. Отсюда вытекает интеллектуальность внутреннего восприятия, как первая особенность постижения внутренних состояний, обусловливающего психологическое исследование. Внутреннее восприятие, подобно внешнему, происходит посредством сотрудничества элементарных логических процессов. И именно на внутреннем восприятии особенно ясно видно, насколько элементарные логические процессы неотделимы от постижения самих составных частей.
Тем самым дана и вторая особенность постижения душевных состояний. Постижение это возникает из переживания и связано с ним неразрывно. В переживании взаимодействуют процессы всего душевного склада. В нем дана связь, тогда как чувства доставляют лишь многообразие единичностей. Отдельный процесс поддерживается в переживании всей целостностью душевной жизни, и связь, в которой он находится в себе самом и со всем целым душевной жизни, принадлежит непосредственному опыту. Это определяет также природу понимания нас самих и других. Объясняем мы путем чисто-интеллектуальных процессов, но понимаем через взаимодействие в постижении всех душевных сил. И при этом мы в понимании исходим из связи целого, данного нам живым, для того чтобы сделать из него для себя постижимым единичное и отдельное. Именно то, что мы живем в сознании связи целого, дает нам возможность понять отдельное положение, отдельный жест и отдельное действие. Всякому психологическому мышлению присуща та основная черта, что постижение целого делает возможным и определяет истолкование единичного. Отображающая конструкция общей человеческой природы в психологии также должна придерживаться этого первичного способа понимания, если она желает остаться здоровой, полной жизни, отражающей жизнь и плодотворной для понимания жизни. Испытанная связь душевной жизни должна остаться прочным, пережитым и непосредственно достоверным основанием психологии, как бы далеко она ни проникала также в экспериментальное единичное исследование.
Если, таким образом, достоверность в психологическом методе основана на полной реальности каждого объекта, на непосредственной данности в нем внутренней связи, то достоверность эта усиливается вследствие дальнейшей особенности внутреннего опыта. Отдельные душевные процессы в нас, соединения душевных фактов, которые мы внутренне воспринимаем, выступают в нас с различным сознанием их ценности для целого нашей жизненной связи. Таким образом, существенное отделяется в самом внутреннем постижении от несущественного. Психологическая абстракция, выделяющая связь жизни, обладает для такого своего действия руководящей нитью в этом непосредственном сознании ценности отдельных функций для целого, между тем как познание природы подобной путеводной нитью не обладает.
Из всего вышесказанного вытекает дальнейшая основная черта психологического изыскания, а именно та, что изыскание это вырастает из самого переживания и должно постоянно сохранять в нем прочные корни для того, чтобы быть здоровым и расти. К переживанию примыкают простые логические операции, объединяемые в психологическом наблюдении. Они дают возможность наблюдение закрепить в описании, обозначить его наименованием и дать общий обзор его путем классификации. Психологическое мышление как бы само собой переходит в психологическое изыскание. Здесь дело обстоит не иначе, чем в живых науках о духе. К юридическому мышлению примыкает наука о праве, к хозяйственному размышлению и государственному регулированию хозяйственных отношений – политическая экономия.
Если объединить все указанные особенности психологического метода, на основании их можно будет ближе определить понятие описательной психологии и указать отношение его к понятию психологии аналитической.
В естественных науках издавна существует противоположение описательного и объяснительного методов. Хотя относительность его и выступает все ярче по мере развития описательных естественных наук, но оно, как известно, все еще сохраняет свое значение. Но в психологии понятие описательной науки приобретает гораздо более глубокий смысл, чем тот, какой она имеет в области естественных наук. Уже ботаника, и тем более зоология исходят из связи функций, которая может быть установлена лишь путем истолкования физических фактов по аналогии с фактами психологическими. В психологии же эта связь функций дана изнутри в переживании. Всякое отдельное психологическое познание есть лишь расчленение этой связи. Таким образом, здесь непосредственно и объективно дана прочная структура, и потому в этой области описание покоится на несомненном и общеобязательном основании. Мы находим эту связь не путем добавления ее к отдельным членам, а наоборот, психологическое мышление расчленяет и различает, исходя из данной связи. К услугам такой описательной деятельности находятся логические операции сравнения, различения, измерения степеней, разделения и связывания, абстракции, соединения частей в целое, выведения единообразных отношений из единичных случаев, расчленения единичных процессов, классификации. Все эти действия как бы заключаются в методе наблюдения. Таким образом, душевная жизнь концентрируется как связь функций, объединяющая свои составные части, и вместе с тем, в свою очередь, состоящая из отдельных связей особого рода, из которых каждая содержит новые задачи для психологии. Задачи эти разрешимы только путем расчленения, – описательная психология должна быть в то же время и аналитической.
Под анализом мы всюду одинаково разумеем расчленение данной сложной действительности. Посредством анализа выделяются составные части, которые в действительности связаны между собой. Находимые таким путем составные части весьма разнообразны. Логик анализирует заключение, расчленяя его на два суждения и данные в них три понятия. Химик анализирует тело, отделяя посредством опыта заключающиеся в нем вещественные элементы один от другого. Совершенно иначе опять-таки анализирует физик, который в закономерных формах движения выделяет составные части акустического или оптического явления. Но как бы ни были различны эти процессы, окончательной целью всякого анализа является отыскание реальных факторов путем разложения действительности, и всюду эксперимент и индукция служат лишь вспомогательными средствами анализа. Взятый в этом общем аспекте аналитический метод присущ наукам о духе так же, как и наукам естественным. Однако, метод этот принимает различные формы в зависимости от области приложения его. Уже в обыденном постижении душевной жизни с постижением связи везде само собою связано различение, отделение, расчленение. Вся ширина и глубина понимания душевной жизни человека покоится на устанавливающей отношения деятельности. Со своей стороны, различение, отделение и анализ придают ясность и определенность этому пониманию. Когда же психологическое мышление в своем естественном ходе, без перерывов, без врезывающихся гипотез, переходит в психологическую науку, то отсюда для анализа в данной области проистекает неизмеримая выгода. В живой целостности сознания, в связи его функций, в восстановленной путем абстракции картине общеобязательных форм и соединений этой связи – анализ находит тыл для всех своих операций. Всякая задача, которую ставит себе анализ, и всякое понятие, которое он образует, обусловливаются этой связью и находят себе в ней место. Таким образом, анализ совершается здесь путем отнесения процессов расчленения, при помощи которых должен быть разъяснен отдельный член душевной связи, ко всей этой связи. В анализе всегда содержится нечто от живого, художественного процесса понимания. Из этого вытекает возможность существования психологии, которая, исходя от общезначимо улавливаемой связи душевной жизни, анализирует отдельные члены этой связи, со всей доступной ей глубиной описывает и исследует ее составные части и связующие их функции, но не берется за конструирование всей причинной связи психических процессов. Душевная жизнь все-таки не может быть скомпонована из составных частей, не может быть конструирована путем сложения, и насмешка Фауста над Вагнером, химически изготовляющим гомункулуса, прямо относится к такого рода попытке. Описательная и расчленяющая психология кончает гипотезами, тогда как объяснительная с них начинает. Возможность такой описательной и расчленяющей психологии на том и основана, что подобная общеобязательная, закономерная, охватывающая всю душевную жизнь связь возможна для нас без применения необходимого в объяснительных естественных науках конструктивного метода. И было бы вовсе невозможно научное изображение душевной жизни, которое отказывалось бы от познания ее связи. Именно в том и состоит его сила, что оно может признать границы, временные или постоянные, нашего познания, не упуская из виду между тем внутренней связи. Она может принять в себя гипотезы, к которым приходит объяснительная психология относительно отдельных групп явлений; но ввиду того, что она измеряет их применительно к фактам и определяет степень их правдоподобия, не пользуясь ими как конструктивными моментами, принятие их ею не уменьшает ее собственной общезначимости. Она может, в конце концов, подвергнуть обсуждению и синтезирующие гипотезы объяснительной психологии, но при этом она должна признать всю проблематичность их. Больше того, она обязана выяснить невозможность того, чтобы переживания везде были возведены в понятия. Что не одна только концепция трансцендентных понятий ведет к антиномиям, а скорее эти последние возникают из работы человеческого мышления над опытом, не вполне растворимым в форму понятия, что, следовательно, в области познания самой данной в опыте действительности имеются имманентные антиномии, – таков принцип, который должна выставить современная философия, продолжая дело Канта в самой области опыта.
Раньше чем перейти к более подробному рассмотрению трех основных глав, имеющих для подобной описательной и аналитической психологии решающее значение, мы дадим ее расчленение.
Общая часть такой дескриптивной психологии описывает, дает номенклатуру и, таким образом, работает над будущим согласованием психологической терминологии. Уже для этого ей необходимо расчленение. Дальнейшей задачей общей части является выделение структурной связи в развитой душевной жизни. Здесь анализу приходится прежде всего иметь дело как бы с архитектоническим расчленением готового здания: вопрос идет, прежде всего, не о кирпиче, цементе и рабочих руках, а о внутренней связи частей. Анализу надлежит найти структурный закон, согласно которому интеллект, жизнь побуждений и чувств и волевые действия связываются в расчлененные целые душевной жизни. Связь, выделяемая в этом структурном законе, составляется исключительно из живых опытов над отдельными соединениями душевных составных частей. Значение ее дано нам убедительнейшим образом во внутреннем опыте, согласно которому характер занимающей нас связи представляется нам одновременно телеологическим и каузальным. Одна из последующих глав будет посвящена изображению этой структурной связи.
Из телеологического характера этой связи вытекает другой основной закон душевной жизни, действующий как бы в направлении длины, а именно закон развития. Если бы в душевной структуре и в ее движущих силах не наблюдалось целесообразности и связи по признаку ценности, двигающей ее в определенном направлении, то течение жизни не было бы развитием. Поэтому-то развитие человека также мало может быть выведено из шопенгауэровой слепой воли, как из атомистической игры единичных психических сил в системах последователей Гербарта и материалистов. У человека развитие это имеет тенденцию привести к прочной связи душевной жизни, согласованной с жизненными условиями ее. Все процессы душевной жизни действуют в нас сообща для достижения такого рода связи, – как бы душевного облика; ибо различение и разделение также создают отношения и тем самым служат соединению. Формулы трансцендентальной философии относительно природы нашей способности к синтезированию представляют собой лишь отвлеченные и неподходящие выражения для этих свойств нашей душевной жизни, создающих в творческой работе как облик, так и развитие ее. В своем учении о процессе дифференциации и интеграции Герберт Спенсер правильно изложил некоторые черты этого развития. Насколько идеи эти соединимы с теориями германской спекулятивной школы и насколько возможно научное учение о развитии человека, будет рассмотрено в одной из дальнейших глав.
Третье общее соотношение заключается в смене состояний и в воздействии приобретенной связи душевной жизни на каждый отдельный акт сознания. Лишь после того, как будет постигнуто это широкое отношение, согласно которому каждый отдельный акт сознания обусловлен в своем возникновении и характере всей приобретенной душевной связью, можно отыскать истинные отношения между учением об узости сознания, единстве его и различиях наших внутренних состояний. Благодаря проникновению в это отношение свободная жизненность душевной жизни может быть раскрыта аналитически. В центре приобретенной душевной связи находится всегда бодрствующий пучок побуждений и чувств. Он сообщает интерес новому впечатлению, вызывает представление и придает известное направление воле. Интерес переходит в процесс внимания. Однако усиленное возбуждение сознания, составляющее сущность такого внимания, существует не в абстракции, а состоит из процессов, которые оформляют восприятие, формируют представление воспоминания, образуют цель или идеал, и все это происходит всегда в живой, как бы вибрирующей связи со всем приобретенным укладом душевной жизни. Все здесь жизнь. В моей более ранней работе о поэтике я показал несостоятельность учения о мертвом воспроизведении образов и выяснил, что один и тот же образ воспоминания так же мало, при новых условиях, может найти доступ в душу, как один и тот же лист возвратиться на следующий год на дерево. То же самое положение было за последнее время обосновано Джеймсом с поразительной силой реализма, свойственной его внутреннему восприятию.
Это внутреннее, в высшей степени объемлющее отношение, в котором отдельные процессы в сознании испытывают воздействие со стороны приобретенной связи душевной жизни, или, по крайней мере, ею обусловливаются, находится во внутренней связи со структурным законом душевной жизни. Оно зависит от действенности этой структуры, оно выступает лишь в связи с развитой дифференциацией структуры, благодаря которой восприятие, воспоминание, внимание, непроизвольные процессы и господствующая над ними воля могут быть отделены одно от другого. Центральная сила наших возбуждений и чувств, отношение их к внешним раздражениям с одной стороны, и к волевым действиям – с другой, обусловливают распределение состояний сознания, воспроизведение представлений и воздействие приобретенной связи представлений на сознательные процессы. Отношения воздействия идут отсюда к возникновению интереса, внимания, усиленного возбуждения сознания, которое существует затем в постигающих процессах. Через борьбу побуждений они переходят потом к возбуждению практического интереса; возбуждение это, в свою очередь, вызывает повышение и сосредоточение энергии сознания, выражающейся затем в процессах практической постановки вопросов, выбора и предпочтения.
Если, таким образом, состояния распределения сознания и процессы воздействия приобретенной душевной связи на образование сознательных актов и зависят от живых отношений, вытекающих из структуры душевной жизни, то они все же образуют связь, которую можно выделить путем абстракции. Эта связь открывается внутреннему опыту не тем же способом, что и связь структуры. Ибо члены ее и взаимодействие между ними в значительной и притом важнейшей части находятся вне пределов ясного сознания, или что то же, за пределами внутреннего восприятия. Мы ничего не знаем о природе воспроизводимого следа; как же можем мы знать что-либо о том, как происходит воспроизведение его? Или как связь подобных следов начинает определять сознательный процесс? Радостное упование на исключительное действие развитых ассоциативных отношений, при всяком вхождении представления в сознание, также должно было отпасть под напором точной критики. Кто мог бы отрицать, или доказать, что возможно и свободное всплывание представления без всякого посредства ассоциации? Кто мог бы решиться все случаи, которые представляют, по-видимому, пример такого непосредственного воспроизведения, изъяснить по излюбленному торжествующему способу сторонников ассоциативной психологии – ссылкой на скрытое посредствующее звено? Но кто, с другой стороны, решится отрицать существование такового? Или кто мог бы усомниться в возникновении посредствующих воспроизведений, не основанных на ранее установленной связи представлений? Так обстоит дело; тут, когда нас покидает внутренний опыт, психология должна была бы пока стремиться только к тому, чтобы дать точные описания, отделить одну от другой формы воспроизведения, а возможные гипотезы вводить лишь в самых скромных размерах. И подобно тому, как всякое понятие о природе факта, способного оказать действие и быть воспроизведенным, но возникающее бессознательно, как всякое суждение о том, относится ли такой факт к области психической, физической или психофизической, является гипотезой, подобно тому, как всякое понятие о возникновении воспроизведения есть лишь гипотеза и только гипотеза, – и всякая мысль о способе воздействия приобретенной связи подобных фактов на сознательные представления является опять-таки исключительно гипотезой. Гипотезы эти составляют собственно основание объяснительной психологии с того момента, когда англо-французская школа стала принимать свойства нервной системы за реальную объяснительную причину этого действия, а Лейбниц в своих "малых представлениях" противопоставил им другое основание для объяснения. Так как ясное каузальное познание душевной жизни без познания существующих в ней причинных отношений было невозможно, то конструктивный дух XVII столетия, развивший обе главные гипотезы, овладел психологией. Однако гипотезы эти подвержены затруднениям пока что неразрешимым. Взаимодействие сознательного и бессознательного для первой из гипотез непонятно. Она не в состоянии уяснить себе различие между душевными процессами, сопровождаемыми сознанием, и процессами, где это сопровождение отсутствует. Бессознательные представления других гипотез – просто слова, в которых заключается трансцендентная опыту проблема бессознательного психического, но которые ничего не дают для решения этой проблемы; как раз в этой области, где всякого рода теориям давали невозбранно волю, важно ныне произвести прежде всего описание разнообразных форм, в которых бессознательная связь действует на сознательные акты. Все анекдоты, переходящие из одной психологии в другую, должны быть подвергнуты строгой критике. Вместе с тем, именно эти процессы и нужно сделать доступными эксперименту. Дело идет везде об опыте и о взаимодействии бессознательного и сознательного, а не телесного и душевного, в пределах этого взаимодействия дело идет только об описании его отдельных форм. При этом надобно совершенно воздержаться от рассмотрения бессознательных представлений, физиологических следов без эквивалентов, и везде нужно иметь в виду отношение живой структурной связи к этим каузальным отношениям. Тогда окажется, насколько в этой области недостаточны отвлеченные представления о механической связи. И в других науках, как, например, в политической экономии, пытались было сначала дедуцировать из немногих посылок и образовывали столь гладкие механические связи; таков был и психологический механизм Гербарта; но после того, как убедились в поспешности и однобокости таких конструкций, в психологии так же, как в политической экономии, установился принцип, в силу которого необходимо прежде всего собрать факты и варьировать их, разделить основные формы явлений и описать их по отдельности.
За этой общей частью следует расчленение трех основных связей, скрепленных в структуре душевной жизни.
Из того, в каком виде нам даны эти связи, вытекает руководящая точка зрения для анализа их. Я уже имел случай[ 7 ] взяться за доказательство того, что приобретенная связь душевной жизни содержит как бы правила, от которых зависит течение отдельных душевных процессов. Поэтому эта связь составляет главный предмет психологического описания и анализа внутри каждого из трех основных, связанных в душевную структуру, членов душевной жизни, именно, интеллекта, жизни побуждения и чувств и волевых действий; эта приобретенная связь дана нам прежде всего в развитом человеке, именно в нас самих. Но ввиду того, что она попадает в сознание не как нечто целое, она прежде всего постижима для нас лишь опосредствованно в отдельных воспроизведенных частях или в своем действии на душевные процессы. Поэтому мы сравниваем ее творения для того, чтобы постигнуть ее полнее и глубже. На произведениях гениальных людей мы можем изучить энергетическое действие определенных форм умственной деятельности. В языке, в мифах, в религиозных обычаях, нравах, праве и внешней организации выявляются такие результаты работы общего духа, в которых человеческое сознание, выражаясь языком Гегеля, объективировалось и таким образом может быть подвергнуто расчленению. Что такое человек, можно узнать не путем размышлений над самим собой, и даже не посредством психологических экспериментов, а только лишь из истории. Но это расчленение произведений человеческого духа, стремящееся проникнуть в возникновение душевной связи, в ее формы и ее действия, связать с анализом исторических продуктов должно наблюдение и собирание всякой уловимой части исторических процессов, в которых образуется такого рода связь. Все историческое изучение возникновения форм и действий душевной связи в человеке и покоится именно на соединении обоих указанных методов. Уже в исторических изменениях, происходящих в результатах работы общего духа, раскрываются такие живые процессы; это происходит, например, в изменении звуков, изменении значения слов, в изменении представлений, связываемых с именами божественных образов. Также и в биографических документах, дневниках, письмах можно почерпнуть такие сведения о внутренних процессах, которые освещают генезис определенных форм духовной жизни. Так, например, чтобы изучить природу воображения, мы сравниваем показания истинных поэтов о происходящем у них в душе процессах с поэтическими произведениями. Что за богатый источник для понимания загадочных процессов, из которых возникает религиозная связь, заключается в том, что нам известно о Франциске Ассизском, святом Бернарде, и в особенности о Лютере!
Этот анализ возникновения форм и действия душевной связи по его главным составным частям начинается с тонко расчлененной связи восприятий, представлений и познаний в развитой душевной жизни полноценного человека.
Уже Спенсер отметил, что анализ развился больше всего в этой области от того, что в ней легче всего отличить продукты от составных частей. Зигварт первый установил в прочной и длительной связи этой области основной предмет расчленения интеллекта, и наряду с прочими необычайными заслугами его новой обработки учения о методе должна быть признана и та, что он провел подобное расчленение в особенности применительно к числу, времени, пространству и движению (ср. его "Логику" II2 41ff, II2 187). На его взгляд, всякая подобного рода связь представляет собой познаваемое правило, господствующее над переходом действительного сознания от одного члена к другому. Если это правило установить аналитически, то можно не заботиться о субъективных привходящих явлениях отдельных действий, разнообразных чувствах и побуждениях; различия между отдельными индивидами отступают на задний план; схватываются объективные и непреходящие отношения, лежащие в основе человеческого интеллекта. Здесь – постоянный фон, по которому скользит и блуждает изменчивый свет минутного сознания. Здесь длительные правила, управляющие в конечном результате случайной игрой ассоциаций. Таким образом, здесь открывается широкое поле для достоверного аналитического познания душевной жизни человека.
Плодотворность такого анализа нашего интеллекта для наук о духе может лучше всего быть выяснена на примере педагогики. Всякий знает, какую революцию вызвал Песталоцци введением своей системы наглядного обучения. То, что Песталоцци постиг интуицией гения, может быть разъяснено при помощи аналитической психологии. Она исходит из приобретенной, сложившейся связи душевной жизни и расчленяет ее на отдельные связи, составляющие фон всех сознательных процессов. В игре отдельных душевных процессов она схватывает действие этих связей в виде основных правил, от которых всюду зависят единичные проявления этой игры. И таким образом, она узнает смысл гениальной педагогики Песталоцци в том, что творческая, формирующая сила человека обусловливается правильным развитием таких связей. Это великое положение педагогики вытекает из более общего учения о природе приобретенной связи душевной жизни, природе ее, состоящей в том, чтобы быть правилом и силой, управляющими отдельными процессами. Песталоцци пришел к этому положению не абстрактным путем – педагогика есть дело школы – он на опыте постиг благотворное действие той регулярной и упорядоченной самодеятельности, которая развивает наиболее элементарные и однородные из этих связей. Четыре из них он положил в основу: упорядочение чисел, пространственные отношения, основные музыкальные соотношения и закономерную связь в языке. Результат обнаружился двоякий. Отношения чисел, пространства и звуков образуют однородные системы, которые могут развиваться изнутри; язык не есть такая гомогенная система, и на нем его метод потерпел крушение. Внутри же этих трех однородных систем наглядность, в конце концов, неотделима от мышления, – молчаливое мышление в противоположность дискурсивному, – именно поэтому столь безмерно плодотворное для трудящегося человека в противоположность образованной болтовне. Если принять во внимание, как постигается в мыслительном акте, неотделимом от обладания ощущениями, всякое пространственное расстояние, всякий звуковой интервал, всякая степень серого цвета, то должна исчезнуть ложная противоположность наглядного обучения и развития мышления, игравшая до нынешнего времени столь значительную роль, как в законах педагогики, так и в практических педагогических рассуждениях.
Основные длительные связи, в которых движется наш интеллект, могут быть разложены на элементарные составные части и процессы. Изменяясь по отношению друг к другу, содержания и соединения содержаний отделяются одно от другого. Правда, на первых порах это не означает ничего иного, кроме того, что мы таким путем и в самом ощущении различаем качество и интенсивность. Качество и интенсивность еще не становятся вследствие этого составными частями ощущения. Но чем выше соединения, в которых происходит синтез, тем решительнее выступает в них в виде деятельности свободная жизненность нашего постижения и отделяется от данности ощущений. Если я пытаюсь себе представить одновременно некоторое количество светлых точек на серой поверхности (из подобного опыта, кстати, могут быть выведены различные интересные следствия), то возможность перейти от 5 к более крупной цифре зависит, кроме навыка, еще и от того, конструирую ли я при помощи отношений определенную фигуру, и чем большее число точек я стараюсь в ней объединить, тем яснее я отдаю себе отчет в моей деятельности. При улавливании какой-нибудь мелодии объединяются в одно действие еще большее количество отношений. Сознание деятельности проявляется во всех такого рода высших и более живых соединениях, совершенно отлично от способа, каким мне даны ощущения. Если же мы пожелаем перенести это различение на постижение образования крупных умственных связей, каковы пространство, время, причинность, если мы и тут пожелаем отделить от ощущений функции, в которых создаются их отношения, то здесь надобно, с другой стороны, принять в соображение, что для каждой связи в самих ощущениях должна заключаться возможность их упорядочения, – она должна там заключаться, чтобы я мог ее извлечь. Если мы образуем хотя бы связь звукового ряда, отношения близости одного тона к другому должны быть основаны на природе самих звуковых впечатлений. Эти отношения, следовательно, даны одновременно с известным количеством звуковых ощущений. Точно так же я в другом месте пытался доказать[ 8 ], что отношения причинности первоначально даны вместе с агрегатами ощущений в жизненности процесса. Таким образом, во всякой умственной связи имеется отношение различимых составных частей, допускающее аналитическое изображение, но никак не конструкцию такой связи. Объяснительная психология хочет конструировать такие великие длительные связи, как пространство, время, причинность, из некоторых ею изучаемых элементарных процессов ассоциации, слияния, апперцепции; описательная психология, наоборот, отделяет описание и анализ этих длительных связей от объясняющих гипотез. Таким образом, она делает возможной общеобязательную связь психологического познания, в котором целое душевной жизни видно наглядно, ясно и точно. Правда, образование гипотез о возникновении нашего пространственного созерцания неизбежно; но ведь никто не может не признать, что все существовавшие до сих пор теории были совершенно проблематичны. Такое критическое осознание положения вещей нисколько не уменьшает оценки и не мешает признанию значительности результатов работы над определением составных частей и элементарных процессов восприятия и течения мыслей, работы, дающей современной, в особенности немецкой физиологии, психофизике и психологии право на славу непреходящую. Новейшие работы в этой области, как, например, учение Штумпфа о слиянии тонов, выказывают тенденцию на место темного, следующего физическим аналогиям представления о самом процессе поставить общезначимое изображение выступающих в результате элементарного процесса признаков, в данном случае, следовательно, степени и ближайшие отношения в затруднении различения тонов. Это обусловливается тем, что мы не замечаем непосредственно элементарных процессов, как явления в нас или как выполнения какой-либо функции в нас, а воспринимаем в сознании лишь результат. Если следовать по этому пути, то и в указанной области общезначимое описание все больше и больше вступает в свои права. Сюда же относится и отказ от установления определенного числа абсолютно элементарных процессов, в качестве каковых теперь часто выставляются ассоциация и воспроизведение, а также и слияние, как таковые. Описательная психология может лишь в последовательном порядке описывать элементарные процессы, которые пока не могут быть с достоверностью сведены к простейшим. Узнавание, ассоциация и воспроизведение, слияние, сравнение, отождествление и определение степеней различия (что, впрочем, привходит в процесс различения), разделение и объединение суть такого рода процессы. Внутренние соотношения, в которых находятся между собой некоторые из них, напоминают о том, что и здесь общеобязательные описание и анализ могут доходить лишь до определенного пункта и что и здесь для установления безусловных утверждений возникают такие же затруднения, как и в вопросе о последних составных частях наших восприятий и представлений, в особенности в психологии звука. В расчленении интеллекта тут всюду проявляется то, что мы выставили в качестве общего отношения, а именно: встреча описательной и объяснительной психологии на крайних концах анализа. Сама опытная проверка найденных элементарных фактов на возникающей таким путем связи в какой-либо отдельной области является необходимой вспомогательной операцией описательной психологии для определения степени вероятности выставляемых гипотез. Ибо только путем определения степени вероятности отдельных гипотез описательная психология сохраняет возможность давать себе необходимый отчет в том отношении, в котором она в данный момент находится к наиболее выдающимся трудам и гипотезам объяснительной психологии.
Насколько иначе обстоит дело со связью наших побуждений и чувств, составляющей второй основной предмет расчленения отдельных областей душевной жизни! И, однако, тут мы видим перед собой подлинный центр душевной жизни. Поэзия всех времен находит здесь свои объекты; интересы человечества постоянно обращены в сторону жизни чувств; счастье и несчастье человеческого существования находится в зависимости от нее. Поэтому-то психология XVII века, глубокомысленно направившая свое внимание на содержание душевной жизни, и сосредоточилась на учении о чувственных состояниях, – ибо это и были ее affectus. Но насколько важны и центральны эти состояния, настолько упорно они противостоят расчленению. Наши чувства по большей части сливаются в общие состояния, в которых отдельные составные части становятся уже неразличимыми. При сложившихся условиях наши побуждения выражаются в конкретном, ограниченном в своей длительности, определенном в своем объекте стремлении, не доходя, однако, как таковые, до нашего сознания, т.е. как побуждения, проникающие и охватывающие в своей длительности каждое такое отдельное стремление и желание. И те и другие, т.е. и чувства и побуждения, не могут быть произвольно воспроизведены и доведены до сознания. Возобновлять душевное состояние мы можем только таким путем, что экспериментально вызываем в сознании те условия, при которых это состояние возникает. Из этого следует, что наши определения душевных состояний не расчленяют их содержания, а лишь указывают на условия, при которых наступает данное душевное состояние. Такова природа всех определений душевных состояний у Спинозы и Гоббса. Поэтому нам надлежит, прежде всего, усовершенствовать методы этих мыслителей. Определения, точная номенклатура и классификация составляют первую задачу описательной психологии в этой области. Правда, в изучении выразительных движений и символов представлений для душевных состояний открываются новые вспомогательные средства; но в особенности сравнительный метод, вводящий более простые отношения чувства и побуждений животных и первобытных народов, позволяет выйти за пределы антропологии XVII века. Но даже применение этих вспомогательных средств не дает прочных точек опоры для объяснительного метода, стремящегося вывести явления данной области из ограниченного числа однозначно определяемых элементов.
И фактически попытки объяснения находятся между собой в состоянии борьбы, выхода из которой решительно не предвидится. Уже основные вопросы не допускают убедительного разрешения. Нынешняя объяснительная психология в основу своего изложения кладет всегда какую-либо теорию об отношении качественных чувственных состояний к сливающимся с ними представлениям. Одни видят в побуждении первичный факт и рассматривают чувства как внутренние состояния, данные вместе с тем или иным состоянием в жизни побуждений. Другие, наоборот, рассматривают чувство как первичный факт, и из соединений, в которые оно вступает с ощущениями и представлениями, выводят побуждение и даже, больше того, волю, но ни одна из этих теорий не в состоянии обосновать заключающегося в ней упрощения действительного положения вещей. Точно так же не может быть проведено с достаточной убедительностью и сведение всех качественных различий в жизни наших чувств к простым состояниям удовольствия и неудовольствия и их соединениям с ощущениями и представлениями. Если бросить взгляд на поразительно богатую у всех народов литературу, касающуюся душевных состояний и страстей человеческих, то нельзя не увидеть, что все плодотворные и освещающие эту область положения не нуждаются в подобного рода объяснительных допущениях; в них описываются лишь сложные и выдающиеся формы процессов, в которых упомянутые различные стороны связаны друг с другом. И нужно лишь достаточно глубоко войти в анализ видных фактов в этой области, чтобы убедиться здесь в бесполезности таких объяснительных гипотез. Большинство психологов склонно характеризовать эстетическое наслаждение, вызываемое художественным произведением, как состояние удовольствия. Но эстетик, исследующий действие различного рода стилей в различных художественных произведениях, окажется вынужденным признать недостаточность такого понимания. Стиль какой-нибудь фрески Микеланджело или баховской фуги вытекает из настроения великой души, и понимание этих произведений искусства сообщает душе наслаждающегося определенную форму настроения, в которой она расширяется, возвышается и как бы распространяется.
Поэтому область самой душевной жизни, в действительности, еще не созрела для полной аналитической обработки; необходимо, чтобы до того описательная и расчленяющая психология завершила свою задачу на частностях. При этом исследование должно двигаться преимущественно по трем направлениям. Оно отображает основные типы течения душевных процессов; то, что великие поэты, в особенности Шекспир, дали нам в образах, оно стремится сделать доступным для анализа в понятиях. Оно выделяет некоторые основные отношения, проходящие через жизнь чувств и побуждений человека, и оно пытается установить отдельные составные части состояний чувств и побуждений. Если первое из указанных направлений, по которым производится исследование, ясно само собой, то остальные два должны быть пояснены на нескольких примерах.
Сквозь всю жизнь чувств и побуждений проходят некоторые основные отношения, имеющие решающее значение для уразумения человека. Я выделяю несколько таких основных отношений, – как бы темы для точного описательного метода. В качестве тем, они, естественно, кажутся тривиальными, лишь при проведении описания могла бы стать очевидной ценность подобных изображений, еще повышающаяся вследствие того, что от этих отношений зависят важные различия индивидуальностей. Такого рода отношение заключается в слиянии чувств и в их перенесении. Под этим выражением следует разуметь перенесение чувства на нечто, регулярно связанное с областью его возникновения; так, например, с цели на средство, с действия на причины. Далее, подобное же основное отношение заключается в том, что стоики, Гоббс и Спиноза обозначили как инстинкт самосохранения или роста "я": стремление к полноте духовных состояний, к изживанию себя, к развитию сил и побуждений. Мы замечаем, что в задерживающем состоянии из чувства гнета регулярно возникает стремление освободиться от него. Представление грядущих бедствий при определенных условиях действует на душу столь же сильно, как и наличность самого бедствия, подчас даже еще сильнее; в частности, чем больше люди живут представлениями, а не впечатлениями, чем больше они как бы подводят счет своему будущему, тем легче они поддаются страху, когда жизненной связи угрожает какое-либо нарушение. Род и степень того, как прошлое влияет на душу, также зависит от определенных условий в строе душевной связи. Замечено, что люди взаимно повышают друг у друга аффекты; известно, что какое-либо собрание политически более возбудимо, нежели возбуждался бы каждый из присутствующих в отдельности, и выступающие при этом различия зависят от определенных условий душевной жизни. Другую столь же важную черту составляет постоянное претворение наших душевных состояний в соответствующие представлениям символы и в выразительные движения. Оба эти вида претворения наших душевных состояний связаны между собой и отличаются от проявления душевных состояний в действиях, направленных на внешние или внутренние изменения. Они подпадают под понятие символизирующей деятельности, установленной в этике Шлейермахера, и имеют огромное значение как для религиозных, так и для художественных проявлений жизни человека.
Анализ пытается затем установить отдельные составные части состояний чувств. Чувства встречаются нам в жизни постоянно в конкретных слияниях. Подобно тому, как образ восприятия содержит в себе, в качестве единиц, ощущения, так и конкретные чувственные состояния заключают в себе элементарные чувства. В картине чувственный тон отдельных красок, их гармония и контраст, красота форм, экспрессия, наслаждение, вызываемое идеальным содержанием, взаимодействуют для цельного впечатления от нее. Мы не исследуем вопроса о том, что является первоосновой качественных отличий в наших чувствах, выступающих наряду с различиями в интенсивности; мы прежде всего принимаем эти различия как факты. Подобно тому, как повторяются ощущения, заключающиеся в восприятиях, также можно проследить сходные соотношения и в элементарных чувствах. С определенным классом антецедентов регулярно связывается определенный класс чувственных процессов. Подобно тому, как данному классу раздражений соответствует круг чувственных качеств, так и классу таких антецедентов соответствует круг элементарных чувств. Для экспериментальной психологии здесь открывается широкое поле плодотворных изысканий. В опыте можно взять простейшие антецеденты и установить регулярные соединения их с простыми чувствами. Таким образом возникает понятие о чувственных кругах, как о последних фактах жизни чувств, находимых путем анализа[ 9 ]. Сходным образом могут быть очерчены и круги побуждений. Но и здесь, также как и при разборе элементарных функций нашего интеллекта, мы пока должны совершенно отказаться от установления ограниченного числа дефинитивно элементарных фактов. Объяснительный метод этого бы требовал, описательный же и расчленяющий именно в этой области чувствует свое превосходство, сообщаемое ему тем, что он ограничивается рассмотрением разрешаемых задач.
Третья основная связь в нашей душевной жизни образуется из волевых действий человека. Здесь анализ вновь обретает верную путеводную нить в постоянных соотношениях. Ему предстоит прежде всего определить понятия постановки цели, мотива, отношений между целью и средствами, выбора и предпочтения, а затем развить отношения этих понятий между собой. За этим следует анализ отдельного волевого действия, как он произведен в тщательной статье Зигварта. При этом искусство описательной психологии состоит в том, что предметом для расчленения она берет развившийся уже процесс, в котором составные части яснее всего выступают наружу. В расчленении этом строго разделяются мотив, цель и средства. Процесс выбора или предпочтения ясно сознается во внутреннем восприятии. Кроме того, наши целевые действия отчасти выявляются наружу и таким образом объективируются для нас. Волевое действие вытекает из общего уклада жизни наших чувств и побуждений. В нем заключается намерение внести изменения в эту жизнь. Таким образом, он заключает в себе некоторого рода представления о цели. Упомянутое намерение либо направляется на достижение намеченной цели во внешнем мире, либо оно отказывается от того, чтобы путем внешних действий изменить уклад сознания, и стремится прямо произвести внутренние изменения в душевной жизни. Тот момент, когда дисциплина внутренних волевых действий возымеет власть над человеком, составляет эпоху в его религиозно-нравственном развитии. Поскольку же внутренний процесс или состояние могут стать фактором волевого решения, постольку они являются и мотивом же. Уже во время взвешивания мотивов с представлением цели связывается представление о средствах. Если из стремления к изменению положения вытекли одно или несколько представлений о цели, то в душе возникает проверка, выбор, предпочтение, и наиболее подходящее представление цели, средства к достижению которой вместе с тем доступнее всего, становится моим волевым решением. Тогда наступает опять проверка, выбор и решение относительно всех имеющихся в распоряжении средств к достижению этой цели.
Анализ волевых действий человека не может, однако, ограничиться расчленением отдельного волевого действия. Подобно тому, как в области интеллекта единичная ассоциация или единичный мыслительный акт не составляют главного предмета анализа, так не составляет его в области практической единичное волевое решение. Тщательный анализ отдельных волевых действий как раз и приводит к нахождению зависимости их от приобретенной связи душевной жизни, обнимающей как основные отношения наших представлений, так и постоянные определения ценностей, навыки нашей воли и господствующие целевые идеи, и содержащей таким образом правила, которым, хотя мы этого часто и не сознаем, наши действия подчиняются. Таким образом, эта связь, постоянно воздействующая на отдельные волевые действия, составляет главный предмет психологического анализа человеческой воли. Мне нет надобности вызывать в сознание всю связь моих профессиональных заданий для того, чтобы сообразно настоящему положению их, подчинить этой связи то или иное действие, – намерение, содержащееся в этой связи задач, продолжает действовать, хотя я и не довожу ее до своего сознания. При этом во всяком насыщенном культурными соотношениями сознании перекрещиваются разнообразные целевые связи. Они могут никогда не присутствовать одновременно в сознании. Для того чтобы оказать свое действие, каждое из них вовсе не должно непременно находиться в сознании. Но они – не вымышленные. Они – психическая действительность. Лишь учение о приобретенной связи душевной жизни, действующей, не будучи отчетливо осознанной и включающей в себя другие связи, может сделать понятным такое положение вещей. Рядом с этим постоянством волевой связи можно поставить единообразие этой связи в отдельных индивидах.
Так возникают основные формы человеческой культуры, в которых объективируется постоянная и единообразная воля. Формы эти составляют выдающийся объект для анализа, направленного на элементы воли и соединения их. Мы изучаем природу, законы и связь наших волевых действий на внешнем устройстве общества, на хозяйственном и правовом порядке. Тут мы имеем такую же объективацию связей в нашем практическом поведении, какую мы находим в числе, во времени, в пространстве и прочих формах нашего познания мира в нашем восприятии, представлении и мышлении. Отдельное волевое действие в самом индивиде является лишь выражением длительного направления воли, которое может заполнить целую жизнь, хотя и не сознается нами постоянно. Ибо характер мира практического в том и состоит, что им управляют длительные отношения, переходящие от индивида к индивиду, не зависящие от движения воли в отдельные моменты и сообщающие практическому миру его прочность. Как в области интеллекта, так и в области практической, анализ должен быть направлен на эти длительные соотношения.
Остается еще указать лишь на то, что этот описательный и анализирующий метод дает также основу для постижения отдельных форм душевной жизни, различий полов, национальных характеров, вообще главных типов целевой человеческой жизни, а также типов индивидуальностей.
ГЛАВА ПЯТАЯ ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ И ОПИСАТЕЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИЕЙ
Если беспристрастно взвесить излагаемые нами соображения, чего, впрочем, со стороны некоторых завзятых фанатиков в психологии ожидать не приходится, то можно прежде всего согласиться относительно следующих пунктов. Представители объяснительной психологии будут с полным основанием отстаивать то положение, что испытание и проведение какой-либо гипотезы в более или менее широкой области явлений есть важнейший метод психологического преуспеяния. Ибо там, где опыт не дает уже никакой связи в распоряжение психолога, где он не дает уже возможности провести соединение и разграничение, где нельзя добыть эту связь из многообразия отдельных случаев, как господствующее правило, там наблюдение, сравнение, эксперимент и анализ должны быть направлены к определенной цели при посредстве гипотезы. Однако, сторонники объяснительного метода не станут утверждать, что в настоящее время какая-либо одна гипотеза может предпочтительно перед другими претендовать на то, чтобы раскрыть нам подлинные объяснительные основы душевной жизни. Поэтому, описательная психология, со своей стороны, вправе настаивать на том, что ни одна существующая в настоящее время объяснительная психология не может быть положена в основу наук о духе.
Больше того, она вправе указать на вредное влияние, оказываемое подобной объяснительной психологией на науки о духе. Грот, Бокль и Тэн пришли к своему методу описания истории под тем впечатлением, что для понимания причинной исторической связи недостаточно применения жизненного опыта; этим исследователям, наоборот, казалось, что к истории должны быть применены крупные завоевания психологии, на которые в то время во Франции и в Англии были обращены все взоры. Но как раз труды этих авторов доказали, что легче историку соблюсти беспристрастие, когда он доверится своему жизненному чувству, чем когда он станет применять односторонние теории объяснительной психологии. Вместе с тем в стремлениях названных историков была яркая тенденция, имевшая последствием необычайный успех их произведений. Если бы удалось создать объективную, целиком охватывающую душевную жизнь психологию, на которую можно было бы положиться, то она, наряду с опытными науками о системах культуры и об организации общества, дала бы основание стремлению философского историка к более глубокой причинной связи в историческом развитии.
Дальнейшим примером вредного влияния объяснительной психологии на науки о духе является современное направление в уголовном праве, примыкающее в особенности ко взглядам обоих Миллей, Спенсера и Тэна и конструирующее детерминистское, не то психологически, не то биологически обоснованное уголовное право. Последнее жертвует данными самой жизнью и образцово формулированными классической юриспруденцией понятиями ради односторонних теорий, преподносимых и вновь отнимаемых современностью. В действительности, свобода выбора есть лишь соответствующее представлению выражение для неистребимого сознания нашей спонтанности и жизненности. В то время как способ действования, ведущий от посылок к заключению, от чувства неудовольствия к стремлению, регулярно сопровождается ощущением необходимости, существуют еще другие формы действия, как, например, преодоление возбуждения направленным к выполнению долга волевым действием, причем этого рода переживания сопровождаются особым внутренним чувством, именуемым свободой. Мы тут лишь выражаем нечто данное нам во внутреннем опыте. Вопроса об объективной планомерности в человеческих действиях и в жизни общества это установление данного во внутреннем опыте нисколько не касается. Свобода, как возможность иначе совершить отдельный поступок, не является необходимым научным следствием из того, что содержится во внутреннем опыте. Напротив, когда данное таким образом во внутреннем опыте сознание свободного действования направляется, в моем представлении, на отношение конечного действия, составляющего преступление или моральный поступок, к его условиям, тогда свобода эта, как возможность иначе совершить то или другое действие, является лишь соответствующим представлению выражением для жизненности и свободы действования, относящимся ко всей связи моего поведения, соответственно моему характеру. Это – то, что истинно в учениях Канта, Шеллинга и Шопенгауэра об интеллигибельной свободе. И если во всем этом связном отношении, сопровождаемом в переживании сознанием свободы, содержится возникновение новых ценностей, которые не могут быть исчисленными из соотношения мотивов самих по себе, то это не является аномалией в области духа, а наоборот, аналогии этому могут быть найдены в области всех творческих, эстетических и интеллектуальных действий. Поэтому современное уголовное право не может подставлять скучного, недоказанного представления о психической или психофизической машине на место жизненных понятий, выведенных юриспруденцией из сознания спонтанности, жизненности и ответственности в волевых действиях. Подобное вредное влияние объяснительной психологии можно было бы проследить также в области политической экономии, истории литературы и эстетики.
Итак, необходима и возможна психология, кладущая в основу своего развития описательный и аналитический метод, и лишь во вторую очередь применяющая объяснительные конструкции, причем она сознает наличие положенных им пределов и применяет эти конструкции так, что такие гипотезы не являются, в свою очередь, основанием для дальнейших гипотетических объяснений. Она будет основанием наук о духе, подобно тому как математика – основа естествознания. Именно в этом здоровом взаимодействии с опытными науками о духе она разовьется всесторонне. Путем установления точных определений и номенклатуры она постепенно введет общую научную терминологию. С другой стороны, она подготовит объяснительную монографию путем собирания материалов, описания связей душевной жизни и тщательного анализа. Она облегчит контроль над гипотезами.
Понятие приведенных положений непредвзятыми психологами может быть постепенно достигнуто. И этих положений достаточно для определения задачи описательной психологи в связи наук о духе. Поэтому я и отделяю их от захватывающего более широкую область положения, на признание которого нельзя с таким же вероятием рассчитывать. Объяснительная психология, как система, не может ни теперь, ни в будущем привести к объективному познанию связи психических явлений. Она обладает лишь эвристической ценностью. Как бы велико ни было значение объяснительной монографии, но метод установления совокупности гипотетических объяснительных элементов и выведения из нее путем конструкции совокупности достижимых психических явлений не может привести к объективному познанию душевной жизни.
Прежде всего, я устанавливаю принцип, из которого я затем вывожу это положение Цель изучения психических явлений – познание их связи. Связь же эта посредством внутреннего опыта дается нам в отношениях действования, как связь живая, свободная и историческая. Она является общей предпосылкой, при которой для нашего восприятия и мышления, для фантазии и для действия становится вообще возможным установление связи. Связь чувственного восприятия не вытекает из чувственных раздражений, в ней соединенных. Таким образом, она возникает лишь из живой, единой деятельности в нас, которая, в свою очередь, сама является связью. Процессы нашего мышления состоят из такого же живого объединения. Сравнение, связывание, разделение, слияние всюду поддерживаются психической жизненностью. В пределах дискурсивного мышления в эти элементарные процессы вступает отношение между субъектом и предикатом, вещью, свойством и действием, субстанцией и причинностью, причем это отношение также возникает из внутреннего опыта самости и действования. Таким образом, всякая связь, видимая нашим восприятием и устанавливаемая нашим мышлением, вытекает из собственной внутренней жизненности. Даже когда мы выражаем причинное равенство, оно является частичным содержанием этой живой связи. Ибо последняя содержит в себе также отношения необходимости и равенства. Но в любом пункте она содержит и больше этого. Мы не можем создать связи помимо той, которая нам дана. Наука о душевной жизни не может зайти по ту сторону связи, так как последняя дана нам самим внутренним опытом. Сознание не может проникнуть по ту сторону самого себя. Связь, в которой действует само мышление и из которой оно исходит, и от которой зависит, является для нас непреложной предпосылкой. Мышление не может уйти по ту сторону своей собственной действительности, в которой оно возникает. Если позади этой последней данной нам действительности оно хочет конструировать рациональную связь, то она может быть составлена лишь из частичных содержаний, встречающихся в самой этой действительности. Это и имеет место во всякой рациональной, объяснительной и конструктивной психологии. Отношения необходимости и равенства, выступающие в душевной связи, выделяются из нее и объединяются в отвлеченное целое. Но от этой абстракции, разумеется, ни один правомерный путь мышления не ведет обратно к живой действительности душевной связи. Без causa aequat effectum для объяснительной психологии не было верного правила развития. Таким образом, она была вынуждена обосновать данную в опыте жизнь на лежащей за нею рациональной связи, не данной так в опытной жизни. Эта конструкция данного в жизни через некоторую подставку под него не может претендовать на то, чтобы дополнить наше знание о живой связи. Связь эта возможна лишь в том случае, если частичные содержания живого опыта достижения будут соединены руководящей нитью внешних познаний природы. Отсюда следует, что эта объяснительная психология сокращает полноту жизни и примешивает предпосылки из области природы. Она делает выводы из частичных фрагментов содержания жизни, приведенных в рациональную причинную связь. Гербарт является блестящим примером этому. Основным общим воззрением своей психологии он был обязан педагогическому опыту, служившему плодотворной базой его мышления. У Песталоцци он научился рассматривать представления, как силы, которые, будучи однажды приобретены, постоянно влияют на дальнейшую душевную жизнь. Но способ, которым он проводил это воззрение, мог бы быть подвергнут совершенно такой же критике, какую Тренделенбург столь убедительно применил к гегелевской логике. Он молчаливо вкладывает в свои представления всю жизненность, которую он затем берется из них вывести. Точно так же поступает и ассоциативная психология. В простом облегчении процесса вывода, как действия привычки, не заключается никаких данных для того, чтобы это привыкание привело к связи, к внутреннему соединению; это выступление внутренних связей на основе повторяющихся во времени соотношений, наоборот, взято из жизненности и вкладывается в ассоциацию. Так это и остается: во всякой рационализирующей объяснительной системе в составные части объяснения вкладывается жизнь, при последующем же понимании подобной теории вся эта жизненность привлекается к содействию, и только поэтому она затем и может быть выведена.
Метод объяснительной психологии возник из неправомерного распространения естественнонаучных понятий на область душевной жизни и истории. Познание природы стало наукою, когда в области процессов движения оно установило уравнения между причинами и действиями. Эта связь природы по причинным уравнениям была навязана нашему живому мышлению через посредство объективного порядка природы, репрезентируемого во внешних восприятиях. Правила Гераклита в изменениях, численные соотношения пифагорейцев в звуках и путях созвездий, сохранение массы и единородность мироздания у Анаксагора, сведение Демокритом непостижимых качественных изменений в мире на количественные отношения, его счет движениям атомов при допущении продолжения всякого начатого движения – эти первые шаги общего учения о природе показывают нам, как идет ощупью человеческий ум, влекомый вперед постоянством и единообразием в природе. Аксиомы, относимые Кантом к нашему априорному достоянию, подмечаются в природе, когда мы исходим из живых связей в нас. В возникающей таким путем рациональной связи явлений именно закон, постоянство, единообразие, нахождение в уравнениях причинности и представляют собою выражение объективных отношений во внешней природе. Наоборот, живую связь души мы приобрели не путем постепенного испытания. Связь эта есть жизнь, которая налицо – до всякого познания. Жизненность, историчность, свобода, развитие являются признаками ее. Если мы станем анализировать эту душевную связь, мы нигде не наткнемся на что-либо вещественное или субстанциальное, мы нигде не сможем составлять из элементов, здесь нет изолированных элементов, они везде неразрывно связаны с функциями. Функции же, как правило, у нас не доходят до сознания. Различия, степени, разделения просто присутствуют, хотя у нас нет сознания процессов, путем которых они были установлены. Это-то и усилило трудность гносеологической проблемы априорности. Мы не можем двигаться вперед в причинных уравнениях, обоснованных опытным путем; понятие о причине, которое внутреннее восприятие действительно находит, не возвращается просто в произведенном действии.
Дальнейшее доказательство тому, что внешнюю связь природы нельзя перенести в область душевной жизни, может быть здесь намечено лишь в принципе. Рационалистическое объяснение мира, примененное к трансцендентному, не только приводит к противоречиям, как то неоспоримо показал Кант, но даже и в пределах данной действительности, если ее хотят выставить для рассудка ясной во всех ее составных частях и во всей ее связи, возникают противоречия и антиномии. Последние имманентны опытной действительности, поскольку рассудок стремится доказать ее полную логическую прозрачность. Это прежде всего основано на том, что как наше сознание мира, так и наше самосознание возникли из жизненности нашего "я", а эта жизненность – больше, чем Ratio. Доказательством тому служат понятия единства, тождества, субстанции, причинности. Другие антиномии основаны на том, что факты различного происхождения не могут быть сведены друг к другу. Доказательством тому служит отношение к числу постоянных величин пространства, времени и движения. С этим связано то, что изжитое изнутри не может быть подведено под понятия, развившиеся в применении к внешнему миру, данному нам в чувственном восприятии.
ГЛАВА ШЕСТАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ И УСЛОВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОПИСАТЕЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Разрешение этой задачи предполагает прежде всего, что мы можем воспринимать внутренние состояния. Фактическое доказательство этому заключается в знании о душевных состояниях, которыми мы несомненно обладаем. Всякий знает, что такое чувство удовольствия, волевой импульс или мыслительный акт. Никто не подвержен опасности смешать их между собою. Раз такое знание существует, оно должно быть и возможным. Не могут, следовательно, быть справедливыми возражения, которые приводились против таких возможностей. И в самом деле, возражения эти основаны на очевидном перенесении того, что относится к внешнему восприятию, на восприятие внутреннее. Всякое внешнее восприятие покоится на различении воспринимающего субъекта и его предмета. Внутреннее же восприятие прежде всего есть не что иное, как именно внутреннее сознание какого-либо состояния или процесса. Какое-нибудь состояние налицо передо мной, когда оно осознано. Если я чувствую себя печальным, то это чувство печали не есть мой объект, но в то время, когда это состояние мною осознается, оно налицо передо мной таким, который именно сознает. Я убеждаюсь в нем. Эти восприятия внутренних состояний вспоминаются. Так как они часто возвращаются в том же соединении с внешними и внутренними условиями, которыми они вызываются, то возникает знание, присущее каждому из нас о его состояниях, его страстях и его стремлениях.
Если же выражение "восприятие" взять в более узком и точном смысле внимательного подмечания, то возможность такого восприятия будет, конечно, ограничена более тесными рамками, но в их пределах его возможность все же сохранится. Если мы это внимательное подмечание назовем наблюдением, то психологии придется считаться с учением о том, что наблюдение собственных состояний невозможно. Оно, конечно, было бы невозможно, если бы оно было связано с различением наблюдающего субъекта и его предмета. Наблюдение объектов природы покоится на этом различении наблюдающего субъекта и его предмета. Но когда в сферу наблюдения попадают внутренние состояния, происходит процесс совершенно иного рода. Ибо от сознания внутренних состояний или процессов наблюдение их отличается только усиленным, направляемым волей, возбуждением сознательности. Подобно тому, как везде следует избегать смешения предпосылок познания природы с предпосылками постижения фактов духовной жизни, так и здесь мы должны остерегаться перенесения того, что имеет место при наблюдении внешних предметов, на внимательное постижение внутренних состояний. Я, несомненно, могу направить свое внимание на боль, которую я сознаю, и таким образом подвергнуть ее наблюдению. На этой способности наблюдения внутренних состояний покоится возможность экспериментальной психологии. Но, конечно, это наблюдение внутренних состояний ограничено условиями, при которых оно возникает. Какого бы взгляда ни придерживаться относительно возникновения волевого акта, эмпирически, во всяком случае, достоверно, что родственность внимания с волевыми актами выражается в том, что при нем уничтожается всякое состояние рассеянности, непроизвольной игры представлений, а также в том, что внимание никогда не может быть направлено в иную сторону, нежели одновременно с ним сосуществующий волевой акт. Поэтому мы никогда не можем наблюдать игры наших представлений или со вниманием следить за самим актом мышления. О такого рода процессах мы знаем лишь по воспоминанию. Последнее, однако, является значительно более достоверным вспомогательным средством, нежели то обычно думают, тем более, что мы можем еще подхватить в таком воспоминании только что прерванный процесс, как подхватывают концы нитей разорванной ткани.
В другом месте пункт этот будет надлежащим образом развит, здесь же достаточно было указать, на чем основана возможность наших знаний о внутренних состояниях. В известных границах возможность постижения внутренних состояний существует. Правда, и в пределах их постижение это затрудняется внутренним непостоянством всего психического. Последнее – всегда процесс. Дальнейшее затруднение заключается в том, что восприятие это относится всегда к одному единственному индивиду. Кроме того, мы не в состоянии измерить ни власти, которой обладает в нашей душе какое-либо представление, ни силы волевого импульса или интенсивности ощущения удовольствия. Для нас не имеет смысла приписывать одному из этих состояний силу вдвое большую, нежели другому. Однако, недостатки эти более чем уравновешиваются решительным преимуществом, присущим внутреннему восприятию по сравнению с внешним. При осознании наших внутренних состояний мы постигаем их без посредства внешних чувств – в их реальности, такими, как они есть. И тут же, чтобы восполнить указанные недостатки, на помощь является другое вспомогательное средство.
Внутреннее восприятие мы восполняем постижением других. Мы постигаем то, что внутри их. Происходит это путем духовного процесса, соответствующего заключению по аналогии. Недочеты этого процесса обусловливаются тем, что мы совершаем его лишь путем перенесения нашей собственной душевной жизни. Элементы чужой душевной жизни, разнящиеся от нашей собственной не только количественно, или же отличающиеся от нее отсутствием чего-либо, присущего нам, безусловно не могут быть восполнены нами положительно. В подобном случае мы можем сказать, что сюда привходит нечто нам чуждое, но мы не в состоянии сказать, что именно. За большое внутреннее сродство всей человеческой душевной жизни говорит то, что для исследователя, привыкшего оглядываться вокруг себя и знающего свет, понимание чужой человеческой душевной жизни в общем вполне возможно. Зато при познании душевной жизни животных пределы этого познания весьма неприятным образом обнаруживают свое значение. Наше понимание позвоночных, обладающих в основных чертах той же структурой, что и мы, естественно, является относительно лучшим, какое мы имеем о жизни животных; при изучении импульсов и аффективных состояний оно оказывается даже весьма полезным для психологии; но если наряду с позвоночными членистоногие оказываются важнейшим, обширнейшим, и в умственном отношении наиболее высоко стоящим разрядом животных, в особенности же перепончатокрылые, к которым принадлежат пчелы и муравьи, – то одна уже до крайности разнящаяся от нашей их организация чрезвычайно затрудняет толкование физических проявлений их жизни, которым, несомненно, соответствует и в высшей степени чуждая нам внутренняя жизнь. Таким образом, тут у нас отсутствуют все средства для проникновения в обширную душевную область, являющуюся для нас совершенно чуждым миром; беспомощность наша по отношению к нему выражается в том, что поразительные душевные проявления пчел и муравьев мы подводим под смутнейшее из понятий, под понятие инстинкта. Мы не можем составить себе никакого понятия о пространственных представлениях в голове паука. Наконец, у нас не существует никаких вспомогательных средств для определения того, где кончается душевная жизнь и где начинается организованная материя, лишенная ее.
Но психология принуждена компенсировать одно другим в недостаче имеющихся в распоряжении ее вспомогательных средств. Так она соединяет восприятие и самонаблюдение, постижение других людей, сравнительный метод, эксперимент, изучение аномальных явлений. Она пытается сквозь многие входы проникнуть в душевную жизнь.
Весьма важным дополнением к этим методам, поскольку они занимаются процессами, является пользование предметными продуктами психической жизни. В языке, в мифах, в литературе и в искусстве, во всех исторических действованиях вообще мы видим перед собою как бы объективированную психическую жизнь: продукты действующих сил психического порядка, прочные образования, построенные из психических составных частей и по их законам. Если мы наблюдаем процессы в самих себе или в других, мы видим в них постоянную изменчивость, вроде пространственных образов, очертания которых постоянно менялись бы; поэтому неоценимо важным представляется иметь перед собой длительные образования с прочными линиями, к которым наблюдение и анализ всегда могли бы возвращаться.
Вопрос о том, может ли задача описательной психологии быть разрешена этими вспомогательными средствами, зависит от попытки познать объемлющую и единообразную связь всей душевной жизни человека. Психологический анализ с полной достоверностью установил ряд отдельных связей. Мы вполне можем проследить процессы, ведущие от внешнего воздействия к возникновению образа восприятия; мы можем также проследить преобразование его в воспоминаемое представление; мы можем описать образование представлений фантазии и понятий. Точно так же – мотивы, выбор, целесообразные действия. Но все эти отдельные связи надлежит скоординировать в одну общую связь душевной жизни. И вопрос весь в том, окажемся ли мы в состоянии проложить себе к нему дорогу.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ СТРУКТУРА ДУШЕВНОЙ ЖИЗНИ
"Я" находит себя в смене состояний, единство которых познается через сознание тождества личности; вместе с тем оно находит себя обусловленным внешним миром и в свою очередь воздействующим на него; этот внешний мир, как ему известно, охватывается его сознанием и определяется актами его чувственного восприятия. Из того же, что жизненная единица обусловлена средою, в которой она живет и, со своей стороны, на нее влияет, возникает расчленение ее внутренних состояний. Расчленение это я обозначаю названием структуры душевной жизни. Благодаря тому, что описательная психология постигает эту структуру, ей открывается связь, объединяющая психические ряды в одно целое. Это целое есть жизнь.
Всякое психическое состояние во мне возникло к данному времени и в данное время вновь исчезнет. У него есть определенное течение: начало, середина и конец. Оно – процесс. В смене этих процессов пребывает лишь то, что составляет форму самой нашей сознательной жизни: взаимосоотносительное отношение между "я" и предметным миром. Тождество, в котором процессы связаны во мне, само не процесс, оно не преходяще, а пребывающе, как сама моя жизнь, оно связано со всеми процессами. Точно так же этот единый существующий для всех предметный мир, который был до меня и будет после меня, находится передо мною, как ограничение, коррелят, противоположность этому "я" со всяким его сознательным состоянием. Таким образом, сознание этого мира – не процессы и не агрегат процессов. Но все остальное во мне, кроме этого коррелятного отношения мира и "я", есть процесс.
Процессы эти следуют один за другим во времени. Нередко, однако, я могу подметить и внутреннюю связь между ними. Я нахожу, что одни из них вызываются другими. Так, например, чувство отвращения вызывает склонность и стремление удалить внушающий отвращение предмет из моего сознания. Так предпосылки ведут к заключению. В обоих случаях я замечаю это влияние. Процессы эти следуют один за другим, но не как повозки одна позади и отдельно от другой, не как ряды солдат в движущемся полку, с промежутками между ними: тогда мое сознание было бы прерывным, ибо сознание без процесса, в котором оно состоит, есть нелепость. Наоборот, в моей бодрствующей жизни я нахожу непрерывность. Процессы в ней так сплетаются один с другим, и один за другим, что в моем сознании постоянно что-либо присутствует. Для бодро шагающего путника все предметы, только что находившиеся впереди него или рядом с ним, исчезают позади него, а на смену им появляются другие, между тем как непрерывность пейзажа не нарушается.
Я предлагаю обозначить то, что в какой-либо данный момент входит в круг моего сознания, как состояние сознания, status conscientiae. Я произвожу как бы поперечное сечение с тем, чтобы познать наслоения, составляющие полноту такого жизненного момента. Сравнивая между собой эти временные состояния сознания, я прихожу к заключению, что почти всякое из них, как то можно доказать, включает в себя одновременно представление, чувство и волевое состояние.
Во всяком состоянии сознания заключаются прежде всего, как составная часть, представления. Понимание истинности этого предложения требует, чтобы под такой составной частью разумелись не только цельные образы, выступающие в восприятии или от него остающиеся, но также и всякое относящееся к представлению содержание, являющееся частью общего душевного состояния. Физическая боль, как горение раны, содержит в себе, кроме резкого чувства неудовольствия, также органическое ощущение качественной природы, совершенно как ощущение вкусовое или зрительное; кроме того оно включает в себя и локализацию. Точно так же всякий процесс побуждения, внимания или хотения содержит в себе такое, характера представлений, содержание. Как бы смутно эта содержание ни было, все-таки только оно определяет направление волевого процесса.
Понимание наличности чувственного возбуждения во всяком сознательном жизненном состоянии также зависит от того, берем ли мы эту сторону душевной жизни во всей ее широте. Сюда в такой же мере, как удовольствие и неудовольствие, относится также одобрение и неодобрение, нравится ли что-либо или не нравится, и вся игра тонких оттенков чувств. Во всяком побуждении неотразимо действуют смутные чувства. Внимание направляется интересом, а последний представляет собою участие чувства, вытекающее из положения, в котором находится наше "я", и из отношений его к предмету.
При хотении образ, предносящийся воле, сопровождается чувством удовольствия; в нем, кроме того, часто заключается неудовольствие от настоящего состояния; двигателями его всюду являются чувства. Установить наличность чувственного возбуждения в нашем представляющем и мыслящем поведении труднее; но при тщательном наблюдении оказывается возможным доказать и это. Правда, я не могу согласиться с широко распространенным учением о том, что всякое ощущение, как таковое, связано с некоторым чувственным тоном. Но каждый раз, когда в центр нашего внимания попадает простое и сильное ощущение, от него исходит также легкая чувственная окраска душевного состояния. Так как зрительным ощущениям присущ самый слабый чувственный тон, то вышеизложенное положение может считаться доказанным, если его удастся проверить в приложении к ним. Это доказательство вытекает из опыта, произведенного впервые еще Гете. Если мы будем рассматривать один и тот же пейзаж сквозь различно окрашенные стекла, то, хотя и в мало заметной степени, это придаст пейзажу совершенно различное настроение, в зависимости от различного влияния, оказываемого на наши чувства разными цветами. Влияние, оказываемое на жизнь наших чувств высотой звука или его тембром, много яснее; таково, например, действие трубы или флейты. Если перейти от этих чувств, являющихся носителями эстетических воздействий и познания, к чувствам, лежащим глубже и находящимся в близком отношении к самосохранению, то участие чувств окажется всюду горячее, а подчас даже и резким. Приведенные факты опровергают учение Гербарта, согласно которому чувства вытекают из отношений между представлениями. Когда ощущения вступают во взаимоотношения, из этого возникают новые чувства, как то видно на примерах чувства удовольствия, возникающего из созвучности, и неудовольствия – из диссонанса. Точно так же и мыслительный процесс, уже как деятельность внимания, сопровождается участием чувства в виде интереса. К этому присоединяется возбуждение чувств при задержке. Впечатления остроумия, проницательности, неожиданности сочетаний, не говоря уж об очевидности и сознании противоречия, как неправильности, часто понимаются как чувства. Я склонен был бы сказать, что эти внутренние состояния сами по себе – не чувства, но что к очевидности неминуемо присоединяется удовлетворение, а к противоречию - неприятное чувство, сходное с дисгармонией. Так и созвучие в качестве состояния частичного слияния, хотя бы основного тона и октавы, является сначала состоянием представления, и лишь вторично для нашего понимания процесса в этом состоянии представления содержится приятное чувство сродства звуков.
Если мы обратимся, наконец, к рассмотрению вопроса о наличии волевой деятельности в психических процессах, то здесь доказательство в наименьшей степени удовлетворяет предъявляемым требованиям. Всякое чувство имеет тенденцию перейти в вожделение или отвращение. Всякое состояние восприятия, находящееся в центре моей душевной жизни, сопровождается деятельностью внимания; – благодаря ему я объединяю и апперципирую впечатления,– красочные пятна на картине становятся предметом. Всякий мыслительный процесс во мне ведется намерением и направлением внимания. Но и в ассоциациях, протекающих во мне как бы помимо воли, интерес определяет собою направление, в котором совершаются соединения. Не указывает ли это на то, что основу их составляет волевой элемент? Здесь, однако, мы попадаем в темные пограничные области: начала волевого – в длительных направлениях духа, и самодеятельного – как условия испытываемого давления или воздействия. Так как из настоящих описаний должен быть исключен всякий гипотетический элемент, то надо признать, что наличие волевой деятельности в психических процессах может быть доказано с наименьшей безукоризненностью.
Но мы и общие состояния обозначаем именем чувства или волевого процесса, или представления. Это основано прежде всего на том, что такого рода общее состояние ~ мы всякий раз обозначаем преимущественно по той стороне его, которая попадает во внутреннее восприятие. В восприятии красивого пейзажа господствует представление; лишь при более тщательном рассмотрении я обнаруживаю состояние внимания, т. е. связанную с представлением волевую деятельность, причем все вместе проникнуто глубоким чувством наслаждения. Однако не одно это составляет природу такого рода общего состояния и подсказывает решение вопроса о том, назовем мы его чувством, волением или представлением. Дело идет не только о количественном соотношении различных сторон одного общего состояния. Внутреннее отношение этих различных сторон моего поведения, – как бы структура, в которой переплетаются между собой эти нити, – в чувственном состоянии иное, чем в состоянии волевом, а в этом последнем – иное, чем в представлении. Так, например, во всяком состоянии, где господствует представление, деятельность внимания и связанные с нею возбуждения сознания совершенно подчинены развитию представления; волевые движения целиком вошли в эти образования представляющей природы: они в них растворяются. Отсюда и возникает видимость чисто представляющего, свободного от воли, состояния. Волевой процесс, наоборот, обнаруживает совершенно иное соотношение между представляющим содержанием и волением, здесь дело идет о совершенно своеобразном соотношении между намерением, образом и будущей реальностью. Предметный образ здесь является как бы оком желания, обращенным на реальность.
Перейдем далее. В представляющих состояниях мы можем без помощи гипотез установить ряд между восприятиями, воспроизводимыми памятью представлениями и словесными процессами мышления, причем члены этого ряда будут находиться между собою во внутренней связи. Точно так же мы можем без помощи гипотез описать связь, в которой сравниваются и взвешиваются мотивы, производится выбор, и целесообразно захватывающие друг друга процессы движения определяются решением воли. С одной стороны, прогрессирующее развитие интеллекта, вызываемое глубоко захватывающей силой общих узрений, с другой – прогрессирующая идеализация волевой деятельности, вызываемая воспитанием внутренних процессов и внешних движений, и представляющая в распоряжение воли все больше соединений внутренней деятельности с внешними движениями. Воля постоянно как бы подчиняет новых рабов служению своим целям. Но задача состоит в том, чтобы установить связь между обоими рядами. Один из них протекает от игры раздражений до отвлеченного мыслительного процесса или до внутренней художественной формировки, другой идет от мотивов до процесса движения. В жизненной связи оба ряда сопряжены между собою, и только исходя из этого их жизненная ценность становится вполне понятной: ее-то и надлежит уловить.
Задача – трудности чрезвычайной. Ибо именно то, что устанавливает связь между этими обоими членами и раскрывает их жизненную ценность, составляет наиболее темную часть всей психологии. Мы вступаем в действенную жизнь, не располагая ясным воззрением на это ядро нашего "я". Лишь сама жизнь позволяет нам постепенно догадываться о том, какие силы неустанно подталкивают ее вперед.
Через все формы животного существования проходит соотношение между раздражением и движением. В нем совершается приспособление животной особи к окружающей ее обстановке. Я наблюдаю, как ящерица пробирается вдоль ярко освещенной солнцем стены и в месте, куда сильнее всего падают лучи, расправляет свои члены; я издаю звук, и она исчезает. Впечатления света и тепла вызвали ее на игру, прерванную восприятием, которое указывает на опасность. В данном случае инстинкт самосохранения у беззащитного зверька с необычайной живостью среагировал на восприятие целесообразными движениями, основанными на механизме рефлексов. Следовательно, впечатление, реакция и механизм рефлексов находятся между собою в целесообразной связи.
Попытаюсь выяснить природу этой связи. Внешние условия, в которых находится душевная жизнь, стояли бы лишь в причинной связи с изменениями этой жизни, и суждение о ценности их для изменчивости ее не могло бы возникнуть, если бы индивид был существом с одной только способностью представления. И во всех восприятиях, представлениях и понятиях такого представляющего существа не заключалось бы никакого повода для действий его. Ценность возникает лишь в жизни чувств и побуждений, и только в этой жизни заключается то, что связывает игру раздражений и смену впечатлений с силой произвольных движений, и что ведет от одних к другим. Смотря по реакции в жизни чувств и побуждений, вызываемой жизненными условиями, последние становятся задерживающими или споспешествующими. Смотря по тому, вызывают внешние условия в сфере чувств депрессию или подъем, из этого состояния чувств возникает стремление удержать или изменить данное состояние. Благодаря тому, что образы, доставляемые нашими внешними чувствами, или мысли, к ним примыкающие, связаны с представлениями и чувствами удовлетворения, полноты жизни и счастья, этими чувствами и представлениями вызываются целевые действия, направленные к приобретению благ, достижимых при их помощи. Если же эти образы и мысли связаны с чувствами и представлениями о страдании и задержке, то возникают целевые действия, направленные к защите от возможного вреда. Удовлетворение побуждений, достижение и сохранение удовольствия, полноты и повышения жизни, защиты от всего давящего, принижающего и препятствующего: вот то, что объединяет игру наших мыслей и восприятий и наши произвольные действия в единую структурную связь. Пучок побуждений и чувств есть центр нашей душевной структуры, из которого, благодаря участию чувства, сообщаемого из этого центра игре впечатлений, последние доходят до внимания; так образуются восприятия и соединения их с воспоминаниями и рядами мыслей; к последним, в свою очередь, присоединяются подъем жизни или, наоборот, боль, страх, гнев. Таким образом, в движение приходят все глубины нашего существа. Именно отсюда возникают затем, – при переходе боли в тоску, тоски в желание, или при аналогичных переходах в другом ряду душевных состояний, – произвольные действия. И вот это-то и является решающим для всего изучения связи душевной структуры: переходы одного состояния в другое, воздействия, ведущие от одного ряда к другому, относятся к области внутреннего опыта. Структурная связь переживается. Потому что мы переживаем эти переходы, эти воздействия, потому что мы внутренне воспринимаем эту структурную связь, охватывающую все страсти, страдания и судьбы жизни человеческой, – потому мы и понимаем жизнь человеческую, историю, все глубины и все пучины человеческого. Кто по себе не знает, как осаждающие воображение образы внезапно вызывают сильнейшие желания, или как желание, борясь с сознанием величайших затруднений, все же подвигает на волевые действия? На примере подобных, или несколько иных конкретных связей, мы убеждаемся в существовании отдельных переходов и воздействий, – повторяется то одно, то другое соединение, повторяется внутренний опыт, в переживании повторяется то одно, то другое внутреннее соединение, покуда вся структурная связь в нашем внутреннем сознании не становится заверенным опытом. И не одни только крупные части этой структурной связи находятся между собой в переживаемых внутренних отношениях: такие отношения доходят до сознания и в пределах этих членов. Я сижу в зрительном зале, на сцене Гамлет стоит перед тенью своего отца; как из живого участия, которое я в этом принимаю, путем последовательного перехода, вытекает напряжение внимания, этого я, как было изложено выше, воспринять непосредственно не могу, но в образе воспоминания я это могу схватить, и во всякий последующий момент могу вновь на себе испытать. Я связываю заключения в доказательство факта, сильно повлиявшего на мое жизненное чувство, и в этом объединении, заключающем от положения к положению, везде присутствует воздействие, как переход от предпосылок к заключительным положениям. Я подмечаю действующую силу в мотиве, подвигающем меня на какое-либо действие. Конечно, это подмечание, переживание, воспоминание не даст моему знанию этих связей того, что может дать научный анализ. Процессы или составные части могут войти в качестве факторов в связь, не вызывая отражения во внутреннем опыте. Но переживаемая связь является основой.
Эта душевная структурная связь есть в то же время связь телеологическая. Связь, клонящаяся к достижению полноты жизни, удовлетворения побуждений и счастья, есть связь целевая. Поскольку части в структуре связаны таким образом, что соединение их способно давать удовлетворение побуждениям и счастье или отклонять страдания, мы называем ее целесообразной. Больше того, характер целесообразности первоначально дан только в душевной структуре, и если мы и приписываем целесообразность организму или миру, то мы лишь переносим на них понятие, взятое из внутреннего переживания. Ибо всякое отношение частей к целому приобретает характер целесообразности лишь исходя от реализованной в нем ценности, ценность же эта познается только в жизни чувств и побуждений.
Биология во многом перешла от этой субъективной имманентной целесообразности к целесообразности объективной. Ее понятие возникает из отношения жизни побуждений и чувств к сохранению индивида и рода. Отношение это представляет собой гипотезу, и труд, затраченный на претворение ее в истину, не привел пока к достаточным результатам. Но изложение мое было бы не полным, если бы я не упомянул здесь о ней, так как обсуждение ее ведет к расширению кругозора предлагаемого исследования. Можно вообразить организмы, кратчайшим путем приспособляющиеся к окружающей действительности. При появлении их на свет им присуще было бы уже достаточное знание того, что для них полезно, т. е. того, что способствует их сохранению. Знание это увеличивалось бы сообразно надобности и, исходя из него, они совершали бы соответствующие движения, необходимые для приспособления к окружающей среде. Подобного рода существа должны были бы уметь отличать пищу полезную от вредной, начиная с молока матери. Они должны были бы быть в состоянии правильно оценивать пригодность воздуха, которым дышат, начиная с первого вздоха. Им необходимо было бы обладать знанием того, какая температура поддерживает в них жизненные процессы. Им необходимо было бы также знание того, какого рода отношения к подобным им особям для них всего выгоднее. Очевидно, подобные существа должны были бы быть некоторого рода всезнайками. Однако, природа разрешила эту задачу со значительно меньшей затратой средств. Живую особь она приспособила к окружающей ее обстановке, хотя и не прямым путем, но много бережливее. Знание о вреде и пользе внешних вещей, о том, что повышает и что понижает благосостояние живого организма, единообразно представлено во всем животном и человеческом мире чувствами радости и страдания. Наши восприятия составляют систему знаков для выражения неизвестных нам свойств внешнего мира: таким образом, и чувства наши являются знаками. Они также образуют систему знаков, а именно для рода и степеней жизненной ценности состояний Я и условий, воздействующих на это Я.
Указанное соотношение легче всего проследить на физических радостях и страданиях живого существа. Это – внутренние знаки состояния тканей, связанных с мозгом посредством чувствительных нервов. Как недостаточное питание, так и чрезмерная деятельность или разрушительные внешние влияния ведут к острым или хроническим страданиям. Приятные же телесные ощущения возникают вследствие нормального функционирования органов в живом теле, и притом тем сильнее, чем большее число нервных нитей участвуют в этом, и чем реже раздражение их. Отсюда следует также, что физическое удовольствие в смысле интенсивности всегда остается далеко позади сильной физической боли, – ибо нормальная деятельность никогда не может подняться настолько выше среднего уровня, насколько ее нарушение и разрушение может опуститься ниже нормы, до тех пределов, за которыми прекращаются ощущения и жизнь. Таким образом, пессимистическое учение Шопенгауэра о преобладании страдания в органической жизни в известной мере подтверждается фактами. Однако, телесные чувства представляют собой язык знаков несколько грубого и несовершенного рода; прежде всего, они дают знать лишь о мгновенных воздействиях раздражения на ткань, а никак не о дальнейших последствиях. Непосредственное воздействие пищи на вкусовые органы не становится менее приятным от того, что в других частях тела она с течением времени вызывает вредные последствия и соответственно в известных частях нервной системы, как знаки этих последствий, подагрические боли.
Эта целесообразность телесных чувств находит продолжение в области духовных чувств, прежде всего постольку, поскольку с предвидением или неопределенным ожиданием телесных болей связывается тягостное духовное чувство, а с телесно приятным – духовное чувство удовольствия.
Значительно глубже идущую целесообразность выявляют могущественные побуждения, господствующие над животным, человеческим общественным и человеческим историческим миром. Среди них наиболее мощными являются три основных физических побуждения, основанных на рефлекторных механизмах. Можно утверждать, что крупнейшими силами морального мира являются голод, любовь и война; в них именно и проявляются сильнейшие побуждения: питания, полового влечения и заботы о потомстве и защиты. Таким образом, природа употребила сильнейшие средства для сохранения особи и рода. Рефлекторные механизмы дыхания, сердечной деятельности и кровообращения работают автоматически без всякого участия воли; наоборот, прием пищи, требующий выбора и овладения, совершается при помощи сознательного побуждения, сопровождаемого типическими чувствами голода, наслаждения едой и сытости, и способного производить отбор. Природа установила здесь горькое наказание, выражающееся в чувстве резкого неудовольствия, за вредное воздержание от еды; за правильный же прием пищи она выдает премию в виде чувства удовольствия. Таким образом, она принудила людей и животных выбирать полезную для них пищу и овладевать ею даже при труднейших обстоятельствах. Не менее бурно, нежели инстинкт питания, выражаются половое влечение и забота о потомстве. Если первый служит для сохранения особи, то последние направлены к сохранению рода; и тут побуждение, желание, настроение находятся в телеологическом соотношении с целями природы. Столь же стихиен и могуществен и третий круг побуждений: защитных, связанных с рефлекторным механизмом. Форма у них двоякая. На вредные вмешательства они либо отвечают движениями, отражающими нападение, либо реагируют путем движений спасательного бегства. В животном мире с этими инстинктами связаны самые причудливые рефлекторные механизмы. Встречаются животные, выделяющие отвратительного запаха жидкость; другие притворяются мертвыми или же стараются испугать врага резким изменением своей внешности.
Моральное воспитание человечества основывается прежде всего на том, что в общественном порядке его эти всемогущие инстинкты подвергаются регулированию. Они совершают регулярную работу и получают соответственное удовлетворение; таким образом освобождается место для развития деятельности духовных побуждений и стремлений, возрастающих в рамках общества до чрезвычайной силы. Стремление к властвованию и развивающееся из него в истории культуры стремление к приобретению собственности основаны на природе самой воли. Ибо воля свободно развертывается лишь в сфере своей власти. Поэтому-то эти побуждения и все вытекающие из них отношения исчезнут, вопреки всяким мечтаниям, лишь вместе с самим человечеством. Они сдерживаются общественными чувствами, потребностью в общении, радостью от признания со стороны остальных людей, симпатией, удовольствием от деятельности и результатов ее. Во всей этой обширной области духовных побуждений, стремлений и чувств, боль и радость всюду находятся в телеологическом соотношении на пользу особи и общества.
Такова гипотеза, благодаря которой биологическое рассмотрение расширяет субъективную имманентную целесообразность душевной и структурной связи, данной во внутреннем опыте, до объективной целесообразности. Вместе с тем она может служит примером того значения, какое имеет обсуждение гипотез для расширения горизонта описательной и расчленяющей психологии. Я вновь подбираю нить. Я показал, каким образом структура душевной жизни, связующая воедино раздражение и реагирующее на него движение, имеет свой центр в пучке побуждений и чувств, исходя из которых измеряется жизненная ценность изменений в нашей среде и производится обратное воздействие на него. Оказалось далее, что всякое понятие целесообразности и телеологии выражает лишь то, что содержится и испытывается в этой жизненной связи. Целесообразность вовсе не есть объективное природное понятие; оно лишь обозначает испытываемый в побуждении, удовольствии и боли род жизненной связи в животном или человеческом существе. Рассматриваемое изнутри биологическое единство жизни стремится воспользоваться условиями своей среды для достижения чувства удовольствия и удовлетворения побуждений. Рассматриваемое извне и с точки зрения вышеприведенной гипотезы, это единство со всеми его чувствами и побуждениями приноровлено к самосохранению и к сохранению вида. Объединение столь различных процессов представления, чувствования и воления в такого рода связь составляет структуру душевной жизни. Притом это соединение воедино столь разнородных процессов устанавливается не на основании заключений, а является наиболее жизненным опытом, на какой мы вообще способны. Весь прочий внутренний опыт в нем уже заключен. Целесообразность есть переживаемое основное свойство этой связи, соответственно которому эта связь имеет тенденцию выявить жизненные ценности в удовлетворении и в радости.
Эту связь нашей душевной жизни, данную нам во внутреннем опыте, можно пояснить и подтвердить обзором ее нахождения и ее функций во всем животном царстве. Подобного рода обозрение имеет свою ценность, даже независимо от, – хотя и гипотетического, но почти неизбежного, – допущения развития, совершающегося в органическом мире.
Вся система животного и человеческого мира представляется развитием этой простой основной структуры душевной жизни в возрастающей дифференциации, увеличении самостоятельности отдельных функций и частей, равно как и в усовершенствовании их соединений между собой. При трудности истолкования душевной жизни животных это проще всего, так сказать, вычитывается в их нервной системе. Комочек протоплазмы, не обладающий ни нервами, ни мускулами, уже реагирует, однако, на раздражение. Если я приведу амебу в соприкосновение с твердой крупинкой, она выпустит части, которые растянутся, захватят крупинку и возвратятся обратно к главной массе. У гидры те же клетки являются вместе с тем носителями чувствительных и двигательных функций. У прелестных медуз, стаями плавающих в морских волнах, орган ощущения уже отделен от органа движения. Таким образом, в животном мире развитие идет по направлению к двум кульминационным точкам: одну из них составляют членистоногие, к ним принадлежат четыре пятых всех видов животных и над многообразием их форм воздымаются высокоразвитые пчелы и муравьи. Другой кульминационный пункт – позвоночные, телесная организация которых присуща и нам. Тут налицо высокоразвитая нервная система; центральные части ее устанавливают и поддерживают весьма совершенную связь между чувствительными и двигательными нервами, и система эта является носительницей высокоразвитой душевной структуры.
Попытаемся теперь резюмировать наиболее общие свойства этой внутренней структуры душевной жизни.
Изначально и всюду, от элементарнейших до высших форм своих, психический жизненный процесс есть единство. Душевная жизнь не слагается из частей, не составляется из элементов; она не есть некоторый композитум, не есть результат взамен действующих атомов ощущений или чувств, – изначально и всегда она есть некоторое объемлющее единство. Из этого единства дифференцировались душевные функции, остающиеся, однако, связанными с их общей душевной связью. Факт этот, высшей степенью выражения которого является единство сознания и единство личности, решительно отличает душевную жизнь от всего телесного мира. Опыт этой жизненной связи просто исключает учение, согласно которому психические процессы представляют собою отдельные несвязанные репрезентации физической связи процессов. Всякое учение, идущее в этом направлении, вступает в интересах гипотетической связи в противоречие с опытом.
Указанная психическая внутренняя связь обусловливается положением жизненной единицы в окружающей ее среде. Жизненная единица находится во взаимодействии с внешним миром; особый род этого взаимодействия может быть обозначен с помощью весьма общего выражения, – (которое должно быть здесь лишь описанием факта, который в конечном итоге может быть действительно раскрыт и затем описан лишь применительно к человеку, насколько это доступно нашему опыту), – как приспособление психофизической жизненной единицы и обстоятельств, при которых протекает ее жизнь. В этом взаимодействии совершается соединение ряда сенсорных процессов с рядом двигательных. Жизнь человеческая в наивысших ее формах также подчинена этому важному закону всей органической природы. Окружающая нас действительность вызывает ощущения. Последние представляют для нас различные свойства многообразных причин, лежащих вне нас. Таким образом, мы видим себя постоянно обусловленными, телесно и душевно, внешними причинами; согласно приведенной гипотезе, чувства выражают ценность воздействий, идущих извне, на наш организм и на нашу систему побуждений. В зависимости от этих чувств интерес и внимание производят отбор впечатлений. Они обращаются к определенным впечатлениям. Но усиленное возбуждение сознания, имеющее место во внимании, само по себе является процессом. Оно состоит только в процессах различения, отождествления, соединения, разделения, апперцепции. В этих процессах возникают восприятия, образы, а в дальнейшем течении сенсорных процессов – процессы мыслительные, благодаря которым данная жизненная единица получает возможность известного владычества над действительностью. Постепенно образуется прочная связь воспроизводимых представлений, оценок и волевых движений. С этого момента жизненная единица не предоставлена более игре раздражений. Она задерживает реакции и господствует над ними, она делает выбор там, где может добиться приспособления действительности к своим потребностям. И что важнее всего: там, где она эту действительность определить не может, она к ней приспособляет свои собственные жизненные процессы и владычествует над неуемными страстями и над игрой представлений благодаря внутренней деятельности воли. Это и есть жизнь.
Третьим основным свойством этой жизненной связи является то, что члены в ней связаны между собою не так, что они могут быть выведены один из другого согласно господствующему во внешней природе закону причинности, т.е. закону о количественном и качественном равенстве причины и следствия. В представлениях не заключается достаточного основания для перехода их в чувства; можно вообразить существо, обладающее лишь способностью представления, которое в пылу битвы было бы равнодушным и безвольным зрителем собственного своего разрушения. В чувствах не заключается достаточного основания для перехода их в волевые процессы; можно вообразить то же существо, взирающим на происходящий вокруг него бой с чувством страха и ужаса, тогда как эти чувства не выливаются в защитные движения. Связь между этими разнородными, не выводимыми одна из другой составными частями, есть связь sui generis. Название целесообразности не разъясняет природы ее, а выражает лишь нечто, содержащееся в переживании душевной связи, и притом выражает его не полно, а лишь в концептивном сокращении.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ РАЗВИТИЕ ДУШЕВНОЙ ЖИЗНИ
Вторая охватывающая связь, проникающая нашу душевную жизнь, дана нам в развитии последней. Если структура душевной жизни как бы простирается во всю ее ширину, то развитие проходит по длине ее. Поэтому в описательной психологии этому предмету полагалось бы отвести особую подробную главу, что и делалось часто в прежних, более уделявших места описанию, психологиях; здесь же достаточно будет указать на это дополнение к учению о структурной связи.
Оба рода связи обусловливают друг друга. Развитие человека нельзя было бы понять без проникновения в широкую связь его существования: больше того, исходной точкой всякого изучения развития является это постижение связи в развитом уже человеке, а также анализ его. Только здесь и дана зримая при ярком дневном свете и основанная на внутреннем опыте психолога действительность, между тем как относительно полумрака начального развития мы получаем лишь малодостоверные сведения путем эксперимента и наблюдения над детьми. С другой стороны, связь истории развития изъясняет связь структуры. Объединяя оба метода рассмотрения, описательная психология стремится дополнить описание и анализ зрелого и законченного типа человека как бы общей биографией этого типа. Подобно этому мы и отдельного человека, как бы близок он нам ни был, можем вполне понять только узнав, как он стал самим собой.
Методический ход познания этой истории развития иной, нежели ход самой жизни или изложения этого хода. Само познание может идти лишь обратным путем аналитически от приобретенной связи душевной жизни к условиям и факторам ее развития. Если мы рассмотрим способы, употребляемые нами при изучении истории развития конкретной особи, мы убедимся, что они одинаковы. Нам необходимо прежде всего добиться известного понимания высшей точки индивидуального развития, а затем уже определить ступени, хотя, с другой стороны, знание этих прежних ступеней проливает более яркий свет на сложившуюся индивидуальную душевную жизнь. Свернутая жизнь на первых ступенях развития может быть понята, лишь если исходить из понимания того, что в общечеловеческом или в индивидуальном типе из нее обычно развивается. Ни один преподаватель не мог бы разобраться в душе мальчика, если бы не находил в ней зародышей того, что ему известно из дальнейшего развития.
Для сложившейся душевной жизни необходимо изучить три класса условий ее развития. Душевная жизнь находится в некотором отношении обусловленности или соответствия к развитию тела, поэтому она зависит от воздействия физической среды и от связи ее с окружающим духовным миром.
Эти условия влияют на структурную связь душевной жизни. Если бы в этой структуре и в ее движущих силах не было целесообразности, подвигающей ее вперед, то течение жизни не было бы развитием. Поэтому развитие человека так же мало может быть выведено из шопенгауэровской слепой воли, как и из атомистической игры отдельных психических сил у последователей Гербарта или материалистов и полуматериалистов. Чувства и побуждения, таким образом, составляют собственно действующую силу, движущую вперед; целесообразность и связь, в которой отношение этих чувств и побуждений находится к интеллектуальным процессам, с одной стороны, и к волевым действиям, с другой, придают возникающим таким образом душевным изменениям характер приспособления между индивидом и жизненными условиями; возрастающая расчлененность душевной жизни увеличивается; центром развития становится приобретенная связь душевной жизни; таким путем образуется то объединяющее, постоянное и целесообразное, что составляет понятие развития.
Указанные в этих положениях отношения, в которых находится идея развития, я поясню точнее. Так могут быть разъяснены отдельные понятия, объединенные в идее развития. Тем более, что внутреннюю причинную связь, в которой душевное развитие, как необходимое следствие душевной структуры, сплетается с этой структурой, можно обнаружить вполне.
Из учения о структурной связи душевной жизни следует, что внешние условия, в которых находится индивид, будут ли они благоприятными или задерживающими, всегда вызывают стремление к созданию и поддержанию состояния удовлетворения побуждений и счастья. Но в то время, как всякое более тонкое развитие восприятий, всякое целесообразное образование представлений и понятий, всякое увеличение богатства чувственных реакций, всякое усиленное приспособление движений к импульсам, всякое упражнение в благоприятных направлениях воли и подходящих соединениях средств и целей облегчает удовлетворение импульсов, осуществление приятных и отклонение неприятных чувств – дальнейшим важным последствием структурной связи, на которой основываются эти причинные отношения, является возможность способствовать и благоприятствовать таким более тонким дифференциациям и более высоким соединениям в индивиде, что, в свою очередь, дает возможность достижения более богатого удовлетворения импульсов, более высокой полноты жизни и счастья. Когда связь составных частей душевной жизни оказывает такого рода действие на полноту жизни, удовлетворение импульсов и счастье, мы называем ее целесообразной. Следовательно, целесообразность, господствующая в душевной жизни, есть присущее последней свойство связи ее составных частей. Таким образом, не из лежащей вне нас идеи о цели выведена эта целесообразность, а наоборот, всякое понятие о действующей вне душевной жизни целесообразности выводится из этой внутренней целесообразности в душевной жизни. Оно перенесено оттуда. Оно заложено в нашей душевной структуре. Только благодаря такому перенесению мы называем какую-либо находящуюся вне нашей душевной структуры связь целесообразной. Ибо цели даны нам только в этой душевной структуре. Приспособление к ней мы находим на опыте только в ней самой. Эту целесообразность душевной структуры мы называем субъективной и имманентной. Она субъективна, потому что переживается, дана в одном только внутреннем опыте. Она имманентна, потому что не основана ни на какой лежащей вне ее идее цели. Притом понятие субъективной и имманентной целесообразности душевной структуры двояко, т.е. оно заключает в себе два момента. Прежде всего, оно обозначает связь составных частей душевной жизни, способную вызвать, при изменяющихся внешних условиях, в которых живут все организмы, богатство жизни, удовлетворение импульсов и счастье. Сюда примыкает второе понятие об этой целесообразности. Согласно ему, в структурной связи, при предпосылке изменяющихся жизненных условий, заложены задатки для ее усовершенствования. Усовершенствование это происходит в формах дифференциации и установления высших соединений. Но оно состоит именно в большей способности приводить к полноте жизни, удовлетворению импульсов и счастью. От этой субъективной имманентной целесообразности мы отличаем объективную, но точно так же имманентную. Понятие о ней возникает путем гипотезы, если принять во внимание заложенное в структурной связи отношение привлечения этих субъективных состояний к сохранению индивида и рода. Это сохранение в известной мере оказывается связанным с привлечением приятных чувственных реакций, с удалением от неприятных и с удовлетворением импульсов. Тут мы сошлемся на приведенные в предыдущей главе соображения. Но подчеркнем еще раз: в этой объективной имманентной целесообразности так же мало заключается допущение лежащей в основе этой связи целевой идеи, как и в субъективной. Эта трансцендентность целевой идеи есть лишь интерпретация, с помощью которой пытаются дать объяснение такой телеологической связи.
Перейдем к рассмотрению дальнейшего момента в идее развития. Понятие душевной жизненной связи находится в тесном отношении к ценности жизни. Ибо ценность жизни и состоит в душевной действительности, поскольку последняя находит свое выражение в чувствах. Для нас имеет ценность лишь пережитое в чувстве. Таким образом, ценность неотделима от чувства. Отсюда, однако, никак не следует, чтобы ценность жизни состояла из чувств, могла бы рассматриваться как скопление их и устанавливаться путем сложения их. Этого внутренний опыт не говорит. Наоборот , ценными в нашем существовании являются вся полнота жизни, какую мы испытываем, богатство жизненной действительности, которое мы предчувствовали, изживание того, что в нас заложено. Больше того, мы переносим эту ценность также и на жизненные отношения, которые нам приходится переживать, на взгляды и идеи, которыми мы в состоянии заполнить наше существование, на деятельность, которая выпадает нам на долю; видеть во всем этом лишь условия и поводы для чувств здоровому человеку невыносимо. Ему, напротив, кажется, что вся действительность жизни измеряется по своей ценности в чувстве. Теперь попробуем применить это понятие ценности жизни. Душевная структурная связь целесообразна потому, что она имеет тенденцию развивать, закреплять и возвышать жизненные ценности.
Переходим к новому моменту. Целесообразность жизненной связи, выражающаяся в создании и сохранении жизненных ценностей и в отталкивании того, что вредно, вызывает под влиянием условий, в которых находится индивид, возрастающее расчленение душевной жизни. Начиная с побуждений и чувств, впечатления утилизируются для того, чтобы привести к владычеству над жизненными условиями. Вследствие чувственного участия в этих впечатлениях интерес и внимание задерживаются на них, возникают соответственно применимые образы восприятий, образуются типические представления, которые удобно для пользования репрезентируют внешние условия, развиваются мысли об отношениях сходства и причинности во внешнем мире. Опыт научает подрастающего правильнее производить сравнительную оценку жизненных ценностей; прочные отношения определений ценности дают единство жизненного идеала, зарождающегося в глубинах индивидуальности. Жизненные идеалы юноши и его мечты о будущем в тяжкой борьбе приспособляются к власти вещей. Возникает власть взрослого человека в его жизненной сфере. Законченный и сознательный, он поднимается над односторонней субъективностью юноши в признании связи действительных ценностей, которую он будет уже не создавать, а лишь развивать по мере своих сил. Это признание предохраняет его от меланхолии по поводу гибели его юношеских идеалов, так как в связи ценностей действительности он находит сохранившимся то, что было подлинного в этих идеалах. Mezzo del cammin: на этой высоте жизни заканчивается также расчленение импульсов и чувств, получающих особые формы в жизненных сферах и их вещных соотношениях. То же расчленение происходит и в области воли. Я пользуюсь этим понятием расчленения, чтобы выразить, что живая связь является основой всякого развития, и что из этой структуры развиваются всякие дифференциации и более тонкие и более ясные соотношения так, как из зародыша развивается расчленение животного существа. И ввиду того, что соединения так же переходят в прочное владение душевной жизни, как и представления, вместе с этим расчленением образуется и приобретенная связь душевной жизни и ее господство над отдельными сознательными процессами. Процессы, в которых это происходит, совершаются вплоть до глубокой старости. Затем живая восприимчивость застывает. В приобретенной душевной связи прошлое одерживает победу и замыкается от новых действительностей, власть переходит к воспоминаниям. Акты, в которых совершается это развитие, создают нечто, чего нельзя установить в прежних состояниях, они выставляют новые ценности. Как они, однако, различны! Наряду с творческими синтезами науки возникает художественное образование символов для движений внутренней жизни или односторонняя фиксация страстного напряжения воли, с которым трагика жизни вступает в закономерное развитие.
Сведем воедино рассмотренные моменты. Структурная связь, целесообразность, жизненная ценность, душевное расчленение, развитие приобретенной душевной связи и творческие процессы, – все это находится во внутреннем взаимоотношении. Если мыслить все эти моменты в деятельности, то возникает развитие. Существо, в котором эти жизненные моменты взаимодействуют, развивается. Развитие возможно только там, где в основе лежит структурная связь. Это справедливо до такой степени, что и коллектив человечество потому только обладает развитием, что взаимодействие отдельных структур выражается в своего рода структуре целого, в обществе. Из этого соотношения вытекают отдельные основные свойства развития. Последнее есть прежде всего поступательное движение, спонтанное изменение в живом существе, так как в нем импульсы составляют агент, движущий это существо вперед. Vita motus perpetuus. Поэтому всякое душевное развитие состоит в обусловленной изнутри связи изменений во времени. Но между тем как внутренние импульсы действуют постоянно, переходя со ступени на ступень, возникает второе основное свойство всякого развития, его непрерывность. Так как, далее, целесообразность есть характер душевной структуры, то отсюда вытекает еще другое основное свойство развития – его телеологическая связь. Развитие имеет тенденцию вызывать жизненные ценности. Из того, как двояко действует душевная структурная связь, здесь вытекает самое замечательное соотношение, какое имеет место в человеческом развитии. Всякий период жизни обладает самостоятельной ценностью, ибо каждый из них, соответственно своим особым условиям, способен быть исполненным оживляющими, повышающими и расширяющими существование чувствами. Та жизнь была бы совершеннейшей, в которой всякий момент был бы исполнен чувства своей самодовлеющей ценности. Очарование, которым веет на нас от жизни Гете, этим и объясняется. По той же причине он является величайшим лириком всех времен. Руссо, Гердер и Шлейермахер развили это положение теоретически. Они только выразили в одной формуле то, что поэзия всех времен умела делать наглядным в выразительных картинах. В особенности роман развития, как и возникающая рядом с ним драма развития, совершенно новая форма драмы, полная зародышей великого поэтического будущего, – взялись выставить воочию самостоятельную ценность отдельных периодов в жизни человека. Развитие складывается из отдельных жизненных состояний, из которых каждое стремится добыть и задержать за собой свою особую жизненную ценность. Бедно то детство, что приносится в жертву зрелым годам. Неразумен счет с жизнью, неустанно подгоняющий вперед и делающий нынешнее средством для будущего. Ничто не может быть ошибочнее, нежели поставить целью развития, составляющего жизнь, зрелый период, для которого все прежние являются лишь средством. Да и как им служить к достижению цели, столь неясной для всякого! Наоборот, в самой природе жизни заключается тенденция насытить всякий момент полнотой ценности. Но мы видим, как из целесообразности душевной структуры вытекает еще другое отношение жизненных ценностей к развитию. Может казаться, что это отношение находится в противоречии с первым, но в действительности оно лишь составляет его дополнение. Состояния, образующие ряд развития, являются, вследствие действенности целесообразной структурной связи, процессом увеличивающегося приспособления путем дифференциации, возрастания и более высоких соединений. Очень важно, чтобы в этом обширном процессе элементарнейшие импульсы теряли благодаря правильному удовлетворению свою остроту и энергию и освобождали таким образом место для побуждений высших. Именно в силу этой связи возрастающего ряда эти состояния и образуют развитие. Они целесообразно связаны между собою так, что с течением времени достигается возможность более богатого и широкого развертывания жизненных ценностей. В этом и состоит природа развития в человеческом существовании. Всякий период жизни имеет свою ценность; но с поступательным течением жизни развивается все более расчлененный склад душевной жизни, которому доступны все высшие соединения. Явление это способно возрастать до крайних границ глубокой старости. На этом основано так часто превозносимое счастье старческого возраста и его моральное значение. О Канте рассказывают, что в старости он уже не в состоянии был воспринимать чужой круг мыслей. У Фридриха Великого в его постановке практических жизненных задач проявляется такая же резкая замкнутость. Внутренняя форма жизни окостенела. Физическая энергия постоянно уменьшается, уменьшается и живое взаимодействие с внешним миром и с другими людьми; подобно всем прочим организмам, старческое тело подлежит общему закону уменьшения, но тем не менее и независимо от этого до конца может возрастать обширный процесс развития господствующей массы идей, расчлененной духовной организации, укрепления склада душевной жизни. Отсюда вытекает важнейший закон, объединяющий в одно целое моменты и периоды развития человеческой жизни. Развитие в человеке имеет тенденцию привести к прочной связи душевной жизни, согласованной как с общими, так и с особыми условиями жизни. Все процессы душевной жизни взаимодействуют, чтобы привести к такой связи в нас. Также и по отношению к главнейшим нарушениям душевного равновесия эта целесообразная связь содержит в себе восстановительную силу.
Все, – как условия, в которых мы находимся, так и определяемая ими душевная структурная связь, – содействует выработке склада душевной жизни. Различение и разделение также создают отношения и тем самым служат соединению. Различение неразрывно связано с осознанием степени различия, иначе говоря, с положительным соотношением. Отрицательное суждение, как исключение какого-либо предположения, служит установлению более правильных соединений. Неудовольствие, отвращение и защита, вся игра враждебных, отвращающих и защитных аффектов, вся энергия неприязненных волевых действий служат сознательному выделению существования, на котором покоится душевное формирование. Поэтому без страдания, которое пессимисты, чтобы подвести отрицательный итог ценности жизни, столь неразумно противополагают радости, между тем как последняя есть нечто качественно совершенно отличное, – без этого страдания не могла бы сложиться душевная жизнь и законченная полноценная индивидуальность. Этот результат человеческого развития психология видит в господстве приобретенной душевной связи, определяющей все действия и даже помыслы. Все человеческое развитие не может дать больше, нежели образование такой связи, которая суверенна, приспособлена к условиям существования, закончена в самой себе и значительна. Все это заключалось в словах Наполеона о Гете: "Voilà un homme". Характер составляет лишь одну сторону, хотя и важнейшую, этой завершенности. Во всей земной действительности такой склад души является высшим достижением. В этом смысле Гете называл личность высшим счастьем для детей земли. Трансцендентальная философия отыскивала условия для этой внутренней формы личности. Одно из условий этой синтетической способности в нас заключается прежде всего в формуле единства сознания. Но трансцендентальная философия копает глубже. И, в конце концов, ее необычайное могущество в европейском мышлении покоится на том, что ее формулы in abstracto противопоставляли синтетическое, спонтанно оформливающее, трансцендентальный синтез апперцепции, эмпирическому душевному агрегату, который создает непостижимость характера, гения и героя. Недочетом ее было лишь то, что она сначала абстрактно отыскивала поступательное и творческое в интеллектуальных процессах, а затем, совершенно отдельно от последних, расчленяла другие стороны человеческой природы. В противоположность этому мы исходим от структурной связи. Эта связь и выявляет целесообразность во внутренней форме жизни. Этот образ душевной жизни, осуществляющийся в течение ее нормального развития и представляющий собой развитие ее первоначальной структуры, исполнен теми же чертами внутренней целесообразности, что и простейшее проявление этой структуры. Это означает только, что то отношение, в котором импульсы возбуждаются впечатлениями, в котором ценность их переживается в чувствах, в котором совершается приспособление к ним внешнего мира,– что это отношение, которое мы в действии его на чувство и импульсы обозначаем словом целесообразность, достигает в период жизненной зрелости высшего возможного для него в данной индивидуальной жизни завершения. Ибо наиболее единящее оформление допускает наибольшее развитие целесообразно действующей силы в индивиде, причем это единство тем ценнее для самосохранения и чувства жизни, чем тоньше та дифференциация и чем выше тот рост отдельных структур, которые составляют материал этого высшего единения.
Теперь можно окончательно определить точку зрения описательной психологии на учение о развитии. Объяснительная психология должна была бы сделать выбор между гипотезами, спорящими друг с другом о природе процесса развития; описательная психология избегает этих гипотез, возвращающих нас к глубочайшим противоречиям человеческого миропонимания. Она повествует о том, что она находит, и выдвигает на первый план регулярную смену процессов, имеющих место в человеческих индивидах. Подобно тому, как ботаник должен прежде всего описать смену процессов следующих друг за другом в развитии дуба, с того момента, когда желудь пускает в земле ростки, и до момента, когда желудь вновь отделяется от дерева, – так, совершенно так, психолог в законах развития и в единообразиях смены в душевной структуре описывает жизнь последней. Эти законы развития и эти единообразия он добывает из соотношений между средой, структурной связью, жизненными ценностями, душевным расчленением, приобретенной душевной связью, творческими процессами и развитием: моментами, наглядно данными во внутреннем опыте, дополняемом опытом внешним, безо всякого привлечения гипотетических причинных отношений.
Если же в противоположность этому описательному методу попытаться создать объяснительную теорию, стремящуюся проникнуть по ту сторону внутреннего опыта, то совокупность однозначно определяемых внутрипсихических элементов окажется недостаточной для разработки проблемы; поэтому сторонники объяснительной психологии, ограничивающиеся подобными психическими элементами в своих конструкциях, обычно обходят учение о развитии душевной жизни. Объяснительная психология должна либо вставить человеческое развитие во всеобщую метафизическую связь, либо должна стремиться постичь его в общей связи природы.
Для уразумения метафизической теории можно исходить из выражения "развитие"; последнее обозначает развертывание, в постоянной смене процессов, того, что заключено в зародыше, вплоть до жизненной структуры, в которой значительное богатство членов связано в жизнедейственное целое. Здесь, следовательно, заключается та мысль, что между связью структуры в начальном пункте и конечным расчленением этой связи существует соотношение, согласно которому точка завершения и конец заложены в самом начале, и что в завершении лишь проявляется то, что содержалось в начале. Далее, тут заключается мысль, – которой в только что изложенном еще нет, – что с точки зрения единого действия развитой структуры начало представляется в виде зародыша, развивающегося по направлению к некоторой цели. Отсюда следует, что мы можем рассматривать эту кульминационную точку как цель, которая осуществляется в развитии. Таковы эмпирические факты, из которых Аристотель впервые вывел метафизическое понятие развития, которое затем перешло границы всякого опыта. Сущность этого метафизического понятия заключается в том, что только что указанные наиболее общие черты развития, присущие как органическому миру с душевной жизнью, так и историческому процессу, переносятся в космическую потенцию. Это происходит как у Аристотеля, так и у Лейбница, как у Шеллинга, так и у Гегеля. Но и в этой мировой потенции для нас заложена та же загадка, которая лежит и в конкретном развитии: нечто, чего еще нет, но что с течением времени переходит из небытия в существование. Имеется зародыш, и в нем возникает в какой-то момент наше известное нам сознание. Из общей непостижимой чувственной энергии образуются отдельные знакомые нам чувственные энергии. Именно поэтому воображают, что из понятия развития можно все вывести – ибо в этом неопределенном, загадочном, преисполненном противоречий понятии заложены все возможности.
Ближайшая область владычества естественнонаучного опытного понятия о развитии лежит в органическом мире. Сюда относится не только история каждого органического индивида, но и прослеживаемая смена органических форм во всем органическом царстве также гипотетически подводится под это понятие, а равным образом постоянство этого понятия в органическом мире, которое не может быть обнаружено эмпирически, устанавливается путем гипотетических дополнений. Если потребовать объяснения эмпирического положения вещей, то и тут натолкнешься на одни гипотезы. Прежде всего развитие в органическом мире может рассматриваться как особый случай результатов, вызываемых вообще механизмом системы неизменных единств. Но можно также тот факт, что достигнутое состояние становится условием дальнейшего повышения жизненных функций, попытаться каким-либо образом свести к единообразному основанию. Последнее образует тогда объяснительное основание появления принципа подъема в органическом мире. Оба объяснения одинаково гипотетичны.
Но вот в рамках этого органического мира и в его системе возрастающих степеней развития появляется душевная жизнь. Появление ее представляет собою величайшую загадку, перед которой бессильны все средства познания природы. Эмпирически мы можем установить ее только на основании появления движений, вызываемых раздражениями, и по принципу структуры. Душевная жизнь эта идет в возрастающем развитии параллельно порядку ступеней в царстве органических тел. Совершенно также отдельная животная или человеческая особь развивается согласованно физически и психически в периодах раскрытия, завершения и упадка. Но так как психическое развитие попадает во внутренний опыт и переживается так, как оно есть, то тут проявляются свойства процессов, которые не могут быть выведены никакими гипотезами из взаимодействия постоянных физических единиц. Так же, как скорость тела не может быть изображена в виде суммы скоростей его частей, так и единое действие сравнения, суждения, предпочтения, образования идеалов не может быть выведено из внутренних состояний отдельных неизменных единиц через посредство их взаимодействия. Так есть, и никакое ухищрение материалистической теории этого затемнить не может: условием упомянутых действий является первоначальная связь, единство, к которому нельзя заключить из раздельных элементов и их действий. Пояснением к этому положению могут послужить изложенные в предыдущей главе соображения, по которым структурная связь не является сращением отдельных действий, а наоборот, более тонкие расчленения дифференцируются из нее, а не уходят назад за нее. Но природа того единства, которое можно принять за условие душевных процессов, нам совершенно неизвестна. Розыски этой природы выходят за границы нашего познания. Больше того, раз нам неизвестно то, что скрывается позади телесных явлений, то не исключается даже предположение, что действительность его объемлет также связь представления, чувствования и воления. Но, во всяком случае, в самой структурной связи души нам дан единый субъект психического развития. Сюда примыкает изложенное выше рассуждение о том, что в этой связи импульсы составляют центр, дающий толчки к развитию вперед.
В отличие от физического развития природа психического развития прежде всего представляется со стороны отрицательного признака. Мы не в состоянии предсказать, что в душевном развитии последует за достигнутым уже состоянием. Мы можем лишь post factum указать основания того, что произошло. Исходя из мотивов мы не можем предсказать действия. Мы только можем впоследствии, исходя от действий, установить мотивы аналитически. Мы не знаем, что мы внесем в грядущий день. Историческое развитие обнаруживает совершенно такой же характер. Именно в крупные творческие эпохи наступает подъем, который не может быть выведен из предыдущих ступеней.
Здесь подробное описание и анализ единообразий в ходе человеческой жизни достаточно подготовлены. Налицо имеются величайшей ценности материалы для описания и анализа истории человеческого развития. Когда в восемнадцатом веке в кругозор образованного общества вошло естественное понимание жизни, как бы естественная история жизни души, поэзия не могла не овладеть этим естественным способом рассмотрения человеческого развития. Руссо, создатель нового рода поэзии, Гете, Новалис, Диккенс, Келлер и многие другие создали отдельные типы таких историй развития. К этому надобно присовокупить, что под тем же влиянием ориентации на естественную историю человека, прошлый век и век настоящий создали современную биографию. В известном смысле последняя является наиболее философской формой исторического изображения. Человек, как изначальный факт всякой истории, составляет предмет его. Описывая единичное, оно в нем отражает общий закон развития. Какое неоценимое значение имеют автобиографии: в "Антоне Рейзере" Филиппа Морица и в жизни Гете разработаны именно общие черты, свойственные различным возрастам жизни. Научную же обработку истории человеческого развития остается еще создать. Ей предстояло бы изучить влияние трех классов условий: телесного развития, влияния физической среды и окружающего духовного мира. В том Я, которое при этих условиях развертывается, нужно уловить отношения душевной структуры из отношений целесообразности и ценности жизни к прочим моментам развития, – уловить, как из этих соотношений выделяется господствующая связь души, "чеканная форма, которая живет и развивается"; т.е. это значит нарисовать картины возрастов жизни, в связи которых состояло это развитие, и совершить анализ различных возрастов по факторам, их обусловливающим. Детство, когда из структуры душевной жизни может быть выведена игра, как необходимое проявление жизни. Утренняя заря, когда выси и дали еще окутаны дымкой; все бесконечно; границы ценностей не испытаны; над всей действительностью дуновение бесконечности; в первичной независимости и в свежей подвижности всех душевных побуждений, со всем будущим впереди, складываются идеалы жизни. Затем, в противоположность этому, в старческом возрасте, душевный облик властно господствует, между тем как телесные органы становятся немощными: смешанное и затихшее наджизненное настроение, вытекающее из господства много в себе переработавшей души над отдельными состояниями духа; это и сообщает особую возвышенность художественным произведениям, созданным в старости, как Девятая Симфония Бетховена или заключение гетевского Фауста.
* * *
Приобретенная связь душевной жизни, данная в развитом человеке и равномерно объемлющая образы, понятия, оценки, идеалы, установившиеся направления воли и проч., содержит в себе постоянные связи, единообразно повторяющиеся во всех человеческих индивидах, наряду с такими, которые свойственны одному какому-либо полу, расе, нации, сословию и т.д., наконец, отдельному индивиду. Так как у всех людей один и тот же внешний мир, то они и создают себе одну и ту же систему чисел, те же пространственные отношения, те же грамматические и логические соотношения. Так как все люди живут в условиях соответствия между этим внешним миром и общей им всем структурной связью души, то отсюда возникают одинаковые формы предпочтения и выбора, одинаковые соотношения между целями и средствами, известные единообразные соотношения между ценностями, известные единообразные черты жизненного идеала, где бы это ни выступало. Формулы тождества разума у всех индивидов, предлагаемые Шлейермахером и Гегелем, формула тождества воли у Шопенгауэра выражают в метафизической абстракции те же факты родства. В единообразии отдельных построений, создаваемых человеком, в обширных и всепроникающих связях, соединяющих эти построения в культурные системы, в постоянном существовании могущественных, связующих людей организаций, основанных на родстве людей между собой, – во всем этом психология находит постоянный и прочный материал, делающий возможным действительный анализ душевной жизни человека также и со стороны характеристики ее содержания.
Единообразная связь, простирающаяся таким образом на структуру и на историю развития душевной жизни, при более глубоком рассмотрении оказывается содержащей в себе правила, от которых зависит формирование индивидуальностей.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ ИЗУЧЕНИЕ РАЗЛИЧИЙ ДУШЕВНОЙ ЖИЗНИ. ИНДИВИД
Познание природы и ценности индивидуальности медленно развивалось в европейском человечестве. Сократ первый возвышается до осознания внутреннего нравственного процесса, без которого невозможно образование законченной личности. Его "познай самого себя" было прежде всего направлено на единообразие в человеческой природе, но из этого общезначимого в нем, которое он выносил на свет знания, должно было выделиться то могучее, недоступное исследованию, что он назвал "даймонион" и что, несомненно, относится к сокровенной глуби субъективности. Отсюда Сократ для своих последователей, для Стои, для Монтеня и прочих стал типом обращения мышления к глубинам личности. Следующий крупный шаг вперед был сделан стоиками в идеале мудреца. В этом идеале автономная и замкнутая в себе личность возвышалась над горизонтом философского сознания. Подчеркивание воли в мышлении, ориентация на выработку убеждения, способного придать действиям единство и сознание цели, ограниченность личности вовне путем превозможения силы внешних болей и наслаждений, возникающий таким образом идеал мудреца, обретающего центр тяжести внутри самого себя именно вследствие сознательной силы замкнутой в себе личности, вырабатывающейся под влиянием мысли, и более значительной, нежели цари и герои, культ дружбы, в которой связь образуется благодаря сродству индивидуальностей, – все это черты стоической жизни и стоического мышления, безмерно поднявшие ценность законченной гармонической личности и разъяснившие понятие о ней. Когда выдающиеся римские личности прониклись этим образом мыслей, возникло то чудесное соединение римской воли и энергии с вытекающей из философии сознательной выработкой личности, овеянной радостным сиянием общественной грации греков, которое мы встречаем в век Сципионов; создалась направленная к выработке личности безмерно действенная римская стоическая литература; вместе с тем развилась поразительная способность к постижению индивидуальностей, выказываемая историком Тацитом. В этой исторической области возникло самоосознание христианства. Средневековая литература созерцаний и размышлений продолжила это направление. То, что принято называть открытием индивидуальности в эпоху Возрождения, было обмирщением этого религиозного достояния.
Переход от постижения понятия замкнутой в себе гармонической личности, понятия, нашедшего, в конце концов, свое завершение в трансцендентальной философии, до понятия об индивидуальности, существующего в настоящее время, этот переход совершился, прежде всего, в сфере немецкой трансцендентальной философии. Мориц, Шиллер, Гете подготовили пути, а в заключение Гумбольдт и Шлейермахер сформулировали учение об индивидуальности. "В индивидуальности, – говорит Гумбольдт, – кроется тайна всякого существования" (WW. 1, 20). "Всякая человеческая индивидуальность есть коренящаяся в явлении идея, в некоторых случаях это до того ярко бросается в глаза, точно идея лишь затем приняла форму индивида, чтобы в ней совершить свое откровение. Если развить человеческую деятельность, то за вычетом всех определяющих ее причин остается нечто изначальное, не только не заглушаемое этими влияниями, но даже претворяющее их, и в том же элементе заключается неустанно действующее стремление создать внешнее существование для его внутренней природы" (WW. 1, 22). Шлейермахер также усматривает в индивидуальности нравственную ценность, заложенную в мироздании; она исходит, как идейное целое, из божественного разума – откровение божества. "Так как все нравственное должно быть установлено в отношении самого себя, как единичное, и вместе с тем оно должно быть отлично от всего прочего по понятию, то и отдельные люди изначально должны, по понятию, мыслиться отличными друг от друга, т.е. каждый должен быть своеобразным". "Понятие о каждом человеке, поскольку такое понятие о единичном выполнимо, есть новое понятие". ("Этика", § 131). "Большинство индивидов не было бы нравственными, если бы бытие разума в каждом из них не было иным, нежели в остальных". "То, что составляет разум, как душу отдельного человека, должно также носить характер своеобразия и быть для него законченным".
Мы делаем различия. Учение о ценности индивидуальности является выражением немецкой культуры того времени и, в определенных границах, остается социальной и этической истиной, которая не может более быть утраченной. Утверждение же, будто эта ценность индивидуальности указует на ее отношение к божеству, что, поэтому, она должна быть мыслима как нечто изначальное, единоположное, вытекающее из божественного миропорядка, – на это утверждение нельзя смотреть иначе, как на недоказуемое метафизическое толкование фактов этики. Оно относится к метафизическим концепциям, выходящим из границ того, что подлежит опытному познанию. Оно символически истолковывает внутренний опыт и прикрепляет его к субстанциальной подпочве.
В противоположность этому задача описательной психологии состоит в том, чтобы собрать наш опыт относительно индивидуальности, создать терминологию для описания ее и произвести анализ. Если метафизическая теория сопоставляла рядом общее и индивидуальное вне всякого отношения друг к другу, или в одной только эстетической связи, то именно раскрытие отношений, в которых особое находится к общему, является единственным средством дать выражение индивидуальности, как в изображении историка или поэта, так и в размышлениях житейского опыта. Вспомогательные средства для изображения этого особого описание; находит только в общих понятиях, выражающих, согласно своей природе, единообразие в особом. Чтобы постигнуть в мышлении и изобразить отношения, имеющие место в. особом, анализ может положить в основу лишь соотношения единообразного. Чтобы приблизиться к особому, он должен стремиться схватить именно те отношения, в .которых оно находится к общему. Я хочу описать дюреровских Евангелистов; для этого я должен пользоваться общими понятиями, предоставляемыми учением об изобразительном искусстве; я должен также говорить о темпераментах, о понимании их в эпоху Дюрера. Если же я хочу анализировать это произведение искусства, то я должен вызвать в моем сознании вспомогательные средства, которыми живопись пользуется для изображения великих характеров всемирной истории, Иоанна или Петра; я должен представить природу идеальных групп, изображающих нескольких всемирно исторических лиц в состоянии совершенного покоя, связанных между собою не историческим действием, а лишь идеальными отношениями; затем в заключенные во всем этом общие соотношения абстрактных фактов, принадлежащие к области учения о живописи, я должен вчленить конкретные особенности отношения Возрождения к подобным предметам; Леонардо, Микеланджело, Рафаэль, Дюрер и др., в качестве представителей особых типов изображения и живописной обработки идеальных групп исторически значительных персонажей, должны быть подведены под характер Возрождения, и в заключение произведению Дюрера должно быть указано соответствующее его индивидуальности место. Таким образом, везде отношения общих фактов к индивидуальному есть то, что делает возможным анализ последнего.
Главное положение, выражающее это отношение, может быть аналитически установлено каждым на развитой индивидуальности. Индивидуальности отличаются друг от друга не наличием в одной из них качественных определений или способов соединения, которые отсутствовали бы в другой. Ни в одной индивидуальности нет класса ощущений или аффектов, или структурной связи, которых не было бы в другой. Нет лиц, – за исключением случаев, явно отступающие от нормы, – которые видели бы только какой-нибудь определенный подбор цветов, или видели бы их больше, нежели другие, или не связывали бы чувства удовольствия с ощущениями цвета и со звуковыми сочетаниями, или были бы неспособны чувствовать гнев или сострадание, или были бы не в состоянии отражать нападение. Единообразие человеческой природы выражается в том, что у всех людей (если дело только не в аномалиях и дефектах) встречаются одни и те же качественные определения и формы соединений. Зато количественные соотношения, в которых они встречаются, чрезвычайно различны между собою; различия эти постоянно связываются в новые сочетания, и на этом-то и основываются различия индивидуальностей.
Из этих количественных различий и соотношений возникают и такие, которые выступают, как черты качественные. На одной школьной скамье сидят рядом мечтатель, повеса, сума переметная, тяжеловоз, упрямец. То, что мы обозначаем этими выражениями, есть господствующие качественные черты или типические сочетания их. При ближайшем рассмотрении оказывается, что это – черты, которые встречаются у каждого, но, напр., у упрямца или мечтателя они достигают особой силы; или же, что – это количественные определения быстроты, последовательности, смены и т.д., как у сумы переметной, или сочетания количественных определений, как у повесы, – словом, здесь количественные определения везде приобретают в глазах и на языке наблюдателя характер качественный, не претерпевая при этом никакого изменения в своей истинной природе. За одним игорным столом сидят корыстолюбец, загадочная натура, развратник, хлыщ. В обозначениях "корыстолюбец" или "развратник" прежде всего подчеркивается степень могущества одного из душевных импульсов и власти его над остальными. Под загадочной же натурой мы разумеем, пытаясь развить далее гетевскую мысль, такую натуру, которая не может быть ясно понята потому, что несоответствие между ее стремлениями и ее действительными достижениями, между требованиями, предъявляемыми ею к жизни и ее способностью действенно влиять на жизнь, – что это несоответствие заставляет ее переливаться столькими красками, что наблюдатель теряется. Это и есть одна из форм известного злополучного несоответствия между силой благородных чувств и бессилием реакции на действия, откуда затем вытекают несоразмерные требования, основанные на высоких чувствах и неспособность приносить пользу другим людям и давать им счастье. Таким образом, и тут мы имеем дело с соотношением количественных определений.
По второму основному положению, эти сочетания подлежат определенным правилам, ограничивающим возможности одновременного выступления количественных различий в отношениях. Из положения трех терминов, из распределения качественных и количественных различий суждения в большой и малой посылке можно отвлеченно вывести таблицу всех возможных сочетаний больших и малых посылок в заключения, но отсюда отнюдь не следует, что все эти сочетания возможны: вопрос решается логическими условиями, лежащими значительно глубже. Подобно этому из сочетаний количественных различий в соотношениях, отвлеченно возможных в душевной связи, в какой-либо отдельной индивидуальности возможны не все. Количество возможных сочетаний значительно больше, нежели принято думать. Полагают обычно, что с высокой степенью благочестия окажется связанной и столь же высокая степень положительности и верности. Однако это не обязательно. Соня-лежебока на школьной скамье оказывается в игре предводителем самой отчаянной компании. Не напрасно убеждают учителей наблюдать своих учеников также и во время игр, чтобы дополнить наблюдения, сделанные в классе. Различные степени энергии, проявляемые в ответ на возбуждения со стороны игр, – в одном случае много ниже, а в другом много выше среднего уровня, – отлично уживаются в одной душевной связи. То, каким образом душевные особенности предполагают или исключают друг друга, заложено столь глубоко, что это недоступно взору обычного наблюдателя. Знание об этом дало возможность создать науку, заключающую в себе твердые правила для наблюдения людей и для эстетического и исторического изображения их, – знание людей в их глубочайшей сущности основываются на правильном суждении о том, какие свойства могут и должны быть связаны между собой и какие взаимно друг друга исключают.
Здесь возникает одна из любопытнейших проблем в наблюдении человека. Чем ограниченнее кто-либо, тем охотнее он говорит о противоречиях в характере. Однако в определенном смысле это понятие применяется и весьма сведущим наблюдателем над людьми. Что же обозначает это выражение? Я готов сказать, что понятие о противоречиях в какой-либо индивидуальности всегда возникает из сравнения эмпирически данного с представлением о логически упорядоченной и целесообразно действующей душевной связи. Вот врач, имеющий представление о том, что полезно для здоровья, но постоянно действующий вопреки этим правилам; мы рассматриваем это как противоречие, – потому что это не соответствует нашему идеалу логической и целесообразной связи. Если мы зададим себе вопрос о том, почему мы в индивиде предполагаем целесообразную связь и в отсутствии ее усматриваем противоречие, и откуда происходит это противоречие: мы усвоим себе двусторонность понятия индивида; этим мы приближаемся к заключительному взгляду на природу индивидуальности.
Индивидуальное предрасположение заключается прежде всего в количественных мерах и соотношениях мер, отличающих одного индивида от другого. Но в структуре действует целесообразность, части этой структуры приходят в движение под влиянием импульсов, импульсы же в целом направлены к тому, чтобы при данных условиях способствовать жизни. Таким образом они постепенно приспособляются к этой цели. Упражнением вырабатываются как бы пути для ведущей к удовлетворению связи. Господствующее в личности политического деятеля честолюбие преодолевает застенчивость его повадки, которую при иных обстоятельствах трудно было бы победить. Если при наличии сильного интереса к истории память развита слабо, то пробел этот до известной степени заполняется благодаря указанному интересу. Таким образом, в индивидуальности действует принцип единства, подчиняющего силы целевой связи. Гумбольдт и Шлейермахер с полным основанием пытались это выявить в своих метафизических формулах, как ни несовершенен был способ их выражения. Здесь выясняется право на эти формулы. Но оба они не видят, что подпочва, на которой действует этот принцип, состоит в неучитываемых, отдельных, частных количественных определениях. Последние составляют как бы первовещество, претворяемое гармонически формирующим принципом, как своего рода эйдосом, в целостную индивидуальность. В таком сочетании фактических, никакой логикой не определяемых основ с целесообразно формирующей структурой, в которой они связаны, индивидуальность является образом самого мира. Здесь понятие развития приобретает новую черту; частные и случайные особенности индивидуального склада развертываются в этом развитии в единую и при данных условиях целесообразную связь.
Отсюда следует прежде всего, что во многих случаях противоречия в индивидуальности – лишь кажущиеся. Они кажутся такими, когда за контрастирующими свойствами кроется целесообразная связь, ускользающая лишь от поверхностного взгляда. Так, например, долготерпение, проявляемое какой-либо личностью, отнюдь не исключает с ее стороны взрыва бурного гнева по какому-либо поводу. Живой интерес к игре у мальчика не исключает безучастности к учению. Подлинно противоречащими друг другу являются, напротив, такие соотношения свойств, которые уничтожают логическую связь или целесообразность. Так, например, у некоторых поэтов разнузданное воображение и идеальное стремление находится друг с другом в противоречии. Реформатор воспитания Руссо своих собственных детей отдавал в приют. Густав Адольф был героем протестантизма и вместе с тем упорно преследовал интересы своего шведского государства. Напрасно было бы пытаться устранить подобного рода противоречия у великих людей, как если бы они были людьми обыкновенными; суждение, выводимое на основании наблюдения над последовательными средними людьми, неприменимо по отношению к таким широким натурам.
Если мы теперь пожелаем ближе определить приобретенный нами взгляд на природу индивидуальности и ближе заглянуть в различные формы ее, то надо попытаться очертить круг количественных различий. В общем индивиды разнятся уже по степени своей духовности; степени духовной жизненности простираются от натур духовно прозябающих до духовно творческих. В различных степенях интенсивности внутренних состояний дан уже первый круг более определенных различий. Есть люди, страдающие от силы своего собственного сострадания; в противоположность этому слишком хорошо известно, как слабо бывает сочувствие у многих людей, как у многих к впечатлению от чужого горя примешивается решительное чувство удовольствия. Дальнейшее различие заключается в продолжительности состояний. У одного лица они проявляются толчками, у других они держатся долго и обычно с умеренной силой. Так, например, у одних, при жизненных неудачах, страдание и ненависть проявляются столь бурно, что, кажется, они на себя руки наложат; на другой день все изменилось, они даже расположены развлекаться. У других вызванная жизненной неудачей депрессия протекает спокойно, но она точно сверлит и не прекращается, внезапно всплывая вновь, несмотря на новые впечатления. Далее, существуют большие различия также в быстроте восприятия впечатлений. Кроме того, возбуждения разнятся также и по глубине, на которой они зарываются, с тем, чтобы оттуда длительно влиять на все происходящее в душе. Этому соответствует распространение их по всей области душевной жизни благодаря частому возврату и вступлению во все новые соединения. Плоские натуры отдаются впечатлениям, позволяя одному вытеснять другое, тогда как в натурах глубоких впечатления утверждаются с большей силой. Плоские натуры – поверхностны, глубокие – постоянны. Однако эти и иные различия в степени, длительности, повторяемости внутренних процессов, разделяющие индивидов друг от друга, составляют лишь первое основание индивидуальности. Они находят свое выражение также в различии темпераментов. Важно прежде всего то, какие соотношения мер существуют в структуре душевной жизни между отдельными составными частями ее. Так как ядро структуры заключается в реакции на впечатление, то наиболее глубоко идущее различие должно быть между теми, у кого преобладает восприимчивость впечатлений, и теми, у кого самодеятельно реагирует воля. Натуры, подверженные впечатлениям или разряжающие впечатление в слова и жесты, совершенно отличаются от тех, которые отвечают на впечатления с самодеятельной силой и прямым волевым действием. Восприятие чувственных впечатлений также весьма различно, смотря по характеру отдельных областей внешних чувств. Здесь надо прежде всего различать прирожденные способности. Затем существуют различия в процессах воспроизведения и дальнейших интеллектуальных процессах. В области чувств выступает фундаментальное различие между дисколосом и эйколосом; в первом из них впечатления вызывают по преимуществу болезненные, а во втором – радостные душевные состояния. Из отношений импульсов и стремлений друг к другу, смотря по силе их, вытекают дальнейшие глубокие различия между индивидуальностями; так как здесь заключается средоточие душевной структуры, то большинство бросающихся в глаза различий тут и выступает наружу. И нигде незаметно с такой ясностью, как количественные различия становятся основанием для различения индивидуальностей, различения, которому мы в нашем понимании придаем характер качественный. Типы честолюбца, тщеславного, сладострастника, насильника, труса – все они лишь выражают количественные соотношения, ибо система импульсов у них у всех одна, и характерные типы происходят только от соотношений меры. Соотношение меры, в которой способность восприятия находится в душе к реакции путем волевых действий, является также основанием для дальнейших важных различений. При этом безразлично, нормируют и направляют эти волевые действия мышление или они господствуют над чувствами, или только во внешних движениях управляют внешним миром. Один раз человек во власти впечатлений; разносторонняя восприимчивость не дает возникнуть в нем прочным образованиям; вызванная впечатлениями игра чувств выражается в жестах, в смехе и плаче, в изменении душевного уклада; другой раз в противоположность анархии впечатлений – монархическое руководство жизнью, силой воли; сентиментальные натуры от этого отталкиваются, как от резкости, прямолинейности или трезвости, – в действительности же мужественное по преимуществу жизненное настроение является настроением человека творящего и формирующего, в противоположность всесторонне воспринимающему, наслаждающемуся, подвижному, охотно тешащему себя мыслью, что он глубже чувствует потому, что предоставляет своему чувству свободу. Со старанием избегнуть напряжения воли часто связывается леность, неспособность к объективной нравственной оценке себя и других вследствие преобладания резких чувств по отношению ко всякому, кто требует действия и напряжения вместо чувства; в итоге – тайное, обманчивое, скрытое стремление к выполнению побуждений чувственной жизни. Новые еще различия выступают в зависимости от того, что у одних отдельные действия в течение ряда годов или даже целого периода жизни управляются из приобретенной связи в прочных отношениях цели и средств, тогда как другие беспокойно ищут все новых решений и заново налаживают отношения новых целей к средствам. Одни действуют по плану, – мирские люди! – другие на основании правил, – нравственные, серьезные натуры! – третьи поступают демонически. Если обозреть совокупность этих последних основ, обусловливающих различия в индивидуальности, то, как мне кажется, в вышеизложенном дано доказательство общеобъемлющего положения, что упомянутые основания всюду могут быть найдены в количественных различиях, и что таким образом в этих основаниях заложено бесконечное богатство различий.
К сказанному надо добавить, что в таких естественных условиях нашего развития заключаются малоценные составные части нашего образа поведения. Возрастающая самостоятельность духовности, предпочтение длительных чувств радости, получаемой от последовательности, удовлетворения, получаемого от работы, самопожертвования, – все это лишь постепенно разрывает железные цепи, которые накладываются на нашу душевную жизнь естественными предупреждениями, первыми количественными соотношениями в системе наших импульсов. Но никогда они не разрываются до конца. Поэтому смешение таланта, естественного склада, характера заложено самой природой, и никакое развитие до гармоничной свободной целесообразности жизни не в состоянии совершенно уничтожить эти коренные составные части нашего душевного существования. Вместе с тем здесь, рядом с возможностью развития до человеческой нормы, дана возможность извращения.
Классы возникающих таким путем различий образуются прежде всего теми сферами, где в единообразии человеческой природы отграничиваются друг от друга обособления. Возрастные различия здесь в соображение принимать нельзя, так как они в отдельном индивиде составляют развитие его. Наиболее общим из всех различий является различие пола. Это – предмет, спорам о котором, надо полагать, конца никогда не будет, объект поэзии, тесно связанный со всей литературой, оказывающий ныне огромнейшее практическое влияние на все важные жизненные вопросы. При настоящем состоянии нашей культуры наиболее основное различие состоит, очевидно, в том, что у женщины жизнь чувства и мысли складывается на основании близко переживаемых отношений к семье, мужу, детям, тогда как мужчина под влиянием профессионального воспитания строит жизнь на более широких и объективных условиях, но зато менее непосредственно и интимно. Но вопрос о том, насколько подобные различия представляют собой последствия воспитания и насколько они являются непреодолимо данными предрасположениями, может быть постепенно разрешен только путем воспитательного эксперимента, и всякий, кто занимается человеческой природой, должен требовать возможности для разносторонних опытов. Человеческие расы, нации, общественные классы, профессиональные формы, исторические ступени и индивидуальности, – все они являются дальнейшими разграничениями индивидуальных различий в рамках единообразной человеческой природы. Лишь когда описательная психология исследует эти формы особенностей человеческой природы, будет найдено соединительное звено между нею и науками о духе. В науках о природе единообразное является господствующей целью познания; в пределах мира исторического вопрос идет об обособлении вплоть до индивида. По шкале этих обособлении мы не опускаемся, а поднимаемся. Жизнь истории заключается в возрастающем углублении своеобразного. В ней заключается живое отношение между царствами единообразного и индивидуального. Не единичное само по себе, а именно это отношение управляет в ней. Выражением такого положения вещей является то, что умственное и духовное состояние целой эпохи может быть представлено в одном индивиде. Существуют репрезентативные личности. Задача педагогики, согласно которой воспитатель в хорошо поставленной школе должен подготовить правильно понятую им индивидуальность ученика к подходящей для него профессии, также проливает свет на это отношение между расчленениями общего к индивидуальному; эта важнейшая задача разрешима только в том случае, если существует соотношение между индивидуальными задатками и крупными единообразными системами общественной и профессиональной жизни.
Здесь выясняется также значение, какое описательная психология индивидуальности имеет для исторического изучения развития индивидуальности. Развитие это должно быть обусловлено двумя моментами. Оно зависит от возрастания количественных различий в задатках. Но, как мы видели, индивидуальность не содержится уже в различиях, а лишь возникает из них путем сплетения их в единое подчиненное целесообразности целое. Она не прирождена, как полагали Шлейермахер и Гумбольдт, а складывается лишь в процессе развития. Поэтому второе условие повышения индивидуальности в обществе заключается во всем, что способно облегчить это сплетение в единое подчиненное целесообразности целое. Возрастание количественных различий обусловливается, в первую очередь, разделением труда и социально-политической дифференциацией. Повышение культуры действует в том же направлении; оно создает более возбудимые и духовно более сосредоточенные существования, в которых количественные различия увеличиваются с каждым поколением. На сочетание данных количественных мер в целесообразное целое действует все, что способствует свободе и внутренней силе образований. Ослабление социально-политических скреп в прежнем обществе, рассеяние дедовской религиозной веры, свободное образование собственной атмосферы жизнепонимания и мировоззрения вокруг отдельного лица, чему способствует своего рода метафизическая сила рефлексий и художественная деятельность фантазий, – эти и подобные им силы оказывали свое действие, когда в эпоху софистов в Греции, затем во времена первых римских императоров, наконец, в период итальянского Возрождения индивидуальность развертывалась.
Великая задача – перекинуть мост от прежней психологии к воззрению исторического мира! К этой цели возможно будет постепенно приблизиться лишь в том случае, если к прежним вспомогательным средствам прибавится изучение общественных продуктов и направленный на исследование психических различий между индивидами эксперимент.
1894 г.
Примечания
1
В своей статье о "Народном хозяйстве", помещенной в новом Словаре государственных наук (Handworterbuch der Staatswissenschaften), Шмоллер на примере политической экономии убедительно показал зависимость отдельной науки о духе, поскольку она стремится предписывать практической жизни определенные цели, от более обширной и объемлющей связи. Он также заставляет признать, что только телеологическая связь способна разрешить эту задачу. В последующем мы хотим лишь показать, каким образом в описательной психологии даны средства для общезначимого познания подобной, лежащей в основании наук о духе связи.
(обратно)2
В дополнение к этому краткому изложению отсылаю к остроумному исследованию Штумпфа о "Психологии и теории познания" (в трудах Баварской Академии Наук).
(обратно)3
Вольф впервые указал на такое разделение в своем Discursus рraeliminaris (Logica) – § 112, затем, после того как Тюминг предвосхитил у него выполнение этого плана, появилась в 1732 году его эмпирическая психология, а в 1734 – рациональная.
(обратно)4
В оригинале автор ошибочно называет Тэна "Henri" и выход его книги относит к 1864 году. Примеч. переводчика.
(обратно)5
Метод этой школы яснее всего виден в труде Мюнстерберга "О задачах и методах психологии". Книге этой принадлежит заслуга весьма ясного уточнения проводимой в ней точки зрения.
(обратно)6
По всей вероятности, имеется в виду статья: Beitrage zur Losung der Frage vom Ursprung unseres Glaubens an die Realitat der Aussenwelt und seinem Recht. 1890.
(обратно)7
Einbildungskraft und Wahnsinn. 1886. S. 14 ff. Poetik (Aufsatz Zeller gewidmet) S. 355 ff.
(обратно)8
Ср. вышеуказанную статью Дильтея о реальности внешнего мира.
(обратно)9
Philosophische Aufsatze, Zeller gewidment, 365 ff.
(обратно)
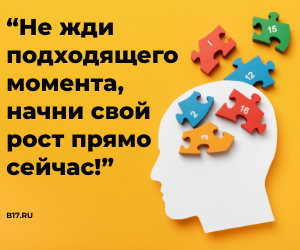

Комментарии к книге «Описательная психология», Вильгельм Дильтей
Всего 0 комментариев