Евгений Клюев. Между двух стульев
«…нет…»
Фр. Бэкон. «Новый органон»
Лирическое выступление
Интересно ли вам, что подают на «пиру воображенья»? Странные блюда подают там – например, «бренди, смешанный с соевым соусом», «скорпионов с томатной подливой», «живых кроликов», «пирог, начиненный невезучим стариком из Перу»… Не слишком аппетитно, правда? Всем этим угощал созванных на «пир воображенья» гостей один из основоположников так называемой литературы абсурда – Эдвард Лир. В середине прошлого века он издал в Англии «Книгу Абсурда» («Book of Nonsense»), переведенную с тех пор едва ли не на все языки мира. Сегодня это «меню Эдварда Лира» известно почти каждому – и, как ни удивительно, желающих отведать кулинарные шалости эксцентричного британца находится все больше и больше. В чем же секрет этой, теперь уже очень знаменитой, кухни? Не в том ли, что любое из предлагаемых ею блюд совершенно несъедобно? Несъедобно, а… едят!
Вот вам Старец, который привык Только кроликов кушать – живых: Как-то, съев двадцать штук, стал он зелен, как лук, – И от старых привычек отвык.Это я в подтверждение к сказанному… Чтобы вы не думали, будто я лгу.
Надо быть очень осторожными, когда вас приглашают на «пир воображенья». В этом случае от хозяев дома можно ожидать всякого. Легко, например, вместе с ними очутиться в чайнике:
Вот вам Старец, по чистой случайности С детских лет оказавшийся в чайнике: Он толстел с двух сторон, Но не мог выйти вон – Так и прожил всю жизнь в этом чайнике.…И упаси нас боже от расспросов – как, зачем, почему! Вразумительных ответов на них мы все равно не получим, если вообще получим какие-нибудь ответы:
Вот вам Старец из города Дил; Он гулять лишь на пятках ходил – Спросишь: «В чем тут секрет?», Он – ни слова в ответ, Скрытный Старец из города Дил.Все это – Эдвард Лир: старцы и старухи (а также малолетние и молодые леди и джентльмены), совершающие дикие и чудовищные поступки, – его герои. Жизнь их подчиняется законам, для нас не приемлемым, а мир, в котором они пребывают, даже не воспринимается нами как реальный. В крайнем случае мы оцениваем его как «другую реальность», имеющую мало общего с нашей. А «другая реальность» ужасно неудобна: все, что мы знаем, оказывается здесь бесполезным, а того, что могло бы принести пользу, мы, как выясняется, не знаем. В положении между двумя этими реальностями мы чувствуем себя севшими между двух стульев: английское выражение «to fall between two stools» (сесть между двух стульев) очень точно характеризует наше состояние. Мы обескуражены и растеряны, не понимаем, как вести себя, тщетно пытаемся сориентироваться и, наконец, в недоумении разводим руками или просто обижаемся: да нам просто морочат голову, сбивают нас с толку! И, рассерженные, одураченные, мы предпочитаем «пиру воображенья» спасительное лоно жизненного опыта и здравого смысла – а там уж, можете быть уверены, нам ничто не грозит.
Здравый Смысл – деловитый и трезвый хозяин. В гости к нему не приходят ни в два часа ночи, ни в семь часов утра – приходят либо к обеду, либо к ужину. Не надевают канареечные шорты, полосатые гетры или купальник – надевают строгое платье или костюм-тройку. В гости к Здравому Смыслу не приносят попугая на плече или жабу на ладони – приносят букет цветов и торт.
В гостях у Здравого Смысла не валяются на полу и не повисают на люстре – там чинно сидят за столом или отдыхают в креслах. Не молчат как рыбы, не кричат «полундра!», не лают и не крякают, а ведут подобающие беседы. В гостях у Здравого Смысла не едят глину с битым стеклом или воздушные шарики – едят салат оливье и мясо в белом соусе. Там не запускают в дам тапочками или цветочными горшками, а говорят им любезные слова.
Из гостей от Здравого Смысла не выходят на руках и не выкатываются кубарем – в этом смысле все тоже происходит как положено. Оттуда не выносят платяной шкаф или жареную курицу за пазухой, а выносят приятное впечатление.
Не кажется ли вам, что все это как-то успокаивает и делает визит к Здравому Смыслу не только совершенно безопасным, но и заманчивым?
Так что если у вас есть одновременно два приглашения – на «пир воображенья» и в гости к Здравому Смыслу, я советую вам самым обстоятельным образом обдумать свой выбор: все-таки мало кому приятно постоянно держать ухо востро! Однако если случилось, что ухо ваше само по себе востро и с этим уж ничего не поделаешь, – милости прошу за мной, на «пир воображенья»: я обещаю не давать вам покоя, отдыха и умиротворения, я обещаю обманывать вас на каждом шагу, я обещаю так заморочить вам голову, что самые обыденные вещи станут загадочными и в конце концов непонятными, я обещаю завести вас во все тупики, которые встретятся по дороге, и, наконец, я обещаю вам крушение всех надежд и иллюзий, а также полное попрание Жизненного Опыта и Здравого Смысла.
Рискнем? Рискнем – однако начнем не слишком резко, с пирога с тмином. Пирог с тмином – теперь большая редкость: мало кто умеет приготовить настоящий пирог с тмином. Немногие из вас, наверное, его пробовали – и вот этот молодой человек, но, может быть, чрезмерно серьезный (зовут его не то Петр, не то Павел – я точно не знаю и предлагаю во избежание недоразумений называть его Петропавел), не случайно переспрашивает:
– Простите, пирог – с миной?
Глава 1. Пирог с миной
Выражение «Пирог с миной» – не совсем понятное выражение. Оно может означать пирог с недовольным лицом – этакой капризной миной – и пирог, начиненный взрывным снарядом. Первое неприятно, второе просто опасно. Пока Петропавел размышлял об этом, внесли пирог. С лицом у пирога все было нормально: открытое румяное лицо, хоть и не слишком запоминающееся. Зато вот середина пирога подозрительно выпячивалась – и, когда над ней занесли довольно большой нож, Петропавел счел своим долгом напомнить:
– Осторожно, там мина!
Однако, несмотря на предупреждение, нож был безрассудно вонзен в самую середину. Стоит ли удивляться, если тут же раздался очень впечатляющий взрыв и комната, где все это происходило, наполнилась сизым дымом? Дым рассеивался долго, но рассеялся весь – и Петропавел успел увидеть, как через комнату пронесся на коне всадник, причем Петропавлу показалось, что у всадника этого больше чем одна голова. Сколько именно голов у него, определить было трудно: здесь Петропавел мог и ошибиться, но готов был подтвердить под присягой, по крайней мере, то, что какое-то недоразумение в верхней части тела у всадника имелось. Это производило нехорошее сильное впечатление. Петропавел ринулся было вслед, но поймал себя на мысли, что это глупо – кидаться вдогонку за всадником, не имея коня, и вернулся на прежнее место, которое оказалось занятым. На этом месте ярко одетая девушка обнимала и целовала человека, годившегося ей в отцы, деды и прадеды, одновременно рассказывая ему о том, как сильно она его любит, и о том, что это у нее впервые в жизни. Петропавел очень смутился, застав такой нежный и ответственный момент отношений двух незнакомых людей. Он сделал шаг назад и попытался даже произнести какие-нибудь извинения, но не успел, потому что ярко одетая девушка внезапно перестала обнимать и целовать возлюбленного и, прыжком переместившись к Петропавлу, принялась обнимать и целовать его. Объятия и поцелуи перемежались со словами:
– О любовь моя, я так долго ждала тебя! Я полюбила тебя сразу – сильно и страстно: это у меня впервые в жизни!
Все произошло так быстро, что Петропавел даже не успел опознать секунду назад уже слышанный им текст: перед его глазами моталась красная роза – голова пошла кругом и, кажется, начала побаливать. В мгновение ока зацелованный весь, он почувствовал сильную слабость и с трудом выдохнул:
– Разве мы знакомы?
– Мы созданы друг для друга! – горячо воскликнула девушка и сопроводила восклицание объятием, похожим на членовредительство. Петропавел ойкнул, а мучительница продолжала: – Хочешь взять мою жизнь – так на же, бери ее, она твоя! Для чего она мне теперь, когда я встретила тебя, о моя жизнь!
Петропавлу не требовалась предложенная ему жизнь, тем более что его собственная, кажется, была в опасности, но он ничего не ответил, сомлев от очередного объятия и окончательно утратив способность соображать.
Когда на время угасшее сознание вернулось, тем, о ком сразу вспомнил Петропавел, был человек, годившийся девушке в отцы, деды и прадеды. Все еще осыпаемый поцелуями, Петропавел уцепился за первую попавшуюся мысль о нем – мысль была такая: «Сейчас он зарежет меня». Сосредоточиться даже на этой простой мысли оказалось невозможно: роза продолжала мотаться перед глазами и сбивала с толку. Впрочем, Петропавел исхитрился-таки искоса взглянуть на прежнего возлюбленного девушки, которого ожидал увидеть с ножом в руке. Однако тот блаженно улыбался и с удовольствием крестился, глядя на них. Похоже, он был страшно рад избавлению. «Меня не зарежут», – с грустью понял Петропавел: значит, рассчитывать на постороннюю помощь не приходилось. Надо было самому позаботиться о себе. Но не тут-то было: руки и ноги отказывались служить ему. Единственное, что удалось, – это избавиться от розы: Петропавел изловчился и вырвал ее из замысловатой прически мучительницы. Отбросив цветок подальше, он покорился судьбе и беспокойно ожидал смерти. О пощаде, видимо, не могло быть и речи.
За короткое время Петропавла истрепали всего – и он почти не услышал спасительных слов, внезапно произнесенных девушкой.
– Не люблю тебя больше! – воскликнула она и с воплем «О любовь моя!» устремилась в сторону. Перед глазами Петропавла на мгновение мелькнули уже знакомый ему всадник и вспрыгнувшая в занятое седло красавица. «Я так долго ждала тебя! Я полюбила тебя сразу – сильно и стра…» – донеслось до него издалека. Петропавел вздрогнул и забился в тревожном и кошмарном сне. Сон отличался от яви только невообразимым количеством роз, украшавших волосы незнакомки, – и Петропавел все вырывал и вырывал их из замысловатой прически…
– Не спи, свихнешься, – услышал он сквозь ужас сна голос человека и почувствовал, как что-то упало на лицо. Петропавел усилием воли прекратил сновидение с розами.
– Кто это был? – спросил он. Перед ним сидел прежний возлюбленный девушки и ел рыбу.
– Это? – человек беспечно бросил в Петропавла еще одну рыбью кость. – Это Шармен была. Испанка, знаете ли… У любви, как у пташки, крылья, и все такое прочее… Рыбы хотите? Петропавел отрицательно помотал головой:
– А чего она такая… эта Шармен? Налетела, как буря…
– Полюбила, – развел руками человек, – что ж тут поделаешь? Со всяким бывает. – Он вытер рот краем плаща и отчитался: – Рыбы больше нет. Осталось куста четыре в кусках.
– А Вы кто? – спросил Петропавел, не вполне понимая слова незнакомца и подозрительно его разглядывая. Тот был одет исключительно старомодно: широкополая шляпа, плащ до земли, под плащом – жабо со всеми делами, потом ботфорты, шпоры…
– Бон Жуан, – отрекомендовались в ответ.
– Дон Жуан? – переспросил Петропавел.
– Бон! Бон Жуан, я ведь ясно сказал. Дон Жуан – он противный очень, бабник и так далее. Я про него такое знаю: шестой, хоть пятый!
– Как это – шестой, хоть пятый?
– Хоть стой, хоть падай, говорю. – И Бон Жуан заметил: – У Вас со слухом что-то… А я, чтоб вы знали, – хороший, отличный я просто.
– Очень приятно, – пришлось соврать Петропавлу.
– Теперь Вы о себе говорите, хороший Вы или нет! – приказал Бон Жуан.
– Да как сказать… – засмущался Петропавел.
– Скажите, как есть, – посоветовал Бон Жуан, – я все пойму и прощу. Я же Вас не знаю, поэтому Вас для меня пока нет. Стало быть, можно предполагать о Вас что угодно. Например, что Вы дрянь.
– Благодарю Вас, – поклонился Петропавел.
– Не стоит благодарности: предполагать действительно очень легко. Попробуйте предположить, например, что нынешний король Франции лыс.
Петропавел попробовал и признался: – Не могу… Во Франции сейчас вообще нету короля.
– Тем более! – горячо подхватил Бон Жуан. – Если его нет, как раз и допустимо предположить о нем все, что хочешь! Эта ситуация сильно напоминает хотя бы следующую: если у Вас нет денег, можно смело предполагать, что Ваши деньги сделаны из листьев лопуха, или из блинной муки, или из кафельных плиток. Денег все равно нет – так что любое предположение равноценно. Потому-то и несуществующего короля Франции одинаково правильно представлять себе лысым, заросшим волосами, стриженым под горшок: ни одна из версий не будет ошибочной. Это ведь самое милое дело – строить предположения о том, чего нет, или о том, чего не знаешь.
– То есть на пустом месте! – язвительно уточнил Петропавел.
– А на каком еще можно? – изумился Бон Жуан. – Если место чем-то занято, его сначала нужно расчистить, а потом уже строить предположения.
Петропавел начал раздражаться:
– Значит, ни короля Франции, ни денег нет, а мы с вами давайте рассуждать о том, какие они!
Бон Жуан несколько даже опешенел от этого заявления:
– У Вас, что же, вообще отсутствуют какие бы то ни было представления о том, чего нет?
– Но если этого нет! – воскликнул Петропавел. – На нет и суда нет.
– Забавно, – скорее себе, чем Петропавлу, сказал Бон Жуан. – По-Вашему получается, строить предположения можно только по поводу того, что есть? Но если это и так уже есть – какой же смысл строить предположения?.. Мои ботфорты, – он наклонил голову и проверил, украшены шпорами. Шпоры – есть. Я знаю, что они – есть, и потому лишен возможности строить предположения на сей счет. Чтобы строить предположения, я должен считать шпоры несуществующими.
– Но они существуют, – безжалостно сказал Петропавел.
В ответ на это Бон Жуан с силой оторвал шпоры и, вышвырнув их в окно, уставился на собеседника долгим дидактическим взглядом.
– Теперь мои ботфорты не украшены шпорами… Из-за Вас, между прочим! – Бон Жуан вздохнул, с огорчением разглядывая изуродованные ботфорты. – Стало быть, шпор нет – именно с этого момента я и имею право начинать строить предположения о том, что могло бы быть на освободившемся месте. Скушали? – и он победоносно улыбнулся.
Петропавел посмотрел на Бон Жуана как на идиота.
– Впрочем я прибегнул к крайней мере, – признался Бон Жуан. – В разговоре с нормальными – я подчеркиваю, нормальными! – людьми достаточно бывает предварительно договориться: допустим, нет того, что есть. И нормальные люди, как правило, соглашаются не принимать существующее положение вещей как окончательное и единственно возможное… Скажем, у Вас нет головы, которая есть. Вот тут-то и начинается: если нет головы, то что есть? Значит, я мысленно отрываю Вам голову и ставлю на ее место… ну, чайник. Я ведь не мог бы поставить чайник на место головы, не оторвав головы, – в противном случае получится, что я просто поставил чайник Вам на голову, а это совсем другое. Понятно?
Петропавел пожал ничего не понявшими плечами.
– Голову Вам, что ли, оторвать для наглядности? – и Бон Жуан задумался. – Вам ведь вынь да положь – голову на блюде!.. Однако вместо этого он вынул из вазы на столике два цветка, украсил ими ботфорты и сказал:
– Теперь мои ботфорты украшены цветами. Цветы заняли то самое место, откуда исчезли шпоры, и я опять лишен возможности строить предположения. Я могу только констатировать: эти цветы – есть. Я констатирую – и мне скучно… Мне больше нравится «нет», чем «есть». Потому что всякое «нет» означает «уже нет» или «еще нет»: у «нет» – прошлое и будущее, у «нет» -история, а у «есть» истории не бывает… – Бон Жуан помолчал и резюмировал: – Самое интересное в мире – это то, чего нет. Но Вас, кажется, больше интересует то, что есть. Досадно.
– Вы просто играете словами, – равнодушно уличил его Петропавел.
Бон Жуан усмехнулся:
– Милый мой, все мы просто играем словами! Но всем нам кажется, будто словами своими мы способны придавить к земле то, что существует вокруг нас. Мы уверенно говорим о чем-то: «Это имеет место быть!» А откуда у нас такая уверенность?
Петропавел решил, что этот вопрос не к нему.
– На самом же деле, – вздохнул Бон Жуан, – никто не вправе делать подобные заявления: ведь заявлениями этими мы отделяем действительное от возможного, в то время как действительное и возможное существуют бок о бок. Вам известно что-нибудь про возможные миры?
На всякий случай Петропавел снова смолчал. Бон Жуан усмехнулся:
– А между тем, мир реальный – не более чем один из возможных миров… Но даже если Вы очень постараетесь, Вам все-таки не удастся логическим путем вывести этот реальный мир из всех возможных.
– Чего же его выводить, когда он есть? – наконец включился в диалог Петропавел.
– Так-то оно так, но все, что «имеет место быть» существует лишь постольку, поскольку не существует другого. Существующее существует ценою несуществующего. А то, в свою очередь, всегда находится где-нибудь поблизости, рядышком. И граница между ними совсем узенькая – гораздо уже, чем Вы думаете! Если, конечно, Вы вообще думаете о таких вещах… Но вот что интересно: достаточно малейшего перекоса, малейшего перевеса одного из обстоятельств – и все сразу изменится, пойдет по-другому. Несуществующее займет место существующего и будет существовать. И с Вами никогда не произойдет того, что должно было бы произойти, не случись этого малейшего перекоса. Есть такой миг, когда все возможности равноправны и каждая из них начеку – и каждая только и ждет своего часа…
– Простите, – ни с того ни с сего спросил вдруг Петропавел, – а с кем ускакала Шармен? – прерванный на полуслове, Бон Жуан посмотрел на него с досадой:
– Это был Всадник-с-Двумя-Головами.
– Ах, вот что – с двумя головами… Странно.
– Нормально, – устало сказал Бон Жуан. – Если где-то есть и скачет Всадник без головы – надеюсь, Вы Майн Рида читали? – то совершенно естественно, что у одного из оставшихся в мире всадников будет две головы.
Тут Бон Жуан очень пристально посмотрел на Петропавла и сморозил:
– У меня такое впечатление, что Вы женщина.
– Приехали, – вздохнул Петропавел.
– Вы на что-то обиделись? – поинтересовался Бон Жуан. – Я не хотел Вас обидеть. Просто я не понимаю, почему я разговариваю с Вами. Дело в том, что с мужчинами я вообще никогда не разговариваю. Так Вы не женщина? – Петропавел отрицательно и глупо покачал головой. – Тогда извините… Мне не о чем с Вами говорить, – пожал плечами Бон Жуан и отправился вон из комнаты.
– Чертовщина какая-то, – вслух подумал Петропавел. – Бон Жуан, Шармен, Всадник-с-Двумя-Головами… По-моему, тут все сумасшедшие.
Глава 2. Засекреченный старик
Когда Петропавлу наскучило одному, он двинулся в том же самом направлении, в котором исчез Бон Жуан, и сразу обнаружил, что комната плавно переходит в лес: сначала на полу появились отдельные травинки, потом – пучки, низкие кустики, деревья – и вот уже Петропавел забрел в чащу. Оттуда доносился развеселый какой-то голос: там пели песнь. Слова в ней были такие:
Двенадцать человек на сундук холодца – Йо-хо-хо! – и ботинки гнома.Петропавел пошел на песнь и увидел сидевшего на суку небольшого бескрылого старичка, ее распевавшего. Петропавел сразу решил быть с ним строгим и спросил:
– Вы кто такой?
– Не твое дело! – старичок оказался грубым. – Ты так спрашиваешь, словно это ты создал мир, а я, вроде бы, проник в него без твоего ведома! Но мир создал не ты, я точно знаю. Кто такой… Никто такой, вот тебе! – и он запустил в Петропавла шишкой. Тот поднял шишку и удивился ей: дерево, на котором сидел старичок, было березой.
– Откуда у Вас шишка?
– От сердца оторвал, – нашелся старичок в этой, казалось бы, безвыходной ситуации. – Любопытной Барбаре нос в походе оторвали!
– В комоде, – поправил Петропавел.
– Барбара смущена, – диковато отреагировал старичок.
Петропавел не понял и остолбенел.
– Не надо столбенеть, как будто ты услышал чушь, – посоветовал старичок. – Ты ведь не можешь гарантировать, что в настоящий момент где-то, пусть даже далеко от нас, не находится какая-нибудь незнакомая нам Барбара. А если это так, то не исключено, что именно сейчас она чем-либо смущена. Впрочем, это тоже не твое дело.
Разговаривать с грубияном-старичком дальше не имело смысла – и Петропавел решительно двинулся вперед. Лес густел медленно и незаметно, как кисель. Петропавел поднял голову на треск сучьев: старичок, оказывается, крался за ним.
– Вы все еще тут? – холодно спросил он его.
– Что ты непрестанно лезешь в мою личную жизнь? – заорал старичок, а Петропавел от возмущения такой постановкой вопроса в сердцах пихнул ногой громадный дуб, который тут же повалился вбок, подминая под себя другие деревья. Одно из них задело грубого старичка, и тот неожиданно неуклюже – мешком – свалился в траву, не проронив ни звука. Петропавел подождал с минуту: может, звук запоздал? Но звук так и не раздался. «Я убил его!» – ужаснулся Петропавел и бросился к пострадавшему. Тот лежал в траве и смеялся. Насмеявшись, он грамотно объяснил:
– Я не убился, а рассмеялся!
– Давайте все-таки познакомимся, – смягчился Петропавел при виде такого добродушия.
– Обойдешься, не велика пицца! – без любезности откликнулся старичок и белкой взлетел на сук. «Ну и шут с тобой!» – сказал Петропавел в сердце своем и снова зашагал один. Идти становилось все труднее: похоже, он забрел в самые дебри. Привязчивый спутник следовал за ним и от скуки, должно быть, вдруг громко, но довольно вяло исполнил бессмысленный какой-то вокальный номер:
Из-за мыса, мыса Горн едет дедушка Легорн…Не дождавшись поощрения, старичок попытался завязать беседу.
– Хорошо тут, в ЧАЩЕ ВСЕГО, правда?
– Предлог «в» – лишний, – подумав, сказал Петропавел. – Дурацкое словосочетание получается… «в чаще всего»!
– То есть почему же дурацкое? Вокруг нас – чаща. Она называется ЧАЩА ВСЕГО, ибо здесь всего хватает. И если мы находимся внутри нее, то и выходит, что мы в ЧАЩЕ ВСЕГО.
– Ерунда какая! – восхитился Петропавел.
– Не тебе судить, – оборвал старичок.
Петропавел промолчал, ломясь сквозь сучья. На несколько следующих вопросов старичка он не ответил принципиально.
– Сколько волка ни кори… – начал было тот, однако продолжать не стал, а объяснил ситуацию: – Ты идешь прямо в лапы к Муравью-разбойнику! – Ответа опять не последовало. – Чего ты надулся? – взвился старичок. – Ну, отказался я знакомиться – так это только потому, что не знаю я – понимаешь, не знаю! – кто я такой… Зовут меня Ой ли-Лукой ли – устраивает тебя? Меня, например, не устраивает! Я бы предпочел что-нибудь типа Зевеса, если уж обязательно как-то называться.
– Ой ли-Лукой ли… это, кажется, из Андерсена? - вспомнил Петропавел.
– Да бог меня знает, откуда… Может, конечно, и оттуда, но вообще-то я местный, из этой ЧАЩИ ВСЕГО. А вот кто я такой, убей – не знаю! Следовало бы, наверное, назвать какие-нибудь мои особенности, вытекающие из того обстоятельства, что я Ой ли-Лукой ли, но никакие такие особенности мне неизвестны. Или, скажем, перечислить события, которые в твоих представлениях были бы связаны со мной… У тебя что-нибудь со мной связано?
– Ничего, – честно сказал Петропавел.
– Стало быть, на вопрос о том, кто я такой, нет ответа. Я бы квалифицировал этот твой вопрос как праздный, а тебя – как болтуна, но мне до тебя нет никакого дела. Мне есть дело только до себя!.. Вот живу я, – доверительно сообщил он, – и все время думаю: что ж это я за старик такой, а?
– Нормальный старик… только грубый очень, – помог Петропавел.
– Ума я к себе не приложу, – не воспользовался помощью Ой ли-Лукой ли. – Знаю только, что таких, как я, нету больше.
– Каждый по-своему неповторим, – Петропавел беспардонно улыбнулся.
– Ну, это ты брось! Таких, например, как ты, – навалом: имя им легион. А вот я… Никак не пойму, в чем мой секрет! Всю жизнь бьюсь над собой, да бестолку. Иной раз спросишь себя: «Старик! Чего ты хочешь?» – и сам себе ответишь: «Не знаю, старик».
Петропавлу не понравилось, что Ой ли-Лукой ли на ходу растоптал его индивидуальность, и он не без сарказма поинтересовался:
– Да что же в Вас такого необычного?
– В том-то и вопрос! – оживился старик. – Я вот каждого вижу насквозь, в мельчайшей букашке прозреваю ее сущность – и нет для меня никакой загадки в мире, кроме себя самого: тут я – пас! Ну, не удивительно ли, что за всю мою долгую жизнь я ни разу – обрати внимание: ни разу! – не встретил никого, кто был бы точно таким же, как я? Вот уж создала природа – так создала…
– Давайте о чем-нибудь другом поговорим, – предложил Петропавел. – Про Вас я уже, кажется, все понял. И если попробовать… ну, истолковать…
– Не смей меня истолковывать! – завизжал старик. – Понимаешь – и понимай себе, а истолковывать не смей! Понимать, хотя бы отчасти, – дело всех и каждого; истолковывать – дело избранных. Но я тебя не избирал меня истолковывать. Я для этого дела себя избрал. Есть такой принцип: познай себя. А такого принципа, как познай меня, – нету. Между тем, познать – это и значит истолковать. Так что отойди от меня в сторону… И там заткнись. А я себя без твоей помощи истолкую.
– Ну и пожалуйста, – сказал Петропавел. – Уж лучше я к Соловью-разбойнику пойду, чем с Вами тут…
– К Муравью! – перебил Ой ли-Лукой ли. – К Муравью-разбойнику, это существенно. А что касается СолоВия, то СолоВий… СолоВий, а не соловей! – он не тут живет. СолоВий – это птичка такая страшная, у которой веки до земли, – она там живет, – и он махнул рукой влево, – возле ГИПЕРБОЛОТА ИНЖЕНЕРА ГАРИНА.
– Возле… чего? – обалдел Петропавел.
– Возле ГИПЕРБОЛОТА… ну, это такое сверх-болото – жуткое, туда всех затягивает! Болото болот, в общем… А названо оно в честь инженера Гарина – я не знаю, кто это, но в его честь.
– Понятно, – ухмыльнулся Петропавел.
– Так вот, это я насчет СолоВия, что он не тут живет. А Муравей-разбойник – гроза лесов и полей. Его вообще никто никогда не видел, но все ужасно боятся.
Тут уж Петропавел не выдержал и расхохотался:
– Как же это он – гроза лесов и полей, когда его никто не видел никогда?
– Ну как-как… Плод народного суеверия, следствие неразвитости науки… мифологическое сознание и все такое. Познать не можем – и обожествляем, что ты прямо как маленький! Это и Ежу понятно. Эй, Еж! – крикнул он в пространство. -Тебе понятно?
– Мне все понятно, – отозвался из пространства некто Еж.
– Вы же каждого видите насквозь, – не оценив заявления Ежа, напомнил старику Петропавел. – Почему бы тогда Вам самому не познать вашего муравья?
– Насквозь вижу, ты прав. Но это если видно. А Муравья-разбойника не видно. Впрочем, я бы, может быть, его все равно познал… Ан – такого принципа, как познай его, – тоже нету: я же тебе говорил, есть один принцип – познай себя. И потом… он злой как собака. Тут вот кто-то из наших гулял по ЧАЩЕ ВСЕГО – в самые дебри зашел, решил: была не была, и шасть – прямо к логову!.. Ну, понятно: чем дальше влез, тем ближе вылез! Слышит – богатырский пописк… Он возьми да и крикни: «Муравей-разбойник, разрешите я Вас познаю!» Так тот – ни слова в ответ. Молчит и злится – представляешь?
Петропавел изо всех сил старался сохранить серьезность:
– Да как он хоть выглядит, этот Муравей – разбойник?
Ой ли-Лукой ли принял церемонную позу и начал:
– Народное воображение рисует его могучим и громадным – о трехстах двенадцати головах и восьми шеях, с тремя когтистыми лапами, покрытыми чешуей речных рыб. Его грудь спрятана под панцирем пятисот восьмидесяти семи черепах, левое брюхо обтянуто кожей бронтозавтра, а правое…
– Довольно-довольно, – остановил лавину ужасов Петропавел. – С народным воображением все понятно. А на самом-то деле он какой?
– Да ты что, муравьев никогда не видел? – удивился Ой ли-Лукой ли и, как показалось Петропавлу, поскучнел. – Ну, черненький, должно быть, невзрачный такой, мелкий… Букашка, одним словом. Но суть не в том, каков он на самом деле, – суть в том, каким мы его себе представляем. – Ой ли-Лукой ли набрал в легкие воздуха, чтобы продолжить повествование, но Петропавлу удалось встрять:
– Какой же смысл приписывать кому бы то ни было признаки, которыми он не обладает?
В ответ Ой ли-Лукой ли произнес вот что:
– Все-таки ты зануда. И ханжа. Можно подумать, сам ты никогда не приписывал никому признаков, которыми тот не обладает! В этом же вся прелесть – видеть нечто не таким, каково оно на самом деле!
– Что-то не нахожу тут особенной прелести, – сознался Петропавел. – Во всяком случае, сам я стараюсь этого не делать.
– Но ведь делаешь? – с надеждой спросил Ой ли-Лукой ли. – Или ты никогда не был влюблен? Каждый ведь в кого-нибудь влюблен. Я даже знаю одного, который влюблен в Спящую Уродину, так вот он…
– Боже мой, кто это? – Петропавла ужаснула подробность имени.
– Неважно! – отмахнулся Ой ли-Лукой ли, – он утверждает, что красивей ее нет никого на свете – полный бред! Но, кроме того, он готов поклясться, что она самая чистая и светлая душа в мире. Не– понятно, когда он успел это выяснить: на моей памяти – а я старше его лет на… несколько! – Спящая Уродина ни разу не проявляла вообще никаких качеств, ибо все время спала как убитая. Теперь подумай о той, в которую ты влюблен!..
Петропавел проницательно улыбнулся:
– Той, в которую я влюблен, я ничего не приписываю. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что внешность у нее не фонтан и ума особенного нет, и вообще…
– Ты или не влюблен, или дурак. Петропавел даже не успел оскорбиться – так быстро, с ветки на ветку, исчез Ой ли-Лукой ли в ЧАЩЕ ВСЕГО, оставив после себя в воздухе обрывок странным образом видоизмененной «Песенки герцога»:
Серьги красавицы – Словно пельмени…Глава 3. Сон с препятствиями
Петропавел долго тряс головой: дурацкая песенка про пельмени не вытряхивалась. Кажется, это она завела его сюда, откуда вообще уже не было выхода. Он сделал несколько проверочных бросков в разные стороны и обнаружил, что ветви деревьев со всех сторон сплелись намертво. Но хуже всего было другое: Петропавел давно уже не понимал, что такое «вперед» и что такое «назад». Чувство пространства исчезло полностью. Да и чувство времени – тоже.
Последние силы ушли на то, чтобы вскарабкаться на дерево. Оказалось, что слева от него – всего в каких-нибудь метрах десяти – ЧАЩА ВСЕГО кончалась поляной подозрительно синего цвета. Сразу за поляной был горный массив. Его цвет не вызывал подозрений. По примеру Ой ли-Лукой ли прыгая с ветки на ветку, весь исцарапанный, Петропавел благополучно приземлился на синюю поляну.
Посередине поляны на пне сидело человеческое существо женского или мужского пола – больше о существе этом по причине полной его неправдоподобности сказать было нечего. Лицо существа, выкрашенное белилами, смотрело в сторону Петропавла, но уловимого выражения не имело. Существо было завернуто в какую-то густую, – скорее всего, рыболовную – сеть, спадавшую до земли.
– Здравствуйте, – осторожно произнес Петропавел и получил в ответ хриплое: «Прикройтесь». Решив, что сейчас на него набросятся, он принял боксерскую, как ему показалось, стойку, но существо не двигалось. Тогда Петропавел, все поняв и смутясь, опустил глаза и увидел, что одежда его состояла теперь сплошь из прорех, сквозь которые светилось худое интеллигентное тело. Оставшиеся после скитаний по лесу лохмотья мало что прикрывали. Петропавел отвернулся и попробовал разложить лохмотья на теле так, чтобы было прилично. Прилично не получилось.
– Где Вы взяли сеть? – спросил он не оборачиваясь.
– На побережье, – ответили ему странно.
– А побережье где?
– У моря, – ответили еще более странно.
Продолжая манипуляции с лохмотьями, Петропавел, чтобы выиграть время, придрался:
– Почему поляна такого дикого цвета?
– Нипочему. Это ЧАСТНАЯ ПОЛЯНА. В какой цвет хочу – в такой и крашу.
По голосу собеседник мог быть либо женщиной с басом, либо мужчиной с тенором. Решив, что во втором случае можно не церемониться, Петропавел спросил напрямик:
– Вы, простите за нескромный вопрос, какого пола?
– Скорее всего, женского, – с сомнением ответили сзади, окончательно сбив Петропавла с толку.
– Нельзя ли поточнее? – не очень вежливо переспросил Петропавел. – В нашем положении это все-таки важно.
– В вашем положении – важно, а в моем нет, – заметили в ответ.
«Оно право», – подумал Петропавел и сказал:
– Может быть, если у Вас нет полной уверенности в том, что Вы женского пола, и остается пусть даже маленькая надежда, что Вы мужчина, я перестану смущаться хотя бы на время и повернусь к Вам лицом?
– Валяйте.
Петропавел осторожно и не полностью повернулся и стыдливо представился. То, как представились ему, потрясло Петропавла.
– Белое Безмозглое, – отрекомендовалось существо.
– Вы это серьезно? – спросил он.
– Не деликатный вопрос, – заметило Белое Безмозглое.
– Извините… Мне просто стало интересно, почему Вас так назвали.
Белое Безмозглое пожало плечами:
– Можно подумать, что называют обязательно почему-то! Обычно называют нипочему – просто так, от нечего делать.
– Белое Безмозглое… – с ужасом повторил Петропавел.
– Да, это имя собственное. То есть мое собственное. Но не подумайте, что у меня нет мозгов: у меня мозгов полон рот! А имя… что ж, имя – только имя: от него не требуется каким-то образом представлять своего носителя… Асимметричный дуализм языкового знака.
– Что-о-о? – Петропавел во все глаза уставился на Белое Безмозглое. Оно зевнуло.
– Фердинанд де Соссюр.
Это заявление сразило Петропавла намертво. Он подождал объяснений, но не дождался. Белое Безмозглое тупо глядело на него, все еще не имея никакого выражения лица.
– Что это значит? – пришлось наконец спросить Петропавлу.
– А зачем Вам знать? – опять зевнуло Белое Безмозглое. – Ведь имена узнают, чтобы употреблять их. Вы же не собираетесь употреблять это имя? Стало быть, и знать его незачем. Язык… – зевнув в очередной раз. Белое Безмозглое внезапно уснуло.
Петропавел выждал приличное время и наконец тихонько дотронулся до сети:
– Простите, Вы хотели что-то сказать?
– По поводу чего? – поинтересовалось Белое Безмозглое.
– По поводу… кажется, по поводу языка.
– А-а, язык… Язык страшно несовершенен! Как это говорят… – тут Белое Безмозглое опять погрузилось в сон.
– Как это говорят? – подтолкнул его Петропавел.
– Да по-разному говорят. Говорят, например, так: «Парадокс общения в том и состоит, что можно высказаться на языке и тем не менее быть понятым». Это очень смешно, – без тени улыбки закончило Белое Безмозглое, засыпая.
«Вот наказание! – с досадой подумал Петропавел. – Оно засыпает каждую минуту!» Размышляя о том, как бы разбудить Белое Безмозглое на более долгий срок, он заметил некоторую несообразность в ее (или его) облике: казалось, что сеть была просто скатана в какое-то подобие тюка и что при этом в тюке ничего не было. Лицо Белого Безмозглого производило такое же странное впечатление: лица, собственно, не имелось, а все, что имелось в качестве лица, было нарисовано – непонятно только, на чем… Петропавлу сделалось жутковато – и он довольно грубо толкнул Белое Безмозглое. Оно очнулось.
– Я что-то начало объяснять?.. Видите ли, я засыпаю исключительно тогда, когда приходится что-нибудь кому-нибудь объяснять или, наоборот, выслушивать чьи-нибудь объяснения. Мне сразу становится страшно скучно… По-моему, это самое бессмысленное занятие на свете – объяснять. Не говоря уже о том, чтобы выслушивать объяснения.
– А вот я, – заявил Петропавел, – благодарен каждому, кто готов объяснить мне хоть что-то – все равно что.
Белое Безмозглое с сожалением поглядело на него: это было первое из уловимых выражение лица.
– Бедный! – сказало оно. – Наверное, Вы ничего-ничего не знаете, а стремитесь к тому, чтобы знать все. Я встречалось с такими – всегда хотелось надавать им каких-нибудь детских книжек… или по морде. Мокрой сетью. Книжек у меня при себе нет, а вот… Хотите по морде? Правда, сеть уже высохла – так что вряд ли будет убедительно.
– Зачем это – по морде? – решил сначала все-таки спросить Петропавел.
– Самый лучший способ объяснения. Интересно, что потом уже человек все понимает сам. И никогда больше не требует объяснений – ни по какому поводу!.. И не думает, будто словами можно что-нибудь объяснить. У Вас были учителя? – неожиданно спросило Белое Безмозглое.
– Конечно, – смешался Петропавел. – Были и… и есть. Как у всех.
– Да-да… – рассеянно подхватило Белое Безмозглое. – Терпеть не могу учителей. Они всегда прикидываются, будто что-то объясняют, а на самом деле ничегошеньки не объясняют.
– Ну, не скажите! – вступился Петропавел за всех учителей сразу.
– А вот скажу! – воскликнуло Белое Безмозглое. – Я еще и не такое скажу!.. – Даже переживая какую-нибудь эмоцию, оно оставалось почти неподвижным. – Для меня достаточно того, что при объяснении они пользуются словами: одно это гарантирует им полный провал.
– Чем же, по-Вашему, надо пользоваться при объяснении?
Белое Безмозглое не задумываясь ответило:
– Мокрой сетью. Исключительно эффективно. А слова… – Белое Безмозглое подозрительно зевнуло, – все суета и асимметричный дуализм языкового знака.
Определенно надо было предпринимать какие-то действия, чтобы выведать у Белого Безмозглого хотя бы минимальные сведения об этом асимметричном дуализме.
– М-м… – попробовал начать он, – но ведь асимметричный дуализм языкового знака, как Вы его называете… – этим, наверное, еще не исчерпывается наше знание о мире…
– Исчерпывается, – лаконично возразило Белое Безмозглое и уснуло, успев повторить только: – Фердинанд де Соссюр… Тут Петропавел прямо-таки рассвирепел.
– Проснитесь! – заорал он. – Сколько можно спать!
Белое Безмозглое проснулось и сказало:
– Не злитесь. Злоба – не воробей: выпустишь – не поймаешь.
– Тогда немедленно объясните мне про дуализм и про Фердинанда! – отчеканил Петропавел.
Белое Безмозглое вздрогнуло и испуганно залепетало что-то нечленораздельное, но мгновенно впало в такой глубокий сон, что со страху, должно быть, захрапело, как солдат.
– Ну, ладно! – зловеще произнес Петропавел. – Тогда держитесь! – Он ухватился за свободный конец сети и с некоторым трудом перевернул тяжелое Белое Безмозглое вверх ногами. Потом прицепил сеть к толстому суку дуба на окраине поляны. Через непродолжительное время, – видимо, от ощущения неловкости в теле – Белое Безмозглое проснулось и поинтересовалось:
– Что это со мной?
– Вы висите на дереве и сейчас объясните мне то, о чем я Вас просил.
Белое Безмозглое тут же попыталось уснуть, но положение тела обязывало бодрствовать, и, не сумев опочить, оно тихо и безутешно заплакало.
– Объясняйте! – приказал неумолимый Петропавел. -Объясняйте – и я верну Вас на Ваш пень.
– Ну… – принялось ерзать зареванное уже Белое Безмозглое, – это понятие, асимметричный дуализм языкового знака, введено одним лингвистом швейцарским, которого звали Фердинанд де Соссюр… Он рассматривал языковой знак -допустим, слово – как единство означающего и означаемого… то есть формы… внешней оболочки знака… собственно звуков… и смысла… Хватит?
– Мало, – отрезал Петропавел.
– Между формой знака и его смыслом отношения асимметричные! – взревело Белое Безмозглое. – Название никогда не раскрывает сущности предмета, никогда не покрывает смысла!.. – На Белое Безмозглое невыносимо было смотреть: глаза на его сильно набеленном лице постоянно закрывались и открывались, голова то безжизненно повисала, то вновь поднималась кверху. Борьба с подступавшим сном была, по-видимому, крайне мучительной. Петропавел отвернулся и принялся разглядывать куст.
– Подробнее! – офицерским голосом скомандовал он, сам удивляясь своей жестокости.
Заплетающимся языком Белое Безмозглое бормотало уже чуть слышно:
– Что ж тут подробнее… Если название не раскрывает сущности предмета… бессмысленно пытаться объяснять что бы то ни было с помощью названий… Имена условны… Они не воссоздают предметного мира… Они создают свой мир… это мир имен… мир слов… Их придумали, чтобы обмениваться словами, а не предметами… предметы бывают тяжелыми… они не всегда под рукой… ногой… головой… – и Белое Безмозглое прикинулось уснувшим.
– Вы же не спите! – укорил наблюдательный Петропавел и вдруг почувствовал, как откуда-то сверху возник очень направленный ледяной ветер и почти тут же на уровне лица Петропавла завис некто величиной с годовалого младенца, но плотный и старый. В руке его была колотушка, которой он немедленно и со страшной силой ударил Петропавла в лоб. Когда Петропавел пришел в себя и почувствовал ужасную боль, старый младенец отрекомендовался:
– Гном Небесный. Прошу любить и жаловаться.
– Очень голова болит, – охотно пожаловался Петропавел.
– Рад слышать, – ответил Гном Небесный. – Сейчас же отцепите Белое Безмозглое от дерева. Феодал!
Петропавел, у которого все плыло перед глазами, беспрекословно повиновался. Все это время Гном Небесный висел на небольшой высоте очень строгий.
– Твое имя? – спросил он по окончании процедуры. Белое Безмозглое отползало. Петропавел не смог вспомнить своего имени точно: – Меня зовут… не то Петр, не то Павел…
– Ясно. И чего ж это ты бесчинствуешь? Тут все-таки ЧАСТНАЯ ПОЛЯНА, – между прочим, гордость нашей ЧАЩИ ВСЕГО.
– Я только хотел, чтобы оно договорило то, что начало, -попытался оправдаться Петропавел. Гном Небесный нахмурился:
– Зачем тебе это?
– Кто сказал «А», пусть скажет «Б», – объяснился Петропавел коротко, по причине головной боли.
После некоторого размышления Гном Небесный заметил:
– Тут у нас так никто не делает. – Помолчав, он добавил: – И слава богу.
– Но почему? – от боли глаза у Петропавла вылезли на лоб.
– Во-первых, глаза убери со лба, – порекомендовал Гном Небесный и своей колотушкой что было сил хватил Петропавла по темени. Удовлетворившись результатом, он довольно хмыкнул и продолжал. – А во-вторых, если тебе сказали «А», то «Б» уже само собой разумеется. А все, что само собой разумеется, никому не интересно. – Тут гном Небесный подозрительно посмотрел на Петропавла. – Или, может быть, тебе интересно то, что само собой разумеется?
Петропавел тер темя и не следил за разговором.
– За разговором следи, – посоветовал Гном Небесный. – Я начинаю излагать сведения, которые тебе, по-видимому, нужны. Значит, так. Русский алфавит состоит из 33 букв. Сначала идет буква А, непосредственно за ней следует Б, после которой идет В. Дальше сразу же – это уже четвертая буква – Г. Пятая буква – Д, потом Е и рядом с ней Е – такая же, как Е, только с двумя точками сверху, затем…
– Спасибо, достаточно, – как мог вежливо остановил его Петропавел. – Дальше я знаю.
– Отрадно. Значит, голова у тебя не для кляпа. (»Шляпы!» – хотел возразить Петропавел, но из страха перед молниеносной колотушкой смолчал.) Не для кляпа, – настойчиво повторил Гном Небесный и, вынув из маленького нагрудного кармана кляп, угрожающе потряс им в воздухе.
– Не для кляпа, – с уверенностью подтвердил Петропавел.
– В таком случае, – Гном Небесный спрятал кляп, – сам и досказывай себе недосказанное, если считаешь нужным. Тут тебе предоставляется полная свобода. Или ты не любишь свободы? – И из заднего кармана брючек Гном Небесный внезапно вынул наручники огромных размеров.
– Я люблю свободу! – прочувствовал ситуацию Петропавел.
– Вот и пользуйся ею. – Громадные наручники исчезли в крохотном кармане. – Стало быть, Петр или Павел, удовольствуйся тем, что тебе сказали «А»: тут у нас редко говорят «Б» по своей воле. И потом не надо стараться прямо так уж все понять. Многое из того, что тут встречается, вообще не годится как объект для понимания. Вон там, – Гном Небесный махнул колотушкой в сторону, – находится ИГОРНЫЙ МАССИВ: на нем живет Пластилин Мира. Очень не рекомендую тебе понимать его. Есть явления, которые нужно просто оставить в покое. Ты же, например, не стремишься понять… ну, мыло, когда руки моешь!
– Стремлюсь, – сказал и в самом деле пытливый Петропавел.
– Ну и дурак. Тут такого стремления высоко никто не оценит.
– Тут… это где?
– Тут – это тебе не там. И предупреждаю: если ты намерен не давать спать Белому Безмозглому, пеняй на себя! Видишь ли, мы ленивы и не любим пытки… А я буду следить за тобой. Знаешь, что такое гномическое настоящее? – Гном Небесный зря подождал ответа и объяснил: – Гномическое настоящее – это время, захваченное врасплох, в одной точке: здесь и теперь. Так что учти! – и он приветственно махнул колотушкой, за миг до этого исчезнув из поля зрения.
Лирическое наступление
Одному моему знакомому очень не нравилась сказка «Курочка ряба». Он не понимал ее. Поступки героев этой сказки казались ему дикими выходками. Рассуждал он примерно так.
«Жили себе дед да баба. Была у них курочка ряба» – это нормально: деды и бабы действительно живут на свете, и у них обычно водится какая-нибудь живность. «Снесла курочка яичко – яичко не простое, а золотое» – что же, предположим. Примем это как допущение… А вот дальше… Дальше начинаются совершенно не мотивированные действия героев. Посудите сами: «Дед бил, бил – не разбил». Зачем, спрашивается, он это яичко бил, если понял, что оно золотое? Золотые яйца не бьются – каждому ясно. «Баба била, била – не разбила» – экая глупая баба! Мало ей, что яйцо золотое, так ее и печальный пример деда ни в чем не убедил… Идем дальше: «Мышка бежала, хвостиком махнула – яичко упало и разбилось». Как же оно, интересно, разбилось, когда золотые яйца (см. выше) не бьются? Ладно, примем это как второе допущение. Но что ж потом? А потом – «Плачет дед». С чего бы это? Ведь за минуту до разбиения яйца мышью сам он стремился к тому же результату! Очень непоследовательный получается дед… Или этот дед настолько мелочен, что ему важно, кто именно разбил яйцо? Непонятно. «Плачет баба» – опять же глупая баба! Механически повторяет все, что делает дед. «А курочка кудахчет: «Не плачь, дед…» – Стоп! Если курочка ряба умеет говорить, то почему же раньше она молча следила за бессмысленными поступками деда и бабы, почему не возмутилась, не объяснила ситуации? Подозрительная курица… Так вот, она говорит: «Не плачь, дед, не плачь, баба, снесу я вам яичко другое – не золотое, а простое!» Тоже мне, утешение: плакали-то они о золотом!.. И вообще – будь яичко с самого начала простым, никакой трагедии не произошло бы: дед благополучно разбил бы его с первого раза без посторонней помощи. И даже баба бы разбила. Но на этом сказка кончается. Что ж это за сказка такая? А вот представим себе: «Жили себе дед да баба. Была у них курочка ряба. Снесла курочка яичко – яичко не простое, а золотое. Обрадовался дед. Обрадовалась баба. Взяли они яичко и понесли на рынок. И там за это золотое яичко продали им десять тысяч простых. Сто яичек они съели, а остальные протухли»…Чудная сказка! Я дарю ее моему знакомому: пусть рассказывает своим внукам и правнукам про оборотистых деда и бабу, а мы с вами давайте поставим перед собой вопрос: что же все-таки делать с золотым яичком? Ответ на этот вопрос может быть только один: делать с золотым яичком нечего – и что бы ни предприняли дед и баба, все одинаково нелепо, потому как для них золотое яичко – это привет из другой реальности. Это бабочка, залетевшая в комнату, где ей не выжить. Это персиковая косточка, брошенная в снег, где ничего не вырастет из нее. Это прекрасное стихотворение на не известном никому языке… «Дар напрасный, дар случайный». Всему – свое место.
«Всему – свое место» – таков, пожалуй, наиболее общий смысл, который можно извлечь из «Курочки рябы». Но вот что странно: вне истории о золотом яичке, само по себе, суждение это никому не нужно. Представим себе такую ситуацию: некто собрал вокруг себя слушателей, предложил им рассаживаться поудобнее и приготовиться слушать. И вот они расселись по местам, приготовились. Рассказчик раскрыл рот и произнес: «Всему – свое место». После этого он, может быть, сказал еще: «Спасибо за внимание. Все свободны». Слушатели встали и разошлись. Забавная ситуация…
Теперь спросим себя: какую информацию получили слушатели? Да, пожалуй, никакой. Однако то же суждение, добытое ими из сказки о курочке рябе самостоятельно – пусть и несформулированное, – имело бы гораздо большую ценность. Так рыбак подолгу сидит с удочкой у реки, вылавливая крохотного карасика, в то время как дома ждет его суп из судака. Так мальчишка взбирается на самую верхушку дерева за маленьким кислым яблочком, не обращая внимания на спелые плоды, упавшие на землю. И так бродим мы по дальним дорогам мира, чтобы в конце жизни понять, что значит родина, и вернуться к ней, -кружными путями все бродим и бродим по дальним дорогам…
Глава 4. И да, и нет, и все-что-угодно
Постояв на опустевшей ЧАСТНОЙ ПОЛЯНЕ, Петропавел вздохнул и отправился в направлении ИГОРНОГО МАССИВА. На склоне ближайшей из гор примостился ухоженный домик.
Над дверью висел колокольчик, а на маленькой медной табличке у входа было написано:
Пластилин Мира.
Звонить 126 раз
Петропавел вздохнул и принялся названивать. Раза два он сбивался и начинал сначала, но на третий раз постарался быть внимательнее и, аккуратно считая звонки, прозвонил ровно столько, сколько нужно. На сто двадцать шестой звонок – не раньше! – дверь распахнулась, и перед Петропавлом предстал толстенький человечек без возраста с радушием на лице.
– Вы ко мне или не ко мне? – спросил он у Петропавла, словно в доме жил кто-то еще.
– По-видимому, – отозвался Петропавел, стыдясь лохмотьев. – Здравствуйте.
– Я так и подумал! – обрадованно ответил человечек. – То есть я, конечно, подумал не так. Мой дом иногда принимают за КАПИТАНСКУЮ ДАЧКУ, хотя он совсем на нее не похож. Она на соседней горе. Там живет Тетя Капитана-Франта. Но Вы начали звонить в колокольчик – и на сто двадцать шестом звонке мне показалось, что Вы ко мне.
– А тут кто еще живет, кроме Вас? – поинтересовался Петропавел.
– Да никого, я один, – и человечек улыбнулся, жестом приглашая Петропавла войти. Тот вошел и спросил:
– Зачем же тогда столько раз звонить? Если тут никто, кроме Вас, не живет, хватило бы и одного звонка.
– А тут еще много жильцов, кроме меня, – снова улыбнулся человечек, провожая Петропавла из абсолютно темной прихожей в абсолютно пустую комнату. Петропавел пристально посмотрел на хозяина:
– Простите, я так и не понял: Вы все-таки один тут живете или не один?
– Я тут один живу, – улыбка уже совсем не сходила с его приветливого лица.
«Сумасшедший!» – подумал Петропавел, а хозяин любезно предложил:
– Садитесь, пожалуйста! – и сопроводил предложение жестом, означавшим присутствие в комнате стульев, по крайней мере нескольких. Петропавел оглядел пустую комнату повнимательнее: для внимательного взгляда она тоже была пуста.
Они постояли молча. Через продолжительное время хозяин спросил:
– Может быть, мне помочь Вам выбрать куда сесть? – Он схватил Петропавла за плечи и властно начал пригибать его к полу. Тот последовательно не сопротивлялся, решив лучше посидеть на полу, чем спорить с сумасшедшим. Однако у самого пола, когда он готов был уже ушибаться, под ним неожиданно возникло кресло, в которое он довольно удобно впечатался. Хозяин снял руки с его плеч, сказал «уф» и сел в пустоту, тоже мгновенно преобразовавшуюся в кресло. Этот эффектный трюк человечек сопроводил словами:
– Разрешите представиться: Пластилин Мира.
Петропавел привстал в кресле – представиться в ответ, но кресло незамедлительно исчезло из-под него. Он растерянно взглянул на хозяина, однако на его месте в пляжном шезлонге расположился уже кто-то другой – сухопарый энглизированный старик в плавках и с махровым полотенцем вокруг шеи, который кивнул и сухо отрекомендовался:
– Пластилин Мира.
– Как? Вы тоже? – опешил Петропавел и, забыв о пропаже кресла, упал в пространство, услужливо выстроившее под ним шезлонг.
– Почему тоже? – вроде бы даже обиделся пляжный старик. – Я тот же самый Пластилин Мира. Только я уже не тот. Но дело не в этом.
– А в чем? – спросил Петропавел и почувствовал себя глупо.
– Ни в чем, – был ответ. После ответа была тишина.
– Если Вы по-другому выглядите – по-другому и называйтесь! – неожиданно для себя приказал Петропавел.
– Приятно, когда тобой руководят. – Старик ухмыльнулся. – Не понимаю только, зачем это нужно – смешивать имя с носителем имени. Одно и то же имя соотносится с тысячами носителей одновременно. Даже если я вообще исчезну из жизни, мое имя останется существовать и будет иметь значение. Поэтому не надо так уж прочно прикреплять его к тому жизнерадостному идиоту, с которым Вы познакомились до встречи со мной.
– Но это же были Вы! – Петропавел начинал запутываться.
– Я никогда не был идиотом, – отрезал старик и с сожалением добавил: – Не очень-то Вы хорошо воспитаны.
– Я только хотел сказать… – Петропавел совсем растерялся, – я… хочу спросить: где же истина?
– Если Вы у меня об этом хотите спросить, то не спрашивайте, как бы сильно ни хотелось. У меня с истиной сложные отношения. И вообще тут у нас понятие истины как-то совсем неуместно. Все истинно. И все ложно. За что ни возьмись – ни доказать, ни опровергнуть. Предложить Вам чаю или кофе – или не предлагать?
– Как Вам угодно, – Петропавла обидела формулировка вопроса.
– Мне все равно, – ошарашил его Пластилин Мира.
– Мне тоже, – парировал Петропавел, и ситуация сделалась как бы безвыходной. Неожиданно Пластилин Мира – непонятно, предложивший все-таки что-нибудь или нет, – изрек:
– Все Пластилины Мира – лжецы. Кроме меня, – причем на середине фразы из пляжного старика он превратился в прехорошенькую девушку, так что осталось неясным, к кому из них относится последняя часть высказывания.
– Здравствуйте, – на всякий случай сказал Петропавел, с восхищением глядя на девушку.
– Виделись уже, – улыбнулась та и протянула ему руку: – Пластилин Мира. – Петропавел пожал руку. Рука осталась у него в кулаке. С ужасом и отвращением он бросил руку на пол. Девушка подняла ее и приставила на прежнее место:
– Фу, неаккуратный какой! Осторожнее надо…
– Сколько Вас тут еще будет? – Петропавел едва сдерживал негодование.
– Кого это – нас? – Девушка огляделась.- Я одна здесь. Не считая, конечно. Вас.
– Но Вас тут не было! – отчеканил Петропавел.
– Да и Вы тут не всегда были… Не понимаю, почему Вы злитесь. – Девушка в недоумении теребила мочку уха, которая понемногу вытягивалась и уже доставала до плеча. Чтобы не видеть этого, Петропавел отвернулся к окну и напомнил:
– Насчет чая или кофе… Могу я попросить чаю или кофе?
Девушка задумалась.
– Чаю или кофе? Вы ставите меня в чрезвычайно затруднительное положение этим своим «или». Я боюсь не угадать. Конечно, во избежание недоразумений я могла бы дать Вам и того, и другого, но тогда я не выполнила бы Вашу просьбу: Вы ведь не просите у меня и того, и другого. Лучше я не дам Вам ничего.
Петропавел даже не сразу понял, что ему отказали, а когда понял, совершенно рассвирепел:
– В каком направлении мне нужно идти, чтобы снова оказаться в комнате?
– Ни в каком, – ответила улыбчивая девушка. – Сидите спокойно: Вы и так в комнате.
– Но это не та комната!
– Сейчас не та, через секунду та, потом – опять не та, потом – снова та… чего Вы суетитесь? Если Вам нужна комната, из которой Вы вышли, – пожалуйста!
Петропавел огляделся и вздрогнул: комната вдруг приобрела знакомый вид. Он поднял глаза на девушку и увидел вместо нее старушку в кружевном чепце и со спицами.
– Пластилин Мира, – сказала она.
– Долго Вы намерены еще меня морочить? – с нервным смешком спросил Петропавел.
– Да нет, – вздохнула старушка. – Долго с Вами не получится. Вы слишком скучный и все время ищете того, чего нет, – определенности. Вы, значит, серьезно думаете, что все на свете может быть либо так, либо эдак?
– А как же еще?
– Да как угодно: и так, и эдак сразу, и ни так и ни эдак!.. и вообще – по-всякому! Даже если одна возможность в конце концов исключает другую, это отнюдь не значит, что когда-то обе они не были равновероятными. – Спицы мелькали в руках старушки с немыслимой скоростью, и Петропавлу казалось, что их у нее штук тридцать. – А я,- продолжала та, – застаю возможности именно в той точке, когда они еще равновероятны. Альтернативные решения – моя стихия.
– Я не понимаю, – сознался Петропавел. – Сделайте вид, что понимаете, – посоветовала старушка.
– Но зачем? Зачем делать вид?
– А иначе невозможно! Никто ведь ничего не понимает, но каждый делает вид, что понимает все. – Тут она критически взглянула на Петропавла. – Вам трудно сделать вид, что ли?
– Трудно! – буркнул Петропавел.
– Глупости! – возразила старушка. – Ничто в мире не тождественно самому себе. «Постоянное, идентичное самому себе «я» является не чем иным, как фикцией». Юм. Впрочем, Вы вряд ли слышали про Юма.
– И слышать не хочу! – заартачился Петропавел.
– Между прочим. Вы сильно ошибаетесь, если думаете, что сами не кажетесь окружающим то таким, то совершенно другим. – Отложив спицы, старушка протянула ему нечто, упакованное в целлофановый пакет. – Я тут связала Вам спортивный костюм, наденьте… В глазах пестрит от Ваших лохмотьев. Просто голова кругом идет! – Она отделила голову от тела и бросила ее в угол. Голова упал с неприятным стуком.
– Спасибо, – ошалел Петропавел, стараясь не смотреть на суверенную голову и даже не удивившись скорости, с которой был связан да еще и упакован старушкой спортивный костюм.
– А что до Вашего возвращения, – вещала из угла голова, – то сразу за домом аэродром, через полчаса оттуда летит самолет в нужном Вам направлении. Так что поторопитесь.
Нетвердой походкой Петропавел вышел в темную прихожую и там надел костюм, оказавшийся подозрительно впору. Вернувшись, он увидел, как по комнате прохаживается молодой человек в точно таком же спортивном костюме. В руках его была голова уже исчезнувшей старушки. Петропавел даже не сразу узнал в молодом человеке себя.
– Пластилин Мира, – петропавловым голосом отрекомендовался тот и запустил в Петропавла старушкину голову, на лету превратившуюся в волейбольный мяч. Петропавел увернулся и еле устоял на ногах. Мяч вылетел в окно.
– Мне пора… на самолет, – Петропавел попятился к двери.
– Отсюда не летают самолеты. Тут пешком полчаса – через МЯСНОЕ ЦАРСТВО.
– Через… какое?
– Через МЯСНОЕ… ну, это где Мясной Царь, мясные нимфы… Неприятное место.
– А мне говорили – аэродром за домом…
– Бабуля, что ли? Она с приветом была. Небось строила из себя Пластилина Мира? – Молодой человек понимающе улыбнулся. – Это я – Пластилин Мира.
– Да плевать мне, кто тут из вас Пластилин Мира! – взорвался вконец замороченный Петропавел. – Все вы постоянно отказываетесь от своих слов. Ваша непоследовательность убивает!
– Непоследовательность? – Лжепетропавел пожал плечами. – При чем тут непоследовательность? Правила создаются по ходу игры – это наше главное правило. И мы последовательно его соблюдаем. – Хватит с меня этого дурацкого маскарада! – взревел Петропавел.
– Ты не любишь маскарада? – казалось, собеседник был потрясен. – Как же можно не любить маскарада!.. Маскарад! Это самое прекрасное, что есть в мире. «Маска, кто Вы?» – «Угадайте сами!» …Каждый выдает себя за кого хочет, выбирает себе любую судьбу: скучный университетский профессор превращается в Казанову, самый беспутный гуляка – в монашка, красавица – в старуху-горбунью, дурнушка – в принцессу бала… Все смещено, смешано – шум, суматоха, неразбериха! Разум бездействует: для него нет опор в этом сумбуре. Мудрое сердце сбито с толку – оно гадает, ошибается, не узнает, оно на каждом шагу разбивается вдребезги – и кое-как склеенное, снова готово обмануться, принять желаемое за действительное, действительное – за желаемое, припасть к первому встречному – разговориться, выболтать тайну, облегчить душу хозяину своему. О это царство видимостей, в котором легкая греза реальней действительности! Кто говорил с тобой в синем плаще звездочета? – Не знаю, неважно… звездочет!
Трещит по всем швам пространство, во все стороны расползается время – и Падающая Башня Мирозданья великолепна в своем полете. Дух Творчества бродит по улицам и площадям: ночная бабочка фантазии дергает его за тончайшую шелковую нить, не дает ему покоя и сна – и вот он является то тут, то там: тенью, намеком, недомолвкой, ослышкой – и путает судьбы, морочит головы, интригует…
Ах как весело пляшем мы в призрачных, ложных огнях маскарада, как небрежно держим в руках своих Истину и с какою божественной беспечностью ничего не желаем знать о ней! Мы забавляемся, мы играем ею, мы бросаем ее друг другу как цветок, как тряпичную куклу, – и всю ночь мелькает она то в руках разбойника, то в руках колдуна, то в руках короля: банальная, свежая, сиюминутная, вечная!.. И, натешившись ею, мы забываем ее где-нибудь на скамейке в сквере, где-нибудь на столике ночного кафе, чтобы под утро дворник или уборщица вымели ее из мира вместе с прочим мусором ночи, а мы, сняв маски и посмотрев друг на друга, горько усмехнулись бы: «Ах, это только мы!.. Всего-то навсего!»
…На мгновение в глазах Пластилина Мира мелькнули слезы и тут же высохли. С неожиданно беспечной улыбкой взглянул он на Петропавла:
– Как хорошо ты говорил о маскараде! Никогда не поверю, что ты не любишь его.
Петропавел вздрогнул и пришел в себя.
– По-моему, это ты говорил о маскараде…
Пластилин Мира смерил Петропавла взглядом Петропавла и хмыкнул:
– Я!.. Да я терпеть не могу маскарада. Маскарад!.. Это самое отвратительное, что есть в мире. «Маска, кто Вы?» – «Угадайте сами!» – и дальше он чуть ли не слово в слово повторил монолог о маскараде, – правда, с другими уже интонациями – ядовито, желчно, где надо меняя акценты, и Петропавел действительно перестал понимать, кто из них кто. – Впрочем, – закончил говорящий, – не все ли равно, кто из нас произносил слова!.. Главное в том, что они прозвучали, чьи бы это ни были слова.
После продолжительной и довольно неловкой паузы один из них сказал: «Ну, я пошел», – а другой спросил: «Куда?» – Мне пора дальше.
Второму показалось, что уходит отсюда не тот, – кто должен.
– Минуточку! – запротестовал он. – Это мне, кажется, пора дальше.
Петропавлы в нерешительности уставились друг на друга.
– Самое страшное, – зазвучал голос, и уже непонятно было, кто это говорит, – если отсюда выйдет не настоящий Петропавел. Потом ничего не поправить: жизнь пойдет сама собой.
– Что же нам делать?
…Конечно, они заигрались – и теперь может случиться так, что они никогда не выйдут из этого дурацкого положения. Вот он, маскарад жизни!.. Отныне каждому из них, наверное, будет казаться, что однажды его перепутали, что он – не совсем он или даже совсем не он.
– Но ведь очевидно, что я – это не ты, а ты – не я! Нас же двое!
И тут комната наполнилась петропавлами. Все они изумленно переглядывались. Ситуации более тупиковой вообразить было невозможно. А когда один из них опрометью бросился к выходу, остальные ринулись за ним. В дверях образовалась пробка.
– Пустите! – надрывались петропавлы. – Дайте же дорогу!
Завязалась драка. Силы противников оказались равными, каждый бился за себя, так что ни победителей, ни побежденных не было.
– У меня на плече родинка! – изо всех сил крикнул вдруг кто-то – и комната опустела. В ней остался только один Петропавел, все еще с ужасом озиравшийся по сторонам.
– С тобой неинтересно играть, – голос невидимого собеседника раздался совсем поблизости. – Ты так держишься за свою индивидуальность, словно она у тебя есть. Родинка на плече или один глаз карий, другой голубой – не индивидуальность. Имей ты хоть три глаза… – Глубокий вздох сотряс помещение. – Предлагаю так называемое контрольное наблюдение, хоть это и против моих правил. Сейчас я воспроизведусь в том виде, в котором Вы уже имели возможность меня наблюдать. Таким образом, Вы станете первым в истории человечества, кому удалось дважды войти в одну и ту же реку… Впрочем, дважды входить в одну и ту же реку – скучно. – И голос обрел очертания толстенького человечка с радушием на лице.
– Не надо представляться, – заспешил Петропавел. – Я узнал Вас.
– А я Вас не узнал, – заявил Пластилин Мира. – Вас невозможно узнать: в Вас нет ничего запоминающегося. Удивляюсь, как Вы сами себя узнаете.
Пропустив это мимо ушей, Петропавел подошел окну и выглянул наружу:
– Куда ведет вон та дорога?
– К дому Пластилина Мира, – не глядя ответил Пластилин Мира.
– Разве есть еще один Пластилин Мира?
– Есть, – быстро сказал собеседник и, помолчав, добавил: – Нет.
– Вы когда-нибудь отвечаете за свои слова?
– О, никогда! Клянусь Вам! – Пластилин Мир приложил руку к сердцу. – Это в суде говорят правду, только правду и ничего, кроме правды, а больше так нигде не поступают. Кстати, и в суде под правдой понимают лишь верность факту, а ведь между фактом и правдой лежит Ничья Земля – огромная и темная. – Пластилин Мира направился к выходу.
– Посоветуйте хотя бы, куда мне идти! – крикнул Петропавел вслед.
– Да куда хотите! – обернулся Пластилин Мира. – Или никуда. – И добавил: – Советую Вам не следовать моему совету.
Он исчез, а Петропавел постоял некоторое врем: в одиночестве, размышляя о том, что это было – пять встреч с одним и тем же существом или одна встреча с пятью разными. Ничего не придумав, он вышел из дому и, машинально обернувшись, прочитал на маленькой медной табличке у двери:
Пластилин Мира.
Звонить 13/4 раза
Он махнул рукой и отправило восвояси… Однако некоторая неуверенность в том, что из дома Пластилина Мира вышел именно он, время от времени посещала его еще долго.
Глава 5. Головокружительный человек
Петропавел в новеньком спортивном костюме шел бодро и в сердце своем громил Пластилина Мира. Человек не бывает тем же самым и другим. Ничто не может быть одновременно так и эдак. На один и тот же вопрос нельзя ответить «да» и «нет» сразу. Это абсурд. Дорога круто повернула вправо, когда в конце ее Петропавел увидел движущуюся точку. Следя за движением, он, как ни странно, все не мог понять, большое удаляется или маленькое приближается. Пока он соображал, ситуация, вроде бы, прояснилась сама собой: точка приобрела очертания человека. Однако смотреть на него Петропавлу было почему-то трудно: возникало ощущение, что смотришь в перевернутый сильный бинокль с очень близкого расстояния.
– Гуллипут! – издалека представился человек и немного приблизился. У Петропавла закружилась голова, он чуть не упал. Пришлось опустить глаза и дождаться, пока человек подойдет совсем близко.
– Не смотрите на меня! – с приличного еще расстояния крикнул тот и по мере приближения продолжал: – От меня в глазах неудобство, потому что я одновременно очень большой и очень маленький.
Петропавел недоверчиво вскинул глаза и отлетел в сторону.
– Вы повернитесь ко мне спиной, чтобы не искушаться, – так и будем разговаривать, – участливо предложил Гуллипут.
– Как же это может быть, что Вы очень большой и одновременно очень маленький, когда так не бывает! – не удержался от вопроса Петропавел, даже стоя спиной к Гуллипуту.
– Да вот так… – непонятно отозвался Гуллипут. – Вас это удивляет? По-моему, это может раздражать, но не удивлять. Если размеры зависят от того, с чем их сравнивать, то не удивительно, что человек может быть и большим, и маленьким.
– Да, но не большим и маленьким сразу! – спиной упорствовал Петропавел.
– Именно сразу, почему же нет! Вы, например, большой по отношению к камешку на дороге и в то же время – обратите внимание: в то же время! – маленький по отношению к дубу на поляне. Может быть, от Вас тоже у кого-то голова кружится. Более или менее.
– От меня ни у кого голова не кружится, – обоснованно заявил Петропавел. – Я не меняю размеров каждую минуту.
– Но и я не меняю их каждую минуту, – уже просто возмутился Гуллипут. – Я не становлюсь то большим, то маленьким: я есть большой и маленький сразу!
Петропавла начинало подташнивать.
– Так не бывает, – упрямо повторил он.
– Бывает, не бывает!.. Тоже мне, следопыт! Вы вообще не имеете права на подобные обобщения. Вы, наверное, не все на свете видели? А если даже видели, то не все, наверное, поняли? И наконец, если же все поняли, то не все, наверное, помните?.. Кроме того, взглянув на меня лишний раз, Вы можете прямо сейчас убедиться, что так бывает. Более или менее.
Петропавел обошелся без «лишнего раза»; он напрягся и через продолжительное время воскликнул:
– Я знаю, в чем Ваша несуразность!
– Мерси, – по-французски поблагодарил Гуллипут. – Я не подозревал, что во мне есть несуразность.
– Есть-есть! – бестактно подчеркнул Петропавел. – И вот в чем она состоит… По отношению к единичному наблюдателю, а я в данном случае такой наблюдатель, любой предмет, должен иметь один и тот же размер!
– Должен? – ухмыльнулся Гуллипут и тут же живо поинтересовался: – Это кто ж его обязал единичный Ваш предмет? – Не дождавшись ответа он продолжал: – Ладно… начнем с того, что я не предмет, а полноправное живое существо. И кроме того, чтобы Ваши рассуждения были справедливыми, наблюдатель сам должен тогда иметь один и тот же размер, кто б его к тому ни обязывал!
– Вот я один и тот же размер и имею, – с некоторой даже гордостью подытожил Петропавел.
– Это по отношению к чему же Вы имеете один и тот же размер, если минуту назад мы договорились считать Вас большим по отношению к камешку и маленьким по отношению к дубу?
– Я… – начал запутываться Петропавел, – я имею один и тот же размер по отношению… к другому единичному наблюдателю!
– Но Вас же сейчас никто не наблюдает! – воскликнул Гуллипут. – Если, конечно, не наделять способностью к наблюдению камешек или дуб. Меня лучше оставить в стороне: я-то уж точно Вас не наблюдаю, мне дела нет до Вас. – И, вероятно для того, чтобы добить Петропавла, он закончил: – А если бы Вас наблюдали, то следовало бы определить размер Вашего наблюдателя по отношению к третьему наблюдателю, размер третьего – по отношению к четвертому… и так до бесконечности. Возникает вопрос: кто же станет последним наблюдателем и будет ли кто-нибудь наблюдать его?
Петропавел чуть не разрыдался в ответ.
– Оставьте меня в покое, – еле выговорил он. – Мне плохо от Вас.
– Нет, это Вы оставьте меня в покое и дайте мне право не иметь определенного размера – хотя бы только потому, что его, как выяснилось, вообще никто не имеет! – выкрикнул Гуллипут ужасно гневно, а Петропавел вдруг вяло подумал: «Дался мне этот Гуллипут!.. Чего уж я так пекусь о его размерах?» – а вслух сказал:
– Да будьте Вы каким угодно! Мне все равно.
– Действительно! – подхватил Гуллипут. – Вы же не обязательно должны иметь обо мне одно мнение. Имейте два: «Гуллипут – очень маленький» и «Гуллипут – очень большой» – что Вам мешает?
– Противоречие! Противоречие мне мешает!
– С чего Вы взяли, что это противоречие? Нет тут никакого противоречия, если употреблять слова «большой» и «маленький» в так называемом реляционном значении… относительном значении, – пояснил он, заметив недоумение Петропавла. – Слова вообще нельзя употреблять в абсолютном значении: абсолютному значению ничто не соответствует в мире, где все относительно. Нет ни большого, ни маленького, нет ни прямого, ни обратного направления, нет ни правой стороны, ни левой, ни верха, ни низа! И ни завтра, ни вчера – тоже нет! Ничего нет. Вздохните же Вы наконец свободно! Более или менее.
Петропавел поднял голову кверху, потом опустил вниз:
– Верх и низ есть. Не надо меня дурачить.
– Вам это ка-жет-ся! – Гуллипут орал уже благим матом. – Ка-жет-ся! Будь на моем месте Тридевятая Цаца, Вам бы так не казалось.
– Еще и Тридевятая Цаца!.. – Петропавел совсем сник.
– Воспряньте, – произнес Гуллипут с мрачным сочувствием. – Лучше расставаться с предубеждениями весело, поверьте мне: я вырос в гоготе и хохоте.
– Мне домой надо, – буркнул, проглотив комок Петропавел. – Тут у Вас с ума можно сойти.
– Можно, – согласился Гуллипут, – если обращать внимание на частности. Вы не обращайте… Кстати, многое из того, что происходит. Вам не обязательно оценивать, как Вы это постоянно делаете. Оценки Ваши ничего не меняют в мире: он существует независимо от них. Вы же согласились, например, называть Шармен – Шармен, а не Кармен.
– Мне никто не предлагал выбирать, – Петропавла поразила осведомленность Гуллипута.
– Из мелочей не нужно выбирать. Важно правильно сделать Большой Выбор. До него Вам еще далеко. Что же касается Шармен и Кармен…
– А это одно лицо? – озаботился Петропавел.
– Нет, но допустимо определить одно через другое, – вздохнул Гуллипут за его спиной. – Кармен есть Кармен. А Шармен… Она все-таки гораздо последовательнее. Интересная, между прочим, особа шальная! Влюбляется в каждого, кто попадается ей на глаза, и любит его до тех пор, пока на глаза не попадется кто-нибудь другой: тогда она начинает любить другого, а прежнего забывает. И когда через любое время встречает уже забытого, всякий раз влюбляется в него заново. Вот характер!
– А Тридевятая Цаца – кто такая? – со всевозможной осторожностью спросил Петропавел. – Очень уж имя странное…
– Не более и не менее странное, чем любое другое. Имя, темя, племя, стремя… Связь между именем и объектом таинственна. Семя, вымя… Вы есть, наверное, хотите. -Петропавел даже не успел осмыслить последнее заявление, а Гуллипут уже скомандовал: – Спуститесь в долину и идите к кусту, который на отшибе.
– На отшибе дерево, – возразил Петропавел.
– Хорошо, идите к нему. Я пойду следом.
Короткой колонной они спустились в долину. Возле дерева стоял транспарант: «Яблоня. Куст». «Почему куст? – подумал Петропавел. – Когда это явно дерево!» Вблизи дерево оказалось липой.
– Угощайтесь, – предложил Гуллипут из-за спины. – Только пройдите немного вперед, я тоже поем. Более или менее.
Петропавел прошел вперед и поинтересовался:
– Чем тут угощаться?
– Как чем? Плодами! Плодами воображения. – И Гуллипут аппетитно зачмокал. Петропавел пристально вгляделся в липу.
– Тут одни листья. Вы листья, что ли, едите? – спросил он наконец.
– Значит, у Вас нет воображения. Было бы воображение – были бы и плоды. – Почмокиванье Гуллипута не прекращалось.
– Вы бы хоть не чмокали так! – укорил его Петропавел, страдая. – Мне от этого тоскливо.
Сбоку, из-за спины Петропавла протянулась рука, державшая нечто невообразимое – огромный оранжево-голубой шар, очень отдаленно напоминавший мандарин, арбуз, дыню, ананас и гранат.
– Нате, – сказал Гуллипут, – ешьте тогда плод моего воображения.
Голодный Петропавел не задумываясь впился зубами в плод воображения Гуллипута и в три присеста уничтожил этот плод.
– Спасибо, очень вкусно, – честно сказал он. – Не понимаю только, как такое могло вырасти на липе.
– На яблоне, – поправил Гуллипут.
– Это липа. Зачем вводить людей в заблуждение неправильной надписью?
– Чтобы было о чем подумать во время еды. Ничто не должно становиться привычным: привычное превращается в обыденное и перестает замечаться. Этак можно вообще все на свете проглядеть: ведь нет ничего, что рано или поздно не стало бы привычным. Лучше всего, когда мы пытаемся выяснять суть даже того, что кажется очевидным. Интересные, доложу я Вам, случаются открытия.
– Какие же, к примеру? – не без сарказма спросил Петропавел.
– К примеру, такое: все верно и ничто не верно. Если, конечно. Вас это устроит… Более или менее. Но Вас это вряд ли устроит: в Вашей голове сложилось представление о должном – с этим представлением Вы и идете в мир. И что же Вы о нем знаете? А вот: яблоня – это яблоня, липа – это липа, большой – это не маленький, маленький – это не большой. Не слишком-то много… А жизнь подкрадется – и щелк по носу!.. Вы вот объясните этому кусту, что он – дерево. Прикажите ему быть таким, как надо Вам: эй, куст, цыц! Ты – дерево! Но ему, видите, ли, все равно, одобряете Вы его как куст или нет. Он не спрашивает Вашего мнения, не нуждается в Ваших рекомендациях, предписаниях, не нуждается в том, чтобы Вы отсылали его к стандарту, к норме… Вы для него – никто… Ему просто-напросто плевать на Вас. Как, впрочем, и мне. Более или менее.
Забыв о мерах предосторожности, Петропавел возмущенно обернулся, но увидел только, как по дороге удаляется что-то большое или приближается что-то маленькое…
Глава 6. Стократ смертен
В ту же секунду Петропавел упал лицом вниз, не успев даже сообразить, что произошло, но почуяв недоброе. И действительно: его принялись чем-то охаживать по спине. Это было совсем не больно, но причиняло беспокойство неприятного характера. Петропавел пару раз вскрикнул, – скорее, для порядка – и услышал: «Не ори; не дама!», причем голос был детский. Петропавла явно с трудом перевернули лицом кверху. Перед ним стоял златокудрый мальчонка лет пяти с черной' повязкой на одном глазу и приветливо улыбался. Это он накинул на Петропавла лассо. Длинная розга валялась рядом. Ребенок держался за рукоять огромного ножа, воткнутого в землю неподалеку. Петропавлу сделалось нехорошо – и он неожиданно для себя подобострастно предложил:
– Хочешь, будем с тобой на «ты», мальчик?
– Я и так с тобой на «ты», – ухмыльнулся ребенок.
– Зовут-то тебя как?
– Дитя-без-Глаза, – беспечно ответил малыш и, выхватив нож из земли, одним махом рассек туловище проползавшей мимо гусеницы, по размеру напоминавшей длинный товарный поезд. Две части гусеницы расползлись в разные стороны и зажили там самостоятельно.
– Это которое у семи нянек? – догадался Петропавел.
Дитя-без-Глаза хмыкнуло:
– Смотри-ка, что вспомнил!.. Нету уже семи нянек. Умерли.
Последнее слово прозвучало очень зловеще, и, начав волноваться, Петропавел спросил как мог безразлично:
– От чего же они умерли, мальчик?
– От страха, – неохотно сообщил тот, видимо имея все-таки некоторое отношение к смерти семи нянек. Потом он подошел к Петропавлу и опять воткнул нож в землю, слева от него.
– Что ты собираешься делать? – струхнул Петропавел.
– Зарежу тебя и сожру, – сказало Дитя-без-Глаза и по-детски рассмеялось.
Петропавел затрясся и покрылся холодным потом.
– Ты же еще маленький! – еле вымолвил он.
– Сожру тебя – и буду большой, – пообещало милое дитя и вынуло нож из земли.
– Ты не сделаешь этого!.. Это очень жестоко.
– Пустяки! – опять рассмеялось дитя. – А впрочем… Я могу и не делать этого, если ты выполнишь три моих желания.
В ужасе от такого предложения Петропавел замотал головой, сразу представив себе, какие желания могут быть у этого ребенка. А тот, не обращая внимания на Петропавла, продолжал:
– У меня такие три желания. Во-первых, я хочу есть, во-вторых, писать и, в-третьих, спать.
…С Петропавлом немедленно случилась истерика. Придя в себя, он сказал:
– Я выполню три твоих желания, только сначала развяжи меня.
– Нет, так выполняй, а то потом опять связывать – это долго, – ответил смышленый малыш.
Петропавел задумался, потом произнес:
– Посмотри вокруг. Где-то тут поблизости есть яблоня. Если на ней что-нибудь растет, пойди и съешь это.
Дерево оказалось в двух шагах. С интересом наблюдая за дальнейшими событиями, Петропавел увидел, как ребенок подошел и выполнил его распоряжение. Ел он что-то мелкое – жадно и неаккуратно.
– Наелся? – спросил Петропавел, когда ребенок съел один плод.
– Нет еще! – и Дитя-без-Глаза принялось срывать обильные, по-видимому, плоды собственного воображения. Наконец оно удовлетворенно крякнуло:
– Порядок. Теперь писать.
– Зайди за дерево, – наставлял малыша Петропавел, – расстегни штанишки, а дальше все само собой получится.
Тот отсутствовал с полчаса, потом вернулся очень довольный и сказал:
– Ну, все. Теперь спать.
– Нет уж, – осмелел Петропавел. – Развяжи веревки, потом ложись где хочешь и закрой глаза.
– Да я же пошутил! – засмеялось Дитя-без-Глаза. – Ты несвязанный лежишь. Вставай!..
Петропавел попробовал встать – и действительно встал: веревки упали на землю. Дитя-без-Глаза посапывало рядом. Тогда как ни в чем не бывало он двинулся восвояси и, почувствовав себя в безопасности, даже засвистел, но, как оказалось, преждевременно, потому что из кустов тотчас вышел навстречу ему огромного роста седой старик с повязкой на одном глазу и маленьким фруктовым ножом в правой руке. Подойдя к Петропавлу, старик хихикнул и задал вопрос:
– Что такое «Висит груша в темнице, а коза на улице»?
Петропавел не нашелся как ответить.
– Это трудная загадка! – ухмыльнулся старик. – Отгадки ее не знает никто. Даже я.
– Какой же смысл загадывать загадку, если никто не знает отгадку?
– Так чтобы узнать!.. – Старик выразил лицом недоумение. – Бессмысленно, скорее, загадывать загадку, отгадка которой известна. Но, так или иначе, ты не отгадал – и тебе придется умереть.
– Да вы что – сговорились, что ли?! – вырвалось у Петропавла. – Сколько можно с этим шутить?
А старик со словами «Хорошенькие шутки, ничего не скажешь!» неожиданно всадил фруктовый нож в грудь Петропавла. «Я умираю», – как-то вяло, без испуга подумал тот и упал навзничь. Боли не ощущалось – ощущалось только некоторое неудобство в груди от присутствия ножа, вонзенного по самую рукояточку. Петропавел полежал на земле и с любопытством спросил у старика:
– Вы убили меня?
Старик поправил повязку на глазу:
– Да не суетись ты! Лежишь себе на земле – и лежи. Не в земле же пока! Вот закопаю тебя – тогда и поймешь. – Он удалился в кусты, принес ржавую лопату и деловито спросил: – Где копать могилу?
Вытащив из груди сухой и холодный нож, Петропавел потер потревоженное место и сказал:
– Хватит паясничать, товарищ. Не смешно это.
– Пока не смешно – потом смешно будет, – пообещал старик, начиная рыть могилу где попало.
– Вас как зовут? – сменил тему Петропавел.
– Старик-без-Глаза.
Петропавел, вглядевшись в него, действительно обнаружил некоторое сходство с опочившим невдалеке младенцем.
– Это когда же Вы успели состариться? Вы ведь спали!
– Во сне, – не отвлекаясь, ответил Старик-без-Глаза. – А что?
– Времени маловато прошло, вот что!
– Не твое дело, сколько моего времени прошло!
Старик говорил уже из довольно глубокой ямы.
– Ты бы лучше за своим временем следил, пока был жив. – Старик-без-Глаза засунул руку в карман и извлек оттуда предмет, видимо, мешавший ему работать. Это была рогатка.
– Забавы золотого детства! – сентиментально вздохнул он и, смахнув слезинку, зашвырнул рогатку в кусты. Потом снова принялся копать, хотя в могиле мог бы уже разместиться небольшой областной центр.
Петропавел заглянул в могилу:
– Если это для меня, то довольно. У Вас глазомер плохой.
– Нахал, – спокойно заметил Старик-без-Глаза. – Я жизнь прожил! Пожил бы ты с мое… замечания делать!
– Ну, положим, с Ваше-то я пожил: времени, между прочим, одинаково прошло – как для Вас так и для меня. – Петропавел улыбнулся просвещенной улыбкой.
– Ты, малец, мое время с твоим не путай. Я за свое время всякого повидал, а ты за свое – обнаглел только. Да и что ты вообще о времени знаешь? Необратимость да непрерывность… На этом, милый мой, у нас далеко не уедешь. Рассказал бы я тебе, да ты умер уже. – И Старик-без-Глаза углубился в могилу
Внезапно Петропавел отчаянно соскучился с этим стариком. Он махнул рукой и пошел себе восвояси, однако, не пройдя и нескольких шагов, услышал позади себя тяжелое дыхание – и вот Старик-без-Глаза загородил ему дорогу.
– Отойдите, – устало сказал Петропавел.
– Тебя могила ждет, – напомнил старик, вытирая руки о штаны. – Ты скончался. Вернись назад, в ДОЛИНУ РОЗГ.
– Куда вернуться?
– В ДОЛИНУ РОЗГ – это то место, где мы с тобой познакомились, и где ты потом умер.
Петропавел решительно двинулся в обход старика, не желая продолжать разговор. Но тот цепко схватил его за руку и убедительно попросил:
– Пойдем…
– Да оставьте Вы меня в покое! – крикнул Петропавел. – Не драться же мне с Вами!
– Вот еще, драться! – возмутился Старик-без-Глаза. – Хорошенький поворот! – и он ловко скрутил Петропавлу руки за спиной. Суставы хрустнули, сделалось ужасно больно.
– Да Вы что – с ума сошли? – взревел Петропавел, корчась от боли.
– Это отдельный вопрос, – уточнил Старик-без-Глаза. – Сейчас мы не будем его обсуждать. Сейчас мы будем тебя хоронить. – И он потащил извивающегося Петропавла к могиле. Сопротивляться сильному старику было бесполезно.
– Я уже пригласил на твои похороны друзей, – объяснялся Старик-без-Глаза по дороге. – Они соберутся с минуты на минуту.
– Но я не хочу умирать! – возмущался Петропавел.
– Вопрос так вообще не стоит, – приговаривал непреклонный старик. – У тебя все в прошлом.
Петропавел искал какой-нибудь веский аргумент, и ему показалось, что он нашел его:
– Но я же разговариваю!
– Не разговаривай, – снял противоречие Старик-без-Глаза.
Дело приняло совсем плохой оборот. Приходилось верить в серьезность стариковских намерений.
– Нет, я одного не понимаю, – хорохорился Петропавел, – почему именно меня надо хоронить.
– А кого ты еще можешь предложить? – заинтересовался Старик-без-Глаза.
– Да хоть Вас! – в общем, справедливо замети Петропавел.
После некоторых раздумий Старик-без-Глаза покачал головой, еще дальше отводя Петропавлу руку за спину.
– Меня нельзя. Во-первых, я гостей назвал. Нехорошо, если они придут, а я в могиле. Во-вторых, меня тут уже раз двести хоронили – так что это вряд ли кого-нибудь увлечет.
– Тогда, – заторопился Петропавел, – надо похоронить этого… как его… Пластилина! То есть хотя бы одного из пластилинов – пусть остальные живут. Их там пруд пруди!
– Неплохая идея, – одобрил Старик-без-Глаза и непоследовательно закончил: – Но мы все-таки похороним тебя. – Они уже подошли к самому краю могилы. Старик-без-Глаза поднял глаз к нему и с уверенностью произнес: – Раба твоего могила исправит! – после чего изо всех своих нечеловеческих сил столкнул Петропавла в яму.
Естественно, что тот немедленно начал выкарабкиваться оттуда, но своевременно получил от Старика-без-Глаза ржавой лопатой – хоть и не больно, но очень сильно. Снова скатившись в яму и взирая оттуда на готового повторить удар старика, Петропавел оставил попытки выбраться и залег на дно.
Комочек земли сорвался с края могилы. Петропавел поднял голову и увидел над собой старое лицо Гнома Небесного. Тот с удовлетворением констатировал: – Успокоился! – и исчез из поля зрения. Поблизости от могилы послышались голоса: кажется, друзья начали собираться. Именно этого почему-то не выдержал Петропавел. Он выскочил из могилы и принялся выкрикивать бессвязные и обидные слова:
– Бандиты! Убийцы! Мафия! Нашли себе развлечение – живых людей хоронить!..
Петропавлу захотелось каждому сказать что-нибудь отдельно гадкое, но слова подбирались с трудом и со всей очевидностью не достигали цели. Когда он умолк, в тишине прозвучал недоуменный вопрос Гуллипута:
– Чего он так разоряется?
– Ему очень дорога его жизнь, – мрачно пояснил Старик-без-Глаза.
– Разве ее у него отнимают? – еще больше удивился Гуллипут.
Тут уже вмешаться пришлось Петропавлу:
– Но если хоронят… если смерть, – значит, уже не жизнь, значит, жизнь отнимают!
– Да успокойтесь Вы, – сказал Пластилин Мира в облике младенца с честным лицом. – Кому нужна Ваша жизнь!.. А кроме того, для справки: смерть – это далеко не всегда не-жизнь, равно как и жизнь – далеко не всегда не-смерть. Бывает смерть, которая – жизнь, и жизнь, которая – смерть. И еще… почему Вы думаете, что смерть – это надолго?
– Ну как же: человек умирает только один раз! – Петропавел расхохотался бы, если б вопрос не стоял так трагически.
Шармен, оторвавшись от маленького человека, которого она лобзала, прижимая к земле, как бы между прочим заметила:
– Французы говорят, что всякая разлука – это маленькая смерть, – и снова вернулась к своему занятию.
– А из того, что Сократ смертен, следует, что не Сократ – стократ смертен, – скаламбурил в обычной своей манере Ой ли-Лукой ли.
– Да ну его, в самом деле! – воскликнул вдруг Гном Небесный. – Он психованный. Я же предупреждал, когда узнал, кого хороним, что не надо его хоронить! Как будто больше уж и похоронить некого… Меня похороните: я очень люблю возрождаться, это так освежает!
– Да Вас сто раз хоронили! – вмешался Пластилин Мира. – Каждому хочется взглянуть на мир по-новому. Похороните меня: меня в этом облике еще никогда не хоронили!
– Можно в конце концов вообще никого не хоронить, – подало голос Белое Безмозглое.
– Я зря могилу копал? – обиделся Старик-без-Глаза.
– Почему зря? – продолжало оно. – Пусть так постоит: была бы могила – желающие всегда найдутся!..
Пока шли эти препирательства, в атмосфере начали происходить волнения… Тонкий и длинный, как игла, звук проткнул пространство.
Глава 7. Священный ужас по ничтожному поводу
Волнения все происходили и происходили – в конце концов гости со страхом принялись озираться по сторонам.
– Это Он! – в ужасе прошептал Ой ли-Лукой ли и без перехода возопил: – Спасайся кто может!
Поддавшись панике, Петропавел вслед за другими опрометью бросился к могиле, крича на ходу:
– Там занято! Это моя могила! Ее для меня выкопали!
Ему удалось обогнать всех, даже стремительно молодевшего на бегу Старика-без-Глаза, и исполинским прыжком Петропавел раньше других прыгнул в яму. Остальные упали на него сверху. Рядом сопел потный Гном Небесный, оказавшийся довольно прытким.
– Что случилось? – спросил Петропавел у Гнома.
– Муравей-разбойник… приближается! Слышишь богатырский пописк? – еле выдохнул тот: маленький, он с трудом выдерживал вес стольких тел сразу.
– Что он с нами сделает?
– Ничего! – дрожа от страха ответил Гном Небесный. – В том-то весь и ужас.
– Чего ж ужасаться, если нам ничего не грозит? – прохрипел Петропавел полузадушенно.
– Это священный ужас, ужас наших предков! – Гном Небесный трясся, тем самым позволяя Петропавлу хотя бы изредка перехватывать воздух.
– У вас у всех общие предки, что ли? – еле выдавил из себя Петропавел.
– Предки у всех общие, – понятно ответили ему. – Не думайте, что у Вас они какие-то уникальные. – Это был голос Белого Безмозглого. Петропавла неприятно поразило, что у него с Белым Безмозглым общие предки.
– Эй вы там, внизу, заткнитесь! – раздался сверху голосок Дитяти-без-Глаза. – Не мешайте испытывать ужас!
– Да плевал я на ваш ужас! – разозлился Петропавел и нечеловеческим усилием продрался наружу сквозь груду тел.
Творившееся наверху потрясло его. Дул шквалистый ветер. Столетние дубы носились над землей, вывороченные корнями наверх. Сверкала молния, гремел гром, шел ливень с градом, и валил снег. Началось землетрясение. В образовавшуюся неподалеку от могилы трещину затянуло окрестный лес. Откуда-то принеслась песчаная буря, а вслед за ней потекла раскаленная лава. Петропавла шарахало из стороны в сторону, и он проклинал себя за то, что вылез из могилы. Виновника всех этих бедствий видно не было. Внезапно все стихло – и в зловещей тишине над миром раздался богатырский пописк: вакханалия прекратилась. Петропавел огляделся вокруг: разрушения были чудовищными.
Тут над могилой показалось искаженное ужасом младенческое лицо Пластилина Мира. При виде Петропавла лицо осовело.
– Чего Вы вы-вы-вылезли? – заикаясь, белыми губами произнес чуть слышно Пластилин Мира.
– Я хотел увидеть Муравья-разбойника. – Петропавел был точно пьяный.
Некоторое время Пластилин Мира омуравело глядел на него и потом свалился в могилу, – по-видимому, без чувств. В могиле долго было тихо. Внезапно там начался страшный гвалт, продолжавшийся час-полтора, и наконец один за другим все молча выбрались на поверхность. Лица их были торжественны и суровы.
После того как вышедшие из могилы построились в шеренгу по одному, вперед выступил Бон Жуан. Он произнес речь:
– О герой! Все мы выстроились перед Тобою (он так и произнес это слово – с большой буквы) в шеренгу по одному для того, чтобы выразить наше восхищение Твоим смелым и совершенно бессмысленным поступком. Ты, который еще несколько минут назад трясся за свою паршивую жизнь, явил нам всем образец отчаянной отваги и беспрецедентной глупости. Среди нас нет равных Тебе. Нашим большим коллективным разумом мы не смогли постичь, зачем Тебе, герою, понадобилось видеть Муравья-разбойника, когда при появлении его достаточно оттрепетать и стихнуть. Никому из нас никогда не приходила в голову эта уникально идиотская мысль – лицезреть Его. Сперва она показалась нам кощунственной, но потом общими усилиями мы вспомнили наше древнее предание, в котором высказано такое пророчество: «И придет бесстрашный и глупый человек, и поцелует Спящую Уродину как свою возлюбленную, и пробудит Ее от сна».
О герой! Мы поняли, кто тот бесстрашный и глупый человек. Это Ты…
Тут Бон Жуан вздрогнул: он вспомнил, что Петропавел – мужчина, а стало быть, разговаривать с ним не имеет смысла. Бон Жуан умолк и стал в шеренгу, из которой тотчас же вытолкнули почти вышедшего из состояния омуравелости Пластилина Мира с помятым личиком. Он тоже произнес речь.
– Ну что ж… – начал он и сам же себе ответил: – Да ничего! Случилось то, чего не случалось, а если и случалось, то другое. Среди нас нашелся тот, кого не было среди нас, но оказалось, что был. Это, как говорится, и радостно и грустно. Грустно потому, что его не было, а радостно потому, что оказалось, что был. Теперь у нас есть все основания сказать, что нет никаких оснований говорить, будто герои перевелись в наше время. Они, конечно, перевелись – и никто с этим не спорит, однако сегодня мы видим перед собой настоящего героя. Разумеется, в нем нет ничего от героя, но он герой, несмотря на это. То, что он герой, незаметно с первого взгляда. И со второго. И с третьего. Это вообще незаметно. Встретив его на улице, вы никогда не скажете, что он герой. Вы даже скажете, что никакой он не герой, что – напротив – он тупой и дрянной человечишко. Но он герой – и это сразу же бросается в глаза. Потому что главное в герое – скромность. Эта-то его скромность и бросается в глаза: она просто ослепляет вас, едва только вы завидите его. Он вызывающе скромен. Он скромен так, что производит впечатление наглого. Но это только крайнее проявление скромности. Стало быть, несмотря на то, что в нем нет ничего, в нем есть все, чтобы поцеловать Спящую Уродину и пробудить Ее от сна. Я мог бы еще многое добавить к сказанному, но добавить к сказанному нечего.
Речь явно удалась – и все долго и возбужденно аплодировали. Аплодировал и Петропавел, хоть и не понял почти ничего – разве только то, что ему, кажется, действительно придется целовать Спящую Уродину.
Все взгляды меж тем обратились к нему – стало понятно, что от него ждут ответного слова. Стояла благоговейная тишина.
– Разрешите мне, – сказал Петропавел, – от имени… меня, – он не нашел, кого бы еще присовокупить к себе, -поблагодарить вас за оказанную мне честь и отказаться от нее.
После секундного молчания послышался ропот. По окончании ропота от шеренги отделился Ой ли-Лукой ли.
– О герой! По-видимому, мы не были достаточно убедительны. Сказанное – слабовато: отчетливо ощущается недостаток аргументов. Сейчас речь скажу я. Вот она.
Пункт первый, касающийся Вашей отваги… Что тут долго говорить? Вы отважны, как черт. Совершенно низачем, когда ничто не заставляло Вас вылезать из могилы и торчать около нее, Вы вылезли из могилы и торчали около нее. Я скажу так: это – бесстрашие.
Пункт второй, касающийся Вашей глупости. Тут говорить можно и нужно долго, ибо глупость Ваша безгранична и необъятна, как Вселенная. Мы долго обсуждали это в могиле. Позвольте мне обосновать вывод, последовательно ссылаясь на наблюдения, сделанные присутствующими…
Бон Жуан отметил, что Вы способны только констатировать и начисто лишены возможности предполагать что бы то ни было. У Вас совершенно отсутствует творческая интуиция и представление о возможных мирах. Вы имеете какие-то сведения исключительно о том, что есть, и не видите дальше собственного носа.
В беседе со мной Вы обнаружили не менее замечательные качества. Вы совершенно не цените уникальности, – в частности, моей, – видите все лишь таким, каково оно на самом деле, плюете на воображение – особенно народное! – и демонстрируете полное отсутствие фантазии.
Белое Безмозглое охарактеризовало Вас как человека, абсолютно не понимающего асимметричного дуализма языкового знака: Вы придаете слишком большое значение словам, но при этом вовсе не видите сущности предмета.
Гном Небесный сказал, что Вы по любому поводу требуете объяснений и не можете самостоятельно развить ни одной мысли, боясь этого.
Судя по отзывам Пластилина Мира, Вы цепляетесь за видимость, ничего не хотите знать о многообразии форм проявления жизни, презираете маскарад, не понимаете творческой силы противоречия и требуете, чтобы каждый отвечал за свои слова.
Со слов Гуллипута, Вам больше всего на свете дороги Ваши предубеждения – Вы чуть ли не рыдаете, когда лишаетесь их. Если Вы не понимаете чего-то, Вы объявляете это несуществующим. Вы состоите из одних стереотипов – в частности, в Вас силен стереотип восприятия пространства как исключительно трехмерного.
Дитя-без-Глаза (оно же – Старик-без-Глаза) отметило в Вас и стереотип восприятия времени: Вы имеете наглость судить о времени других на основании Ваших представлений о своем времени. Кроме того, Вы очень высоко цените собственную жизнь и готовы пожертвовать чьей угодно ради сохранения своей. Вы не любите умирать, в то время как совершенно очевидно, что чем чаще человек умирает, тем интенсивнее он развивается и тем быстрее движется вперед. Отказ от прошлой жизни всегда продуктивен.
Что касается Всадника-с-Двумя-Головами, то, один раз взглянув на Вас, он только плюнул и махнул рукой.
Но самое выдающееся – то, что отмечают все! – это Ваша умопомрачительная серьезность: именно благодаря ей Вы до сих пор не поняли, где Вы находитесь, хотя на Вашем месте это уже давно понял бы любой. Это и Ежу понятно. Эй, Еж! – Из кустов, поломанных стихиями, немедленно вышел легендарный Еж. – Тебе понятно? – спросил Ой ли-Лукой ли. Еж кивнул и исчез в кустах. – Вот видишь! – с укоризной произнес Ой ли-Лукой ли и закончил: – Я думаю, что привел убийственно сильные аргументы в пользу твоей, герой, отваги и особенно глупости и убедил тебя, герой, в том, что именно ты, герой, должен поцеловать Спящую Уродину и вписать одну из самых ярких страниц в нашу историю…
Что тут началось! Аплодисменты не смолкали часов шесть-семь, и это, естественно, притупило у Петропавла остроту восприятия речи Ой ли-Лукой ли, а также негодование по ее поводу. Когда аплодисменты стихли, Петропавлу было уже нечего сказать: запал пропал. Единственное, на что его хватило, – это выяснить частности:
– По-Вашему, поцеловать Спящую Уродину – награда или наказание?
– Награда! – мажорно грянул хор.
– А зачем нужно, чтобы она просыпалась? – ободрился он.
Все стройно пожали плечами.
– Но, проснувшись, она может и… ну, беспорядков наделать!
В ответ согласно закивали головами.
– Для чего же тогда ее будить? – это был главный вопрос Петропавла.
Стройный хор голосов с готовностью ответил:
– Есть такое слово – «надо»!
– А как, – осторожно поинтересовался Петропавел, – мыслятся мои действия дальше… после того, как я, допустим, ее поцелую?
Общество пришло в замешательство.
– Дальше?.. – взял на себя инициативу Гном Небесный. – Что же дальше… поцелуете, разбудите – и все, насчет остального ничего не известно.
– Да как же, – бросился Петропавел в атаку, – можно предлагать совершить действие, последствия которого неизвестны? А если эта Уродина, проснувшись, нас всех тут пережрет!..
– Пусть попробует! Я сам ее зарежу и сожру, – охотно пообещало Дитя-без-Глаза, а Белое Безмозглое печально констатировало: – Ну, пережрет – так пережрет. Будем дальше жить – пережранными.
Петропавел собрался с духом и сделал заявление:
– Никакой Спящей Уродины я целовать не стану.
Общество посовещалось. Вперед выступил Ой ли-Лукой ли:
– Или целуй и буди Спящую Уродину, или катись отсюда!
– Я выбираю второе! – обрадовался Петропавел.
– Тебе никто не предлагал выбирать. – Ой ли-Лукой ли хмыкнул. – Второе предложение сделано для того, чтобы деликатнее сформулировать первое. Мы же все-таки не хамы и понимаем, что минимальное число возможностей – две, а не одна.
– Так Вы издеваетесь! – понял Петропавел.
– Да ничуть! – хором ответили ему, а Гном небесный продолжил за всех: – Дело в том, что первое предложение не существует без второго, равно как и второе – без первого.
– Значит, предложение здесь одно, а не два?
– Думай как знаешь, а Спящую Уродину целовать все равно придется. Иначе нельзя.
Обреченность в голосе Гнома Небесного насторожила Петропавла.
– Почему же придется? – спросил он с некоторым испугом.
– Потому что иначе тебе суждено навеки остаться тут, – и Гном Небесный тяжело вздохнул.
– Вы убьете меня… насмерть? – с ужасом спросил Петропавел.
Гном Небесный слабо улыбнулся:
– Ты неисправим! У нас никого не убивают насмерть. А кроме того, тебе ведь уже сказали, твоя паршивая жизнь никому тут особенно не нужна: и своя-то никому не дорога!.. Просто Спящая Уродина загораживает тебе путь домой: вот и необходимо, чтобы она пробудилась и освободила дорогу.
– Но я не проходил мимо Спящей Уродины по пути сюда! – в голосе Петропавла оставалась маленькая надежда.
– Путь сюда – это у нас не то же самое, что путь обратно: тут вообще не бывает путей обратно.
Петропавел стиснул зубы от невозможности жить и мыслить по-старому. И, сдавая позиции, он уже по-другому, жалобно и тихо, спросил:
– А большая она – эта Уродина?
– Не то слово! – отвечал ему хор. – Она немыслимой величины, неописуемой! Ее и вообще-то видно только с расстояния километров в… несколько, а по мере приближения взгляд уже не охватывает ее целиком.
– И что же, – ужаснулся Петропавел, – ее в какое-то определенное место целовать надо? В… уста? – с трудом произнес он.
– Да нет, – пощадили его, – целовать все равно куда: куда придется – туда и целуй. Даже если с этих нескольких километров ты выберешь себе точку, к которой будешь двигаться, то в пути ты эту точку потеряешь: на ней не удастся постоянно удерживать внимание. Если ты, конечно, не маньяк… Так что – целуй как получится.
– Ну, разве что… – частично согласился Петропавел. – Может, только чмокнуть с размаху – и дело с концом… Где она лежит, эта ваша Спящая Уродина? Где-нибудь поблизости?
– О, путь к ней долог и труден! – отозвался теперь уже один Гном Небесный. – Этот путь хорошо знает только Слономоська. Но и к Слономоське путь долог и труден.
– А кто такая Слономоська? – захотел узнать Петропавел.
– Не кто такая, а кто такой, потому что Слономоська – это мужчина. Он представляет собой помесь Слона и Моськи, если тебе это что-нибудь говорит. – Гном Небесный вздохнул. – В пути к нему можно и погибнуть – одна Дама-с-Каменьями чего стоит!
– Редкий характер! – вмешался Бон Жуан. – Огонь!..
Петропавел заскучал.
– И что же, мне одному придется идти? – с тоской спросил он.
– А чего тут идти? – Пластилин Мира – младенец с честным лицом был в своем амплуа. – Пять минут – и ты на месте!
Петропавел демонстративно отвернулся от него обратился к Гному:
– Значит, иначе никак?
Тот развел руками.
– Ну, ладно. – Петропавел решил проявить стойкость духа и беспечно спросил: – В какую мне сторону идти?
– Да в любую, – беспечно же ответили ему.
– Тогда – привет! – и он двинулся куда попало.
– Постойте! – окликнули его голосом Белого Безмозглого. Он обернулся. – Я хотело бы освободить Вас от одной трудности. Скажите, сколько будет дважды два четыре?
Все заинтересованно смотрели на Петропавла.
– Дважды два… четыре? – замялся тот. – Дважды два… это четыре и будет.
– Так-то и Ежу понятно! – воскликнул Ой ли-Лукой ли и предложил: – Позвать Ежа?
Петропавел помотал головой: смышленого Ежа он уже однажды видел.
– Этот вопрос не имеет смысла, – сказал он.
– Еще как имеет! – возразило Белое Безмозглое. – И ответ на него есть – даже несколько ответов! Например, такой… – Белое Безмозглое опасно зевнуло, но все обошлось, – дважды два четыре – будет зеленая дудочка!
– Или колбасная палочка! – из могилы выпорхнул и, часто-часто махая маленькими сильными руками, устремился куда-то крохотный человечек.
– Или колбасная палочка, помните это! – согласилось Белое Безмозглое, а все, провожая улетавшего человечка взглядами, заволновались: «Летучий Нидерландец!.. Мы же забыли его там с Шармен! Бедняга!» – По-видимому, они любили Летучего Нидерландца.
Над могилой появилась голова Шармен. Петропавел сорвался с места и пулей помчался вслед за летящим невысоко над землей Летучим Нидерландцем, чье общество все-таки устраивало его больше, чем общество Шармен. В голове его под управлением колбасной палочки звучала зеленая дудочка – и что делать с ними, Петропавел не знал. А под аккомпанемент этой зеленой дудочки понеслась за ним странная песня, начатая Ой ли-Лукой ли и подхваченная всеми:
Спасибо нашей родине за Спящую Уродину!..Лирическое преступление
Меня всегда ужасно занимало то место в «Золотом ключике», где Буратино протыкает носом нарисованный очаг. Будь я на месте Алексея Толстого – чего, конечно же, быть не может, а все-таки! – я бы уж побольше, чем он, накрутил вокруг этого нарисованного очага. Я бы населил открывшуюся за ним страну такими героями, о которых никто никогда не слышал, я бы поместил их в такую реальность, которая даже отдаленно не напоминает нашу!..
Есть такая новелла – не помню, кто ее написал, может быть и я, – про Художника, нарисовавшего весь мир. Вот эта новелла.
«Художник долго смотрел на яблоко и нарисовал его. Вместо одного яблока стало два. Художник перевел глаза на часы и нарисовал их. Вместо одних часов стало двое. Когда Художник нарисовал все, что было в доме, он вышел на улицу. Там он нарисовал улицу – и вместо одной улицы стало две. Художник прожил долгую жизнь и успел нарисовать все, что было в мире. Так вместо одного мира стало два.
Люди не знали, что делать с этим вторым миром, и назвали его Искусство».
Второй мир. Искусство… Мир, существующий бок о бок с нашим, соприкасающийся с нашим, порожденный им. Яблоко от яблони, говорят, далеко не падает. Верно ли, что так? Наше яблоко далеко укатилось: в такие пределы, где его не узнают уже и гадают – яблоко? мандарин? арбуз? дыня?..
И вроде бы, все знакомо, а незнакомо. И вроде бы, те же улицы, те же дома, да не те. И вроде бы, те же люди – такие же, как мы с вами, ан – нет. Что мы знаем о них? Да выходит, совсем мало. Настолько мало, что у каждого есть возможность представить их себе по-своему – и не ошибиться… или ошибиться – кто тут судья! И никогда не знать: ошиблись мы или нет, и никогда не узнать этого. Что же – автор? Автор, вечно скрытный и лукавый, искоса поглядывает на нас: всяко, мол, бывает – и так бывает, и эдак бывает. А бывает, что бывает сразу и так и эдак или не так и не эдак. Вот и пойми его поди!..
Да знает ли он сам-то, о чем пишет? Если же не знает – зачем пишет? А мы зачем – читаем?.. Может быть, неважно это: знает, не знает?! Одного не знает – другое знает: большее. Что же большее, чем жизнь? Другие жизни! Те, о которых мы и представления не имеем – вообще не подозреваем, что они есть. А они есть, эти возможные жизни, возможные миры. Они причудливы, они непонятны. Иногда нам кажется, что в них все так же, как у нас, иногда кажется, что не так. Но «не так» – всегда, что бы нам ни казалось.
Об этом знал Александр Грин, придумавший странный мир и населивший его странными людьми. Зурбаган, Лисс… Ассоль, Грей… Нет таких городов и имен таких нет. Но что проку, если есть на карте города, описанные иным каким-нибудь писателем, и имена его героев мы встречаем на каждом шагу? Да никакого проку нет от этого, потому что все равно и города, и имена – другие! И упаси вас бог задержаться в таком вот книжном городе дольше, чем позволил автор… С вами начнет твориться такое, чего никогда не могло бы твориться в реальном городе с тем же названием. Город запутает, обманет, одурманит вас, бросит на произвол судьбы и даже не вспомнит о том, что вы ходили по этим мостовым и глядели на эти здания. И жители города не смогут понять вас, станут глядеть странно и пройдут мимо, пожав плечами: «Да кто это? Разве мы были когда-нибудь знакомы?»
…В этом городе прекрасных миражей, Где действительность не знает, что ей делать, Было столько уже разных виражей На мостах и мостовых заледенелых! Появлялось божество из-за угла, И два призрака владели нищей нишей, И судьба моя меня подстерегла Львиной мордой, неожиданно возникшей… Это было – я не помню, на каких Длинных улицах без всякого названья И в каких-то переулочках глухих, Где встречались вы не с нами, мы не с вами, Где к утру уже от жизни кочевой И от жизни вообще – такая жалость! – Вдруг совсем не оставалось ничего, Сновиденья – и того не оставалось!Неважно, кто из нас написал это, – важно другое: вы навсегда чужой в этом городе, и если даже будет вам предложено участвовать в чем-то, знайте: вас вовлекают в авантюру, сущности которой вы никогда не поймете, как не узнаете никогда, чем заняты одни герои, пока автор описывает других.
Нет более опасного заблуждения, чем уподобление книжной действительности – действительности реальной. Хитрые реалисты придумали массу способов, чтобы заставить нас принять одну за другую, сбить с толку правдоподобием. В конце концов огромными тиражами начали выходить очень правдоподобные книги, искусно имитирующие ситуации, в которых бываем мы с вами. Мы хохочем или заливаемся слезами, но вот что странно: эстетической эмоции мы при этом можем и не испытывать. Да, нам смешны герои, да, нам жаль их, но и то и другое переживание может совсем не отличаться от переживаний по поводу невзгод нашего соседа по лестничной площадке. А эстетическая эмоция – тоньше: в ней, например, к переживанию добавляется еще и сожаление или радость по поводу того, что так – не бывает. Эстетическая эмоция, по меньшей мере, двупланова, а по большей мере…
И если вынуть из эстетической эмоции представление о том, чего не бывает, – если вынуть из нее, другими словами, представление об условности, то зачем брать в руки книгу? Можно просто выйти на улицу и посмотреть вокруг: смеха и слез будет предостаточно. Но вот возвышающего нас смеха и возвышающих нас слез…
А взять да описать несколько часов нашей жизни, следуя только правде, ни на шаг не отступая в сторону,- не будет ли это немножко скучновато? Ведь когда мы начинаем пересказывать какой-нибудь случай, мы волей-неволей украшаем его несуществующими подробностями – и потом не помним, что из рассказанного нами было на самом деле. Можем ли мы вообще рассказать о чем-нибудь так, как это и было на самом деле? Психологи утверждают, что – нет. И, осудив Бояна вещего (»аще кому хотяше песнь творити, то растекашется мысию по древу, серым волком по земли, шизым орлом под облакы»), не так же ли точно – «по замышлению Боянови»! – поступил и сам автор «Слова о полку Игореве», изукрасив повествование множеством причудливых и в конце концов условных деталей?
Глава 8. Лото на лету
Как ни странно, бегущему Петропавлу удалось догнать Летучего Нидерландца без особого напряжения: летел тот с такой же скоростью, с какой люди обычно ходят, и, кстати сказать, на очень небольшой высоте, а именно на высоте роста Петропавла. Оценив эти достоинства полета Летучего Нидерландца не слишком положительно, Петропавел разрешил себе задать вопрос вслух:
– Простите, если Вы летаете на такой высоте и с такой скоростью, зачем Вы вообще летаете?
Летучий Нидерландец остановился, некоторое время повисел без движения, неторопливо рассмотрел Петропавла и неточно процитировал:
– Рожденный ползать – понять не может.
Эта цитата, хоть и неточная, обидела Петропавла. Он замкнулся и долго брел молча. Летучий Нидерландец, насупившись, летел рядом. Петропавел ускорил шаг, а Летучий Нидерландец – полет, Петропавел замедлил шаг. Летучий Нидерландец – полет.
– Перестаньте меня преследовать, – строго сказал Петропавел.
– К сожалению, мы движемся в одном направлении, и, к еще большему сожалению, нам одновременно приходят одни и те же мысли, – запальчиво возразил Летучий Нидерландец. – Я не приглашал Вас в спутники. Это Вы догнали меня и навязали мне неприятный разговор.
– Я рассчитывал, что он будет приятным, – не солгал Петропавел.
– Приятные разговоры с таких хамских вопросов не начинаются, – поделился опытом Летучий Нидерландец. – Хамить тоже надо уметь. – Тут он подумал и привел пример: – Воще Бессмертный – вот кто умеет хамить! Впрочем, Вы сами услышите… Он недалеко живет – в ХАМСКОЙ ОБИТЕЛИ.
– В ХАМСКОЙ ОБИТЕЛИ? Простите, кто бессмертный?
– Воще Бессмертный, что значит – кто? – не понял Летучий Нидерландец.
– Он – Кощей?
– Он – мой друг, – противопоставил понятия Летучий Нидерландец.
– Одно другому не мешает, – предположил Петропавел.
– Мешает! – Летучий Нидерландец отвернул от Петропавла голову и полетел так. Спустя некоторое время он проворчал: – Хочу – и летаю, стар уже – отчеты давать!
– Извините, я не думал Вас обидеть… – Петропавел наконец понял, что задел Летучего Нидерландца.
– А знаете ли Вы, – охотно заорал тот, – что это такое – когда душа в небо просится?
– Догадываюсь…
– А догадываешься – так лети рядом со мной! – приказал Летучий Нидерландец, по-родственному перейдя на «ты».
Петропавел усмехнулся, подумав о Ньютоне.
– Чего ты ждешь? – торопил Летучий Нидерландец. – Лети давай!
– Я не знаю, как… как начать…
– Так и начни: упади вперед и маши руками, только сильней, а то разобьешься. Ну?.. Запустить тебя? – И тут Летучий Нидерландец отвесил Петропавлу такого подзатыльника, что тот действительно упал вперед. В эту же самую секунду Летучий Нидерландец крикнул ему в ухо: – Руками маши, чтоб тебя!..
…Ощущение полета было ни с чем не сравнимым. Петропавел летел на высоте сантиметров тридцати от поверхности земли: луговые травы тихонько хлестали его по лицу. Несмотря на то, что ему приходилось затрачивать на полет колоссальные усилия, он испытывал настоящее блаженство. Движение было неровным и плохо координированным. Летучий Нидерландец – почему-то то с одного, то с другого бока – командовал, как физрук:
– Спокойнее, спокойнее: вдох – вы-ы-ыдох, вдох – вы-ы-ыдох!
Когда руки совсем онемели, Петропавел мешком упал в траву и выразил свое теперешнее мироощущение сложно: он завыл, как зверь, и заплакал, как дитя. Растрогался и Летучий Нидерландец, уронив поблизости от Петропавла одну светлую слезу и хрипло сказав:
– Неплохо. Поначалу даже я ниже летал.
«Хороший он все-таки мужик!» – подумал Петропавел и хотел произнести это вслух, но не успел: его ослабленный организм нахально потребовал сна. А выполнив требование организма, Петропавел уже не увидел над собой Летучего Нидерландца. Он испугался: не исчезла ли вместе с Летучим Нидерландцем и способность летать? Чтобы проверить это, он вскочил с належанного места и упал вперед, сильно-сильно замахав руками… Полет – продолжался!
Конечно, это был не в полном смысле слова полет: если бы Петропавел просто шел на своих двоих, он и то передвигался бы быстрее. Но не в скорости было дело и даже не в высоте… ощущение полета вот что составляло смысл мучительного этого перемещения. «Я орел!» – гордо подумал Петропавел, но тут со всего размаху неожиданно врезался в дверь не замеченного им дома. От удара головой дверь не открылась, зато все строение значительно подалось вперед. Петропавел, конечно же, не мог заметить этого: он без чувств лежал у порога. Однако обитательница дома, кажется, заметила; она распахнула дверь, которая открывалась наружу, и возмущенно воскликнула:
– Милостивый государь, чайник бы свой пожалели!
Петропавел очнулся, но, увидев хозяйку, чуть было снова не лишился чувств. Она состояла из двух четко отграниченных друг от друга половин левой и правой, причем, по всей вероятности, половины эти принадлежали раньше разным людям. Левая сторона была несомненно заимствована у красавицы: золотые кудряшки, трогательный серый глазок с длинными пушистыми ресницами, половинка изящного носика и пунцовых губок безупречного рисунка, половина подбородка с половинкой ямочки, половинка точеной шеи, обольстительное плечико, прекрасные линии руки, талии, бедра, стройная ножка – во все это можно было бы без памяти влюбиться, если бы не правая сторона. Всклокоченные белобрысые патлы нависали над косеньким глазом, дальше следовали половина приплюснутого и, видимо, перебитого носа, уголок толстых брюзгливых губ, шея в складках, свисавших с подбородка, могучее мужское плечо… ну, и так далее, до земли. Вертикальный шов на ее платье соединял кружевной сарафанчик с грубошерстным салопом, левая ножка была обута в серебряную туфельку, правая нога – в черный резиновый ботик. Обувь обнаруживала отчетливое несоответствие размеров…
Увидев Петропавла, хозяйка тоже сильно удивилась и тотчас принесла странные извинения:
– Простите великодушно: я думала, это Тупой Рыцарь, от которого я уже припухла!
Все это – и дикое несоответствие частей, и странный лексический контраст, не говоря уже о голосе, невероятным образом совмещавшем в себе разные регистры, – настолько ошарашило Петропавла, что тот не только не извинился, но и не поздоровался.
– Смежная Королева,- очаровательно противно улыбнулась хозяйка и, опять не дождавшись ответа, предложила: – Входите, пожалуйста, или гребите отсюда тогда уж!
Петропавел не смог выбрать ничего из предложенного и остался сидеть на земле.
– Вы лишились рассудка или просто прилично долбанулись? А может, вы датый? – осведомилась Смежная Королева.
Потрогав голову, Петропавел встал и поклонился: это было все, на что он оказался способен. Смежная Королева по-разному пожала двумя плечами и вернулась в дом. Петропавел, как завороженный, последовал за ней. Стоило ему только закрыть за собой дверь, как он ощутил легкий толчок, словно дом отделился от земли. Так оно и было: в единственной, правда, довольно обширной комнате начался сильный сквозняк, поскольку вдоль всех четырех стен было вырублено немыслимое количество дверных проемов при полном отсутствии дверей – кроме той, через которую они вошли. Создавалось впечатление, что ты в беседке, открытой всем ветрам. «Как бы не выпасть отсюда!» – озаботился Петропавел, не зная, куда бы приткнуться понадежнее. Однако из мебели в комнате был только огромный, красного дерева трон: он стоял посередине. На него села Смежная Королева, повесив себе на грудь простенькую, но любовно сделанную табличку с надписью «Смежная Королева» и пояснив: «Это моя фенечка». Петропавел кивнул.
– Могу я предложить Вам лечь на пол? – любезно спросила она и добавила: – А то дрейфить будете. Вы ведь стремщик, наверное?
Дом сильно накренился – и Петропавел нехотя лег на пол.
– А Вы всегда так – автостопом? – Смежная Королева подождала ответа сколько смогла, потом рассердилась: – Я не постигаю, что Вы за пассажир! Колитесь наконец – или Вы язык проглотили?!
Петропавел помотал головой и спросил невпопад:
– Почему Вы все время сквернословите?
– Сквернословлю? – удивилась она. – Во-первых, жаргон – не сквернословие. А во-вторых, то, что сегодня считается жаргонным словечком… или даже нецензурным, завтра может стать салонным выражением.
– Мне к Слономоське надо – мы куда летим? – буркнул Петропавел.
– Ну вот, сразу с расспросами наезжает!.. – разочаровалась Смежная Королева.- Мне, в сущности, до фени, куда мы летим. Все равно сейчас Вам едва ли удастся сойти.
Петропавел вздохнул и, глядя на дверные проемы, поинтересовался:
– Что это у Вас тут все так распахнуто?
– Видите ли, это смежная комната – я сама балдею!
– Смежная – с чем?
– Не Ваше собачье дело, с Вашего позволения. – Она отвратительно мило подмигнула и снизошла: – Смежная – со всем миром! С первого раза весьма затруднительно врубиться, но это кайф! – Смежная Королева подозрительно прищурила левый глаз: – Вы, может быть, вообще не любите идею смежности? Или просто пока не въехали?
– Не въехал, – блеснул Петропавел. – Смежности, простите, чего – чему?
– Смежности, позвольте, всего – всему! Это в высшей степени соблазнительная идея – смежность, я от нее тащусь по всей длине!
Стилистические перепады в речи дамы, богатейшая мимика и пластика двух, казалось, не связанных Друг с другом сторон не давали возможности сосредоточиться.
– Весь прикол в том, – продолжала Смежная Королева, – что сама я – олицетворение смежности. Я есть переход от сущего к должному… Или наоборот. У Тупого Рыцаря, это мой кавалер, просто шифер ползет при виде меня. Я иногда такие корки мочу!.. А между тем, даже задумав намеренно исчерпать меня всю, он меня всю не исчерпает. И Вы не исчерпаете, – предупредила она. – Слабо Вам… шнурок!
– Но я не собираюсь исчерпывать Вас всю!
– Это офигительно огорчительно… - непоследовательно заметила собеседница. - А вот… чем я, по-Вашему, владею как Смежная Королева?
Петропавел испугался ответственности и промолчал, а дама заключила:
– В общем-то, Вы чмошник. Вас даже жалко.
Петропавел не знал, что такое чмошник, но сердито сказал:
– Ну, это уж ни в какие ворота!..
– Обиделись? Отпа-а-ад! Я же не хотела обидеть Вас этим!
– Интересно, что этим еще можно было сделать? Не польстить же мне!
– Ну Вы замочили – польстить! Просто – констатировать факт. Вы ведь не будете возбухать, если я позволю себе сказать, что Вы брюнет?
– Не буду, конечно, – Петропавел галантно поклонился. – Особенно если учесть, что я блондин.
– Ой, блонд!.. Голдовый! – Смежная Королева прижала руки к груди. – Но это все неважно. Смежность – вот что действительно важно. Нет ничего более клевого в мире, чем смежность. Но Вы, как Тупой Рыцарь: ему тоже не катит, когда я высказываюсь о смежности. – Она заскучала и короткопалой правой рукой потрогала симпатичный золотой локон за левым ушком. – Вы вот не понимаете, чем я владею. А я ничем не владею! Класс? Мне это в лом – владеть. Я отличаюсь от Королевы Англии тем, что у меня нету Англии! – и она тошнотворно заразительно рассмеялась.
– Почему же тогда Вы вообще считаетесь королевой?
– Вы, почтеннейший, уже достали меня своим занудством!.. Весь балдеж именно в том, чтобы пребывать на границе, когда в поле твоего зрения – сразу обе стороны: два государства, две идеи, а образ, который при этом создается в воображении, – один! – это образ границы. – Должно быть, не увидев на лице Петропавла энтузиазма. Смежная Королева оборвала себя: – Ладно, довольно ля-ля! Не соблаговолите ли Вы составить мне партию в лото?
Петропавлу пришлось соблаговолить. Тогда Смежная Королева, соблюдая всяческие предосторожности, сползла с трона и тоже легла на пол. Она приподняла крышку люка и вынула детское лото. Петропавлу досталась картонка, на которой были нарисованы музыкальные инструменты. Смежной Королеве – картонка с изображением овощей и фруктов. Он уже забыл, когда в последний раз играл в эту игру, – во всяком случае, теперь она была ему совершенно неинтересна. Внезапно Смежная Королева осведомилась:
– Вас тут у меня не вырвет? У некоторых это от высоты бывает…
– Не беспокойтесь обо мне, – пресек заботу Петропавел.
– А то возьмите целлофановый пакет. – Она с опаской поглядела на него. – Что-то вид у Вас – атас полный!..
– Ничего, играем! – браво выступил Петропавел, и они принялись играть.
– Барабан! – громко сказала Смежная Королева, доставая из полотняного мешочка первую карточку.
– У меня! – обрадовался Петропавел, но, не обращая на него внимания, Смежная Королева положила барабан на свою картонку – в квадрат с изображением арбуза. Петропавел сказал: – Вы ошиблись. Барабан – это не овощ.
– Без Вас скользко! – огрызнулась Смежная Королева и достала вторую карточку: – Флейта! – Мое! – мрачно заявил Петропавел.
– Перебьетесь, если Вы не возражаете, – и Смежная Королева положила карточку с флейтой на квадрат, в котором был изображен гороховый стручок. – У меня уже два квадрата заполнено, я выигрываю! А у Вас – голяк. Умотная игра!
– Это нечестно, – сказал Петропавел. – Вы положили флейту на горох.
– Прошу прощения, но Вас это не колышет. Дать Вам в репу? – и она тут же сильно ударила Петропавла по голове полотняным мешочком с карточками. По весу это был мешочек с дробью. Петропавел чуть не вылетел в открытое небо; он оторопело смотрел на бессовестную партнершу.
– Что Вы уставились, как баран Мюнхгаузен?.. Разрешите предложить Вам продолжить нашу увлекательную игру.
– Я не играю больше, – отклонил предложение Петропавел. – Это игра против правил.
Смежная Королева взглянула на него обворожительно косо:
– Я могла бы попросить Вас заткнуться и не возникать?.. Виолончель! – и удар полотняным мешочком повторился. Смежная Королева захлопала в ладоши: – Смотрите, опять в кассу! – Она положила карточку с виолончелью на изображение груши.
У Петропавла все плыло перед глазами, и он, – скорее, машинально – прошептал сквозь слезы: «Моя виолончель…»
– Потрясно все сходится! – Смежная Королева не услышала шепота. – А у Вас опять облом. Постойте-ка… почему Вы не радуетесь за меня? Может быть, Вы завистник?
Петропавел, прикрыв голову руками, с отчаянием воскликнул:
– Вы что – чокнутая?
– Любезнейший, фильтруйте базар! Перед Вами все-таки Королева!..
– …которая не может отличить овощ от музыкального инструмента! Сначала разберитесь с Вашими представлениями о мире, а потом ложитесь играть! – Он схватил с ее картонки карточку с виолончелью.
– Отвяньте, умоляю Вас! – завизжала Смежная Королева, отнимая у него карточку, и ни с того ни с сего принялась яростно лягаться, норовя отпихнуть Петропавла к ближайшему дверному проему. – Вам в крейзу пора! Только попробуйте поднять на меня руку или ногу! – приговаривала она, толкая Петропавла сильной своей ступней. – Я пользуюсь правом неприкосновенности!
Петропавел поспешно соображал, сможет он лететь на такой высоте или упадет и разобьется. А Смежная Королева внезапно сникла и устало произнесла:
– Кончаем кипеж… Вы не творческий человек – Вы нормальный упитанный середняк, который так же разбирается в смежности, как свинья в мокасинах. Мне крайне прискорбно, что Вы такое фуфло… – Она вынула из мешочка следующую карточку: – Здесь бубен. Нате, положите его на бубен и испытайте радость идиота, знающего, что такое бубен. – Она вздохнула. – Надо же так скозлиться за какие-то десять минут!
Петропавел демонстративно и мстительно положил бубен на бубен.
– Надеюсь, Вы удовлетворены? – спросила Смежная Королева. – И что же. Вы в состоянии забалдеть от такой игры? Возьмите тогда весь мешочек и наяривайте в одиночестве. Вы какой-то совершенно завернутый…
– У каждой игры есть свои правила, – сухо напомнил Петропавел, принимая мешочек. – Дыня. Это наконец Ваше. Берите.
– Правила создаются по ходу игры, – возразила Смежная Королева. – А дыню положите себе на бестолковку. – Хорошеньким пальчиком левой руки она постучала Петропавлу по лбу, потом отползла к трону и воссела на него. – Я наигралась. Вы зашибенный партнер. Было мажорно до смерти.
– Не понимаю, чем Вы недовольны. – Петропавел из последних сил держал себя в руках. – Каждому ясно, что барабан, флейта и виолончель – музыкальные инструменты, а груша – фрукт.
– Юноша! – в голосе Смежной Королевы уже звучала неизбывная скука. – Никогда не следует держаться того, что каждому ясно. Нет никакого кайфа в том, чтобы повторять общепонятное. И интересно не то, что просекает каждый, а то, что просекаешь ты один. – Она усмехнулась. – Кажется, мне везет… Еще один Тупой Рыцарь.
Тут со Смежной Королевой произошло нечто странное: правый глаз ее закрылся, правая рука безжизненно повисла на подлокотнике трона – и вся правая половина уснула под мерные теперь покачивания летящего дома. Но левая половина бодрствовала – и речь не прерывалась: она только выровнялась, лишившись элементов жаргона.
– Вы из породы тех, кто постоянно требует: «Давайте называть вещи своими именами!» При этом они уверены, что именно им дано знать подлинные имена вещей, хотя так же, как и другие, называют вещи невпопад. Но от других они отличаются тем, что всегда убеждены в своей правоте и в своем праве называть вещи так, а не иначе. Не дай бог кому-нибудь в их присутствии уподобить барабан арбузу, флейту – гороховому стручку, а виолончель – груше. Тут же восстановят справедливость!.. И если даже вы сыграете для них на флейте горохового стручка какую-нибудь сонату ми-минор, они с пеной у рта будут утверждать, что гороховый стручок – не музыкальный инструмент. Такие люди всегда губили художников…
– Я не губил художников! – с негодованием воскликнул Петропавел.
– Допускаю, – откликнулась Смежная Королева, – что пока Вы их действительно не губили. Все впереди. Дерзайте! Вы ведь правдоборец и за правду не пожалеете живота своего, даже не допуская мысли о том, что Ваша собственная правда – это еще не вся правда, не правда всех людей на земле, хотя, быть может, и правда большинства.
– Меньшинство должно подчиняться большинству!
Смежная Королева рассмеялась:
– О дорогой мой, не во всем, не во всем… Большинству не приходят в голову гениальные идеи, но оно охотно пользуется гениальными идеями единиц. А ведь, по существу, любая гениальная идея – не что иное, как новая аналогия, новый тип смежности, когда два очень далеких явления вдруг оказываются рядом, в то время как о родстве их никто из живущих и не подозревал. Но вот человек указал на это родство – и оно тотчас же стало очевидным для всех. Впрочем, может быть, и не тотчас же… – уж как повезет! Это еще и от нас зависит: насколько легко наше воображение может перенести нас с травинки на облако.
– При чем тут травинка и облако? – проворчал Петропавел.
– Это просто еще одна аналогия. Предположим, воображение наше привыкло двигаться так: с травинки на цветок, с цветка на кустик, с кустика на дерево, с дерева на облако. Но чье-то воображение вспорхнуло с травинки на облако – сразу, вдруг осознав нечаянную их близость. Так вот, пока есть такие люди, пока подобные Вам еще не погубили их, я буду у них королевой – даже несмотря на то, что здесь, на земле, у меня нет места, где бы я могла собрать их всех: я ведь не владею ничем! – и Смежная Королева очень грустно рассмеялась, а потом добавила: – Сейчас Ваша остановка. Хотите сделать финт ушами?
При появлении в речи «финта ушами» Петропавел понял, что правая половина Смежной Королевы пробуждается. Не успев никак отнестись к этому, он действительно сделал финт ушами, поскольку дом стукнулся об землю – и от сильного толчка Петропавел вылетел в один из дверных проемов, сопровожденный восклицанием: «Рисуйте ноги, друг мой!» Он отлетел на такое далекое расстояние, что дом Смежной Королевы исчез из поля его зрения.
Глава 9. По ту сторону понимания
Итак, дом Смежной Королевы исчез из поля его зрения, но в тот же миг это поле погрузилось в полную тьму, как будто кто-то огромный заслонил солнце. «Спящая Уродина проснулась сама!» -ужаснулся Петропавел, живо представив себе страшные последствия такого пробуждения. Через некоторое время туча сфокусировалась в подобие облика – и вот уже перед Петропавлом вверх ногами предстало еще одно в высшей степени странно одетое существо.
– Тридевятая Цаца, – представилось существо и тут же спросило. – Почему Вы стоите вниз головой?
Уже от одного этого вопроса все поплыло перед глазами Петропавла, и он едва удержался на ногах.
– Чтобы нам было удобнее разговаривать, я тоже стану вверх ногами, – Тридевятая Цаца любезно перевернулась в воздухе.
– Ну, как я Вам? – любуясь произведенным впечатлением, спросила она.
– Потрясающе! – честно восхитился Петропавел. Он и в самом деле не видел ничего подобного. Тридевятая Цаца была довольно высокой, одетой в мужской серый костюм английского сукна поверх, по-видимому, бального платья. Бусы из огромных ракушек почти закрывали грудь. Голову украшала шляпа сомбреро со страусовыми перьями, а ноги были босы. Все вместе выглядело не столько нелепо, сколько как-то грандиозно. Причем лица видно не было: оно потерялось на таком фоне.
– А зачем Вам все это? – с уважением спросил Петропавел.
– Вы о моей одежде? Многие интересуются, – Тридевятая Цаца горделиво приосанилась. – Но ведь каждый должен быть во что-то одет.
– Конечно! – от всей души согласился Петропавел. – Странно только, что костюм надет у Вас на платье…
– Странно, – откликнулась Тридевятая Цаца. – Я вообще странная. Поговорите со мной – тоже будете странным!
– Зачем? – Петропавел не понял прелести перспективы.
– Да так! – беспечно ответила Тридевятая Цаца и тут же спросила: – Странно, что я так ответила?
– Очень! – признался Петропавел. Тридевятая Цаца улыбнулась и расплакалась. Петропавел смутился.
– Не надо, – жалобно сказал он. – Зачем Вы так… это лишнее.
– Ой, я такая странная! – напомнила она и хрюкнула. – А знаете ли Вы, что я и вообще-то – оптический обман?
– Что вы имеете в виду?
– Ах, да ничего! – рассмеялась Тридевятая Цаца. – Странно, правда?.. Между тем в данный момент я нахожусь от Вас за тридевять земель. Это очень далеко, – серьезно уточнила она.
– Но Вы же тут! – уличил Петропавел.
– Да ничего подобного! Если бы я была тут. Вы бы вообще меня не увидели. Дело в том, что у меня есть одна страсть – уменьшаться по мере приближения и наоборот… Я люблю нарушать законы перспективы. Судя по тому, что сейчас я Вашего роста, я где-то не совсем вблизи. Впрочем, Вы можете потрогать меня… или опустить в ведро с керосином: уверяю Вас, Вы ничего не почувствуете.
Петропавел, проигнорировав второе предложение, ткнул пальцем в плечо Тридевятой Цацы. Та ойкнула.
– Вы же сами предложили мне потрогать Вас, – оправдался он.
– Ах да!.. Как странно: я все забыла о себе! Я ведь не только оптический обман – я еще и тактильный обман… ну, то есть обман осязания. Кроме того, я – обман обоняния. Например, тут – у себя за тридевять земель – я надушена очень крепкими духами. Но Вы же там этого не чувствуете?
– Чувствую – и еще как! – Петропавел поморщился, определив наконец источник тошнотворно сладкого запаха.
– Да?.. Ну, пусть. А впрочем… я же опять все перепутала! Сегодня именно я и не надушена никакими духами, а Вы их чувствуете! Это и есть обман.
– Вы запутали меня, – угрюмо сказал Петропавел. – Вообще-то Вы существуете?
– Я существую. Но я с этим не согласна. Мур-р-р… Ведь я не дана в чувственном опыте. Наоборот, я – обман чувств. Вы знакомы со Смежной Королевой? Что Вы о ней скажете?
– О ней ничего определенного не скажешь! – усмехнулся Петропавел.
– Это потому, что Вы, наверное, смотрели то на одну, то на другую ее половину, а так оно сбивает… На самом деле, она ничем не отличается от прочих – по внешности, я имею в виду: заурядная, в общем-то, внешность. Но это в сущности. А Вы, должно быть, не умеете видеть сущности – и видите две половины… Значит, Вам будет трудно со мной: я ведь вся не такая, какой кажусь в реальном мире. Собственно говоря, меня нет в реальном мире: я нахожусь в возможном мире. – И Тридевятая Цаца кокетливо улыбнулась. – Смежная Королева – та все-таки пограничное явление, а я… я вообще за границей понимания – адекватного понимания, я имею в виду.
– Вы – галлюцинация? – Петропавлу показалось, что он раскусил Тридевятую Цацу.
– Фи! – поморщилась она. – Галлюцинация!.. Я – обман чувств, говорю же! Скорее уж иллюзия, чем галлюцинация.
– Не вижу разницы, – буркнул Петропавел.
– Ни одной? – ужаснулась Тридевятая Цаца. – Галлюцинация и иллюзия – это даже две разницы, причем большие! При галлюцинациях объекта нет в действительности. А при иллюзиях объект есть – вот он! – Цаца опять приосанилась. – Но воспринимается он ложно. Как я, – скромно добавила она во избежание дальнейших недоразумений. – Впрочем, меня не обязательно считать иллюзией. Меня можно считать кофемолкой или Эйфелевой башней… А? Как я Вам – в качестве кофемолки?
– Не очень, – честно ответил Петропавел.
– Ну и зря, – огорчилась Тридевятая Цаца. – Увидеть во мне кофемолку Вам мешает знание языка. Если бы значение слова «кофемолка» не было известно Вам, Вы легко согласились бы считать кофемолкой меня… А давайте поиграем: в дальнейшем мы с Вами вместо «да» будем говорить «нет», ладно?
– Но на каком основании? – захотел ясности Петропавел.
– Да ни на каком! – возбудилась Тридевятая Цаца. – Можно подумать, будто Вам понятно, на каком основании «да» означает согласие, а «нет» – несогласие. Само по себе слово не отсылает ни к чему определенному: это только люди соотносят слова с тем, с чем им заблагорассудится. Так что Вам ничто не мешает соотнести «да» с несогласием, «нет» – с согласием, а меня – с кофемолкой. Или с Эйфелевой башней, как Вам больше нравится.
– Но ведь существуют обычаи! – мудро заметил Петропавел. – Ах, я не придерживаюсь обычаев, я такая странная!.. Между прочим, значения слов с течением времени искажаются сами по себе – я только немножко ускоряю этот процесс, помогая словам. А Вы говорите по привычке, хотя привычка – это всего-навсего умение неправильно объяснять новые явления старыми законами… Впрочем, не хотите играть в «да» и «нет» – не надо! – Она смерила Петропавла точным взглядом и резюмировала: – Просто Вы – крепдешин.
– Давайте лучше обсудим, правильно ли я иду к Слономоське, – неестественно бодро предложил Петропавел.
– Путь к Слономоське обсуждать нечего: все пути ведут к Слономоське. А вы сейчас сдадите мне экзамен на Аттестат Странности.
– С какой стати? – вознегодовал Петропавел.
– Да ни с какой! Напрасно Вы ищете для всего логические объяснения. Поступки ведь могут иметь не только логические причины, но, скажем, еще и чисто психологические или даже невропатические… Отвечайте на мои вопросы. Если разговор Вам неприятен, что нужно сделать?
– Прекратить его!
– Два! – Тридевятая Цаца хихикнула. – Правильный ответ: если разговор неприятен, его надо продолжать до бесконечности.
– Зачем? – Петропавел захотел понять, но Тридевятая Цаца только пожала плечами и задала второй вопрос:
– Если человек толстый, какое прозвище ему лучше всего дать?
– Пончик, – сказал Петропавел все, что знал об этом.
– Два!.. Правильный ответ: если человек толстый, больше всего ему подходит прозвище «На всякого мудреца довольно простоты»!
– Это не прозвище, а пословица…
– Неважно! – возразила Тридевятая Цаца. – Третий вопрос: если Вам холодно, что следует предпринять?
– Одеться потеплее, – уже без надежды отвечал Петропавел.
– Два. Правильный ответ: если Вам холодно, следует сойти с ума.
– Разве от этого станет теплее?
– Кто знает… – зевнула Тридевятая Цаца. Потом она долго-долго смотрела на Петропавла и вдруг покачала головой: – Ну Вы недале-е-екий! Видела я недалеких, сама не слишком далекая – всего каких-то тридевять земель, но Вы уж такой недалекий… И я, хоть зарежьте меня, никогда не выдам Вам Аттестата Странности.
– Да пропади он пропадом, Ваш Аттестат Странности! – Петропавел просто вышел из себя. – Я и аттестатом зрелости обойдусь!
– Так я и думала! – развела руками Тридевятая Цаца. – Едва лишь увидев Вас, я решила: этот обойдется аттестатом зрелости. Стало быть, милый мой… что же Вам сказать? Никогда не читайте книг! Дальняя смысловая перспектива для Вас закрыта навеки. Вы на всю жизнь обречены воспринимать только буквы – одни буквы, и ничего больше. То, что кажется маленьким, для Вас так и останется маленьким навсегда. А то, о чем вообще умалчивают, Вам и вовсе недоступно. Потому-то Вы, наверное, и ходите вверх ногами… Странно я закончила, правда? Ах, да, Вы ведь не можете этого оценить! – Тридевятая Цаца перевернулась в воздухе и отодвинулась на полшага. – Хотите на прощание еще одну странность? Я скажу Вам то, чего Вы не поймете. Маленький Вы человечек! Большой Смысл, Главный Смысл – всегда очень далек. А Здравый Смысл всегда очень близок. Привет! – Она зашагала, видимо, вдаль, все увеличиваясь и увеличиваясь в размерах, пока не заслонила небо. Сделалось темно и жутко.
Петропавел развернулся и побрел в сторону: иметь дело с Тридевятой Цацей – близкой ли, далекой ли – ему больше не хотелось. А когда тьма рассеялась, прямо перед глазами его обозначилась дверь, на которой размашистыми буквами было написано ХАМСКАЯ ОБИТЕЛЬ. Он толкнул дверь и чуть не наткнулся на стоявшего за ней человека – не то старообразного юношу, не то моложавого старика.
– Воще Бессмертный, чтоб я сдох, – представился он, нагрубив, как показалось Петропавлу, самому себе, и без остановки продолжал: – Сейчас я буду тебя учить. Урок первый…
– По какому предмету? – вмешался Петропавел в неестественный ход событий.
– Ни по какому. Это урок воще.
– Не бывает уроков вообще, бывают уроки по каким-нибудь предметам! – огрызнулся Петропавел: ему не понравилась сама идея.
– Слушай, кто тут учитель – ты или я? – сразу заорал хозяин.
– Этого никто не определял.
Воще Бессмертный извинился за упущение и определил:
– Учитель тут я, а не ты. Внимай моим словам.
– Очень надо! – Петропавел насупился.
– Если ты пришел взаимодействовать со мной, взаимодействуй. Жанр приказа предполагает подчинение. Все прочие реакции неуместны.
– Но кто сказал, что Вы вообще имеете право мне приказывать? Насчет этого нет никаких указаний! – ерепенился Петропавел.
– Сейчас ты их получишь, – уверил его Воще Бессмертный и подошел к старомодному буфету. Он достал оттуда какой-то кулек, вынул из него небольшую часть содержимого, приблизился к Петропавлу и больно схватил его за ухо. Тот вскрикнул, а Воще Бессмертный, ловко воспользовавшись моментом, сунул ему в рот то, что извлек из кулька. Речевой аппарат Петропавла мгновенно вышел из строя.
– Вяленая дыня, – пояснил Воще Бессмертный. – Восточная слабость. Отсюда и первое указание: молчать!
Этого указания Петропавлу уже не требовалось: слиплось все, что было во рту.
– Указание второе: за мной! – И железными пальцами схватив Петропавла за руку, он потащил его в другую комнату, оказавшуюся ванной. «Какие они тут все сильные…» – по дороге думал уже привыкший никому не сопротивляться Петропавел. Воще Бессмертный бросил его в ванну и навис над ним, как судьба: – Указание третье: слушай, что я говорю, ибо я – твой учитель. Я буду учить тебя всему воще, поскольку, как мне показалось, ты воще ничего не знаешь. Стало быть, надо начинать с азов… Азовское море! – с воодушевлением заорал он и пустил воду. – Резвая птица долетит до его середины! – Петропавел брыкался, но Воще Бессмертный крепко прижимал его ко дну ванны, самым подробным образом рассказывая об Азовском море (площадь – 39 тысяч квадратных километров, самое глубокое место – 15 метров). Последняя цифра удивила Петропавла, и он выразил удивление бровями. Не обратив на это внимание, Воще Бессмертный рассказывал дальше – и было воще непонятно, для чего он все это затеял. Петропавел сильно заерзал, когда вода полилась в рот и уши, но тут же получил довольно энергическую затрещину. Он не сообразил, что Воще Бессмертный хотел этим сказать, потому что уже утонул. Впрочем, утонув, он не умер, а продолжал жить и, что самое страшное, слышать повествование Воще Бессмертного. Голова работала ясно, но ничего не понимала. Зачем ему рассказывают про Азовское море? Почему вообще такой странный выбор: именно Азовское? И наконец – чего ради так долго?
Однако беспорядочное речевое поведение продолжалось, и утонувший Петропавел отчаялся уразуметь, к чему клонит этот Воще Бессмертный: тихо, как и подобает утопленнику, Петропавел лежал под водой. Внезапно учитель заговорил на немецком языке, что возмутило Петропавла сверх всякой меры. Он собрался с силами и забулькал, но Воще Бессмертный свободной рукой схватил с вешалки полотенце и под водой затянул им рот утопленника, накрепко связав концы полотенца на затылке. Чрезмерность насилия потрясла Петропавла.
– Так будет еще лучше, – по-фински произнес Воще Бессмертный, и Петропавел даже не удивился, что не только опознал язык, но и понял сказанное. – Есть тут у нас одно золотое правило, – продолжал мучитель. – Меньше задашь вопросов – меньше получишь ответов. – Потом он странно хмыкнул и вроде бы невпопад заметил: – Меньше всего вопросов задают мертвецы: они воще не задают никаких вопросов. – И на языке дружбы, понятном каждому, Воще Бессмертный продолжил рассказ об Азовском море. Говорил он быстро, но выразительно: стенал, хохотал, выл и закатывал глаза, стоя уже по пояс в воде. Когда же вода покрыла Воще Бессмертного с головой, а потом заполнила всю ванную комнату, он вдруг отпустил Петропавла, неожиданно потеряв к нему всякий интерес. Петропавел принял сидячее положение и ошарашенно смотрел на Воще Бессмертного. Под водой тот сделался тихим, лег в раковину и загрустил оттуда. Несмотря на озлобленность, Петропавел внезапно почувствовал острую нежность к Воще Бессмертному, в раковине напоминавшему старую улитку. Ему захотелось прижать к себе эту улитку и чем-нибудь утешить ее, но он сдержался.
– Тебе, небось, до лампочки, что я грущу? – угрюмо осведомился Воще Бессмертный по-арабски. Петропавел покачал головой. Тогда Воще Бессмертный вылез из раковины, подплыл к Петропавлу и обнял его. Это очень сблизило их – и они принялись плавать и играть в воде, как две маленькие рыбки.
– Да выплюнь ты эту дыню! – возмущенно крикнул вдруг Воще Бессмертный. – Не нравится – так что ж ты ее мусолишь во рту? Ни тебе поговорить, ни тебе посмеяться… И повязку эту свою дурацкую сними: плаваешь тут, как баба!
Петропавел с негодованием сорвал повязку и выплюнул дыню в воду. Она всплыла. Едва освободив рот, Петропавел возопил:
– Что все это значит?
– Азовское море? О, оно значит для меня многое…
– А для меня – ничего не значит, – отрезал Петропавел.
– Тебя и не спрашивают, – отрезал по отрезанному Воще Бессмертный. – Как бы там ни было, ты все равно не имеешь права вынимать мое Азовское море из моей системы представлений, помещать в твою и там понимать. – Да я вообще не намерен его понимать!
– Твои намерения тут никого не интересуют. Тут каждого интересуют мои намерения. Осознай это – и все сразу станет на свои места.
Петропавел отвернулся, демонстрируя нежелание осознавать.
– Тебе нехорошо здесь? – лирически поинтересовался Воще Бессмертный и, обидевшись на молчание Петропавла, уплыл в угол ванной. Оттуда он сказал: – Я поведаю тебе свою историю, мой юный друг.
– Прямо тут, в воде? – уточнил Петропавел. – А чего? – невозмутимо откликнулся Воще Бессмертный. – Тут славно, на взморье! – Он набрал полные легкие воды и начал: – Обычно говорят: «Я родился тогда-то и тогда-то, там-то и там-то…» А я не рождался никогда и нигде. Я всегда тут был.
– Пожалуй, так не может быть, – не удержался Петропавел.
– Может, – уверил его Воще Бессмертный. – Может быть по-всякому. Я точно никогда и нигде не рождался. Это и правильно, иначе как бы я мог быть бессмертным? Если ты помнишь, есть такой Кощей Бессмертный – так вот, он никакой не бессмертный, потому что смерть его – на конце иглы, игла – в яйце, яйцо – в утке, утка – в ларце, а ларец – на дубу. Этак каждый может сказать: я, например, бездетный, а дети мои – во дворе, а двор – около дома, а дом – в деревне, а деревня – в Крыму, а Крым – на Украине… Какой же ты бездетный, если у тебя на Украине дети?.. Вот я – другое дело. Я совершенно бессмертный, то есть Воще Бессмертный, я никогда не умру. Следовательно, я никогда и не рождался.
– Следовательно, Вас нет, – жестоко заключил Петропавел.
– Тоже мне – открытие! – Воще Бессмертный залег на дно ванной. – Развернуть перед тобой концепцию иллюзорности бытия, что ли… – Он свернулся калачиком, подумал и произнес: – Не буду я ничего разворачивать. Ну нет меня – так нет: не велика тетеря для общества! Странно другое: I have never been a child! – Дальше Воще Бессмертный заговорил неизвестно на каком, но хорошо понятном Петропавлу мертвом языке. – Поэтому я не испытал тягот и радостей детства. Моя мать никогда не кормила меня молоком: во-первых, у меня не было матери, а стало быть, у нее не было и молока. Мой отец никогда ничему меня не учил: во-первых, у меня не было отца, а во-вторых, я и так все знал. Учителя не били меня: по причине их отсутствия я бил себя сам. Это очень упрощало жизнь… Я часто думаю: будь я Воще Смертный – я бы и хоронил себя сам. Тогда это упростило бы и смерть. К счастью, смерть мне упрощать незачем… Вот так и случилось, что я воще все знаю – потому-то ко мне и надо относиться как к учителю воще всего. Правда, я еще воще никогда никого ничему не учил. Ты – мой первый блин. А первый блин, как говорится, всегда курам насмерть… ты уж извини, если что не так.
– Нет-нет, все нормально! – поспешил успокоить его Петропавел, но Воще Бессмертный вдруг зашмыгал носом и ни с того ни с сего зарыдал.
– Что с Вами? – Петропавел чуть не всплыл от неожиданности.
– О, это слово! – запричитал Воще Бессмертный. – У меня с ним столько связано!.. Картины прошлого встают перед глазами… Все-таки чертовски неудобно рыдать в воде! – отвлекся он, но тут же зарыдал с утроенной энергией. – Зачем, зачем ты произнес это слово при мне!
– Простите… – сконфузился Петропавел, – но какое именно слово Вы имеете в виду?
– Слово «нормально»! – белугой взревел Воще Бессмертный. – Боже, сколько раз я слышал его!
– Честно говоря, я не понимаю, почему такое простое слово, как «нормально»…
– Не повторяй его, о бездушный! – взвыл Воще Бессмертный. – Тебе и не понять, до какой степени чутким к звучащему слову может быть живой организм, какие глубины способно всколыхнуть оно в нем! Ты же не прожил моей жизни, а берешься судить о том, что значит для меня то или иное слово… Ах, оставь, оставь мне хотя бы это право: у меня ведь, кроме него, ничего нет! Меня и самого-то, как видишь, нет!
– А я – есть? – осторожно спросил Петропавел.
– На твоем месте, – прекратив рыдать, неожиданно сухо сказал Воще Бессмертный, – я бы из чисто компанейских чувств не задавал этого вопроса. Неловко как-то получается: меня, такой глыбы, – нет, а ты, такая моль, – хочешь быть! – Потом он приблизил свое неопределенное лицо к лицу Петропавла и очень серьезно произнес: – Ты есть. И то, что ты есть, накладывает на тебя очень большие обязательства по отношению к нам – тем, кого нет… Но кажется, начинается шторм.
Петропавел посмотрел наверх: потолка ванной комнаты уже действительно не было видно; тускло мерцала лампочка, мотаясь в разные стороны.
– Сколько бедных рыбаков погибнет сегодня! – горько вздохнул Воще Бессмертный. – Да и ты, наверное, погибнешь: ты ведь смертен?
– До нас шторм не опустится, – грамотно сообщил Петропавел.
– Плохо ты меня слушал, – укорил его Воще Бессмертный. – Какова максимальная глубина Азовского моря?
– Кажется, пятнадцать метров! – с ужасом вспомнил Петропавел.
– Стало быть, опустится, – развел руками Воще Бессмертный.
– Что же делать мне… смертному? – Петропавел поверил и струсил.
– Давай на поверхность: может, вынесет волной… на брег, – архаично закончил Воще Бессмертный и, не сочтя необходимым проститься, быстро поплыл в западном направлении.
– Погодите! – крикнул Петропавел. – Как мне дальше к Слономоське?
– У кого ты спрашиваешь? – обернулся Воще Бессмертный. – Если у меня, то меня, как ты справедливо заметил, – нет…
Когда его не стало видно за толщей воды, у Петропавла даже сердце защемило. Вот ведь несчастье: пусть Смежная Королева двойственна, пусть Тридевятая Цаца за сколько угодно километров отсюда, но они хоть есть, а тут… надо же, такая глыба – и виден, и слышен, и осязаем, и целостен, ан – нету его, не существует!
Петропавел всплакнул бы, если б не шторм. Но времени терять было нельзя, и, покинув ХАМСКУЮ ОБИТЕЛЬ, он устремился наверх – навстречу спасительной волне.
Глава 10. Милое искусство, коварное искусство
Пока Петропавел соображал, какая из волн спасительная, одна волна накрыла его с головой, и, вспомнив о том, что он смертен, бедняга даже глупо выкрикнул в пространство: «Спасите!» – но, как ни странно, получил ответ.
– Не шуми, – сказали ему, – и так ничего не слышно.
– Спасите! – шепотом повторил он, хотя, может быть, из-за волн вокруг никого видно не было.
– Что ты имеешь в виду? – раздался возле самого его уха тихий противный голос. Несмотря на критическую ситуацию, Петропавла возмутила такая постановка вопроса.
– Это самое и имею в виду! – возопил он. – Спасите, имею в виду.
– Да не шуми ты! – цыкнули сверху. – Я и так прекрасно тебя слышу. А больше тут никого нет, так что нечего вопить… Но я хочу знать фактически, каково значение предложения «Спасите!». Ты говоришь, что оно и означает «Спасите!». Так это само собой разумеется. Твой ответ совершенно бессодержателен – и мне приходится усомниться в осмысленности твоего высказывания, а значит, и в твоих умственных способностях. Раскрой смысл предложения, ну? Что ты подразумеваешь?
Чтобы не тратить силы на препирательства в воде, Петропавел ответил лаконично:
– То и подразумеваю, что говорю.
– Непонятно, – послышалось в ответ. – Всегда говорят одно, а подразумевают совсем другое. И этим твоим «Спасите!» тоже можно много чего подразуметь. Можно, конечно, и невинные вещи подразуметь – что-нибудь типа «Помогите мне… укажите путь, составьте компанию будем, дескать, вдвоем плыть к берегу, так оно легче…». Но ведь не исключено и другое: «Давайте-ка, мол, ко мне, мой дорогой, я тут в Вас вцеплюсь мертвой хваткой, отдохну, потом брошу Вас, чтобы Вы утонули, а сам, набравшись сил, бодро поплыву дальше!» Таким образом, – мне желательно знать, что именно ты подразумеваешь. На этом, между прочим, основано искусство подтекста.
– Прекрати эти издевательства… – задыхался Петропавел, – мне сейчас не до подтекста!
– Ты торт слоеный ел когда-нибудь? – невозмутимо поинтересовался тихий противный голос. – Тогда представь себе высказывание как торт: высказывание тоже многослойно. Пробуем с этой точки зрения рассмотреть «Спасите!» – высказывание, сделанное тобой. Само по себе слово «спасите» – это верхний слой торта, то есть крем, собственно говоря. Под ним – разные слои, опускаясь по которым мы доходим до фундамента – подлинной сущности высказывания: в данном случае ее можно выразить словами «больше всего на свете мне дорога собственная шкура»… А крем – это еще не весь торт.
Петропавел давно уже не слушал и молча боролся со стихией.
– Почему ты молчишь? – в самое ухо спросили его.
– Не люблю… разговаривать… в шторм.
– О, это лучше! – похвалил голос.
– Слушай, отвяжись, а? Я не разговариваю с теми, кого не вижу.
– А ты считай, что это телефонный разговор!
– Идиот! – рявкнул Петропавел. – Чего ради – по телефону… в воде?
– Пожалуй, – согласился голос. – Ладно, начинай считать волны. Шестая волна вынесет тебя на берег. Он уже близко.
…Шестая волна вынесла Петропавла на берег, а на седьмой волне кончился шторм. Петропавел раскинул руки и закрыл глаза.
– Отдыхаешь? – тут же услышал он возле себя.
– Спасибо, я очень обязан тебе, – сказал Петропавел в никуда. – Ты кто? Мы ведь не познакомились в море.
– Таинственный Остов, – был ответ. – Разве не видно?
– Не видно.
– Правда, что ли, не видно? – ужаснулся голос. – Но ведь речь моя позволяет тебе предположить наличие некоторого тела!
– Позволять-то позволяет…
– Ну, если есть какие-то сомнения, предположи хотя бы наличие духа, – ограничился Таинственный Остов. – Пусть я буду метафизическая субстанция… говорящая метафизическая субстанция. В конце концов язык – тоже форма существования. Можно ведь существовать в языке, не существуя в действительности: так многие делают. Разреши и мне.
– Пожалуйста, – разрешил Петропавел, – существуй как хочешь.
– Что ты имеешь в виду? – заинтересовался дотошный собеседник.
– Это и имею в виду.
– Так-таки это и имеешь?
– О господи, – вздохнул Петропавел, – как с тобой трудно говорить!
– Можно подумать, что говорить вообще – просто! Я, например, не всегда понимаю, почему люди так смело берутся говорить: ведь подчас такое может подразуметься, о чем ты ни ртом, ни ухом не ведаешь!
– Само собой, – наставил его Петропавел, – ничего подразуметься не может. Каждый отдает себе отчет в том, что он подразумевает и подразумевает ли что-нибудь вообще.
– Что ты имеешь в виду? – испугался Таинственный Остов.
– Я всегда имею в виду то, что говорю. – Петропавел утомился.
– Можно подумать, что это всегда от тебя зависит. Ты, значит, умнее Тютчева?
– Я? Умнее… Тютчева? Но я такого не говорил. – А при чем тут Тютчев?
– Допускаю, что не говорил. Но подразумевал. Тютчев сказал: «Нам не надо предугадать, как наше слово отзовется». А послушать тебя – так получается, что предугадать это очень легко. Стало быть, ты умнее Тютчева.
Петропавел молчал.
– Умнее Тютчева считают себя только дураки. Ты дурак, – поставил диагноз Таинственный Остов.
– Слушай, – довольно миролюбиво предложил Петропавел, несмотря на то что злость уже била в нем ключом, – давай разойдемся по-хорошему. Мне совершенно не улыбается выслушивать все это… тем более от собеседника, которого я даже не вижу.
– Что ты хочешь этим сказать? – возмутился Таинственный Остов. – Бестактно намекать на физические недостатки кому бы то ни было!
– Во-первых, не тебе говорить о такте. – Петропавел позволил-таки себе минимальный протест. – А во-вторых, я ни на что не намекал. Мне это вообще не свойственно.
– Да уж, – почти успокоился Таинственный Остов. – Я заметил, что ты чрезвычайно плоско выражаешь свои мысли. Стало быть, ты вряд ли достиг совершенства в искусстве импликации… то есть подразумевания. И не удивительно, что, имплицируя… подразумевая какой-нибудь смысл, ты хорошо отдаешь себе в этом отчет. Простые смыслы легко имплицировать: например, вместо просьбы «Подайте, пожалуйста, соль» можно обойтись замечанием «Суп совсем несоленый» – и вам сразу подадут соль. Но это чепуха. Впрочем, более тонкие вещи тебе недоступны.
– Ну-ну… – поощрил его Петропавел, потому что Таинственный Остов ненадолго умолк. – Продолжай обвинения.
– Я тебя ни в чем не обвиняю, я даже завидую тебе как человеку поверхностному. Блаженны нищие духом – и блаженны, пусть в меньшей степени, – нищие ухом, которые и не ведают, в какие дебри может завести язык, которые вовсе не слышат доброй половины смыслов в доброй половине слов! Они просто открывают рты – и говорят, точно так же как открывают те же рты – и едят… А язык – деликатная штука, правда, знают об этом немногие – горстка хороших поэтов. Ты к ним не относишься.
– Пусть это тебя не волнует, – пожелал собеседнику Петропавел.
– Меня это и не волнует, – успокоил его Таинственный Остов. – Меня долгое волнует – Язык. На носителей языка – и на тебя в том числе! – мне начхать. А вот Язык – жалко. Язык – это растение нежнейшее, капризнейшее! Он – как садовая роза, которая хранит в себе воспоминания о бесконечном числе метаморфоз, о непрерывных преобразованиях многих и многих поколений дикой розы. И Язык – он тоже кое-что хранит в себе: национальную историю, национальную культуру. Ведь у слов прекрасная память… Они помнят, кто, когда, сколько раз и в каких значениях употреблял их с тех самых пор, как стоит мир. Любое слово обросло уже бессчетным множеством смыслов – и его невозможно употребить так, чтобы реализовался лишь один из них. А потому независимо от того, хочется мне подразумевать или нет, я все равно что-нибудь да подразумеваю… Ты же пытаешься низвести язык до первобытного уровня, отбрасывая все, что он накопил в себе. Ты берешь в руки ножницы и начинаешь постригать лепестки розы. Какое счастье, что Язык не принадлежит тебе! Впрочем, он не принадлежит никому: его можно портить, но испортить нельзя…
Петропавел сколько возможно выдержал возникшую паузу и окликнул Таинственный Остов – сначала один раз, потом еще… Но невидимый собеседник исчез, унеся с собой тайный смысл своих смутных слов.
– М-да, – обобщил Петропавел. – Воще Бессмертного хоть и нет, но он виден! А этот и не виден даже: поди пойми – есть он или его нет… – И неожиданно заключил: – Хорошо если бы он – был!
…Петропавел уходил от моря. Он опять забыл спросить дорогу к Слономоське и шел наугад. Ни с того ни с сего ноги начали разъезжаться в разные стороны: кажется, под песком был лед. Вскоре песок совсем исчез, и с величайшей осторожностью Петропавел зашагал уже просто по льду. Внимание его привлек какой-то предмет впереди. Петропавел двинулся к нему и издалека еще различил табличку вроде тех, что ставятся на газонах.
На табличке было написано КАТОК СОЗНАНИЯ, под этой надписью три стрелки указывали разные направления. Против каждой стрелки значилось: направо – «Получишь то, что захочешь, но не удержишь»; налево – «Удержишь то, что получишь, но не захочешь»; прямо – «Захочешь то, что удержишь, но не получишь».
Петропавел просто обомлел от такого выбора: сначала ему показалось, что учтены все возможные выходы из ситуации, в которую он попал, – и дело только за тем, чтобы правильно определить направление будущего движения. Глаза разбегались от предложений. Однако, поразмыслив, он понял, что по существу выбора никакого и не предлагается, потому как в конце концов все равно ничего не приобретаешь. В первом случае -приобретенного не удерживаешь, то есть как бы и не получаешь, во втором – сам же от приобретенного отказываешься за ненадобностью, а в третьем – цепляешься за то, чего тем не менее не имеешь. Иными словами, все одинаково плохо – и, куда ни идти, результат тот же… Это был очевидный тупик. Петропавел уставился на табличку в полном замешательстве.
Внезапно посетила его мысль, что кто-нибудь, может быть, сейчас наблюдает за ним и посмеивается. Мысль погостила в сознании и улетела, а на смену ей прилетела вьюга. Однако не успел Петропавел испугаться, как вьюга кончилась, не внеся, вроде бы, никаких изменений в ландшафт. Впрочем, табличка уже отвернулась от Петропавла – и ему пришлось зайти с другой стороны, чтобы еще раз прочесть написанное: КАТОК СОЗНАНИЯ… Но теперь получалось, что все стрелки указывают в направлениях, прямо противоположных первоначальным.
Он сел на лед и задумался. Безразлично, куда идти: никакой выбор не будет правильным. Но почему, почему же так? И есть ли вообще надежда выбраться из этой местности, где в полном беспорядке чередуются леса, моря, ледяные пустыни и где обитают бредовые существа, вызывающие только самые смутные представления о виденном и слышанном и во всякой критической ситуации, словно волшебным щитом, прикрывающиеся искусством?
«Искусство… – горько подумал Петропавел, – это оно шутит со мной! Это оно подстерегает человека на каждом шагу -полузабытым воспоминанием, всплывшей в сознании книжной подробностью и еще… обмолвкой, недослышкой, которые тоже искусство! Это оно заводит в дебри и морочит там. И человек, замороченный им, уже не видит мира таким, каков он есть. А что же дается ему взамен этого мира?
Получишь то, что захочешь, но не удержишь… Это же очень точно! Все, чего ни пожелаешь, дает тебе искусство, но дает не насовсем, подержать дает – а задумаешь оставить у себя, смотришь – фюить! – улетело, исчезло, растаяло: ищи свищи!.. Вот же, только что было у тебя все – и даже такое было, о чем и мечтать нельзя! – что ж случилось? Как выпустил ты это из рук, как не заметил, что сразу все – выпустил, потерял, утратил? Поглядишь – нет ничего, и старуха сидит у разбитого корыта… Золотая рыбка искусства!
Удержишь то, что получишь, но не захочешь… И это верно, ах как верно! Можно исхитриться – и силою ума или просто силой проникнуть в самую тайну искусства, в святилище его, но вот проник: где же тайна? Ее нет, а то, что ты держишь в руках… черепичный обломок, несколько строк на бумаге – это не нужно тебе, потому что – зачем? Ты ведь хотел другого и о другом мечтал, когда тайком входил в святилище. Так что же держать в руках черепичный обломок, несколько строк на бумаге – брось их: тайны в них не больше, чем в волшебном фонаре, который тоже можно разобрать – посмотреть, что там внутри, и удивиться: только- это?..
Хрупкая веточка искусства!
Захочешь то, что удержишь, но не получишь… Что ж, правда и это – горькая правда, горчайшая из всех правд. Потому что именно так: если и захочешь, и возьмешь, и будешь держать в руках твоих, то не получишь все равно: принадлежало тебе и считалось твоим, а твоим – не было. Ничьим не было, но время, но ветер прибивали это то к одному берегу, то к другому – вот и к твоему берегу, да не твое!.. Владей день один, владей годы, владей жизнь целую – все равно не твое, не приручишь: да, я с тобой, и больше: да, я люблю тебя, но это ровным счетом ничего не значит – и нет тебе в этом ни радости, ни покоя… Синяя птица искусства!»
Так, поняв все сразу, Петропавел двумя пальцами крутанул табличку вокруг оси – и вот она завертелась, как рулетка, и быстрее, чем рулетка: 27 красный! – мимо, 42 черный! – мимо – эй, смотрите, кому повезет, если повезет кому-нибудь в этой игре, где ставки не равны, а выигрыши равны, и они -проигрыши!.. И не глядя больше на это вращение, Петропавел снова двинулся наугад: не все ли равно, милое искусство, коварное искусство!.. – и уже не увидел, как Всадник-с-Двумя-Головами убрал табличку за пазуху с поверхности льда.
Лирическое исступление
А был когда-то розоват Наш белый свет – и, между нами, Приятно было называть Своими – вещи – именами И говорить: кольцо, стрела И поплавок из пенопласта! – Какие громкие дела, Какое легкое богатство… Вот так, длина, и ширина, И угловатость, и овальность: Мы называли имена – И вещи тут же отзывались. Но искоса, не в полный глаз, Все это время жизнь другая Хитро разглядывала нас, Наш смутный час подстерегая, – Искусство… Кто же виноват, Что ты всегда шутило с нами И заставляло называть Чужими – вещи – именами! –думает кто-нибудь, и, должно быть, не без основания: «Ах искусство, искусство, – говорит он, – что ты постоянно сбиваешь нас с толку?
Только остановишь взгляд на Шармен, обнимающей и целующей Бон Жуана, как она уже обнимает и целует, скажем, Летучего Нидерландца! И куда-то при этом исчезает Бон Жуан – так и непонятно до конца, кто он, зачем он был? А то успеешь подружиться с кем-нибудь, – скажем, с Гуллипутом и следишь за ним, но все равно ничегошеньки о нем не знаешь, не узнаешь его при следующей встрече.
Милое искусство, коварное искусство!.. Зачем втягиваешь ты в круг все новые и новые имена, затопляешь жилище наше Азовским морем, разбрасываешь перед нами нечестное свое лото, где карточки с музыкальными инструментами покрывают квадраты с изображением овощей!.. В твоем летучем доме у нас кружится голова, нас швыряет из стороны в сторону – ради чего, милое искусство, коварное искусство? Ведь мы и так уже свободны, и так готовы согласиться с любым предложением, пуститься в любую твою авантюру. Пощади нас, покажи нам хотя бы одну путеводную звезду! Мы устали, мы не знаем куда идем, мы забыли свои имена и не помним своих воспоминаний! А маячащая уже поблизости Спящая Уродина – не велик приз! Или этим хочешь ты расплатиться с нами? Одним мгновенным горьким поцелуем на бегу?
Хорошо, тебе удалось уговорить героя идти к этой цели, но нас-то ты не уговоришь! Мы-то ведь несклонны к тому, чтобы совершать дикие и чудовищные поступки!»
И улыбается милое искусство, коварное искусство: ах, Вы не склонны? ах, Вас не уговорить? ах, Вы так уверены в том, что искусство подражает жизни, а не наоборот?
Давайте же послушаем Дж. Серля – одного из самых тонких лингвистов нашего времени: «Предположим, что некий человек идет в универсам со списком, составленным его женой, где указано, что он должен купить; в этом списке содержатся слова «бобы, масло, бекон, хлеб». Предположим далее, что по пятам за ним все время, пока он ходит с тележкой по магазину и выбирает указанные товары, следует сыщик, который записывает все, что он берет. При выходе из магазина у покупателя и у сыщика будут идентичные списки. Но функции этих двух списков будут совершенно различны. Цель того списка, который находится у покупателя, состоит в том, чтобы, так сказать, «приспособить» мир к словам: этот человек должен согласовывать свои действия со списком. Цель списка, находящегося у сыщика, – в том, чтобы «приспособить» слова к миру: сыщик должен согласовывать список с действиями покупателя. Это, в частности, сказывается на различной роли «ошибок» в этих двух случаях. Если сыщик, придя домой, неожиданно осознает, что тот человек купил свиные отбивные вместо бекона, то он сможет просто зачеркнуть слово «бекон» и записать «свиные отбивные». А вот если покупатель придет домой и его жена укажет ему, что он купил свиные отбивные, хотя ему нужно было купить бекон, то он не сможет исправить свою ошибку, зачеркнув слово «бекон» и записав вместо этого «свиные отбивные». Я предлагаю назвать этот аспект различием по направлению приспособления. Список сыщика характеризуется направлением приспособления «слова к миру», список же покупателя обладает направлением приспособления «мира к словам».
Итак, бывают ситуации, когда не слова приспосабливаются к миру, а наоборот. Например, когда преступник совершает преступление, суд ищет в кодексе статью, к которой можно приспособить это преступление. Или, когда мы встречаем на вокзале незнакомого человека, чье словесное описание получили от друзей, мы тоже приспосабливаем внешность сошедших с поезда пассажиров к имеющимся в нашем распоряжении словам. Или, когда приходим получать зарплату, кассир выдает нам сумму, приспосабливая ее к цифровому выражению слов, означающих размер нашей зарплаты. И наконец, когда мы говорим о воспитательной роли литературы…
Значит, не только литература может воспроизводить жизнь, но и жизнь может воспроизводить литературу? Когда уже в начале нашего века Оскар Уайльд в предисловии к роману «Портрет Дориана Грея» сформулировал тезис о том, что не искусство отражает жизнь, а наоборот, читатели отнеслись к этому как к парадоксу. Сегодня же Оскара Уайльда можно, скорее, обвинить в чрезмерной категоричности, чем в пристрастии к лингвистическим шалостям. Да и сам он доказал, что не шутит, когда, вставив зеленую орхидею в петлицу своему герою, вынудил английских модников последовать его примеру – и зеленая орхидея в петлице фрака стала считаться на время признаком особенной утонченности.
В таких ситуациях можно понять Жизнь: ей с собой немножко скучновато, хочется чего-нибудь на стороне, чего-нибудь эдакого. И она обращается к Литературе с просьбой о зеленой орхидее в петлицу. А Литература щедра: в ней сколько угодно зеленых орхидей, целый сад зеленых орхидей!
Как тосклива жизнь без зеленых орхидей!.. Иногда кажется, и живем-то мы именно потому, что предвкушаем чудесные перемены. Завтра, думаем мы, случится такое, чего не случалось никогда, ну, по крайней мере, ни позавчера, ни вчера, ни сегодня уж точно не случалось! А когда мы устаем ждать, мы приходим на поклон к Литературе – и в ней проживаем те самые жизни, которых не знали и не узнаем в действительности. Правда, чаще всего наш жизненный опыт не только не помогает, но и мешает нам прожить эти жизни. Нужен какой-то другой опыт…
Глава 11. До и после бревна
Ледяная пустыня кончилась гораздо более внезапно, чем началась: Петропавел и дошел-то всего-навсего до горизонта, а за ним сразу открылось летнее поле, у обочины которого он увидел маленькую упитанную рыбку. Рыбка была обута.
– Шпрот-в-Сапогах, – раскланялась рыбка, и Петропавел, приветливо улыбнувшись, представился тоже. Потом, чтобы его сразу не заговорили, спросил:
– До Слономоськи далеко мне еще?
– Если пешком, то порядочно.
– А как можно по-другому? – с надеждой спросил Петропавел.
– Да по-всякому можно. Можно, например, камнем по затылку.
Петропавел пристально взглянул на рыбку:
– Вы такой злобный шпрот?
– Да нет! Это не я – это Дама-с-Каменьями. В-о-о-он она на вышке сидит. И пропускает лишь того, кто разгадает жуткую загадку одну.
Петропавел поглядел вдоль обочины и действительно увидел смотровую вышку.
– Шаг вперед – и Вы на том свете. Она меткая, как индеец. Правда, и добрая, как мать. Никогда без моего предупреждения не убивает.
– Может, как-нибудь… в обход? – поежился Петропавел.
– Не советую. Там с одной стороны – Волка-Семеро-Казнят, а на другой – вообще Дохлый Помер. Если только туда, где КАТОК СОЗНАНИЯ, но на катке Вы ведь побывали уже…
– А трудная загадка?
– Чертовски. Какая-то загадка Свинкса просто.
– Ладно, давайте загадку.
– Да вы что? А камнем? – Шпрот-в-Сапогах прямо-таки остолбенел.
– Ну, камнем же не сразу. Сначала идет загадка. Загадывайте.
– Вы даете! – восхитился Шпрот-в-Сапогах. – Подсказать отгадку?
– Благодарю Вас, я сам.
Шпрот-в-Сапогах заплакал и залепетал сквозь слезы:
– Сколько будет дважды два… четыре? – при этом он взял в руки два черных флажка.
– Я знаю несколько разгадок этой загадки. – Ни один мускул не дрогнул на лице Петропавла. – Классические варианты разгадок следующие: дважды два четыре будет зеленая дудочка или колбасная палочка…
– Довольно, довольно! – радостно закричал Шпрот-в-Сапогах и, схватив два красных флажка, принялся сигнализировать о чем-то на смотровую вышку.
– Кроме того, – невозмутимо продолжал Петропавел, – дважды два четыре будет детская считалочка, елочка-моталочка, бифштекс натуральный рубленый с луком, люля-кебаб с рисом, «Степь да степь кругом»…
– Хватит! – с испугом закричал Шпрот-в-Сапогах.
– И, наконец, – закончил Петропавел, – спросите у Дамы-с-Каменьями, не хочет ли она сама получить камнем по затылку?
Шпрот-в-Сапогах испуганно замахал красными флажками. В ответ со смотровой вышки тоже замахали красными флажками.
– Она благодарит Вас и говорит, что не хочет, – пролепетал Шпрот-в-Сапогах.
– Тогда привет ей ото всех – начиная с Бон Жуана и кончая Таинственным Остовом, – сказал Петропавел и шагнул на стерню.
– Погодите, – вслед ему закричал Шпрот-в-Сапогах. – Там есть одна тонкость! Это не просто поле – это АССОЦИАТИВНОЕ ПОЛЕ.
Но Петропавел даже не расслышал этого, так далеко он уже ушел. Идти было приятно – несколько настораживало, правда, полное отсутствие хоть какого-нибудь ветерка над полем. Тут Петропавел взял и запел хорошую походную песню, из которой почему-то получилось вот что:
Муравей, муравей в шапочке, в тюбетеечке – жалобно ползешь! Раз ползешь, два ползешь, три ползешь…И словно в ответ на это в атмосфере начались вдруг знакомые Петропавлу волнения – и понесся над полем богатырский пописк.
«Черт меня дернул запеть эту песню!» – ругал себя Петропавел: мысль о встрече с Муравьем-разбойником – да еще на открытом месте – привела его в ужас. Однако богатырский пописк все усиливался, и, не помня себя от страха, Петропавел хрипло выкрикнул в никуда:
– Эй, выходи на честный бой, Муравей-разбойник!
– Как бы не так! – богатырский пописк приобрел еле уловимые очертания слов. – В честном-то бою ты меня победишь. А ты вот попробуй в нечестном победи! Мне в нечестном бою нет равных.
Петропавел, едва держась на ногах, безуспешно пытался сообразить, что такое нечестный бой, как вдруг на краю поля появилась гонимая ураганным ветром и послушно, хоть и бесконвойно, продвигавшаяся вперед колонна, в составе которой ему удалось различить несколько знакомых фигур. Чем ближе подходила колонна, тем больше их обнаруживал Петропавел: Бон Жуан, Ой ли-Лукой ли, Белое Безмозглое, Пластилин Мира, Старик-без-Глаза, Гуллипут и дальше – Тридевятая Цаца, увеличивавшаяся до невероятных размеров, Всадник-с-Двумя-Головами, Смежная Королева, а за ней кто-то незнакомый (может быть, Тупой Рыцарь?), Воще Бессмертный – они понуро брели по полю, над которым уже вовсю свирепствовали стихии, и замыкающие – они летели! – Гном Небесный и влюбленный в небо Летучий Нидерландец…
В мгновенье ока Петропавел оказался возле колонны:
– Сколько вас? – воскликнул он.- Куда вас гонят?
– Свали в туман! – услышал он родной разнорегистровый голос Смежной Королевы. – Все мы – пленники Муравья-разбойника.
Петропавел просто озверел от этого сведения. Еще бы не озвереть: крохотная букашка, продукт народного суеверия – и так распоясаться! Мало того, что его и вообще-то не видно невооруженным глазом… стоп! Эта мысль показалась Петропавлу продуктивной. Вот что! Надо вооружить глаз! Только вооружив глаз можно победить Муравья-разбойника.
Теперь надо было срочно решить, какой именно глаз вооружить – правый или левый. Конечно, левый: левый у него единица, а правый – минус 0,5! Чтобы выиграть время и деморализовать противника, Петропавел громко крикнул в бурю:
– Эй, Муравей-разбойник! – голос его звучал сильно и нагло. – Если не хочешь честного боя, тогда я вооружаю глаз!
– Какой – правый или левый? – богатырски пропищал хитрый Муравей-разбойник. – Левый! – злорадно гаркнул Петропавел. – Ну, мне конец! – в богатырском пописке послышался ужас.
– Думаю, что да! – сухо, но громко крикнул Петропавел и захохотал.
Однако чем вооружать левый глаз? Ничего не было под рукой, а левый глаз уже разошелся и жаждал крови.
Внезапно в единственном глазу Старика-без-Глаза он увидел соринку и, как ни был занят размышлениями, заметил:
– У Вас соринка в глазу. – Замечание прозвучало вполне вежливо.
– А у себя в глазу бревна не видишь? – в обычной своей нахальной манере осведомился изнуренный старик.
– В каком глазу? – с надеждой крикнул Петропавел, перекрывая вой бури.
– Да вот же, в левом! – ответил старик и как бы между прочим добавил: – Глаз, вооруженный бревном, – страшная сила.
– Помогите! – все поняв, богатырским пописком пискнул Муравей-разбойник откуда-то с юго-востока – и навстречу богатырскому этому пописку Петропавел мощно метнул левым глазом свое бревно. Толстенное и длинное, оно с грохотом упало на землю, похоронив под собой Муравья-разбойника…
А из разоруженного левого глаза Петропавла упала на место этой бесславной смерти чистая слеза.
И стало тихо вокруг. И выросли цветы. И Гном Небесный запорхал с цветка на цветок, собирая в зеленую эмалированную кружку сладкий нектар.
– Выпьем за нашу победу в нечестном бою! – крикнул он бодро и единым залпом осушил кружечку. Прочие облизнулись…
А Петропавел вдруг начал ощущать в себе сильные перемены. Глазом, из которого выпало бревно, он видел мир совсем не так, как прежде. Ничто в его знакомых уже не казалось ему странным: ни размалеванная пустота на лице Белого Безмозглого, ни колебания в возрасте у Старика-без-Глаза, ни даже постоянно-переменный рост Гуллипута, ни повадки Шармен… А вот что это за незнакомое лицо – длинное и худое, похожее на лошадиную морду страшной доброты?
– Разрешите представиться… – начал Петропавел.
– Представлялись уже, – проворчал незнакомец. – Раньше ты меня просто не видел: у тебя бревно в глазу было. Таинственный Остов.
Петропавел бросился к нему на шею, а тот, отстраняясь, ворчал:
– Довольно… Ты же не Шармен, ей богу!
Между тем все вокруг увлеклись уже общим делом, больше не обращая на Петропавла внимания. Они подвязывали к выпавшему из его глаза бревну толстые канаты, чтобы отнести это бревно в надлежащее место и там учредить, как понял Петропавел по отдельным возбужденным возгласам, «Мемориальный Музей Бревна, Убивавшего Муравья-разбойника». Петропавла насторожила форма причастия: это было причастие несовершенного вида.
– Почему в названии вы употребляете причастие несовершенного вида? – обратился он к суетившемуся поблизости Гному Небесному.
– Потому что по отношению к несовершенным действиям употребляются глаголы и причастия несовершенного вида, – ответил эрудированный Гном. – А в данном случае никакого действия совершено не было.
– Что значит – не было, – растерялся Петропавел, – когда было? Я ведь убил Вашего Муравья-разбойника и спас вас от плена и гибели!
– А ты всегда лезешь не в свое дело, мы уж к этому привыкли, – походя отчитал его Гном Небесный. – К счастью, здешние события не зависят от тебя, так что ты не убил, а убивал, не спас, а спасал… то есть события происходить-то происходили, да не произошли. Муравей-разбойник жив и, даст бог, здоров, наш священный ужас, как и водится, неизбывен, – стало быть, ничто не изменилось! Правда, у тебя из глаза наконец выпало бревно, но это твои проблемы… А у нас, как говорится, и волки сыты, и овцы в теле.
– Чему же вы все тогда радовались? – спросил Петропавел.
– Жизни… – развел руками Гном Небесный. – Вечной Жизни и… многообразию форм ее проявления. Не понимаю, что тебя тут смущает.
– А зачем вам в таком случае мемориальный музей? Ведь мемориальный музей – это увековечивание памяти о ком-то умершем… У вас же никто не умер!
– Какой-какой музей? – переспросил Гном Небесный. -Произнеси-ка это слово по слогам!
– Ме-мо-ри-аль-ный…
– Мы такого музея не учреждаем. Мы учреждаем музей Мимо-реальный. У нас тут все мимо-реальное.
И Гном Небесный стремглав полетел вслед за остальными, уже тащившими куда-то мимореальное бревно.
Петропавлу ничего не оставалось делать, как отправиться своей дорогой. Чтобы не думать о случившемся, он снова стал напевать, правда, теперь уже совсем безобидную песенку:
Жир был у бабушки – Смерть от глюкозы! Вот как, вот как – Смерть от глюкозы!Он хотел задуматься над горькой судьбиной неизвестно откуда взявшейся в песне жирной бабушки, но не успел, потому что внезапно стемнело. Сделалось как-то жутковато, и, чтобы убедить себя в том, что бояться нечего, Петропавел громко крикнул в темноту:
– Ау-у-у!
– Уа-а-а! – тут же раздался из сумерек детский плач.
Петропавел вздрогнул: детского плача он как-то совсем не ожидал. Не хватало только наткнуться на конверт с грудным младенцем! Он осторожно двинулся в направлении плача, внимательно глядя под ноги. Плач стих. Петропавел остановился: может быть, ребенок не один, может быть, он с матерью? Тогда глупо к нему идти. Не пойду.
– Уа-а-а! – снова донеслось спереди.
– Это я зря, едва ли… – громко сказал Петропавел себе и услышал ответ:
– Слесаря вызывали? – причем голос был хриплым.
Вопрос озадачил Петропавла. Не вполне понятно было, как мог оказаться ночью в поле слесарь и что с этим слесарем тут делать? Вероятно, к тому же у слесаря был ребенок: ведь Петропавел отчетливо слышал детский плач. А может быть, это не слесарев ребенок и слесарь просто украл у кого-нибудь ребенка?
– Мы не вызывали слесаря! – строго ответил Петропавел, нарочно употребив множественное число: для острастки, и еще более строго спросил: – Слесарь, это Ваш ребенок или нет?
– Дед! – отозвался слесарь.
Петропавел не поверил слесарю. Можно, конечно, допустить, что он тут со своим ребенком и дедом, но плакал явно не дед, а ребенок!
– Почему же у деда детский голосок? – проницательно поинтересовался Петропавел.
– Дед сам невысок! – Кажется, слесарь был балагуром.
Тогда Петропавел, стараясь, чтобы голос его прозвучал особенно мужественно, решил все-таки внести ясность в положение дел.
– Вот что, слесарь, – сказал он. – Все это очень странно. Почему Вы явились сюда с семьей? Может быть, Вы… кто-то другой, а не слесарь?
– Дорогой, я не слесарь! – ответил слесарь.
– Вы надо мной издеваетесь?
– Раздевайтесь!
Тут Петропавел несколько струхнул. Прозвучавший в темноте приказ напоминал начало разбойничьей сцены.
– Вы, что же, серьезно? – спросил Петропавел.
На сей раз ответ был уже и вовсе невразумительным:
– Вы тоже Сережа.
Петропавел задумался, почему это он Сережа и кто тут еще Сережа, кроме него, и примирительно пробормотал:
– Наверное, Вы отчасти правы… В какой-то степени каждый из нас Сережа, а если так, то, должно быть, и я, как другие, тоже немножко Сережа (»Что я несу! – думал он .- Это просто бред сумасшедшего!»). Я рад, но мне очень…
– Оратор, короче! – оборвали из тьмы.
Петропавел умолк, ожидая худшего. Худшего не происходило.
– Тут кто-то спрятался!.. – игриво произнес он, несмотря на то, что душа у него ушла в пятки.
– Никто тут не стряпает, – ответили ему. – Стряпать тут не из чего. Это АССОЦИАТИВНОЕ ПОЛЕ. В нем не растет ничего, кроме ассоциаций.
– АССОЦИАТИВНОЕ ПОЛЕ? Странно… – Петропавел набрался смелости и спросил: – Простите, с кем я все-таки говорю?
– Хрю-хрю! – раздалось над полем.
– Там у Вас еще и поросенок?
– Нет, – в голосе послышалась усмешка. – Паросенок прибывает в шесть ноль-ноль.
– Куда прибывает? – не понял Петропавел.
– К южной окраине поля. Тут все очень продумано: восточная окраина охраняется Дамой-с-Каменьями. К северной окраине, тоже в шесть ноль-ноль, прибывает Паровоз, к западной – там начинается озеро – Пароход, а к южной – Паросенок. Тут три вида парового транспорта.
– Паросенок… – задумчиво повторил Петропавел и признался: – Никогда не слышал о таком транспорте.
– Не думай, что ты слышал обо всем, что происходит в мире, – посоветовали из тьмы. – Это самое банальное заблуждение.
– Ну да!.. – воскликнул вдруг Петропавел. – Я вспомнил: даже выражение есть странное «Класс езды на паросенке»! Я никогда его не понимал.
– Вот видишь, и выражение есть!..
– Но все-таки с кем я разговариваю? Это я к тому, что Таинственный Остов тоже сначала был не виден, а потом… виден стал.
Во тьме вздохнули:
– Меня ты никогда не увидишь. Я – Эхо. Странно, что ты до сих пор этого не понял.
– Эхо? – Петропавел был потрясен.
– Ты что-нибудь имеешь против?
– Да нет… Я только привык думать, что Эхо лишь повторяет чужие слова – даже не слова, а окончания слов.
– Интере-е-есно, – обиженно протянуло Эхо, – на основании чего это ты привык так думать? Отвыкни!.. Повторяет слова не Эхо, а попугай. Не надо путать Эхо с попугаем.
– Извините меня… – Петропавел сконфузился. – Дело в том, что всегда, когда я раньше слышал Эхо…
– Раньше ты, наверное, плохо слышал, – посочувствовали в ответ. – Эхо никогда и ничего не воспроизводит в том же самом виде, в котором получает. Точность – въедливость королей, и точность скучна. «Ау» – «уа», «Вы, что же, серьезно?» – «Вы тоже Сережа», «Я рад, но мне очень…» – «Оратор, короче!» – если это и повторы, то творческие: пусть довольно бедные, но ничего более интересного ты не произнес. Повтор хорош тогда, когда он смысловой: просто пересмешничать – глупо… Ну-ка, скажи что-нибудь, да погромче!
– Э-ге-ге-гей! – охотно заорал Петропавел.
– Спаси-ибо, – уныло протянул Эхо. – И что прикажешь с этим делать?.. Вот тебе наглядный пример автоматического речепроизводства: в подобных ситуациях люди всегда кричат «ау» или «эге-ге-ге-гей!» чисто механически, не отдавая себе в этом отчета. Язык владеет человеком… – Эхо вздохнуло.
– Человек владеет языком! – с гордостью за человека сказал Петропавел.
Эхо хмыкнуло.
– На твоем месте я не делало бы таких заявлений: право на них имеют очень немногие. Большинство же просто исполняет волю языка, подчинено его диктатуре – и бездумно пользуется тем, что подбрасывает язык. Мало кто способен на преобразования.
– Подумаешь, преобразования! – расхорохорился Петропавел. – К чему они? Достаточно просто знать точное значение слова.
– У слова нет точного значения: ведь язык – это тоже лишь Эхо Мира. – Эхо помолчало и предложило: – Ну что, сыграем напоследок?
– Опять играть… Во что?
– Ты выкрикиваешь что-нибудь в темноту, а я подхватываю.
Теперь Петропавел подумал, прежде чем кричать, и выкрикнул довольно удачно:
– Белиберда!
– Бурли, бурда! – донеслось в ответ. – Так говорят, когда варят какую-нибудь похлебку: это заклинание, чтобы она быстрее варилась: «Бурли, бурда, бурли, бурда, бурли, бурда!»
– Понятно, – сказал Петропавел. – Еще выкрикивать?
– Выкрикивай все время!
Тут Петропавел усмехнулся и выдал:
– Асимметричный дуализм языкового знака!
– А Сима тычет дулом вниз, разя его внезапно! – незамедлительно откликнулось Эхо.
– Ничего не понятно, – придрался Петропавел. – Кто такая Сима? И кого она разит?
– Ты просто не знаешь контекста. А вне контекста слова воспринимать бесполезно: они утрачивают смысл… Значит, идет бой!.. – воодушевилось Эхо.
– Где идет бой? – не успел включиться Петропавел.
– В контексте!.. В контексте может происходить все, что хочешь. Мне угодно, чтобы в контексте шел бой. И Сима – предположим, есть такая героиня, известная врагам своей отвагой и беспощадностью, и зовут ее Сима – так вот, Сима скачет на коне в первых рядах бойцов. И вдруг она обнаруживает, что в винтовке кончились патроны. Сима в отчаянии. А бой продолжается. Неожиданно Сима замечает, как прямо под ноги ее коню бросается враг. Тут бы и застрелить его отважной Симе, но вот беда: нет патронов! И тогда сторонний наблюдатель, – например, ты! – видит, как враг прицеливается, чтобы убить безоружную Симу, а Сима тычет дулом вниз, разя его внезапно! – Эхо умолкло, тяжело дыша.
– Какая-то глупая история получилась, – оценил рассказ Петропавел.
– Каков материал – такова и история, – обиделось Эхо. – Интересно, на что ты рассчитывал, когда выкрикивал эту чушь?
– Не чушь! – Петропавел высоко ценил дружбу. – Так Белое Безмозглое всегда говорит. А все что касается этой невероятной легенды про Симу…
Эхо засопело, – видимо, Сима все-таки была дорога ему как тема – и закапризничало:
– Нет. С Симой так было!
– Бред. Сивой Кобылы! – неожиданно для себя отыгрался Петропавел и удивился: это его собственное маленькое ассоциативное поле откликнулось в нем. И тотчас же замкнулись все цепочки, для которых раньше не хватало звеньев – полузабытых, перемешанных, переиначенных, то есть в конце концов переработанных, образов, пришедших из книг, пословиц и поговорок, устойчивых выражений, ставших частью его фантазии, его памяти, его речевого опыта, его юмора и его ошибок…
И тогда он рассмеялся навстречу Эху, а Эхо рассмеялось навстречу ему, потому что оба они поняли друг друга: фантазия свободна, она – золотая бабочка, живущая один день, один миг: взмах крыльев – и прощай! Она уже другая, уже изменилась, превратилась в маленький цветок, который раскрылся на мгновение – и нет его, пропал, осыпался, а лепестки роем белых облачков плывут по небу: одно – бабочка, другое – цветок, третье – лента, четвертое, пятое, шестое…
И начался рассвет, и выкатился оранжевый бубен солнца, и мир заплясал под веселую музыку маскарада – зыбкий, неуловимый, чудесный!
А ровно в шесть к южной границе АССОЦИАТИВНОГО ПОЛЯ на всех парах примчался прекрасный розовый Паросенок и перекликнулся с Паровозом у северной границы и Пароходом у западной. Он был новеньким, этот Паросенок! И Петропавел вскочил на него, а с Петропавла, в свою очередь, соскочил кто-то маленький и лохматый, очертя голову ринувшись назад по АССОЦИАТИВНОМУ ПОЛЮ: это был небольшой медведь, который наступил Петропавлу на ухо еще в детстве и только теперь слез. А Паросенок загудел и со страшной скоростью понесся вперед – у Петропавла даже дух перехватило: он никак не ожидал, что может показать такой класс езды на Паросенке!
Глава 12. Мания двуличия
Паросенок развил немыслимую скорость: Петропавел даже удивился, когда увидел, что – взмыленный и задыхающийся – их все-таки догнал Гном Небесный: он молча сунул ему в руку какую-то бумажку и сразу же безнадежно отстал. «Следить за тобой прекращаю, – было написано там, – невозможно угнаться. Гном…»
Паросенок доставил Петропавла на площадь какого-то города, в котором, казалось, никто не жил. Петропавел огляделся и наугад отправился по одной из улиц. Чем дальше он шел по этой улице, тем отчетливее слышал гул, по-видимому, толпы. Неожиданно улица сделала поворот – и Петропавел увидел еще одну, очень широкую, улицу: она была запружена людьми, которые никуда не двигались. Мало того, что они заполнили мостовую, они еще высовывались изо всех окон и свисали со всех балконов.
– Что случилось? – спросил Петропавел у кого попало, и этот кто попало возбужденно забормотал:
– Дело в том, что кого-то водят по улицам: наверное, это напоказ, что в нашем НАСЕЛЕННОМ ПУНКТИКЕ – редкость.
– Слона! – подсказал Петропавел. – По улицам слона водили…
– Если бы слона! – не дослушал кто попало. – Вы только посмотрите на него, попробуйте протолкнуться!
Петропавел попробовал и протолкнулся, – правда, не без труда. На маленьком Пятачке свободного пространства какие-то ребята действительно водили по кругу существо, производившее очень двойственное впечатление. В общем-то, на первый взгляд, просматривалось отдаленное сходство со слоном, но, присмотревшись, вы уже не увидели бы этого сходства и сказали бы, что существо, скорее, напоминает домашнее животное, из мелких. Оно не то было, не то не было покрыто шерстью, не то имело, не то не имело хобот и казалось не то агрессивным, не то совершенно миролюбивым. В сознании Петропавла мелькнула не вполне отчетливая ассоциация с Гуллипутом, но он не смог удержать ее и стал просто смотреть, как существо это маленькими кругами водили.
– Чего это вы его тут водите? – спросил Петропавел.
– А они в диковинку у нас! – раздался подготовленный ответ.
– Кто?
– Да вот такие, как этот.
Между тем водимое существо выглядело уже изрядно замученным. Петропавел изо всех сил сосредоточился на нем и внезапно вычислил:
– Да это же Слономоська, путь к которому долог и труден!..
– Ну, слава богу! – ответило существо и, обратившись к толпе, заявило: – Вот вам простой логический пример того, как некто, предварительно обдумав, кто такой Слономоська, искренне принимает меня за Слономоську, поскольку считает, что я Слономоська, каковым я de facto и являюсь в его глазах.
– Оно разговаривает! – раздались отовсюду крики ужаса – и в панике люди бросились врассыпную: миг – и улица опустела.
– Вы по какому вопросу? – сразу поинтересовался Слономоська.
– Спящая Уродина, – лаконично ответил Петропавел, понимая гнев Слономоськи по поводу глупости людей. Слономоська вздрогнул:
– А что с ней?
– Ничего-ничего, – счел необходимым успокоить его Петропавел. – Просто я хочу попросить Вас проводить меня к ней… или рассказать, как пройти. Я должен поцеловать ее.
– Спящая Уродина – моя невеста, – неожиданно сообщил Слономоська. – Я поставлю ее в известность об этом после сна.
– Поздравляю Вас, – пролепетал Петропавел, не веря своим ушам. – Я видите ли, и не собирался на ней жениться: только поцеловать – и все…
– Целовать без намерения жениться – свинство! – гневно выкрикнул Слономоська.
– Да просто так нужно, поймите! По преданию… – оправдывался Петропавел.
– В тексте предания упомянуто Ваше имя? – осведомился Слономоська.
– Еще не хватало! – не сдержался Петропавел.- Слава богу, нет!..
– Ну, милый мой… Зачем же Вы берете на себя такие полномочия? Вы напоминаете мне человека, который, случайно завидев судно, готовое к спуску на воду, разбивает о его нос бутылку шампанского и провозглашает: «Нарекаю это судно «Королева Элизабет», после чего судно все равно остается безымянным, потому как дать ему имя может не кто угодно, а только тот, кому предоставлены соответствующие полномочия».
– Но я не сам решил целовать Спящую Уродину! Так решил народ. Мне-то уже, во всяком случае, это удовольствия не доставит.
Слономоська заплакал и запричитал:
– Это свинство с Вашей стороны – так отзываться о ней! А целовать без удовольствия – дважды свинство. Вы свинья, голубчик! Даже, две свиньи.
– Прекратите истерику, – сказал Петропавел. – Спящая Уродина и не заметит, кто ее поцеловал. Она проснется после этого. А во время поцелуя она все еще будет спать как мертвая. И видеть сны.
– Да она и не проснется от Вашего поцелуя, – успокоился вдруг Слономоська. – В предании говорится: «…и поцелует Спящую Уродину как свою возлюбленную». Вам так не поцеловать.
– Так ее никому не поцеловать, – обобщил Петропавел. – Трудно предположить, что в нее кто-нибудь влюбится.
– В Вас просто абсурдности маловато для такого предположения. – После этого заявления Слономоська, кажется, почувствовал себя отчаянным парнем и бросил Петропавлу в лицо: – Я влюблен в Спящую Уродину.
Петропавел смутился:
– Прошу прощения… только я что-то не соображу, почему бы Вам самому не поцеловать ту, в которую Вы влюблены. Слономоська сразу весь сник:
– Видите ли… я бы хотел, чтобы Вы меня правильно поняли… я не могу: это как-то уж слишком само собой разумеется. А все, что слишком само собой разумеется, идет вразрез с моей природой. Природа моя ужасно противоречива.
– И – что же? – Петропавел ничего не понял.
– Ну… и… Дело в том, что у меня тяжелое наследственное заболевание – мания двуличия. Все, что не содержит в себе противоречия, исключено для меня. Я влюблен в Спящую Уродину и хочу жениться на ней, но, поскольку именно такое положение дел не противоречит поцелую, как раз он-то для меня и невозможен.
– Это настолько серьезно? – спросил Петропавел.
– Очень, – заплакал Слономоська. – Когда я понял, что могу сделать Спящую Уродину несчастной, если предложу ей жизнь без поцелуев, я решил покончить с собой. Но и это оказалось невозможным. Я так и не сумел решить, кого убить в себе -Слона или Моську: ведь в соответствии с моей противоречивой природой, убив одного, я должен был сохранить жизнь другому. И я понял тогда, что весь я не умру.
– М-да, – сказал Петропавел. – Печальная история. А чего Вы на меня-то взъелись, если сами не собираетесь целовать Спящую Уродину?
– Но ведь Ваша природа не столь противоречива! Для Вас ненормально целовать не по любви? Поэтому, прежде чем целовать Спящую Уродину, Вы, как нормальный человек – а я надеюсь, что передо мною нормальный человек! – обязаны влюбиться в нее. В противном случае я растопчу Вас. – Петропавел посмотрел на страшного Слономоську и понял, что тот растопчет. – Однако влюбиться в нее Вы, конечно, не сможете. Она страшна, как смерть.
– Не скажите, – задумчиво возразил Петропавел. – Смерть страшнее. – Слономоська улыбнулся, восприняв это заявление как комплимент Спящей Уродине, а Петропавел с грустью продолжал: -Но скорее уж Вы уговорите меня жениться на ней – это все-таки во многом внешняя сторона дела, – чем влюбиться в нее: тут уж сердцу не прикажешь!
Они помолчали. Ситуация казалась безвыходной.
– Я думаю, – очнулся вдруг Слономоська, – что при решении вопроса нам нужно исходить из интересов Спящей Уродины. Она все-таки женщина. Кого из нас она предпочтет?
– Конечно, Вас! – уверенно ответил Петропавел. – Страшных всегда к страшным тянет.
– Правда? – обрадовался Слономоська и рассмеялся.
Петропавел хотел было ответить, что, дескать, правда, но он не был так уж уверен в истинности последнего суждения и смолчал, а сказал следующее:
– Это можно узнать только от нее самой. Однако она спит, и черт ее разбудит!
– Не черт, а кто-то из нас, – уточнил Слономоська. – Если Вы, то я Вас растопчу.
– Я помню, – нарочито небрежно заметил Петропавел.
– Итак, что же мы имеем? – начал рассуждать Слономоська. – Во-первых, мы имеем меня, который любит и хочет жениться, но не может поцеловать. Во-вторых, мы имеем Вас, который хочет поцеловать и в крайнем случае, если я правильно понял Ваше заявление, жениться, но не может полюбить. Состав явно неполон. Нам необходим третий, который любит и хочет поцеловать, но не может жениться.
– А на кой он нам? – опять не понял Петропавел.
– Если предлагать Спящей Уродине выбор, то нехорошо предоставлять в ее распоряжение часть вместо целого. Так, если Вы угощаете меня яблоком, то в высшей степени невежливо предлагать мне уже надкушенный плод. Итак, есть ли у нас кандидатура? – Слономоська задумался и приблизительно через 12 часов воскликнул: – Она у нас есть! Это Бон Жуан.
Самое страшное для него – жениться, а любить и целовать он в крайнем случае согласиться может!
– Но она же спит! – иерихонской трубой возопил Петропавел. – Как же можно предлагать ей какой-то выбор – сонной?
– Спит, спит!.. – проворчал Слономоська. – Подумаешь, спит! Каждый спит! Проснется – опять уснет, ничего с ней не сделается. Вопрос, между прочим, для нее важен – не для нас! А не захочет проснуться – пусть так и спит, пока не подохнет во сне!
Петропавла, конечно, удивил такой тон в адрес невесты, но он сделал вид, что все в порядке.
– Есть более серьезная проблема, чем ее сон, – озабоченно продолжал Слономоська. – Положим, будить ее будет Бон Жуан: мы ведь не знаем ее – вдруг она злая, как собака? – а он умеет разговаривать с любыми женщинами. Но вот в чем дело: как объяснить все это Бон Жуану, если он вообще не вступает в беседы с лицами мужского пола? Может быть, нам переодеться?
– Я переодеваться не буду! – немедленно заявил Петропавел: ситуация и так показалась ему достаточно идиотской – не хватало еще сложностей с полом!
– Ну, а мне просто ни к чему, – самокритично сказал Слономоська. – Меня в любой одежде узнают.
Петропавел не понял, зачем тогда надо было это предлагать – тем более во множественном числе, но не проронил ни звука.
– Стало быть, для разговора с Бон Жуаном потребуется посредник. Им должна быть женщина.
– Шармен! – ехидно встрял Петропавел.
Слономоська поморщился, не услышав иронии:
– Для Шармен нужно создавать специальные условия, – например, посадить ее под стеклянный колпак, чтобы она не могла оттуда обнимать и целовать Бон Жуана, когда будет с ним говорить. А потом я и сам не хотел бы подвергать себя опасности, пока объясняю ей ее задачу. Так что Шармен отпадает.
– Белое Безмозглое! – продолжал издеваться Петропавел.
– Ни в коем случае! – простодушно воскликнул Слономоська. – Во-первых, она проспит все объяснения и заснет на собственных, а во-вторых, ни у кого нет никакой уверенности в том, что оно действительно женщина! Не думаю, чтобы Бон Жуан закрыл на это глаза. Тут Слономоська принялся метаться по площади, пока наконец не вскрикнул: – Вот она! Нашел!.. С Бон Жуаном будет говорить Тридевятая Цаца. Тем более что Тридевятая Цаца – моя невеста.
– Вторая? – поразился Петропавел.
– То есть как – вторая? – тоже поразился Слономоська.
– Погодите, погодите… – Петропавел очень заинтересовался. – Вы же сказали, что Спящая Уродина – Ваша невеста!
Слономоська задумался:
– Какой Вы, право!.. Прямо как на суде! На страшном суде!.. Но действительно, нечто в этом роде я говорил. Не знаю, как такое случилось… Видите ли, я не употребляю слов в жестких значениях: во-первых, они сами не очень любят жесткие значения, а во-вторых, это слишком обязывает. И трудно потом выкручиваться. А я имею обыкновение заботиться о своих тылах: я ведь чертовски противоречив и потому всегда должен иметь возможность отступить в надежное укрытие. Хм… Спящая Уродина – моя невеста. Тридевятая Цаца – моя невеста. Знаете, я не думал над данным противоречием. Будем считать его несущественным.
Петропавел даже крякнул от изумления.
– Почему Вы крякаете? – поинтересовался Слономоська.
– Да потому что это противоречие не может быть несущественным! Ради чего же тогда огород городить и добиваться от Спящей Уродины признаний с помощью Тридевятой Цацы, если сама Тридевятая Цаца – Ваша невеста? Тут все непонятно!
Слономоська молчал и думал.
– Никак не возьму в толк, о чем Вы, – признался он наконец. – Ясно ведь, что мои высказывания о невесте на данный момент представляют собой суждения философские, а не эмпирические… Но даже если бы это были эмпирические суждения. Вам-то какая разница?
– Ну, я исхожу из того… – Петропавел задумался, из чего он исходит: обозначить это оказалось трудно, и он обозначил общо: – Я исхожу из того, что называют порядком вещей. Есть порядок вещей! – воодушевился он. – В соответствии с ним, даже если у человека, это бывает на Востоке, несколько жен, то невест – одновременно! – не может быть несколько.
– А с чего Вы взяли, что у меня их несколько?
– По крайней мере, две!
– Откуда же две? – заторговался Слономоська. – Одна у меня невеста, только по-разному называется: Спящая Уродина и Тридевятая Цаца… Поясню это на примере.- Слономоська неизвестно откуда взял мел и вычертил на асфальте схему, которая, как выяснилось впоследствии, не имела отношения к его дальнейшим рассуждениям. – Вообразите, что на пальце у меня украшение.
– Не могу, – честно сказал Петропавел: у Слономоськи не было пальцев.
– Неважно, – поспешил заметить Слономоська. – Так вот, на пальце у меня украшение с большим камнем. Вы подходите ко мне и спрашиваете: «Что это у Вас – кольцо или перстень?» – «Не знаю точно», – отвечаю я. Теперь скажите, сколько, по-Вашему, украшений на моем пальце?
– Одно, – ответил Петропавел нехотя.
– Действительно, одно, – подтвердил Слономоська. – Только оно может называться и так, и эдак. Стало быть, и невеста у меня одна.
– Извините! – не хотел сдаваться Петропавел. – Кольцо и перстень – это обозначения для одного и того же предмета, это синонимы, а Спящая Уродина и Тридевятая Цаца – не синонимы: они относятся к разным лицам!
– По-моему, Вы следите только за поверхностным уровнем моих высказываний, а надо ведь считаться не только с тем, что выражает слово своей оболочкой, но и с тем, что оно в принципе может выражать! Пусть упомянутые имена относятся к разным лицам, зато к одному понятию – невеста, – резюмировал Слономоська. Однако, по мнению Петропавла, резюмировать было еще рано:
– Вы же не с понятием дело иметь будете, а с живыми существами!
– Именно с понятием – при чем тут живые существа? Хороши живые существа – одна вообще не дана в чувственном опыте и находится за тридевять земель, а другая на сегодняшний день спит как мертвая, то есть все равно, что отсутствует в мире! – Слономоська сокрушенно вздохнул и вычертил еще одну бесполезную схему. – Ладно. Приведу другой пример. Предположим, я говорю, что дарю Вам на Ваш день рождения гусыню. Но я только произношу эти слова, а гусыни не даю. Сделал я Вам в таком случае подарок или нет?
– Конечно, нет! – воскликнул Петропавел.
– А по-моему, сделал! – обиделся Слономоська. – Пусть я не подарил Вам гусыни, но что-то все-таки подарил – понятие подарил, фиктивную философскую сущность подарил… Тоже немало! – Он сделал паузу и гневно добавил: – Человек Вы расчетливый и меркантильный!
Пропустив этот вывод мимо ушей, Петропавел сосредоточился на заинтересовавшей его подробности – и тут его осенило:
– Значит, речь идет о фиктивных философских сущностях! Но из этого следует, что у Вас вообще невесты как таковой нет.
– Неплохо, – поощрил Слономоська. – Однако то, что у меня есть невеста, следует из более ранних моих высказываний. Их было два. Произнесу эти высказывания от третьего лица: Тридевятая Цаца – невеста Слономоськи; Спящая Уродина – невеста Слономоськи. Стало быть, в качестве предпосылки годится утверждение: у Слономоськи есть невеста.
– Да пусть у Слономоськи будет хоть пять невест! – вспылил Петропавел, которому все это уже надоело.
– Пусть! – покорно согласился собеседник. – Нам с Вами дела нет до Слономоськи.
– То есть как? – оторопел Петропавел. – До самого себя Вам, что ли, нет дела?
– Почему до самого себя? Ведь это Вы квалифицировали меня как Слономоську! А я не Слономоська, точнее, Слономоська – не я. Если бы я был Слономоськой, я не стал бы разговаривать с Вами после того, как убедился в том, что Вы – свинья. Даже две свиньи.
– Сами Вы две свиньи! – дошел до ручки Петропавел.
– Не надо быть таким обидчивым, – вежливо сделал замечание Слономоська. – Вам это не идет. Поговорим лучше о деле, которому мы служим… Через час сюда прибудет Паросенок – мы сгоняем за Тридевятой Цацей – хорошо бы ей быть где-нибудь поближе: вдали она уж очень велика! – и Бон Жуаном, доставим их сюда, и я покажу путь к Спящей Уродине. Он долог и труден, а знаю его один я, но тайну эту унесу с собой в Вашу могилу.
Услышав про могилу, Петропавел только покачал головой.
Глава 13. Поцелуй, которого все ждали
Удивительно было уже то, как Паросенок смог, не сбавляя скорости, везти на себе такую громадину – Слономоську, не говоря уже о том, что под силу ему оказались и четыре пассажира, опять-таки включая пресловутого Слономоську. Однако он благополучно доставил всех четырех на окраину НАСЕЛЕННОГО ПУНКТИКА, чтобы не будоражить горожан и не пробуждать в них желания водить Слономоську.
На протяжении всего пути Бон Жуан любезничал с Тридевятой Цацей, не обращая никакого внимания на спутников, что, впрочем, не раздражало последних: они были заняты – со страшной силой дулись друг на друга и раздулись до невероятных размеров, чуть не вытеснив с ограниченного все-таки пространства Паросенка довольно большую Тридевятую Цацу и Бон Жуана. Тридевятая Цаца всю дорогу вела себя неописуемо странно: она выла по-волчьи и пыталась разрисовать фломастером плащ Бон Жуана – причем хотелось ей цветами, а получалось – плодами.
Уже на окраине города, улучив момент, пока Бон Жуан смывал с плаща плоды в маленькой луже, где лежал Б. Г. Мот, Слономоська кое-как втолковал Тридевятой Цаце, что от нее требуется. Она, кажется, поняла это, выразив понимание весьма причудливым образом: конским храпом с перемежающейся хромотой. После объяснения Слономоська увел все еще сердитого на него Петропавла, чтобы Тридевятая Цаца в спокойной обстановке могла объяснить Бон Жуану его задачи.
Когда же прошло достаточно времени, чтобы Бон Жуан осознал значимость возложенных на него обязанностей, Слономоська вместе с Петропавлом подошел к уже любезничавшей паре и обратился ко всем троим.
– Друзья, римляне и сограждане! – он цитировал не «Цезаря» Шекспира, а «Охоту на Снарка» Льюиса Кэрролла, но никто из присутствующих ни того ни другого не читал и цитаты не опознал. – Наши с вами задачи, пожалуй, посложней, чем у Боцмана, Булочника, Барристера, Бандида и других!.. – Слономоська настойчиво продолжал без ссылок цитировать никому не известный текст. – Вспомним этих славных людей: им достаточно было только поймать Снарка – целовать же его было необязательно. Нам с вами Спящую Уродину целовать – обязательно! И от того, правильно ли мы ее поцелуем, зависит наше будущее. Я не стану рисовать вам его в радужных красках: очень может быть, что все мы погибнем от руки или ноги Спящей Уродины, когда та наконец проснется. Но это пустяки. Такой смерти бояться не надо!..
Друзья! Трудно сказать, что ожидает нас, – ясно одно: так продолжаться больше не может. Отныне Спящая Уродина не должна лежать непоцелованной где-то там, далеко от нас. Она должна лежать среди нас – поцелованной…
– …или мертвой! – неожиданно ввернула Тридевятая Цаца и дико захохотала.
– Что Вы имеете в виду? – испуганно спросил Слономоська.
– Ах, да ничего! – прошептала Тридевятая Цаца на ухо Слономоське, после чего, наклонившись к уху Бон Жуана, гаркнула туда: – Это я так! Для странности! – А тот горячо зааплодировал в ответ.
– Чему Вы аплодируете? – возмутился Слономоська.
Бон Жуан повернулся к нему спиной и громко спросил у Тридевятой Цацы:
– Разве этот Слономоська – женщина? Почему он хочет, чтобы я разговаривал с ним? Спросите его самого о его поле!
Тридевятая Цаца спросила. Слономоська ответил, что он не женщина.
– Как он ответил? – поинтересовался Бон Жуан.
Тридевятая Цаца повторила ответ Слономоськи, а Бон Жуан сказал в пространство:
– Как часто мы по собственной воле оказываемся в дурацком положении!
– Выступаем в полночь! – рявкнул вдруг Слономоська прекратив косвенные препирательства с Бон Жуаном.
Это заявление возмутило уже Петропавла:
– Почему в полночь? Другого времени, что ли, нет?
– Это самое неудобное время, какое я могу предложить! -мстительно произнес Слономоська.
Петропавел глубоко вздохнул и спросил:
– Когда же у вас тут полночь?
– Полночь уже наступила! – быстро откликнулся Слономоська. – Так что мы опоздали и должны теперь очень спешить.
Глядя на ослепительное солнце, Петропавел просто вознегодовал:
– Вот еще, спешить! До сих пор не спешили, а теперь будто что-то случилось: мы, что, в какое-нибудь определенное время должны ее целовать?
– О да! – проникновенно заговорил Слономоська. – Спящую Уродину лучше всего целовать на рассвете… Может быть, на вид она действительно тошнотворна, однако масштабность ее как явления природы восхищает. – Тут Слономоська глубоко вздохнул, чтобы в его тяжелые легкие набралось побольше воздуха, и истошно заорал: – Вперед!
Самозабвенно любезничавшие Бон Жуан и Тридевятая Цаца, вздрогнув, сорвались с места и в мгновение ока скрылись из виду.
– Вы не заметили, в какую сторону они унеслись? – озадаченно спросил Слономоська и признался: – Я проглядел.
Петропавел заметил и показал. Слономоська схватил его в охапку и бросился туда же с криками о помощи.
– Разве они тоже знают, где лежит Спящая Уродина, – изумленно и полузадушенно прохрипел Петропавел. – Этого же, кроме Вас, не знает никто! Вы ведь сами утверждали…
Пожав на бегу могучими, плечами, Слономоська попросил:
– Пожалуйста, соблюдайте разницу между тем, что высказывается, и тем, что утверждается. Путь к Спящей Уродине знаю только я – я действительно высказывал это. Но я этого не утверждал.
А между тем не прошло и пяти минут, как выяснилось, что пресловутый сей путь отнюдь не долог и не труден: они довольно скоро догнали Тридевятую Цацу. Та, пребывая теперь в неподвижности, держала на руках смертельно уставшего Бон Жуана.
– Это здесь, – заговорщически сказал Слономоська.
Петропавел не увидел ничего, кроме каменной стены, не имевшей ни начала, ни конца и уходившей в небо. С трех сторон от нее простиралась равнина.
– И где тут Спящая Уродина? – спросил он, спрыгивая на землю.
– Да вот же она! – Слономоська изо всех, как показалось Петропавлу, сил лягнул стену.
– Где? – переспросил Петропавел, не поняв жеста ноги.
– Не пытайтесь увидеть ее: мы подошли слишком близко. Сейчас вся она не дана в зрительное ощущение. Вы созерцаете… да, я не могу ошибиться… часть ее спины. – И Слономоська кивнул на стену.
Петропавлу сделалось жутко. Он потрогал стену пальцем: камень как камень!
– Из чего она сделана? – шепотом спросил он.
– Из плоти и крови. Как Вы. – Тут Слономоська рассмеялся: – Да не шепчите Вы: у нее крепкий сон. – В доказательство он еще раз лягнул стену. С ней действительно ничего не произошло.
– А Вы уверены, что она проснется от поцелуя? – засомневался Петропавел.
– На сто процентов!.. Перестаньте же наконец любезничать! – крикнул он Бон Жуану и Тридевятой Цаце. Те любезничать продолжали.
– Интересно, чем она питается…
Слономоська развел конечностями: он не знал.
– А в каком направлении надо идти к голове?
– На юг, – по солнцу определил Слономоська. – Вам-то какая разница! Целовать можно хоть здесь!
– И он боднул стену.
– По-моему, это глупо, – помолчав, признался Петропавел. – И потом: как Вы собираетесь на ней жениться? Вам… не много ли всего этого будет?
– Нет, мне нравятся рослые, – отвечал простодушный Слономоська и обратился сразу к троим: – Ну что, приступаем?
– Приступаем! – отозвалась Тридевятая Цаца, как ни странно, следившая за ходом событий. Потом горделиво добавила: – Там, у себя за тридевять земель, я тоже такая… огромная.
– А разве мы никого больше не будем приглашать? – вспомнил Петропавел. – Все-таки историческое событие…
– Обойдутся! – грубо сказал Слономоська. – Поцелуй Спящей Уродины – это таинство. Скажите спасибо, что Вас пригласили!
Петропавел не понял последнего заявления, но смолчал, а Слономоська забеспокоился:
– Оставим Бон Жуана одного или нам можно побыть рядом?
– Зачем же, это надолго! – Тридевятая Цаца мяукнула и засунула в оба уха по ватному тампону, протянув такие же Слономоське и Петропавлу. – Возьмите, – многозначительно сказала она, – пригодятся!
– Может быть, не слишком вежливо – обращаться к ней со спины? – опять подал голос Петропавел.
– Бон Жуану все равно! – уверил его Слономоська. – Ой, я так волнуюсь!.. Решается моя судьба. – И он засунул тампоны в уши.
Петропавел последовал его примеру, подумав с горечью: «Что ж тогда мне-то говорить? Или я в результате наконец попадаю домой, или…» – о том, как он будет растоптан Слономоськой, Петропавел не решился даже подумать.
Втроем они отошли шагов на сто от места переговоров. Тридевятая Цаца жестом попросила всех отвернуться.
* * *
Так, отвернувшись, с ватными тампонами в ушах, простояли они много месяцев. Правда, не все: Тридевятая Цаца частенько отлучалась по своим делам, не сообщая о них никому, – впрочем, Петропавел и Слономоська не слишком-то ей интересовались, потому что на пятой, кажется, неделе от усталости оба они вообще перестали реагировать на внешние события.
Наконец Тридевятая Цаца развернула их лицом к месту переговоров – и Петропавел, даже не увидев еще ничего, услышал потрясший равнину страшный крик Слономоськи:
– Что вы с ней сделали?
Он взглянул и обмер: оказалось, что за эти месяцы Бон Жуан, сейчас весело держащий зубило в руках, прорубил в Спящей Уродине довольно широкий коридор – с аркой и красивыми коринфскими колоннами.
Жуткая тишина повисла над равниной. Внезапно Слономоська зарыдал в голос:
– Она очень мучилась? – слова его были почти невнятны.
Бон Жуан, по-видимому, потрясенный неподдельными страданиями Слономоськи, даже забыл, что не разговаривает с мужчинами, и с глубоким сочувствием ответил:
– По-моему, она даже ничего не заметила: во всяком случае, не издала ни звука.
– Крепкий сон – выручатель нервной системы! – рыдая, констатировал Слономоська. – А Вы хоть спросили перед… перед этим, кого из нас троих она выбрала бы… если бы… – и он захлебнулся в слезах.
– Да нет, я не спрашивал… – смешался Бон Жуан. – А надо было?
Слономоська с ревом бросился на Бон Жуана:
– Кто Вас просил вырубать коридор в моей невесте? Кто просил Вас? – и он начал бодать его, уже плохо соображая, что делает.
– Это… Тридевятая Цаца, – сконфуженно бормотал Бон Жуан, изредка в целях самозащиты укалывая Слономоську зубилом в щеку, – она и объяснила мне, что таково Ваше задание: дескать вы с молодым человеком так сильно любите Спящую Уродину, что не можете прорубить в ней коридора… И просите меня…
– Ой, я опять что-то перепутала, да? – весело воскликнула Тридевятая Цаца. – Я такая странная – просто ужас!.. Должно быть, меня просили о другом? Да, я, вроде, припоминаю, о чем именно – ах, неважно! – и она запела с детства любимую всеми песню.
Слономоська схватился конечностями за голову:
– Но, наверное, была же кровь!.. О жестокий!
– По-вашему, я смыл ее? – с вызовом спросил Бон Жуан. – По-вашему, я убийца? Так знайте же: я за свою жизнь Мурки не обидел! Не было крови! Осколки каменные – были: можете сами убедиться! – и он показал на груду камней.
Слономоська, безумно бормоча «Нашли, кого слушать… дуру… сумасшедшую!», подбежал к груде и нервно потрогал конечностью камни. Внезапно лицо его просветлело: ни тени страдания не заметили бы теперь на нем вы!
– Я вспомнил! – с радостью воскликнул он. – Я вспомнил пророчество до конца! Оно гласит: «И приидет бесстрашный и глупый человек, и поцелует Спящую Уродину как свою возлюбленную, и пробудит Ее от сна, если… – обратите внимание, если! – если она к тому времени не окаменеет!» Это ведь не детерминистское пророчество, а вероятностное! Понимаете? – Умный Слономоська поискал и не нашел поддержки у слушателей. – Ну как же… Приведу пример детерминистского суждения: бумага легче молотка. Теперь приведу пример вероятностного суждения: бумага легче молотка, если в нее не завернут булыжник! Она же просто окаменела… каменная баба скифская! – И он заплясал на груде камней, а наплясавшись, подошел к Тридевятой Цаце и обнял ее, испытав тактильный обман. – Вот видите, – обратился он сугубо к Петропавлу, – у меня только одна невеста. – Тут он снова начал вычерчивать мелом какую-то схему – на сей раз прямо на каменной спине Спящей Уродины, но Петропавла рядом уже не было.
Он вошел в широкий коридор, вырубленный Бон Жуаном на славу. По стенам коридора тянулась искусная резьба, колонны были тщательно отполированы. Тут и там у стен виднелись скамеечки, манившие отдохнуть. Но Петропавел шел быстро, почти не обращая на все это внимания. Когда коридор кончился, он ступил на небольшую зеленую лужайку.
Трава на ней становилась все реже и реже: вот уже начали мелькать паркетные плиточки… паркет. Кое-где на нем, правда, виднелись еще отдельные травинки, но исчезали и они.
«Неужели? – Петропавел боялся даже подумать о доме, как боялся думать все время, пока пребывал в этой дикой, в этой нелепой местности, даже названия которой он так и не узнал! – Неужели я… дома? Дома, где никто не будет больше терзать меня странными своими вопросами и смущать странными своими ответами, где никто больше не будет упрекать меня в недостатке каких-то никому не нужных качеств и считать отважным идиотом. Дома!.. Я забуду все это, как страшный сон, как наваждение, я выброшу это из головы!»
Он вернулся.
По знакомой комнате ходили родные люди. Они приводили помещение в порядок. Взрыв пирога с миной наделал дел, но уборка уже заканчивалась. Накрывали на стол: пора было ужинать. Он вернулся.
Часы на стене заиграли свою музыку.
– Который час? – спросили из соседней комнаты.
– Девять, – прозвучало в ответ. Он вернулся.
На кухне звенели чашки. Там смеялись, заканчивая приготовления к ужину. Кажется, чья-то шутка имела успех. Пахло ванилью, как в детстве.
Он вернулся.
Действия домашних были быстрыми, точными и уверенными. Изредка обменивались только самыми необходимыми словами -такими же быстрыми, точными и уверенными.
…Он наклонился и сорвал у самых ног своих маленькую зеленую травинку – последнюю память о ЧАЩЕ ВСЕГО. Огляделся: не видел ли кто. Никто не видел. Он повертел травинку в руках и поднял глаза.
– Травинка, – сказал он. – Из ЧАЩИ ВСЕГО.
– Ну что ты стоишь с ней? Выбрось и помоги расставить стулья по местам.
– Травинка, – повторил он, – из ЧАЩИ ВСЕГО.
…И вдруг, прижав травинку эту к самому своему сердцу, он побежал…
Паркету не было конца, но первые растения уже пробивались, потом то тут, то там – все реже и реже – замелькали только отдельные паркетные плиточки – и кончились.
Как далеко, оказывается, было до лужайки – маленькой зеленой лужайки у входа под арку! Но вот и лужайка. Подозрительно гудят арочные своды: нужно спешить… Он помчался вперед по каменному коридору, мимо скамеечек и глянцевых коринфских колонн. Что-то обваливалось за его спиной – обломок камня сильно ударил по ноге. В двух шагах от него упала колонна – только бы успеть! Бон Жуан прекрасно умел любезничать, но инженерного расчета было в нем, пожалуй, маловато: коридор явно не был сработан на века… Рушились стены, камни заваливали проход, становившийся все более узким.
Не широкими, как в первый раз, но тесными – ах, какими тесными! – воротами приходилось проникать ему теперь в этот мир…
И рухнул коридор. Петропавел едва успел выскользнуть из совсем уже узкого прохода с противоположной стороны. Облегченно вздохнув и даже не обернувшись, он побежал по равнине. Его Большой Выбор был сделан, а обвал отрезал пути назад. Впрочем, что такое «вперед» и «назад», «вправо» и «влево», «вверх» и «вниз», он уже не понимал.
По равнине во весь опор проскакал Всадник-с-Двумя-Головами, на ходу обернувшись и приветливо помахав ему рукой. Петропавел улыбнулся в ответ, потом упал вперед и, соблюдая все заповеди Летучего Нидерландца, полетел невысоко над Землей…
Лирическое отступление
Я отступаю. После сумбурного выступления, решительного наступления, бескровного преступления и тихого исступления я отступаю. В отступлении моем нет ничего драматического: это лирическое отступление.
Я отступаю. Всегда, когда в литературе герой успевает выскочить из-под обломков, читатели запаздывают… Он возвращается к своей литературной действительности, а мы остаемся в реальной, которая тем и отличается от литературной, что среди всех предлагаемых ею исходов нет ни одного иррационального. В литературе же возможность для такого исхода есть у писателя на крайний случай всегда. И если в жизни, попав в тупик, мы можем выйти из него только ценой какой-нибудь серьезной потери, то в литературе всегда остается последний шанс – на крыльях вылететь через печную трубу.
Может быть, это – единственное, что следует знать, обращаясь к литературе. Знание такое, по всей вероятности, и определяет наше отношение к произведению как к не-жизни как к чему-то иному- подчиненному высшим законам Искусства. А все Высшие Законы Искусства иррациональны.
Но я отступаю. Всякое повествование однажды кончается – и тогда писатель отпускает героев на свободу. Там они и будут жить, уже не подвластные ничьей воле – тем более воле интерпретаторов, от которых они всегда сумеют ускользнуть. Ведь интерпретаторы живут в иной реальности, – правда, они не часто понимают это. И начинают судить произведение обычным, юридическим образом. Они задают очень много вопросов в надежде выяснить, бывает ли так на самом деле и бывает ли так вообще.
Мне легко ответить на эти вопросы: ведь я отступаю. Я говорю, что ничего этого не было и что это вообще не бывает на самом деле. Потом я улыбаюсь и беру на себя смелость заявить от имени каждого, кто причастен к искусству: всего этого не было и всего этого вообще не бывает на самом деле. Такова уж Художественная Неправда. Что же делать с Художественной Неправдой? Оставим ее как она есть: воспринять литературное произведение значит не понять его до конца, все время обращаться к нему в надежде понять до конца… а не понять. Ведь даже сами герои не всегда понимают себя – и, когда Петропавел, прижав зеленую травинку к сердцу, бежит туда, откуда еще полчаса назад едва унес ноги, – он, наверное, тоже плохо понимает себя. Но мы не можем ему помочь. Самое большее, на что мы способны, – это проводить его до яркой лужайки… ну, может быть, чуть дальше. Проводить его, проводить нашу повесть…
Минувшая жизнь, имперфект и аорист, - Подумайте, что за дела!.. Я вдаль проводил мою Повесть, как поезд, – И Повесть, как поезд, ушла. Зеленый фонарик далекой свободы Уже догорает – и вот Затеплился красный фонарик субботы И прежних домашних забот: Убрать со стола, заварить себе кофе И долго смотреть из окна На двор в голубях, на качели в покое, На облако в виде слона… И вдруг отойти от окна – беспокоясь, Как с этого самого дня Невнятная совесть по имени Повесть Одна проживет, без меня.И уже не имеет никакого значения, кто написал это: ведь я отступаю. Важно вовремя сдать позиции.
Я отступаю на глазах у вас, любезные читатели, отступаю просто: не сопротивляясь больше и ни о чем не жалея -- перед этой вечной загадкой. Загадкой Художественности. Я отступаю.


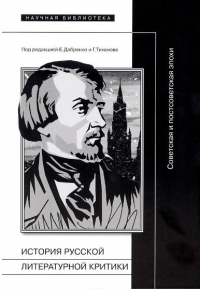


Комментарии к книге «Между двух стульев», Евгений Васильевич Клюев
Всего 0 комментариев