Олег Георгиевич Егоров Дневники русских писателей XIX века: исследование
Введение
Писательский дневник – оригинальный и малоизученный жанр литературы. В нем сгруппировалось все сокровенное, все самое характерное в личности писателя. Дневник – не произведение искусства в том смысле, что в нем менее всего «искусственного», «художественного». Дневники не сочиняются, а ведутся. В них мы имеем дело не с посредниками, не с «заменителями» личности автора, а с самой личностью в ее глубинах и основах. Дневник не отражает, не рисует образ человека – он часть его самого, деталь души, поступков, характера.
Художественное произведение, выйдя из-под пера его автора, начинает вести самостоятельное, не зависимое от создателя существование. Нередки случаи, когда писатели отрекались от своих детищ по причине того, что «жизнь» последних шла вразрез с убеждениями и надеждами автора. С дневником ничего подобного невозможно. Дневник, напротив, так же трудно отделить от создателя, как часть его плоти. Случись она по злой воле, эта операция всегда мучительно переживается авторами (как это было с Л.Н. Толстым) либо его друзьями и близкими (дневники H.A. Добролюбова и П.И. Чайковского). Иные писатели предпочитают перед уходом из этой жизни унести с собой свою жизненную летопись (И.С. Тургенев).
Наверное, в силу перечисленных особенностей писательский дневник на протяжении многих лет занимал особое место в науке и литературе. В нем видели источник биографических сведений и материал для научных комментариев к различным произведениям писателя. Отечественная литературоведческая традиция отвела дневнику место в ряду явлений так называемого литературного быта. Научный анализ дневника, как правило, сводился к разбору содержания, идейно-тематических составляющих произведения. Дневник как жанровая форма подобно другим разновидностям литературного творчества до сих пор не был изучен. Однако «удельный вес» дневников в наследии писателей XIX в. и в литературном процессе в целом не соответствует бытовой сфере его функционирования.
При всем многообразии творческих индивидуальностей писателей и несхожести их судеб, их дневники (как и дневники неписательские) имеют общую жанровую структуру, закономерности развития и связи с литературно-художественным творчеством. Задача изучения типологии писательского дневника – дело будущего. В настоящей монографии мы ограничимся анализом отдельных, наиболее значительных образцов писательской дневниковой прозы. Главная цель такого автономного исследования – показать место дневника в системе продуктивных жанров того или иного писателя. Вместе с тем исследование подобного рода обязательно включает в себя изучение общих жанровых закономерностей дневника. Эти закономерности и составят стержень каждого из очерков монографии.
Наряду с дневниками признанных классиков литературы XIX в. были привлечены образцы дневниковой прозы литераторов, либо не являющихся писателями в общепринятом смысле этого слова (A.B. Никитенко), либо не относящихся к классикам (A.C. Суворин, М.П. Погодин). Но их дневники – классические образцы жанра, в некотором отношении более значительные, чем дневники титулованных художников слова. Более того, с точки зрения жанровой специфики лучшие дневники были созданы не классиками, а писателями второго и третьего ряда.
К той же группе примыкают и дневники, которые выделены в главу «Круг Л.Н. Толстого». Их особенность в том, что все они созданы в писательской среде и несут на себе отпечаток ее литературных вкусов и пристрастий.
Данная монография является первым опытом анализа писательского дневника за целый век. За ее пределами осталось еще множество интереснейших и оригинальнейших образцов дневниковой прозы – дневники В.К. Кюхельбекера, Д.И. Писарева, А.Н. Островского, Я.П. Полонского, Ф.М. Решетникова, С. Я. Надсона, А.П. Чехова и др.[1]
В чем же жанровое своеобразие дневника как литературного произведения? Подобно любой разновидности художественной и нехудожественной прозы, дневник обладает своими жанровыми закономерностями, устойчивыми структурными элементами и как продукт литературного творчества со временем претерпевает определенные изменения. В этом смысле он нисколько не отличается от других произведений изящной словесности.
Как оригинальный прозаический жанр дневник обладает особенностями, свойственными только ему. Но эти особенности имеют место лишь на уровне содержания структурных элементов, в то время как сами эти элементы аналогичны составляющим других жанров. Дневник включает в свою жанровую структуру такие эквиваленты литературных видов и родов, как метод, стиль, типология, жанровое содержание, система образов. Именно они составляют устойчивую структуру дневника. Другое дело, что подобно элементам других жанров они развиваются и качественно изменяются. Но, подвергшись изменениям, по-прежнему сохраняют характер обязательных жанровых компонентов. Так же как нет эпических произведений без сюжета и композиции, без темы, идеи, образного строя и элементарных стилевых закономерностей, так не бывает дневников без перечисленных выше структурных элементов.
Когда речь заходит о дневнике, то первым обычно возникает вопрос: зачем он ведется? И тут мы убеждаемся, что главная жанровая особенность дневника заключается в функциональных принципах, в его предназначении. В этом отношении выделяются три большие группы.
К первой принадлежат дневники, отражающие процесс индивидуации – психологического самоосуществления личности. Они обычно ведутся в юношеском возрасте и в период ранней молодости. Таким дневникам свойственно специфическое содержание, отличное от содержания дневников тех же авторов более позднего периода. С завершением психологического процесса адаптации к социальному миру многие авторы прекращают ведение своих журналов подневных записей (Герцен, Чернышевский, Добролюбов).
Другую группу составляют дневники, продолжающие летопись жизни, начатую в раннем возрасте. Дневник в таком случае служит заместителем тех содержаний психики, которые по той или иной причине не могут быть выражены другим способом. Это самая многочисленная группа.
И наконец, третью категорию с функциональной точки зрения представляют дневники, начатые в позднем возрасте. Их функция также связана с психологией, только теперь уже с психологией человека, проживающего вторую половину жизни (Одоевский, Суворин).
Есть еще одна группа, довольно малочисленная, к которой относятся дневники, начатые в условиях, так или иначе связанных с лишением свободы их авторов (Кюхельбекер, Шевченко). Их функция – тоже «заместительная», отражающая потребность в самовыражении в экстремальных жизненных обстоятельствах.
Второй отличительной особенностью дневника как повествовательного жанра является специфическая пространственно-временная организация событий. В художественной прозе время и пространство не имеют такого принципиального значения, как в дневнике. Дневник представляет собой последовательность регулярных записей, отражающих события дня в конкретном месте и в определенные часы. В этом смысле он является открытой системой в отличие от замкнутости и заданности произведений словесного искусства. В дневнике хронотоп реален, а не идеализирован, как в эпосе или драме. События дня непредсказуемы и обусловлены не вымышленными причинно-следственными связями, а стихийным жизненным потоком.
Исходя из этого мы выделяем три формы пространственно-временной организации событий в дневниках – локальный, континуальный и психологический хронотопы. В рамках первой формы субъект повествования является участником или очевидцем описываемых событий. Во второй в сферу повествования включаются события, свидетелем которых автор не мог быть в силу их пространственной удаленности. В третьей форме событиями являются факты душевной жизни повествователя, непосредственно не связанные с миром физических или общественных явлений.
Образный мир дневника отличается от аналогичного ему мира в произведении искусства тем, что в последнем он создается художественными средствами. Но и там и здесь в основе воссоздания образа человека лежит мировоззрение автора, система его нравственных, общественных и философско-эстетических взглядов. В дневнике, как и в художественной прозе, образ не является слепком с реального человека.
Дневниковый жанр выработал свои специфические средства создания образа. Их можно разделить на четыре большие группы – конструктивные, репродуктивные, характеристические и некрологические. Первая и самая многочисленная группа создается методом постепенного нанизывания деталей характера человека и его оценок. Созданный таким приемом образ раскрывается во временной последовательности. Второй прием образной характеристики сводится к воспроизведению бытующего в обществе мнения о человеке, к которому автор дневника вольно или невольно присоединяется, а его личные оценки в данном случае лишь дополняют или уточняют социально-психологический портрет.
Два других приема можно было бы свести в одну группу или отнести к разновидностям одного метода. Каждый из них дает развернутую характеристику человеку, как бы более или менее полный очерк его жизни и личности. Только в первом случае речь идет о здравствующем человеке, во втором – о завершившем свой земной путь.
Особое место в системе образов дневника занимает авторский. Его своеобразие в том, что автор в дневнике одновременно является субъектом и объектом повествования. Причем обе функции реализуются в нем нераздельно. В основе градации образа автора в дневниках лежит степень его явленности, или выраженности, в изображаемых событиях. Такое выражение может колебаться в широких границах: от полного стушевывания автора как субъекта действия в дневнике А. К. Толстого до абсолютного господства над всеми явлениями и образами, как в дневниках Л.Н. Толстого.
Иногда резкое колебание субъект-объектных отношений в процессе повествования имеет место в рамках одного дневника, как у Жуковского или Дружинина. Такое явление связано с изменениями психологической функции дневника (движение авторского сознания от стадии индивидуации в сторону проблем зрелой психики).
С образом автора в повествовательном пространстве дневника связан вопрос о типологии. В процессе дифференциации своих структурных элементов дневники четко разделилась на две разновидности в отношении объекта изображения. Те дневники, в которых объектом является внешний «объективный» предметный и социальный мир, мы называем экстравертивными. Они соответствуют психологическому типу их авторов – экстравертов. Вторую группу составляют интровертивные дневники, ориентированные их авторами-интровертами на внутренний мир, на субъективное переживание фактов душевной жизни.
С типологией дневника тесно связано его жанровое содержание. У писателей оно так же разнообразно, как и у представителей других профессиональных или социальных групп. На внешнюю установку ориентированы путевые (М.П. Погодин, А.Н. Островский, Н.Г. Гарин-Михайловский), общественно-политические (A.B. Никитенко, В.Ф. Одоевский, A.C. Суворин), бытовые (Т.Г. Шевченко), семейные дневники (С.А. Толстая, Т.Л. Сухотина); на внутреннюю – философские (А.И. Герцен) и психологические (Н.Г. Чернышевский, Л.H. Толстой). У авторов, ведших свою летопись долгие годы, жанровое содержание дневника менялось в зависимости от психологического возраста (В.А. Жуковский, А.В. Дружинин, А.С. Пушкин).
Дневник как журнал подневных записей, казалось бы, не оставляет сомнений в том, что должно быть предметом описания, – события дня. Однако, читая дневники разных авторов, убеждаешься, что далеко не все события попадают на их страницы. Причин этому несколько, но главная из них – это принцип отбора, которым руководствуется автор. Такой принцип мы называем методом по аналогии с творческим методом автора произведения искусства.
В отличие от последнего, метод дневника более субъективный, менее подвержен обобщению и экстраполяции на какие-либо родственные группы или ряды дневников. Будучи категорией высокой степени обобщения, метод в то же время является важнейшим показателем творческой индивидуальности летописца – автора дневника.
С методом тесно взаимодействует повествовательный стиль. В дневниках он также строго индивидуализирован, но, в отличие от метода, обладает рядом общих для всего жанра свойств. Под стилем мы подразумеваем семантическую функцию дневникового слова. В зависимости от творческой установки автора она подразделяется на три вида – информативное, аналитическое и эстетически нагруженное слово. В первом случае задача автора сводится к более или менее точной передаче информации о событиях минувшего дня; во втором – определенная информация подвергается в той или иной степени анализу; и в третьем – отобранная информация ориентирована на эмоционально-экспрессивную оценку.
В дневнике могут присутствовать все три вида слова (особенно это смешение характерно для «Записных книжек» П.А. Вяземского), но в большинстве случаев приходится иметь дело с определенной направленностью слова. Причем удельный вес эстетически нагруженного слова имеет тенденцию к понижению. В конце столетия более или менее заметную роль такое слово играет лишь у В.Г. Короленко, и то в ограниченном пространстве повествования – в «лирических отступлениях» и пейзажных зарисовках ранних тетрадей и в политических инвективах дневников позднего периода.
Как и любой повествовательный жанр, дневник эволюционировал на протяжении XIX в. Более подробный анализ эволюции будет дан в исследовании, посвященном жанру в целом. Здесь же ограничимся указанием на то, что в течение столетия дневник дважды переживал крупные структурно-стилистические изменения.
Первое из них совпало с эпохой «великих реформ», т. е. приходится на «шестидесятые годы» в литературно-общественной жизни страны. В это время были основательно подвержены деформации метод, система образов, пространственно-временная структура и область языка дневникового жанра. Причем изменения происходили стремительно и захватили дневники даже тех авторов, которые всегда отличались устойчивой и, мы сказали бы, консервативной манерой ведения. Для иных летописцев воздействие социальных перемен оказалось роковым: они были вынуждены прекратить ведение дневника (Дружинин). Для других, напротив, новая эпоха только раскрыла широкие возможности жанра, и они пробуют перо в новом для них виде литературного творчества (Одоевский).
Второй период изменений имеет более длительную историю и падает на конец века (приблизительно – последнее двадцатилетие). Здесь мы наблюдаем дальнейшее развитие и углубление тех эволюционных тенденций, которые наметились в 60-е годы и закрепились в многочисленных образцах дневниковой прозы последующих десятилетий. Дневник как жанр выходит на широкую литературную арену в опытах «дневника писателя» Ф.М. Достоевского и Д.А. Аверкиева и из камерного жанра преобразуется в общественный. Подтверждением этого служит то обстоятельство, что в форму дневника многие авторы начинают облекать произведения мемуарного (Н.И. Пирогов), художественно-публицистического (Достоевский) и политического жанров (В.А. Соллогуб). На основе дневника формируется своеобразный гибридный жанр. Подобное развитие продолжается до тех пор, пока новое поколение писателей не предпримет попытку вернуть дневнику его изначальную роль. Но это уже история дневника XX столетия.
Василий Андреевич ЖУКОВСКИЙ
Дневникам В.А. Жуковского повезло менее всего из его обширного литературного наследия. Относительно полно они были опубликованы только через 50 лет после смерти их автора. За последние 95 лет издавались лишь фрагментарно. Значительная же (по содержанию) часть этого интереснейшего литературного памятника вообще осталась недоступной широкому читателю, потонув в журнальной периодике прошлого столетия. И это несмотря на то что «Дневнику» поэт отдал более 40 лет жизни. Для него он всегда был «верным, добрым товарищем», значение которого «для сердца» было «вечно»[2].
Несоответствие между значимостью «Дневника» для его автора, с одной стороны, и исследователей и издателей – с другой, настолько бросалось в глаза, что было непонятно даже А.Н. Веселовскому, писавшему в своей известной книге о Жуковском, что «у всякого поэта есть такого рода клише, пристрастие к которым мы часто не умеем объяснить»[3].
Не нашедшие до сих пор своего глубокого истолкователя, дневники Жуковского, однако, представляют бесспорный исследовательский интерес уже потому, что ни одна крупная работа о поэте не обходится без них хотя бы как источника биографических сведений.
Но дневники интересны не только как вспомогательный материал. Они имеют самостоятельную ценность и далеко не узкоспециальную.
Прежде всего велико историко-литературное значение дневников. Они являются богатейшим материалом для изучения мировоззрения поэта, в частности, его художественно-эстетических взглядов. Нельзя не согласится с А.Н. Веселовским в том, что отдельные записи интересны и «как литературные произведения»[4].
Дневники представляют собой огромную культурно-историческую ценность. В них отражены события европейской культурной жизни за 20 лет. Причем события эти изображены не безучастным хронистом, а человеком, лично знакомым со многими деятелями культуры.
И наконец, неоспоримо теоретико-литературное значение «Дневника» как образца данного жанра в эпоху его наивысшей популярности.
Дневники Жуковского публиковались частями в несколько этапов. Самым полным изданием является публикация И.А. Бычкова 1901 г., повторенная в издании 1903 г. К столетнему юбилею поэта в 1883 г. были опубликованы небольшие, но значительные по содержанию фрагменты дневников в «Русской старине» и книге К.К. Зейдлица «Жизнь и поэзия В.А. Жуковского», не вошедшие в издание И.А. Бычкова. Парижский дневник 1827 г. был опубликован в собрании сочинений поэта издания 1878 г.
Таким образом, мы не располагаем полным сводом всех дневников. Их научное издание является актуальной задачей современного литературоведения и культуры.
Потребность в ведении дневника Жуковский испытывал на протяжении 40 с лишним лет. Но на разных этапах его жизненного пути дневник выполнял различную функцию.
Взятые в целом, дневники Жуковского отличаются отсутствием единства. По своему составу они четко делятся на три неравные группы. 1. Все ранние записи с 1804 по 1813 г. Из них сохранились лишь дневники 1804–1806 гг. и фрагменты 1810 г. 2. Отрывок дневника 1814 г. 3. Поздние дневники 1817–1846 гг. с пропусками в несколько лет.
Все три группы отличаются друг от друга рядом признаков: обстоятельностью записей, стилем, жанровой формой, нравственно-эстетической и прагматической установкой.
Все перечисленные свойства обусловлены тем значением, которое Жуковский придал дневнику в различные периоды своей жизни. Как литературно-бытовая форма дневник всегда ставился Жуковским высоко, что подтверждает длительный срок его ведения. Предназначался он, по понятиям Жуковского, не только для личного пользования, как памятные записки о настоящем для будущего, но и для круга близких людей. Порой он заменял дружеские письма и в еще большей мере «место откровенного друга», отсутствующего дорогого собеседника, что видно из фрагмента 1810 г., цитируемого в письме к А. Тургеневу[5].
В конце жизненного пути Жуковский осознавал дневник как исторический документ, могущий служить источником для мемуаров. Но свои дневники он не предназначал для этой роли, потому что справедливо считал себя субъективным автором, способным дать в мемуарах только «психологию», а не историю. Поэтому в письме к П.А. Плетневу от 6 марта 1850 г. говорил так, будто никогда не вел дневник[6].
Прежде чем определить жанровые и типологические особенности «Дневника» Жуковского, необходимо выявить мотивы его ведения. Для Жуковского-поэта это принципиально важно, поскольку характер его поэтического дарования и творческий метод, казалось бы, должны исчерпывающим образом выражать субъективность его личности и не оставлять места для дополнительного средства самовыражения, каковым по преимуществу и является дневник.
Личность Жуковского представляет собой образец того, как внешние обстоятельства существенно деформировали изначальную установку психологического типа и вызвали к жизни потребность, появление которой при нормальном протекании психологической жизни было бы проблематично.
Обращение Жуковского к дневниковому жанру не было ответом на запрос романтической эпохи. Мотивы его ведения лежат не на поверхности, а укоренены в глубинной психологии личности поэта. Все три группы дневников возникли на гребне трех психологических кризисов, определивших его судьбу. Это ранняя смерть любимого друга Андрея Тургенева, потеря надежды на счастье с Машей Протасовой и определение на службу в должности преподавателя русского языка к великой княгине Александре Федоровне (будущей императрице), а позднее – воспитателя наследника. Эти кризисные события не только дали импульс к интенсивной работе над дневниками, но и определили стиль и форму ведения. В этом – причина их несхожести.
Таким образом, в основе дневников Жуковского лежит принцип замещения. Потребность в ведении дневника отпала лишь тогда, когда душевные силы поэта обрели равновесие в условиях семейного счастья и устроенного быта.
Жанровая форма дневников складывалась не на основе литературной традиции, а в зависимости от жизненной ситуации и продиктованной ею психологической установки. В свете этого дневники первой группы (1804–1806 гг.) представляют собой своеобразный роман воспитания, дневник 1814 г. – исповедь, а жанр остальных может быть приблизительно обозначен как путешествие.
При чтении дневников Жуковского бросается в глаза отсутствие в них записей литературного содержания. Непонятным кажется, что профессиональный литератор почти ничего не говорит о литературной жизни, своем творчестве, книгах и писателях. Эта тема словно под запретом. Редко встречаются строчки, содержащие скупую информацию о том или ином авторе, собрате по перу; ни развернутых суждений о художественных новинках, ни откликов на крупные литературные события.
Напрасно было бы искать объяснение этому явлению в специфике дневникового жанра, который в эпоху романтизма замыкается на внутреннем мире личности, «одомашнивается», низводится до роли журнала частной жизни человека, тяготящегося «общественностью». Эти характеристики если и справедливы для жанра в целом, то недостаточны применительно к автору «Светланы».
Суть проблемы – в мотивах, побудивших Жуковского приняться за ведение дневника. Истоки этого субъективнейшего создания поэта надо искать в тургеневском круге и его традициях. Именно здесь новый поэт получил первые уроки нравственного и интеллектуального воспитания. Центром кружка был Андрей Тургенев, чье недолгое, но глубокое влияние испытал на себе Жуковский. В 1827 году Александр Тургенев в письме к брату Николаю писал: «Душевное и умственное образование <Жуковский> получил с нами, начиная с брата Андрея»[7].
Наряду со специфическими интересами в кружке Тургеневых бытовали и особые правила общения и воспитания. И их числу принадлежал дневник как форма самовоспитания. Вместе с беседами и рассуждениями в дружеском кружке было принято доверительное чтение дневников друг друга как своего рода прием или метод морального наставничества. Дневник «старшего наставника» пользовался авторитетом более, нежели печатные «руководства» или иного рода «образцы», и посвящал открытую всему добродетельному личность в морально-возвышенный образ мыслей. Именно поэтому Жуковский так дорожил дневником Андрея Тургенева. «Также хотелось бы мне, – писал он брату покойного друга, Александру, – чтобы ты прислал мне журнал брата Андрея; это единственный памятник, который <…> изображает его <…> весьма живо»[8]. В этом кружке нравственное воздействие личности было сильнее каких-либо творческих или иных заслуг.
Жуковский начал вести дневник через год после смерти Андрея Тургенева. За это время в жизни поэта произошли важные перемены, стимулировавшие начало работы.
Молодой человек остро ощущал отсутствие старшего товарища-наставника, который своим авторитетом подчинил его себе и руководил его нравственным воспитанием. Отголосок этого чувства слышится в письме к Александру Тургеневу через два года после смерти его брата: «<…> моя с ним <Андреем> дружба была только зародыш, но я потерял в ней то, чего не заменю или не возвращу никогда: он был моим руководцем, которому бы я готов был покориться <…>»[9].
Приведенный факт говорит о том, что все эти годы в глубине сознания поэта шел поиск формы, способной адекватно выразить неудовлетворенную душевную потребность.
Вместе с тем продолжавшееся в те годы образование Жуковского и его интенсивный творческий рост сформировали условия, при которых нравственная и творческая (литературная) потребности соединились. Ранее не находивший выхода материал перетек в готовую форму. Дневник как литературная форма, таким образом, имел у Жуковского нравственный побудитель. Он возник путем замещения определенного психологического содержания.
Но не последнюю роль в этом сложном духовно-творческом процессе сыграла и литературная традиция. Дневник оказался, помимо названных свойств, своего рода рабочим материалом для ненаписанного автобиографического романа. У Жуковского с его лирическим дарованием художественная объективация событий внутренней жизни шла по линии поэтического воплощения. Но в период первоначальной работы над дневником он испытывал сильную тягу и к более полному, эпическому самовыражению. «Суммарность» лирического чувства не позволяла достичь искомой полноты. Поэтому и возникла потребность высказаться в масштабных формах. Здесь прослеживается связь ранних дневников Жуковского с традицией просветительского романа воспитания («История Агатона» Виланда) и автобиографическим эпосом романтиков («Генрих фон Офтердинген» Новалиса). Строки последнего перекликаются с душевным состоянием Жуковского периода напряженных поисков замены утраченного: «Подобно первому напоминанию о смерти, первая разлука остается навсегда памятной; после того как она долго пугала, точно призрак ночи, она становится, наконец, при падающей отзывчивости на событие дня, при возрастающем стремлении к твердому миру, добрым вожатым и утешителем»[10] (с. 19).
Формы общения и нравственный смысл бесед, усвоенные Жуковским в тургеневском кружке, органически перетекли на страницы дневников 1804–1805 гг. Отсутствующего главу кружка заменил воображаемый Наставник, беседы которого с Воспитанником (Жуковским) составляют их содержание. Диалог между двумя собеседниками ведется в форме несобственно-прямой речи. Отдельные реплики этого диалога выделены графически. Разрядкой обозначены слова, фразы и целые предложения, принадлежащие, по всей видимости, Воспитаннику. Их повторяет Наставник в своих ответах.
Вот запись от 13 июня 1805 г.: «Параграф № 1. Даже говоря правду, надобно быть настолько скрытым, т. е. надобно правде, самой неприятной, давать такой образ, какой бы не мог отвратить от нее того человека, которому ее предлагаешь. Иначе она несомненно потеряет свое действие и будет некоторым образом брошена на поругание. Говорить истину с грубостию и жестокостью, которыми хвалились стоики, есть некоторым образом непозволительное самохвальство, совершенно противное той пользе, которую принести хочешь, и показывающее один только эгоизм, скрытый под маской правдолюбия. Сверх того, никто не позволит себя учить: это противно самолюбию, следовательно, бесполезно, потому что недействительно. Учи людей таким тоном, как будто бы от них сам желаешь научиться. Заставь их самих сказать то, что бы желал сказать им. Говорить правду друг другу – другое дело»[11].
Данную запись можно представить в форме диалога Наставника с Воспитанником.
Н а с т а в н и к: Как ты понимаешь искренность?
В о с п и т а н н и к: Я думаю, что в разговоре с любым человеком должно всегда говорить правду. Правда порой бывает суровой, но, несмотря на это, следует быть искренним до конца. Заменив даже небольшое уклонение от этого правила, собеседник может заподозрить меня в скрытности.
Н а с т а в н и к: Это противоречит правилам воспитанного человека. Даже говоря правду, надобно быть несколько скрытным, т. е. надобно правде, самой неприятной, давать такой образ, какой бы не мог отвратить от нее того человека, которому ее предлагаешь. Иначе она несомненно потеряет свое действие и будет некоторым образом обречена нам на поругание.
В о с п и т а н н и к: Но история свидетельствует в пользу полной, неприкрытой правды. Стоики, например, доходили до грубости и жестокости в обнажении истины.
Н а с т а в н и к: Говорить истину с грубостию и жестокостию, которыми хвалились стоики, есть некоторым образом непозволительное самохвальство, совершенно противное той пользе, которую принести хочешь, и показывающее один только эгоизм, скрытый под маскою правдолюбия. Сверх того, никто не позволит себя учить: это противно самолюбию.
В о с п и т а н н и к: Наверное, это так. Но согласись, что сформулированные тобой правила хорошего тона более относятся к людям вообще. Что же касается близких и друзей, то как следует поступать в этом случае?
Н а с т а в н и к: Говорить правду другу – другое дело.
Уже в начале дневника намечается круг обсуждаемых проблем, центральную просветительскую идею которого можно определить так: назначение человека и мое назначение как личности, стремящейся стать человеком в истинном смысле этого слова. Каждой проблеме посвящена отдельная запись: служба отечеству; образование, научная деятельность; долг добропорядочного семьянина; воспитание характера. Исследуются отдельные этические категории: честь (параграф № 2); зависть (параграф № 13); дружба (параграф № 14); ложь (параграфы №№ 28–29).
Таким образом, опытный и мудрый Наставник проводит юного Воспитанника по лабиринту морали, чтобы тот мог свободно ориентироваться в сложностях жизни. Здесь умело используется сократовский метод доказательства от противного: что не есть прекрасная жизнь? Что является иллюзией таковой (параграф № 10). В доказательстве используется индуктивный метод. Рассуждая о жизни отдельного человека, автор приходит к обобщению, раскрывающему понятие счастья и счастливого человека.
Характерной особенностью стиля раннего дневника Жуковского является то, что отдельные его записи сделаны ритмизированной прозой. В них виден лирический поэт:
В минуты счастия вместе с нами:
– u – u – u u – u -
и внутреннего наслаждения, все прекрасно,
– u – u – u – u – u u – u -
которое одно когда наша душа в своем
– u – u – u – u – u – u – u
может назваться счастием, натуральном расположении
u – – u – u – – u – – u – – u – u – -
находишь себя довольна и спокойна;
– u – – u – u – u – u -
гораздо добрее, все мрачно и неприятно,
– u – – u – – u – u – – u -
готовее на все прекрасное, когда душа наша в волнении,
– u – u – u – u – u – u – u – u – u – u
и необыкновенное… в борьбе с собою,
– u – u – u – u – u – u -
все изменяется в неудовольствии,
u – – u – – u – u – u – u
Подобным же образом ритмизирован и отрывок параграфа № 17 записи от 17 июля 1805 г.[12] Оба отрывка родственны медитативной лирике Жуковского.
Но эти фрагменты являются лишь одиночными поэтическими вкраплениями в эпически развивающийся сюжет «романа» и служат своего рода лирическими отступлениями в драматически напряженном развитии действия, вторая часть которого начинается с введения новых «персонажей» и возникновения любовно-семейных коллизий.
Начиная с параграфа № 20 у Жуковского появляется новый собеседник – Е.А. Протасова: «Теперь все буду говорить с вами, ma chere maman <…>» А став воспитателем своих племянниц М. и А. Протасовых, поэт меняется ролями с воображаемым Наставником. Теперь он дает советы и поучает: «Прочту несколько книг о воспитании; сравню то, что в них предписано, с тем, что вы делали, воспитывая детей, и предложу вам свое мнение о том, что осталось делать».
Запись от 12 августа 1805 г. содержит диалог Жуковского с Машей Протасовой. Слова, непосредственно обращенные к ней, написаны по-французски, т. е. графически выделены в тексте с установкой на диалог (параграф № 13). Далее прямо говорится о том, что наставительно-дружеская запись рассчитана на ее прочтение адресатом: «Ты будешь это читать, моя милая Маша».
К 1806 г. относится обширный план дальнейшего ведения дневника. Он состоит из четырех главных пунктов и напоминает развернутый конспект автобиографического романа с перечнем событий и действующих лиц. Основу сюжетной линии составляет хроника русской жизни конца XVIII – начала XIX вв. Центр драматического конфликта перенесен на моральное сознание героя-автора. Содержание романа – нравственное становление молодого человека и влияние на него окружающей среды. В плане есть намек и на любовную линию. В разделе «Будущая жизнь» пункт 2 сформулирован так: «Какова теперь М<аша Протасова> и какою я ей желаю быть». В дальнейшем этот мотив разовьется в жизни Жуковского в самостоятельный роман.
К 1814 г. относится другой набросок плана взаимоотношений Жуковского с родными и близкими – Е.А. Протасовой, ее дочерьми, Машей и Сашей, и мужем Саши А.Ф. Воейковым. Это своеобразный «семейный роман», содержание которого должно составить внутренние отношения в семейном кругу. Логически развиваясь, «роман» Жуковского подходит к тому этапу, на котором герой – уже сложившаяся личность. Важен не процесс его формирования: это прошедший этап, описанный в «первой части». Интерес сосредоточен на отношениях зрелых людей, перед которыми стоит проблема создания семьи, семейного благополучия и счастья. Поэтому сюжетное действие ограничено рамками домашних событий при минимальном выходе во внешнюю жизнь. В плане связь с действительностью скупо обозначена в третьем пункте: «Образ жизни в Дерпте».
Однако вместе с событийной локализацией просветительско-воспитательная направленность «романа» не утрачивается. Хотя в самой жизни уже намечен конфликт (отказ Е.А. Протасовой выдать свою дочь Машу за Жуковского), поэт не переносит его в «роман», не драматизирует развитие сюжетного действия, а пытается направить его в русло разумно устроенных, взвешенных семейных отношений. Жуковский стремится отвлечься от реального хода событий, не укладывающихся в его литературный план. В «Плане» 1814 года отражены не отношения, которые складывались на самом деле в семействе Протасовых (рекомендация Жуковским Воейкова семье Протасовых, поддержка его сватовства к A.A. Протасовой, «предательство» Воейкова, его безнравственные поступки, ставшие причиной ранней смерти жены), а те, которые должны быть. Так, в разделе о взаимоотношениях с Воейковым записано: «Воейкову быть искренним на мой счет с Екатериною Афанасьевною. Говорить и обо мне и об Маше, как он думает. Ручаться, что мы против ее воли ничего не пожелаем; но уверить, что лишает нас счастья без причин»[13].
Цель семейного романа формулируется в разделе «Вообще»: «Наша цель: общее счастье». Если в первой части «романа»-дневника главной задачей было формирование нравственных понятий, в соответствии с которыми предстояло жить, то теперь эти понятия выработаны, им предстоит следовать: «чтобы составить наше счастье, нам не надобно ходить в даль за способами: они все у нас под руками; только хотеть и не отдалять себя от других, а соглашать свои понятия об нем с понятиями своих товарищей»[14].
Дневник 1814 г. резко отличается как от ранних, так и от поздних дневников Жуковского прежде всего своей формой: это моголог-исповедь. Он передает душевные переживания поэта в тот критический момент, когда окончательно решалось: быть или не быть его счастью с М. Протасовой. Запись от 22 февраля еще дышит надеждой на его возможность. Жуковский излагает свой глубоко прочувствованный взгляд на этот предмет. Но уже следующая запись, сделанная в ночь с 25 на 26 февраля, отражает душевный надрыв поэта. Некоторые фразы исповеди граничат с воплем отчаяния: «Во все последние годы не помню дня истинно счастливого»; «Сколько же печального! а все вместе – удел незавидный»; «Сам бросить своего счастия не могу: пускай его у меня вырвут, пускай его мне запретят..»[15]
В этом дневнике Жуковский отчетливее и откровеннее формулирует мотивы его ведения: «Скрывать все в самом себе и терпеть и даже показывать вид, что всем доволен, – принуждение слишком тяжелое, при откровенности моего характера, который, однако, от навыка сделался и скрытным»[16]. Как видно, в основе этого дневника лежит все тот же принцип замещения, только уже другого психологического содержания. В то же время дневник 1814 г. завершает автобиографический «роман» Жуковского хронологически. Другие элементы воспитательного характера, хотя и встречаются в записях последующих годов, относятся к другой жизненной эпохе, которая имеет свое содержание, а дневник, его отображающий, – свои мотивы.
Таким образом, дневники Жуковского первых двух периодов, несмотря на разбросанность записей по годам (1804–1806, 1810, 1814), представляют собой целостный «роман воспитания», созданный не художественными средствами, а в жанре интровертивного дневника. В нем есть все структурные и содержательные элементы, свойственные классическому жанру романа воспитания: идейный замысел, сюжет, внесюжетные элементы (лирические отступления), разнообразные речевые формы (повествование, рассуждение, диалог). Собранные воедино фрагменты рисуют следующую канву.
Молодой человек теряет Наставника (в романе воспитания один из вариантов – покидает родной дом) и вступает в самостоятельную жизнь. При этом, напичканный книжной мудростью, он самостоятельно строит план самовоспитания и деятельности (экспозиция). Герой становится учителем девушек-сестер, одна из которых впоследствии станет его возлюбленной (завязка). Мать девушки из-за предрассудков отказывает в благословении дочери, но контакты между влюбленными продолжаются; они не теряют надежды на счастье в отдаленном будущем (развитие действия). Происходит сцена решительного объяснения между героем и матерью девушки, за которой следует окончательный отказ. Чтобы уберечь дочь от соблазна, мать выдает ее замуж против воли. Герой переживает душевный надрыв и кризис (кульминация). Жизнь героя продолжается по соседству с молодыми. Мучительные переживания молодой и ее ранняя смерть (развязка).
Воспитательная тенденция романа сохраняется и на том этапе его развертывания, к которому относится история любви Жуковского (отрывок дневника 1810 г.). Последняя является составной частью «циклического становления» героя. Но в данном «романе» этот этап, в отличие от классического просветительского, является кульминацией действия.
Заключительная часть романа Жуковского пишется уже не только в дневнике, но и в письмах к М. Протасовой. Соблюдая запрет матери, Е.А. Протасовой, поэт и его возлюбленная вынуждены были писать друг другу письма из одной комнаты в другую, живя в одном доме, – совсем в духе «Новой Элоизы» Руссо. Психологические содержания сознания Жуковского распределяются по разным жанрам. То содержание, которое обладает наибольшей степенью интимности, объективируется в дневниковых записях, а то, которое рассчитано на адресата-собеседника, – в письмах.
Если в ранних дневниках монологический по форме текст содержательно был диалогизирован, то отрывок 1814 г. монолитнее и по сути и по своей речевой структуре: он пронизан единой эмоцией, как и письма данного периода.
Обобщающим выводом к эпилогу «романа» является афористическая запись в дневнике 1817 г.: «Жизнь есть воспитание. Все в ней служит уроком. Счастие жизни: знать хорошо свой урок, чтобы не постыдиться перед Верховным Учителем»[17].
В конце 1817 г. произошло событие, которое на долгие годы коренным образом изменило внешнюю жизнь поэта. С этого момента он руководствуется не идеальными планами и личными пристрастиями, а требованиями «службы». Вместе с этим меняется и вся философия жизни. Если в плане дневника 1814 г. стиль жизни и ее цель определяются с позиций просветительского оптимизма: «Жить как пишешь»[18], «Наша цель: общее счастие»[19], – то новые условия диктуют иной жизненный императив: «Не последнее счастие быть привязанным к тому, что должно»[20].
Изменения во внешнем бытии и нравственных установках привели к серьезным переменам. Психологические содержания сознания Жуковского, вследствие названных эволюций, формально пришли в соответствие с новыми жизненными задачами. Поэтому дневник на данном этапе перестает быть заместителем застоявшихся, не нашедших естественного выхода психических импульсов. Он трансформируется в традиционный журнал подневных записей, а сами записи формализуются, отражая по преимуществу факты внешней жизни. Но груз обязанностей давит настолько сильно, что тонкая психологическая организация поэта не в состоянии переработать обилие внешнего материала. От этого в дневниках и письмах звучат постоянные жалобы на загруженность делами либо, в периоды отдыха, на многообразие впечатлений. «От меня строк много не будет, – пишет поэт Вяземскому из Дрездена в 1826 г., – то, чем занимаюсь теперь день и ночь и что не дает мне ничем другим заняться, не годится в журнал <дневник>. Но оно <занятие с наследником> так владеет мною всем, что я ни за что постороннее приняться не способен»[21]. Путешествие по Италии, сопряженное с множеством художественных впечатлений, сопровождается следующими замечаниями: «Видишь Италию, а нет времени насладиться <…> это бездна, для которой нужны не часы, а годы»[22]; «так много, что память не в силах ничего сберечь»[23].
Во время путешествия по Германии в 1821 г. Жуковский посмотрел в театрах 62 драматических спектакля, 41 оперный, 6 балетных, посетил 8 концертов. Некоторые оперы и спектакли слушал по 3–4 раза. Встречался с известными актерами и исполнителями (Девриент, Радзивилл), писателями (Гофман, Тик, Шатобриан, Гете). Однако обилие художественных впечатлений и встреч никак не согласуется со скромностью записей о них.
Объяснение этому непонятному на первый взгляд явлению находим в пространной записи, сделанной во время этого путешествия: «<…> воля живет деятельностью, а я совершенно предал себя лени <…> и она все силы душевные убивает <…> Недеятельность производит неспособность быть деятельным, а чувство этой неспособности <…> производит в одно время и уныние душевное <…> Можно ли жить с таким унынием? Надобно или истребить его <…> или не жить <…> вместо того, чтобы сколько возможно заменить утраченное, я только и горюю об утрате <…> Надобно отказаться от потерянного и сказать себе, что настоящее и будущее мое»[24].
Сознание подсказывает поэту, что утраченной надежде на счастье надо найти замену, которая компенсирует ущербность его настоящего состояния. Ранее, в периоды душевных и жизненных кризисов, каналом перетекания застоявшихся психических содержаний был дневник (и частично письма); теперь же дневник самовоспитания и самонаблюдения оказался неэффективным средством замещения: он приобрел другую функцию, не стало адресата-собеседника.
В этот период дневник Жуковского в его функциональном назначении переживал переходный этап. Но Жуковский не мог этого осознавать по той причине, что находился еще в первоначальной стадии того жизненного алгоритма, который задал себе в октябре 1817 г., поступив на придворную «службу». Только регулярные путешествия поэта (прежде всего зарубежные) придали этому жанру его творчества определенную физиономию, какую имели ранние дневники.
Две группы дневников (1804–1806, 1814 гг.), которые представляют своеобразный автобиографический роман воспитания, в сопоставлении с классическим романом воспитания, имели существенный изъян. В «романе» Жуковского отсутствовала часть, которая в классической традиции носила название «Годы странствий» (трилогия о Мейстере Гете, «Зеленый Генрих» Келлера и др.) Содержание этой части обыкновенно составляло описание того, как во время путешествий расширялся горизонт познания героя, как знакомство с жизнью различных народов и культур способствовало окончательному становлению его личности. В дневниках Жуковского, как в «проторомане», нарушается хронологическая последовательность классической схемы, зато соблюдается жизненная логика их автора. «Годы странствий» падают на зрелый период его жизненного пути. Обстоятельства сложились так, что знакомство Жуковского с европейской цивилизацией проходило не в ранние юношеские годы, как у братьев Тургеневых, а ранее у Радищева и Карамзина, а в период, когда он был уже известным автором, главой национальной школы в поэзии.
Тем не менее дневники 1820–1830-х гг. восполняют недостающую часть его автобиографического эпоса и ярко живописуют процесс художественного, политического и гражданского воспитания их автора. Встретившись с Жуковским в Германии, А.И. Тургенев писал брату Николаю в сентябре 1827 года: «Здесь началось его <Жуковского> европейское образование»[25].
Дневники 1820–1830-х гг. отличаются от ранних не только содержанием записей, но – главное – принципом отбора материала и способом его фиксации. Расширение культурного горизонта и практическое знакомство с европейской цивилизацией, которая представляла целый мир индивидуальностей, привело к смещению познавательных акцентов. Общие рассуждения о человеке в духе абстрактного гуманизма, свойственные ранним дневникам, сменяются интересом к отдельной личности. «Встреча с человеком по сердцу есть то же, что вдруг открывшийся глазам прекрасный вид с горы на поля, долины и реки. И то и другое удивительно действует на душу, и то и другое пробуждает в ней все хорошее»[26].
Фрагментарность большинства записей Жуковского в дневниках этих лет свидетельствует о том, что всем своим существом поэт впитывал в себя многообразие духовной культуры Европы, а результаты этого образования в переработанном виде откладывались в сознании поэта. Дневник утратил прежнее значение заместителя невыраженных содержаний. Эти содержания находили выход естественным путем: в многочисленных встречах с деятелями культуры и политики, собратьями по перу, расширившимся кругом знакомых – словом, в свободном общении, не сдерживаемом более искусственными запретами.
В таком случае возникает вопрос: зачем тогда вообще Жуковскому нужен был дневник, в котором нередко встречаются пространные и обстоятельные записи? К тому же он взял за правило редактировать их, т. е. переписывать с черновика набело.
Дневник как интимный жанр более всего отвечал субъективности поэта, которая находила выход в лирических излияниях и соответствовала природе его таланта. Существенную роль сыграла в этой привязанности Жуковского к дневнику и многолетняя привычка. Делать записи изо дня в день стало для поэта потребностью, граничащей с неутолимой жаждой художественного творчества.
Петр Андреевич ВЯЗЕМСКИЙ
«Записные книжки» П.А. Вяземского по своему жанровому содержанию являются оригинальным образцом дневниковой прозы. Само название свидетельствует о том, что это не дневник в обычном смысле слова. С точки зрения литературной иерархии записные книжки не являются дневником, а представляют собой самостоятельный жанр со своими специфическими структурными элементами. От дневника записные книжки отличаются методом (отбором материала), принципом записи, т. е. оформлением материала, функциональностью и рядом других характеристик.
Записные книжки могут вестись параллельно дневнику, как это мы встречаем у Л.H. Толстого, А.П. Чехова, А.С. Суворина и других писателей XIX в. В писательской практике записные книжки зачастую играют роль первичных записей, своего рода подготовительных набросков к будущим произведениям. Однако это обстоятельство не дает оснований утверждать, что записные книжки как жанр являются лишь вспомогательным материалом. В истории жанра имеется немало случаев, когда записные книжки вырастали в самостоятельное, литературно (и даже художественно) полноценное произведение, как, например, у И. Ильфа и Е. Петрова или У.С. Моэма в XX столетии. В XIX в. такое значение приобрели «Записные книжки» Вяземского.
Изначально они осознавались как самостоятельный жанр в системе жанров поэта и, в отличие от записных книжек других авторов, предназначались к публикации. Вяземский сам готовил материалы к изданию и проводил редакционную работу. Это важное обстоятельство также отличает записные книжки от дневника.
Исследователями давно отмечена «гибридность» данного литературного памятника, его жанровая многослойность. Предпринимались попытки даже отделить собственно дневниковую часть от других жанровых образований, что отразилось в издании 1992 г. (М., серия «Русские дневники»). С точки зрения издательской практики такая вивисекция допустима. В научном же отношении «Записные книжки» Вяземского необходимо рассматривать исключительно как единое целое. Этот памятник является хотя и нетипичным, но тем не менее бесспорным образцом дневниковой прозы. Основание к такому выводу дает сравнительно-историческое изучение произведения Вяземского и дневников других авторов, т. е. анализ в автономном жанровом ряду.
От обычного журнала подневных записей книжки Вяземского отличаются тремя сущностными признаками: жанровым дуализмом, многофункциональностью и иррегулярностью. От них соответственно зависят и другие, частные модификации жанровых составляющих. Кроме того, важным фактором, повлекшим видоизменения дневниковой структуры всего произведения, стало психологическое и творческое своеобразие личности писателя.
Обычно записная книжка представляет собой ряд мыслей, чаще всего разрозненных, не связанных между собой логически. Записи в ней делаются на память, в тот момент, когда мысль приходит в голову. Дневник вбирает в себя наиболее значимые события дня. Интровертивно ориентированные дневники (т. е. дневники, фиксирующие события внутренней, душевной жизни) также имеют дело с мыслительным материалом и в этом отношении близки записным книжкам. Однако в дневнике факты душевной жизни выстраиваются в последовательный ряд и образуют своего рода развивающийся сюжет, в отличие от фрагментарной самостоятельности и композиционной завершенности материалов записных книжек. Точкой соприкосновения двух жанров может быть тематическая близость фрагментов книжек, с одной стороны, и отразившихся в дневнике размышлений – с другой. Дневник и записные книжки Л. Толстого демонстрируют именно такое сродство. Тематически однородные записи из книжки переносятся в дневник, так как это удобно в техническом отношении: мысли приходят в течение всего дня, а запись в дневнике делается поздно вечером.
Помимо прагматических соображений, соединение дневника и записной книжки в единое целое было вызвано еще одним обстоятельством. При отборе материала для дневниковой записи автор руководствуется выработанной системой или принципом. В зависимости от этого в дневнике обязательно присутствует идейно-тематическая доминанта. У Л. Толстого, к примеру, такой доминантой были нравственные и религиозно-нравственные идеи. В психологическом и духовном отношении Вяземский не был такой монолитной фигурой, как Толстой. Его интересы, как видно из записных книжек, постоянно перемещались с одного предмета на другой: с политики на литературу, с истории на современность и т. п. Психологически Вяземскому было трудно держаться в строгих жанровых границах и соблюдать методологическую последовательность записей. Поэтому он выбирает свободную манеру изложения, свободную в том смысле, что она позволяла ему без излишней эстетической щепетильности переходить от поэзии к прозе, от анекдота и вымысла к голому факту.
Для ежедневного скрупулезного ведения записей Вяземскому не хватало усидчивости. Он, поэт, писал тогда, когда его посещало вдохновение. Временами периодичность записей стабилизировалась. Но терпения хватало ненадолго, и Вяземский снова переходил к свободной выборке материала для своих книжек. Тем не менее в целом поэт проявил незаурядное постоянство, ведя свой оригинальный журнал в течение десятилетий.
Важнейшим признаком, подтверждающим принадлежность записных книжек Вяземского к дневниковому жанру, является наличие в них структурных элементов дневника. Рассмотрим последовательно каждый из них.
Жанровый дуализм определил функциональное своеобразие книжек. Сама манера их ведения проливает свет на данную проблему. Вяземский часто делал записи одновременно в нескольких разных книжках, т. е. функционально разделял их. В этом выразилось стремление поэта охватить как можно больший сегмент материального и духовного мира. Записные книжки являлись не только хранилищем сведений о повседневной жизни их автора. В них должны были найти отражение многообразные связи, которые в другой форме трудно или невозможно было установить. Хронологическая последовательность и единый событийный ряд, свойственные обычному дневнику, не в силах были воссоздать состояние мира, в котором вещи и мысли подчинялись принципу относительности. Вяземский в его книжках представляет нам феномен, в котором логика абсолютного человеческого мышления уступает место стихии свободного восприятия мира и самовыражения.
Вяземский предназначал свое произведение для публикации, т. е. рассматривал его в ряду с другими жанрами своего творчества. Отличие записных книжек от лирики, историко-литературных штудий и критических статей заключалось в более широком охвате жизненных явлений, которого не доставало этим жанрам. Художественная условность и эстетическая нормативность, свойственные поэзии и литературно-критической прозе, ставили Вяземского-литератора в определенные рамки. Записные книжки представляли собой свободную форму, в которую могло вместиться все то, что не находило выражения в традиционных литературных родах и видах. Таким образом, функция дневника Вяземского была аналогична функции любого художественного произведения, предназначенного для восприятия читателем. Правда, осознание этого факта произошло не сразу.
Еще одним подтверждением функционального своеобразия книжек служит тот факт, что на протяжении всего долгого периода их ведения не встречается ни одного случая традиционных мотивировок потребности в дневнике. Но если проследить этапы становления этого жанра у поэта, то в нем можно найти разнообразные функциональные элементы дневника как жанровой формы, популярной в близких Вяземскому кругах.
Содержание первых двух книжек перекликается со студийными записями дневника Пушкина 1815 года. Третья книжка представляет собой путевой дневник, который вели многие литераторы – современники Вяземского (А.И. Тургенев, М.П. Погодин, А.К. Толстой). Но все эти и другие функциональные элементы содержатся в книжках имплицитно, как жанровые закономерности. Эксплицитно же Вяземский объясняет предназначение своего труда исторической необходимостью – желанием сохранить для потомства «физиономию времени»: «Надобно непременно продолжать мне свой журнал: все-таки он отразит разбросанные, преломленные черты настоящего» (с. 115)[27].
Помимо «объективной» мотивировки ведения дневника, Вяземский называет еще и субъективную причину – дань моде, подражательность. Действительно, эпоха романтизма была богата образцами нехудожественной повествовательной прозы: записками, мемуарами, биографиями великих людей. В своих книжках Вяземский следовал данной литературной традиции: «Зачем начал я писать свой журнал? Нечего греха таить, оттого что в «Мемуарах» о Байроне (Moor) нашел я отрывки дневника его. А меня черт так и дергает всегда вослед за великими» (с. 104).
В эпоху творческой зрелости Вяземский сознавал историческую ответственность своего поколения перед будущим и в этом отношении рассматривал значимость мемуарно-биографического и дневникового жанров: «Я всех вербую писать записки, биографии» (с. 144). Эти строки записной книжки перекликаются со словами Пушкина об исторической роли дневника, который служит «замечанием для потомства», может пойти «в пользу будущего Вальтер-Скотта».
Функционально многообразие книжек Вяземского не следует смешивать с временной сменой функции в классических образцах дневниковой прозы. У ряда авторов дневник имел различное предназначение на разных этапах его ведения. Так, юношеские дневники Жуковского, Никитенко, Дружинина, Милютина резко отличаются от их журналов зрелого периода. Если ранние дневники отражали свойственный данному возрасту процесс индивидуации, то впоследствии их функция у названных авторов видоизменялась в зависимости от особенностей жизненного пути, склада характера и мировоззрения.
У Вяземского видим иную картину. Параллельное ведение нескольких книжек само по себе говорит о разделении функций между ними. Заполнявшаяся в течение десяти лет третья книжка играла роль путевого журнала. Пятая содержит стихи автора, выписки из книг, размышления на политические темы, характеристики писателей, выдержки из писем. Подобная метода свойственна и поздним тетрадям. Таким образом, различие функций отдельных книжек вытекает не из особенностей возрастной психологии автора и тем более не из жанровой природы дневника, а из первоначальной творческой установки автора. Функциональная последовательность так же чужда книжкам Вяземского, как и жанровая однородность.
Если же попытаться выстроить все записи разных книжек в единый хронологический и смысловой ряд, то получится обычный дневник, в котором описание событий дня закономерно сочетается с отдельными мыслями, а также вбирает в себя различные литературные материалы: фрагменты писем, книг, художественные наброски, как и у многих авторов XIX века. Но тогда это были бы не записные книжки, а обычный журнал подневных записей, т. е. дневник.
Одним из важнейших отличий записных книжек от дневников является более или менее четкое датирование записей в последних. Для записной книжки этот показатель не имеет принципиального значения. В дневнике датировка указывает не только на последовательность событий, но и обозначает их пространственно-временную обусловленность. Мысли и факты, занесенные в записную книжку, могут вообще не раскрывать причинно-следственные связи между собой, а, следовательно, не нуждаются в категориях «здесь» и «теперь».
Например, начало шестой книжки у Вяземского не имеет точной датировки и приблизительно относится к 1828 г. Запись включает перечень стихотворений автора, афоризм на русском и французском языках, размышления о положении Польши и самопризнание о характере собственного мышления. Ничего не стоило поставить дату перед всеми этими фрагментами, но в смысловом отношении это нисколько не обогатило бы запись, не увеличило бы ее информативность. Подобные мысли могли забыться или прийти в голову в любое другое время, не будучи привязаны ни к какому конкретному месту или времени. В восьмой книжке автор сам признается в условности датировок, их содержательной безотносительности: «Я сбился с числами» (с. 169).
О пространственно-временной индифферентности материала записных книжек говорит и запись такого рода, сделанная под 15 декабря 1830 г.: «Записать когда-нибудь (курсив мой – O.E.) анекдот, рассказанный Фикельмоном о письме к вел. кн. Екатерине Павловне, найденном австрийским генералом на бале» (с. 147).
Однако было бы неверно сводить различия между хронотопом дневника и книжек к их жанровой специфике. В основе пространственно-временной организации произведения Вяземского лежит философский принцип относительности. В нем логика мышления и окружающего мира подчинена не условному человеческому хронотопу, воспроизводимому обыкновенно в дневниках, а закономерностям большого исторического времени, в котором перестановка отдельных малых событий несущественна с точки зрения масштабов истории.
В этом смысле весьма характерна запись под 4 декабря 1830 г., в которой три формы времени – пространства – психологическая, локальная и континуальная – философски осмысливаются именно в рамках такого исторического времени: «Вчера, просыпаясь, я умом своим перенесся в Варшаву без всякой причины <…> Через час получаю почту и известия о Варшавских происшествиях. Из писем и из печатного донесения худо их понимаю. Прапорщики не делают революции, а разве производят частный бунт. 14 декабря не было революциею <…> Тут дело запуталось, потому что его запутали <…> Раздел Польши есть первородный грех политики <…> Наполеон умел вести их на край света и на ножи. У нас же, напротив, хотят подавить» (с. 144–146).
В пространственно-временном отношении мир записных книжек Вяземского зиждется на одновременности происходящих в разных местах событий. В этом он лишь уподобляется, но не совпадает с континуальным хронотопом дневников. Континуальное время – пространство размещает события по разным точкам, но в пределах записи одного дня. У Вяземского же сходные события разносятся по разным книжкам с интервалом, величиной которого можно пренебречь в силу масштабов исторического времени. В этом кроется одна из причин необычного способа ведения Вяземским дневника, а в конечном счете – и «гибридности» его оригинального жанра.
На образном строе книжек лежит печать жанрового дуализма. В обычных подневных записях дневникового характера образы, как правило, даются силуэтно, несколькими штрихами. В незнакомом человеке выделяются бросающиеся в глаза черты внешности и поведения. Глубинные основы характера или главные душевные струны не изображаются либо по причине мимолетности знакомства, либо из-за особенности описываемой ситуации.
Объемно образы в дневниках даются чаще всего двумя способами. Тот или иной человек фигурирует в нескольких записях, в каждой из которых его образ углубляется, и в результате возникает законченный психологический портрет. Порой такой портрет создается из доминирующих черт характера, без деталей и нюансировки. Последний прием, например, свойствен дневникам Л. Толстого докризисного периода (образы Ергольской, И.С. Тургенева и др.), ряду образов в дневниках Никитенко.
Вторую группу представляют портреты-характеристики ушедших из жизни людей или знаменитых деятелей прошлых эпох. В жанровом отношении они напоминают сжатый очерк личности и ее деятельности. Подобный прием создания образа встречаем в дневниках Герцена, Никитенко, В. Муханова, Суворина.
Записным книжкам не свойственны повторяющиеся портреты-образы. В них образ дается однажды и по возможности полно. Его особенностью является безотносительность к событиям текущего дня. Он может возникнуть в сознании автора по случайной ассоциации с прочитанной книгой, газетой, политической новостью. В таком образе преобладают черты, характеризующие общественную значимость «персонажа» книжки.
У Вяземского мы не найдем законченных психологических портретов. Образный строй его произведения не богат яркими характеристиками. Вместе с тем мы здесь встретим типичные для жанров дневника и записной книжки приемы.
В ранних записях ощущается жажда молодого писателя изучать мир и характеры. В своем дневнике он набрасывает силуэты людей, с которыми ему второй раз вряд ли придется встретиться. Но в этих мазках уже угадывается проницательность и художническое чутье автора: «<4 августа 1818 г.> Краков <…> Обедал у Комиссара: добродушный старик; несвободно, но умно изъясняется по-французски; разговора веселого: ласков до крайности. Во время обеда приехал президент сената: Wodziski умный, уваженный человек; по-французски говорит очень хорошо» (с. 33); «13 августа <…> Обедал у аббата Быстроновского. Добрейший человек: что-то Нелединского в лице, т. е. в чертах, а не в выражении. Деревенский Нелединский» (с, 41); «<январь 1828> Архиерей Ириней: отец его серб, мать молдаванка, воспитан был в Киеве. Прекрасной наружности и что-то восточное в черных глазах, в волосах и в белых зубах, и в самих ухватках. Выговором и самими выражениями напоминает он мне В.Ф. Тимковского, с которым он учился и коротко знаком» (с. 55).
Подробные характеристики-портреты встречаются в зрелый период жизни и творчества Вяземского. В них чувствуется солидный опыт и устоявшиеся пристрастия и вкусы автора. Одна из таких характеристик принадлежит литературному противнику Вяземского Н. Полевому и появляется в дневнике в качестве некролога последнему. Она резка и одностороння, но тем не менее дает оценку всей деятельности этого литератора: «Полевой заслуживает участия и уважения как человек, который трудился, имел способности <…> Вообще Полевой имел вредное влияние на литературу <…> Полевой у нас родоначальник литературных наездников, каких-то кондотьери, ниспровергателей законных литературных властей» (28.02.46).
Аналогичным способом созданы образы-портреты Уварова и Блудова, также относящиеся к позднему периоду работы Вяземского над книжками (1844 г.).
Все названные приемы можно назвать конструктивными, потому что с их помощью автор создает образ самостоятельно – либо посредством личного общения, либо по сумме поступков и дел человека. Другая группа образов создана репродуктивным приемом: автор воспроизводит в книжке бытующую в данной среде легенду о том или ином человеке. Для Вяземского в таких случаях главным является не то, насколько истинна легенда, а степень доверия к тому, кто ее распространяет. Иногда образ создается стоустой молвой либо представляет собой типичный анекдот. Тем не менее в книжке он фигурирует на равных правах с «реалистическим» образом. G эстетической точки зрения «легендарный» или «анекдотичный» образ имеет преимущество перед «реалистическим», так как содержит в себе богатое художественно-выразительное начало: «Киселев говорит о Вронченко: это Каратыгин нашей министерской труппы. – В прениях Совета и Комитета министров он ужасно размахивает руками, хватается за парик» (14.11.45); «Адмирал Рикорд говорит о смерти Полевого: лучше бы умерло двадцать человек братьев генералов. Государь одним приказом мог бы пополнить убылые места, но назначения таких людей, как Полевой, делаются свыше» (28.02.46).
Особое место в системе образов дневника занимает авторский. В классическом дневнике он строится не только методом самовыражения. Присутствие автора в описываемом событии или его отношение к таковому тоже является способом авторской характеристики.
В своих книжках Вяземский постоянно меняет облик, представая перед читателем то в «полный рост», то прячась за афоризмом или философской максимой, то «замещая» себя собственными стихами. Такая многоликость сродни жанровому содержанию произведения. Образ автора в его разнородных проявлениях предстает перед нами личностью непостоянной и самокритичной, любознательной и общительной, импульсивной и раздражительной.
Две меткие автохарактеристики, помеченные 1829 и 1846 гг., довольно ярко показывают особенности «натуры» писателя, которые повлияли на манеру ведения его записок. Противоречия между намерениями и исполнением, природным складом и жизненной прозой стали причиной не только личных и служебных неурядиц – они предопределили расхождение между планом и жанрово-стилевой эмпирией произведения: «У меня много решимости в предначертании плана, но в самую минуту эту чувствую, что не достает сил, чтобы поддержать исполнение оного» (3.10.29); «Что дано мне от природы – в службе моей подавлено <…> Знать, так мне на роду написано <…>» (28.10.46).
Типологию своих книжек Вяземский определил в записи под 22 сентября 1830 г.: «Когда решишься быть поэтом событий, а не соображений, то нечего робеть и жеманиться» (с. 215). Мир внешних явлений преобладает у Вяземского над фактами душевной жизни. Однако эта пропорция заметно отличается от экстравертивных дневников других авторов. Необычная внутренняя динамика записок попеременно выводит на передний план то внешние явления («события»), то внутренние («соображения»). Неуравновешенный характер, холерический темперамент автора вычерчивают осциллирующую типологическую кривую в книжках. Если у ряда писателей (А. Тургенев, Никитенко, Дружинин) переход к изображению внешних событий после нескольких лет подробного воссоздания душевной жизни был вызван возрастными причинами, то у Вяземского типологическая динамика не зависит от смены возраста. Она имеет хронический характер. Тем не менее количественно «внешнее» преобладает над «внутренним» в силу неистощимого интереса автора к миру. Любопытство то и дело заставляет Вяземского отвлекаться от сосредоточенности на своих мыслях. Меняющаяся картина мира для него гораздо интереснее бурлящей, но ограниченной пределами сознания мысли. В этом кроется еще одна причина того, что автор «Русского бога» вел параллельно несколько книжек: такая метода позволяла распределять «внешний» и «внутренний» материал в зависимости от смены объекта внимания автора.
Жанровое содержание книжек едва ли поддается точному определению и рубрикации в соответствии с устоявшейся традицией. Сам поэт в письме к П. Бартеневу от 6 апреля 1873 г. не смог подобрать более или менее приемлемого названия своему детищу: «Вот вам тяжеловесное приношение <…> Можете рассматривать заметки, как угодно <…> Этот фейерверочный букет, кажется, довольно удачен <…>» (с. 348)[28].
Подобное высказывание было не просто констатацией относительности жанровых границ уже завершенного и подготовленного к печати произведения. Здесь Вяземский исходил из принципиальных соображений эстетического характера. Как литературный старовер он все еще считал (будучи солидарен в этом мнении с Белинским периода «Литературных мечтаний»), что у нас нет литературы и что ее появлению должен предшествовать период накопления фактического материала. В восьмой книжке он писал: «<…> мы можем собирать одни материалы, а выводить результаты еще рано».
Дневники-книжки Вяземского в жанровом отношении представляют собой арабески. Они действительно являются своего рода подготовительным материалом для будущих произведений различных жанров. В них можно найти фрагменты романа (пятая книжка), юридического и морального трактата (записи о казни декабристов), критической статьи (о стихах Батюшкова, под 22 июля 1825 г., и Пушкина под 22 сентября 1831 г.), книги очерков об Англии (20 сентября 1838 г.) и ряда других жанров.
На жанровую поливалентность в известной мере оказал влияние метод дневника. В данном случае метод следует понимать двояко: как систему работы над книжками и как принцип отбора жизненного материала. Первое значение раскрывает сам Вяземский. Он признается в том, что характер его мышления не позволял ему упорядочивать разнообразный материал: «Мои мысли лежат перемешанные, как старое наследство, которое нужно было бы привести в порядок» (книжка шестая). Следствием способа мышления стала и методика работы писателя, о которой он в «Автобиографическом введении» сказал так: «писал не усидчиво, а более урывками» (с. 306)[29].
В книжках фактически нет записей, которые, как в классическом дневнике, фиксировали бы события дня. Даже те немногие образцы, которые по манере ведения приближаются к обычной подневной записи, имеют характер фрагментарности либо строгой отобранности.
Второе значение понятия «метод» также раскрывается самим автором. Даже при беглом чтении дневника Вяземского бросается в глаза обилие сведений, которые писатель черпает не из личного опыта, не из пережитого и перечувствованного, а из «вторых рук». Это анекдоты, слухи, предания, которые не имеют абсолютной достоверности, а находятся на грани факта и вымысла. К ним относятся легенды о Державине, Фонвизине, Киселеве, Канкрине, Перовском, зарубежных исторических деятелях. Как художник Вяземский во всем этом видит типическое, выражающее суть («дух»), а не «явь»: «Соберите все глупые сплетни, сказки, и не сплетни и не сказки, которые распускались и распускаются в Москве на улицах и в домах по поводу холеры и нынешних обстоятельств. Выйдет хроника прелюбопытная. По гулу, доходящему до нас, догадываюсь, что их тьма в Москве, что пар от них так столбом и стоит: хоть ножом режь. Сказано: «литература является выражением общества», а еще более сплетня, тем более у нас нет литературы. У нас литература изустная. Стенографам и должно собирать ее. В сплетнях общество не только выражается, но и выхаркивается. Заведите плевальник <…>» (с. 201–202).
Вяземский – автор записных книжек был родоначальником направления в данном жанре, которое активно использовало на страницах своих дневников анекдот и сказ как равноценный факту материал. К нему относятся В. Муханов, Одоевский, Добролюбов, Суворин. В какой-то степени дневники подобного содержания стимулировали проникновение сказа, анекдота, курьезного случая и в «большую» литературу (Достоевский, Лесков). По времени это совпало с публикацией книжек Вяземского (так же, как и дневника Муханова).
Насыщенность книжек подобным материалом придавала их содержанию надличностный смысл. Журнал частной жизни превращался в общезначимый род литературы. В таком дневнике субъективное начало переносило акцент с выражения на оценку. Отсюда оставался один шаг до «Дневника писателя» Достоевского и Аверкиева. А сам факт прижизненной публикации книжек уравнивал их в правах с оригинальным жанром последних.
Александр Сергеевич ПУШКИН
В исследовательской литературе и издательской практике «Дневнику» Пушкина было отведено место в ряду жанров служебно-вспомогательного характера. Такая классификация наложила свою печать как на собирание и изучение материалов дневника, так и на осмысление его роли в духовной эволюции поэта.
Дневник никогда не рассматривался автономно, как самостоятельный жанр в его внутренних закономерностях и характеристиках. Первый издатель пушкинского дневника Б.Л. Модзалевский не отделял его от других историко-документальных жанров в творчестве поэта: Пушкин, – писал исследователь в 1923 г., – «пытался внести свою лепту в сокровищницу русской историографии путем собственного Дневника»[30]. Комментатор одного из последних изданий «автобиографической прозы» поэта С.А. Фомичев относит дневник к «экспериментальным поискам Пушкина в мемуаристике»[31].
Однако анализ пушкинского дневника в общем потоке «автобиографической прозы», с точки зрения жанровой недифференцированности не соответствует историческому месту этого жанра в литературном процессе эпохи и в системе жанров творчества Пушкина.
В 1810–1830-е гг. дневник был популярен во всех образованных слоях общества и осознавался как хроника личной, семейной или общественной жизни. Первый биограф Пушкина П.В. Анненков именно так воспринимал дневник поэта, называя его «журналом или дневником семейных и городских происшествий»[32]. В основе такого понимания жанра дневника лежит принцип неотобранности и незавершенности зафиксированных в нем событий в отличие от автобиографии и мемуаров, где факты проанализированы и подвергнуты цензуре памяти и сознания.
В «Начале автобиографии» Пушкин писал: «Несколько раз принимался я за ежедневные записи и всегда отступался из лености. В 1821 году начал я свою биографию <…>»[33]. Хотя здесь дневник как будто и рассматривается в контексте «автобиографической прозы», тем не менее он отчетливо выделяется в самостоятельный жанр. Пушкин вел дневник с разной степенью последовательности и интенсивности в течение 20 лет. Уже этот факт свидетельствует о важном значении, которое поэт придавал данному жанру.
Если рассматривать дневник Пушкина в общем потоке литературы этого жанра первой трети XIX в., то смело можно сказать, что в нем нашли отражение все многочисленные жанровые закономерности дневниковой прозы его времени и – более того – были предвосхищены основные тенденции развития дневника середины и конца столетия.
Дневник как самостоятельный жанр в творчестве Пушкина может быть рассмотрен в трояком аспекте: 1) функционально, 2) в своем жанровом ряду и 3) сравнительно.
К середине 1810-х годов, т. е. к моменту первой попытки Пушкина систематически вести журнал подневных записей, литературный дневник имел свою жанровую историю и выработанные средства письма: принцип отбора материала, жанровые формы, приемы записи и оценки событий. Но исходным пунктом, началом начал любого дневника было осознание его автором предназначения своего регулярного журнала – жизненных наблюдений. В этом смысле дневник также имел сложившиеся традиции.
То определение функциональности пушкинского дневника, которое сложилось в науке, а именно: одна из разновидностей автобиографических материалов, – справедливо лишь отчасти. Дневник как жанр уже в пушкинскую эпоху характеризуется многофункциональностью. Предназначение его колебалось от автопортрета частной жизни до панорамы культуры и общества эпохи.
Функция дневника тесно переплелась с его адресностью. В первой трети XIX в. наибольшее распространение имели: диалогизированный дневник, адресованный собеседнику из круга родных и друзей (В.А. Жуковский, С. П. Жихарев, А.П. Керн); интимный, предназначенный для личного перечитывания (А.Н. Вульф, В.К. Кюхельбекер, A.B. Никитенко); документально исторический, завещанный потомству и истории (А.М. Бакунин, В.П. Горчаков). К последней группе примыкал и дневник Пушкина.
Однако к осознанию такой роли своих записок Пушкин пришел лишь на завершающем этапе работы над ними, когда историзм его мышления развился до всеохватной полноты. Подтверждением этого являются дневниковые записи 1834 и начала 1935 г. «18-го декабря <1834 г.> Третьего дня был я наконец в Аничковом. Опишу все в подробности, в пользу будущего Вальтер-Скотта»; «8 января <1835 г.> <…> 6-го бал придворный (приватный маскарад). Двор в мундирах времен Павла 1-го <…> Замеч. для потомства <…> Февраль <…> На балах был раза 3; уезжал с них рано. Придворными сплетнями мало занят. Шиш потомству»[34].
Функционально дневник всегда отличался от художественной прозы, так как не ставил целью создание художественного образа и эстетическое воспроизведение действительности. Его функция изначально была сдвинута в область психологии: дневник являлся выразителем содержаний душевной жизни. Это подтверждает тот факт, что дневники вели не только литераторы, художники и политики. Основная масса дневников принадлежит людям, далеким от искусства и общественной жизни. Поэтому у писателей потребность художественного творчества функционально не совпадала, а зачастую и резко расходилась со стремлением объективировать события внешней и внутренней жизни.
Психологическая функция дневника не всегда осознавалась авторами, и его ведение могло начаться как подражание или реакция на моду. Если у дневника находились сильные заместители в виде других форм выражения психологических импульсов, дневник мог быть оттеснен или вовсе отстранен как литературное средство самовыражения.
Дневник Пушкина являет собой образец именно такой сложной функциональности. Эту психологическую особенность Пушкина отметил один из первых комментаторов его дневника П.Е. Щеголев: «Пушкин <…> поверял свои чувства только дневнику, но по временам не мог ограничиться и удовлетвориться тою свободой суждения, которую предоставлял ему дневник. Он давал иной исход своему чувству <…>»[35].
С проблемой функциональности тесно связана жанровая специфика пушкинского дневника. Записи за 20 лет представляют собой несколько жанровых форм и колеблются в своих границах в зависимости от жизненных обстоятельств. Повороты в динамике записей так же капризны, как и в судьбе поэта. Дневник отражает жизненную линию Пушкина наподобие графических зигзагов Л. Стерна. При всей скудности сохранившихся отрывков он силуэтно вырисовывает облик поэта в разные периоды его жизни: лицей – южная ссылка – Михайловское – Арзрум – светский Петербург.
Лицейский дневник – это преимущественно дневник литературно-студийный. Ему автор поверяет свои творческие замыслы, оттачивает поэтическое мастерство в стихотворных пародиях, создает психологические портреты-характеристики. Именно в этом он видит задачу своего дневника: «Вот главные предметы вседневных моих записок» (с. 8).
Две странички, сохранившиеся от записей начала 20-х годов, отражают беседы и споры на политические темы и отклики на злободневные европейские события в кругу будущих декабристов.
Несохранившийся «Кавказский дневник 1829 г.», реконструированный Я.Л. Левкович, живописует путешествие Пушкина в Арзрум и служит вспомогательным материалом для известного очерка.
Наиболее полно сохранился петербургский дневник 1833–1835 гг., который по своей жанровой принадлежности может быть отнесен к дневнику светской жизни.
Таким образом, дневник Пушкина представляет собой сложное жанровое образование, в котором отсутствует единая линия развития.
Зыбки и жанровые границы дневника: он от начала до конца остается на грани заметок на память, отдельных мыслей, портретов современников. Не случайно, что некоторые записи впоследствии оказались в произведениях других жанров. Например, анекдот о Давыдове, открывающий дневник 1815 г., позднее попадает в «Table talk» («Застольные разговоры»).
Жанровая пестрота дневника Пушкина свидетельствует не столько о творческой неразработанности этого непродуктивного у автора «Евгения Онегина» рода литературы, сколько вскрывает тот громадный потенциал, который заключал в себе дневник и который был реализован в послепушкинскую эпоху. Здесь линии Пушкина-поэта и Пушкина-прозаика совпадают с линией Пушкина-автора дневника, который, как тот и другой в определении судьбы последующей русской литературы, стоит у истоков жанрового богатства дневниковой прозы.
Специфика дневника как пограничного жанра, стоящего на стыке большой литературы и бытовых форм письма, обусловила и эстетику дневникового слова. Находясь между прозаическо-бытовым и художественным словом, слово литературного дневника может выступать в трех функциях – как информативное, аналитическое и эстетически нагруженное. В отличие от слова художественной прозы дневниковое слово несет большую информационную нагрузку, но обладает меньшими выразительными возможностями. Перераспределение функции слова зависит от жанра дневника и творческой задачи автора.
Поливалентность пушкинского слова находится в прямой зависимости от жанровой динамики его дневника. Информативное слово в нем превалирует, но его преобладание не всегда является качественным. Информативная интенсивность слова повышается в кратких записях и убывает в пространных.
От дневника 1824 г. южного периода сохранилось несколько скупых строчек. Но каждая из них обладает предельной информационной насыщенностью, так как связана со знаменательными или поворотными событиями в жизни поэта: смерть Байрона, отъезд и приезд в Михайловское, письмо Воронцовой. Для Пушкина, писавшего дневник для себя, подобные события не требовали развернутого изложения, они переживались эмоционально, оставляя в дневнике лишь неглубокие отметины, по которым впоследствии нетрудно было в полном объеме восстановить в памяти каждое из них.
Аналитическое слово в целом не свойственно пушкинскому дневнику. Оно встречается лишь в записях 1831 г., посвященных холерным бунтам. Эта часть дневника отличалась от других тем, что должна была служить материалом для несостоявшейся газеты. Диссонирующий характер интонационного строя записей бросается в глаза. Здесь обычное информационно-аналитическое слово облечено в форму императивного требования, что противоречит интимному характеру жанра, внося в дневник чуждый ему элемент публицистики: «<…> сие решительное средство <…> не должно быть всуе употребляемо»; «Народ не должен привыкать к царскому лицу»; «Царю не должно сближаться лично с народом»; «Уничтожьте карантины» (с. 16–17). Однако именно от этой пушкинской записи тянется нить к политической публицистике «Дневника писателя» Достоевского.
В дневнике Пушкина эстетически нагруженное слово встречается в двух разновидностях – как единичное вкрапление в информационно-повествовательный контекст и как организованное целое, обладающее смысловой самостоятельностью.
Первый вид призван мобилизовать художественно-выразительные возможности слова и аналогичен курсиву с его смысловой акцентировкой. Так, в записи от 2 июня 1834 г. благодаря одному вскользь брошенному слову сухая информативная фраза вдруг приобретает образную эффектность: «Вчера вечер у Катерины Андреевны <…> Говорили много о Павле I-м, романтическом нашем императоре» (с. 35).
В дневнике представлен ряд портретных характеристик современников Пушкина – А. Иконникова, А. Шаховского, В. Кочубея, С. Уварова. Созданные в разные жизненные эпохи поэта, они тем не менее выделяются на общем фоне, так как представляют собой автономные речевые образования, в которых эстетическое начало преобладает над информативно-повествовательным. Законы жанра не позволяли дать объемные психологические портреты известных людей; они намечены силуэтно, главным образом методом нанизывания характеристических деталей, и порой напоминают пушкинские рисунки-карикатуры на полях рукописей. Показательно, что портреты создавались поэтом как на начальной, так и на завершающей стадии ведения дневника. Они раздвигали рамки жанра и усиливали его выразительные возможности художественно-эстетическим элементом.
Эстетически нагруженное слово встречается в дневнике и в необычной функции. Будучи переведено из поэтического контекста в прозаический, оно утрачивает выразительные свойства и, как в зеркальном эффекте, поворачивается в отражении. Такой эффект производит запись от 19 ноября 1824 г.: «Вышед из Лицея, я почти тотчас уехал в Псковскую деревню моей матери. Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане, клубнике и проч., но все это нравилось мне не долго» (с. 14). Это – авторская парафраза LIV строфы I главы «Евгения Онегина» «Два дня ему казались новы уединенные поля <…>».
Таким образом, сугубо прозаический, бытовой язык дневника под пером Пушкина теряет будничное однообразие благодаря удачно встроенному эстетически значимому слову.
Типологически дневник Пушкина стоит в экстравертивном ряду образцов данного жанра. Сам автор отметил в дневнике это свойство своего характера: «Я любил и доныне люблю шум и толпу <…>» (с. 14). Поэтому записи, передающие внутренние переживания, почти отсутствуют у поэта. Дневник является хроникой внешней, публичной жизни Пушкина.
Однако дневник как средство отстраненной самохарактеристики не обладал для Пушкина самодостаточностью, что побуждало поэта на поиски дополнительных средств выражения. Одним из них стал автопортрет. Автопортретные рисунки дополняли, а порой и замещали дневник. В них «внешний» Пушкин вырисовывался силуэтно. Из взаимодействия графических и словесных средств создавался целостный образ личности поэта.
Крупнейший исследователь графики Пушкина А.М. Эфрос еще в 1930-е годы отметил эту особенность рисунков поэта: «Это дневник в образах, зрительный комментарий Пушкина к самому себе»[36].
Так же, как и дневники, автопортреты отражают меняющийся облик поэта. Дневниковый абрис в основном совпадает со стилистикой рисунков соответствующих периодов. Подобно зыбкости и неустойчивости дневникового материала в рисунках Пушкина отсутствует линейно-объемное постижение формы. Они в основном представляют собой контурный профиль.
Самый ранний автопортрет относится к 1816–1820 гг. На нем изображен Пушкин-лицеист. Как бы в pendant к форме лицейского дневника образ поэта дан в нем не в виде строго выдержанной замкнутой линии, а сочетает линеарность с пунктиром, которым намечены затылок и воротник мундира, – намек на незаконченность образа.
Погрудный портрет 1821–1822 гг. представляет Пушкина размышляющего. Взгляд его выразительных глаз направлен внутрь, в себя. Он как бы переносит нас в атмосферу напряженных политических и философских споров, в которой находился поэт в период южной ссылки и которая нашла отражение во фрагментах дневника той поры, написанных на французском языке.
Стилистика рисунка меняется в серии автопортретов, созданных под впечатлением путешествия в Арзрум. На них запечатлен Пушкин верхом, в бурке, круглой шляпе и с пикой. Рисунки выполнены в усложненной графической технике, приближенной к пластической моделировке: здесь использованы контурная линия, штрих и пятно. Сделана попытка передать движение.
В том же духе выдержан и дневник. Он исполнен динамики, живо передает местный колорит и изменчивый облик автора.
Усложненному стилю и пестроте содержания дневника 1833–1835 гг. соответствует и серия последних автопортретов поэта. Они выполнены в шаржированной, карнавализованной манере (Пушкин в образе безумца, пожилого человека, в виде скульптурного бюста) и как бы передают полуреальную, полуфантастическую атмосферу петербургского высшего света, в котором принужден был вращаться Пушкин в последние годы жизни.
Здесь графика и письмо впервые соединяются: они уже не замещают, а дополняют друг друга, создавая глубокий и противоречивый образ внешней и внутренней жизни поэта.
Неясные очертания графического образа в последнем автопортрете, соседствующем с колонкой цифр, передают полное трагизма одиночество поэта в «жадной толпе» недоброжелателей и клеветников. Этот портрет зримо представляет уходящего от нас Пушкина и логически и интонационно завершает дневник, обрывающийся на ноте отчаяния: «В публике очень бранят моего Пугачева, а что хуже – не покупают. Уваров большой подлец. Он кричит о моей книге как о возмутительном сочинении. Его клеврет Дундуков <…> преследует меня своим цензурным комитетом <…> Ценсура не пропустила <…> стихи в сказке моей о золотом петушке <…>» (с. 42).
Михаил Петрович ПОГОДИН
Путевой дневник – один из популярнейших литературных жанров в XIX веке. Своим происхождением он во многом обязан литературе путешествий эпохи романтизма и сентиментализма. Л. Стерн на Западе, А.Н. Радищев и Н.М. Карамзин в России сформировали устойчивый интерес к эстетическому выражению дорожных впечатлений, картин незнакомых стран, различных достопримечательностей и собственных переживаний в долгой дороге.
Писательским дневникам принадлежит значительное место в литературе путешествий. Помимо не дошедших до нас, но, как отмечают исследователи, существовавших и послуживших материалом для «Писем русского путешественника» дневников Карамзина, журнал дорожных впечатлений вели А.И. Тургенев, В.А. Жуковский, А.К. Толстой, А.Н. Островский, В.Г. Короленко, Н.Г. Гарин-Михайловский.
Дневник М.П. Погодина «Год в чужих краях»[37] занимает в этом ряду исключительное место. И по объему, и по богатству материала с ним сопоставима только книга Гарина-Михайловского «По Дальнему Востоку, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову». Дневник велся писателем в течение года во время поездки по странам Восточной и Западной Европы.
К тому времени Погодин уже имел многолетний опыт ведения ежедневного журнала, в который заносил события и впечатления дня. Новому дневнику отводилась иная функция: он должен был стать хранилищем картин и образов тех стран и народов, через которые лежал путь Погодина-историка. Дорожному дневнику Погодин придавал особое значение и поэтому издал его отдельной книгой для широкого круга читателей.
Помимо познавательной и художественно-эстетической ценности, дневник имел важное научное значение. В нем был собран богатый материал по современной истории европейских стран, о памятниках культуры континента, запечатлены встречи автора с политиками и учеными. Дневник интересен своим этнографическим материалом.
Отправляясь в длительное путешествие, Погодин имел программу и широкий круг задач, которые он стремился по мере продвижения на Запад не только решить, но и зафиксировать в своем дорожном журнале. Дневник выполнял функцию подготовительных материалов к будущему исследовательскому заданию, и без него ученый не представлял себе успешную работу. «В наше время, – писал он во второй тетради дневника – нельзя быть ни профессором истории, ни профессором археологии, ни профессором филологии без путешествия. Я вообразить себе не могу, что говорил о Риме по книгам, не видав его памятников» (ч. 2, с. 18).
В этом отношении погодинский журнал отличается от большинства путевых записок, авторы которых не так определенно ставят цель и последовательно движутся к ее достижению. Творческая установка дневника Погодина роднит его с художественным произведением в том смысле, что его план заранее известен и не совпадает с той открытостью, которая свойственна обычному дневнику. Погодин как бы создает художественное произведение по обдуманному замыслу, заполняя его теми деталями и подробностями, которые выявляются в процессе развития мысли в рамках творческого плана. Погодин заносит в дневник свежие впечатления, но они возникают в порядке, соответствующем принятой схеме путешествия. Это своего рода запланированные впечатления. Автор их ждет и в известной степени даже дозирует.
Функциональное своеобразие дневника наложило отпечаток и на его другие жанровые компоненты. Время и пространство как основные характеристики жанра подчинены замыслу и творческому плану дневника. Основным свойством времени в погодинской хронике является его спрессованность. Автор группирует впечатления и события дня в зависимости от скорости путешествия, которая, в свою очередь, определяется не возможностями средств передвижения, а запланированными сроками пребывания в том или ином пункте. Именно поэтому то тут, то там в повествовании встречаются жалобы на мимолетность впечатлений от какого-то важного памятника, события или встречи: «<…> требуется много времени, которое я должен развешивать по унции, чтоб в такое короткое время побывать везде и увидеть все, хоть по-русски как-нибудь» (ч. 1, с. 164); «То ли дело, думал я, в любезном отечестве никогда не опоздаешь, никогда не провинишься; нет ни на что никаких сроков» (ч. 1, с. 142); «Как досадно бывает подчас, что принужден спешить» (ч. 4, с. 20); «Наконец мы приехали в Пьяченцу <…> Обежав город <…> перехватив кое-что в гадкой гостинице, мы прибежали на почтовый двор только что к назначенному сроку» (ч. 4, с. 195).
Внешние ограничения распространяются и на пространственные объекты. Погодин движется по традиционному для русского культурного путешественника маршруту, несколько осложненному научными планами автора. К Германии, Австрии, Италии и Франции добавляются славянские земли (Польша и Чехия) и Бельгия с Голландией (он следует по ним больше проездом, чем в культурно-ознакомительных целях). Места более или менее длительного пребывания также связаны с давней традицией и вписываются в культурный путеводитель российского образованного слоя.
Все это относится к внешним рамкам хронотопа погодинского дневника. Но и его внутренний план не отличается своеобразием. Он тяготеет к традиционному построению путевых журналов первой трети XIX столетия. Погодин здесь остается вполне архаистом, нисколько не пытаясь подняться над старинными приемами и штампами. Смысл пространственно-временного мышления Погодина в дневнике сводится к тому, что при осмотре памятников культуры и центров европейской цивилизации он пытается посредством особого настроя чувств выйти за пределы современности и проникнуться духом той эпохи, в которую были созданы данные объекты. Эти психологические перемещения во времени, эмоциональное «переживание» исторической эпохи идут от сентиментально-романтической культуры с ее апологией прошлого и эстетизацией высших человеческих эмоций: «Чей это палаццо? Фоскари. А это? Пезаро <…> Я припоминал с скорбию историю этих замечательных фамилий. И готов был плакать. Куда все девалось?» (ч. 1, с. 193); «Я перенесся воображением, когда Венеция встречала таким образом какого-нибудь Дондоло (1204 г.), после того как он, 94-летний старец, возвращался к ней, покорив Константинополь <…> Что за празднества тогда были на этих водах» (ч. 1, с. 205); «Версаль должен напоминать Людовика XIV, его двор <…> Я совершенно перенесся в их век <…>» (ч. 3, с. 21).
Смещение исторического времени носит, однако, локальный характер, не распространяется на все содержание записи, так как входит в планы и замыслы Погодина-историка («нельзя быть ни профессором истории, ни профессором археологии», «не видав его <Рима> памятников»).
Основной текст дневника имеет устойчивую пространственно-временную структуру, подчиняющуюся не капризам фантазии его автора или культурно-историческим задачам, а последовательности событий, происходящих по маршруту путешествия. В соответствии с этим, время то замедляет свой бег (Петербург, Прага), то ускоряет его (Франция, Бельгия, Голландия). И здесь бросается в глаза зависимость времени от пространственных координат путешествия. В Петербурге и Праге, например, описываются те объекты, где автор останавливается с научными целями. Осмотр, участие в заседаниях, научные встречи «растягивают» время, хотя реально Погодин задерживается здесь на короткие сроки. Описание заседаний Академии наук, собраний археологической комиссии, встреч с учеными (Шишковым, Богуславским, Шафариком) создают впечатление длительного пребывания автора в этих местах. Замедляющаяся временная динамика создает отрицательный эстетический эффект. Невыразительные, монотонные описания имеют интерес только для их автора, а на читателя нагоняют лишь скуку.
Картина резко меняется тогда, когда Погодин попадает в центр европейской цивилизации, где время и жизнь текут в другом темпе. Писатель сразу отмечает это обстоятельство, так как едва поспевает за всем после психологически глубоких итальянских впечатлений: «Время здесь <в Париже> идет так скоро, что никак не успеешь за ним» (ч. 3, с. 79): «Время течет здесь, как вода, как деньги <…>» (ч. 3, с. 82).
Все последующие записи, с пространственно-временной точки зрения, отличаются своего рода аритмией, возникающей из-за несоответствия между физическим протеканием событий и отставанием психологического ритма их переживаний автором. Хотя писатель и осознает этот факт, ему все-таки трудно следовать обычному ритму («В Париже надо жить по-парижски и слушаться минуты» ч. 3, с. 24; «как досадно бывает подчас, что принужден спешить» ч. 4, с. 20).
Таким образом, хронотоп погодинского дневника представляет собой неоднородное образование. При господствующем положении локального времени – пространства в нем встречаются элементы исторического и психологического времени. Кроме того, хронотоп постоянно испытывает на себе то субъективное (авторское), то объективное воздействие. Подверженность различным влияниям создает нестабильность пространственно-временной структуры записей, что порой приводит к эстетической дисгармонии.
Структура человеческого образа в путевом дневнике подчинена его жанровому содержанию. Постоянное движение и кратковременность остановок препятствуют проникновению в характеры тех людей, с которыми автор встречается в дороге. Поэтому образы дневника путешествий преимущественно представляют собой структуру, основанную на внешних признаках, характеристиках и деталях. Это относится как к случайным дорожным знакомым, чем-то заинтересовавшим путешественника, так и к знаменитостям, знакомства с которыми он ищет.
Ограниченность образа внешними признаками, тем не менее, не исключает (в пределах данной схемы) некоторого разнообразия его оттенков или типов. Погодину это качество свойственно в особенности, так как длительность его путешествия предполагает определенные изменения в характере восприятия людей, природы, населенных пунктов.
Вначале следует остановиться на приемах создания образа у Погодина. Как уже отмечалось, Погодин во многих отношениях остается архаистом. Данное качество отчасти свойственно и его подходу к воссозданию человеческого образа, особенно на первом этапе путешествия. На образах ученых, с которыми историк встречается в России и за рубежом в процессе своего турне, лежит сильный налет сентиментализма. Погодина буквально переполняют чувства и положительные эмоции, когда он встречается с людьми науки – маститыми филологами. Об их образах со слов автора на страницах его записок нельзя сказать ничего определенного, поскольку все они скрыты за густым слоем восклицаний и патетических фраз: «Одно утро провел я в беседе с достопочтенным нашим A.C. Шишковым. Удивительно, как до сих пор, до таких преклонных лет, он сохранил такую живость чувства! Лишь только дойдет речь до славянского языка <…> глаза его засверкают, голос сделается звонче, он помолодеет» (ч. 1, с. 11); «Я внимал великому мужу <лингвисту Шафарику>, не смея дохнуть, опасаясь проронить одно слово, смотрел на него с благоговением. Казалось, что я слышу голос с того света, что передо мною стоит муж времен апостольских» (ч. 1, с. 114); «С каким почтением смотрел я на сих отшельников, посвятивших себя святому делу народного образования <…> Честь вам и слава, знаменитые подвижники, украшение человечества!» (ч. 1, с. 122).
В дальнейшем повествовании оттенок сентиментализма, хотя и сохраняется в отдельных образах и эпизодах, в целом утрачивает свое положение конструктивного приема. Он вытесняется зрительным принципом. Последний формируется под воздействием общей методологической тенденции путешествия, центрального принципа отбора материала. Зрительное восприятие является главенствующим в структуре переживания дорожных впечатлений и подчиняет себе все другие способы общения с внешним миром.
Встречаясь с известными людьми западной цивилизации, Погодин уже не предается тому восторгу, который был свойствен его восприятию людей славянской книжной культуры. Общий склад западного мира, культура отношений и строй личности вынуждают Погодина изменить характер восприятия и оценки человека. Не имея времени для детального и глубокого анализа характера, Погодин стремится предельно точно передать внешний облик той или иной европейской знаменитости: «Гизо – мужчина лет за пятьдесят, среднего роста, худощавый, с открытым лбом, легкой проседью в волосах, говорит внятно, – есть в нем нечто немецкое и протестантское» (ч. 3, с. 106); «Араго – человек лет под 60, высокий ростом, с навислыми бровями, черноволосый с проседью, очень приятной наружности, бодрый и свежий, в широком кофейном фраке, в жилете старого покроя» (ч. 3, с. 127).
Было бы неверным, однако, сводить изменения в принципах изображения человека в дневнике Погодина к социальным и культурно-историческим влияниям. Здесь мы наблюдаем и определенную эволюцию его литературной манеры. Она связана главным образом с изживанием остатков сентиментализма в стиле.
Разновидности образов. У Погодина отчетливо выделяются три группы образов по их внутренней структуре. К первой относятся собирательные, или коллективные образы. Они строятся по национальному и профессиональному признакам. Наличие таких образов в дневнике обусловлено научными целями автора. Поездка предпринималась с тем, чтобы на месте получить как можно больше сведений для будущих исторических трудов и преподавательской практики. В задачу автора входило обобщение почерпнутых фактов. Поэтому закономерны рассуждения историка как об отдельных личностях, так и целых общностях – профессиональных группах и национальных образованиях.
В подходе к подобным образам у Погодина отсутствует догматизм и предубежденность. Он не стремится подогнать под научные категории или готовые схемы факты, а напротив, пытается осмыслить имеющиеся знания в свете новых сведений: «Остальное время продумал о славянах и их великих корифеях, которым поистине принадлежит первое место в истории нашего времени <…> Понятия о славянах вообще очищаются у меня: чтобы судить верно, надо видеть все самому, надо переслушать много людей, с разными взглядами» (ч. 1, с. 91–92); «Поляки умны, любезны, живы, храбры, – но рассудка у них меньше, чем ума, как между романскими племенами у французов» (ч. 1, с. 42).
Аналогично строится образ профессионального типа. Хотя в задачу Погодина не входила аналитическая работа над подобным материалом, как художник и дотошный путешественник он наблюдает, делает обобщения и отмечает в дневнике характеристические особенности разных профессиональных слоев – ученых, политиков, парижских профессоров. Погодина интересуют не только люди культурного слоя. Как историк он ищет и схватывает особенности групп более низкой социальной категории: «Путевые содержатели – особенный класс людей, которые живут очень хорошо, пользуются порядочными доходами и имеют средства образовываться, давать воспитание детям. В пристойных домиках живут они на станциях среди своих семейств и могут вести жизнь мирную, честную, приятную и независимую» (ч. 1, с. 44).
Вторую группу составляют образы – типы, которые вырастают из предыдущей разновидности. Если собирательный образ в основном слагается из черт, свойственных всей массе, а индивидуальность, как правило, не выделяется, то тип фигурирует в записи как конкретная личность и одновременно соотносится с группой, которую он представляет. В ряду собирательных образов у Погодина обыкновенно нет характеров, типы же всегда являются вместе с тем и характерами. Это – личности, которые какими-то распространенными в обществе свойствами запомнились автору и которые он по этой причине связывает с целой категорией людей: «Сам Богуславский, в ученом костюме, т. е. без галстука, с длинными всклокоченными волосами, весь в пыли, одинехонек на вершине высокого университетского здания, был для меня очень занимателен, как верный образец немецкого ученого, который отделился от земли и живет один в своем особом мире» (ч. 1, с. 94–95); «Она <баронесса X. Из Вены> принадлежит к тому классу людей, который неизвестен у нас в России, но делается очень многочисленным в других странах, и особенно во Франции, к rentiers <…> Сообщу о ней несколько подробностей <…>» (ч. 1, с. 167).
Наконец, третью разновидность составляют характеры в прямом литературном смысле. Данная группа образов обладает отличительными чертами, свойственными только конкретной личности. Здесь писатель пытается выйти за ограничивающие рамки внешнего (костюм, прическа, манеры) и представить, как этот человек будет действовать. Характеристические особенности как бы помогают воображению дорисовать недостающие детали, являющиеся принадлежностью внутреннего мира: «Низенький человек <Тьер>, широкоплечий, но легкий, с плутовским взглядом, очень простой во всех своих приемах, без претензий. Кажется, у него нет никакой заботы и все дело в руках (выделено мной. – O.E.)» (ч. 3, с. 27). Правда, названное качество проявляется как намек, как тенденция в начале ее развития. Слишком мало времени было у Погодина, чтобы обстоятельно изучить характеры у заинтересовавших его личностей.
Погодин – летописец большой степени субъективности. Поэтому образ автора присутствует в каждой записи и не пытается спрятаться за многочисленными описаниями, как в итальянском дневнике А.К. Толстого или в «Дневнике русского» А.И. Тургенева. Образу автора, как и многим элементам структуры погодинского дневника, свойствен элемент сентиментализма. Многочисленные восклицания, восторги, риторические вопросы, богатейшая гамма эмоций сопровождают записи разного содержания – от заседания Российской академии наук до римских развалин и картин Рубенса.
Погодин – натура впечатлительная, не способная скрывать свои душевные порывы. Он всегда на первом плане повествования, хотя делает это и непреднамеренно. Погодину никак не удается отделить предмет изображения от своих переживаний и чувств, связанных с данным предметом. И это несмотря на то что в задачу автора входит описание внешнего мира, развертывающегося на пути его следования. Крайне редко Погодин смотрит на себя со стороны и отделяется от внешнего объекта. Это имеет место в тех немногих случаях, когда среда кажется ему чуждой и не вызывает глубоких эмоций: «Очень странно мне было видеть себя в куче военных мундиров, среди ружей и сабель» (ч. 3, с. 62).
Иногда образ автора создается по контрасту с воображаемыми собеседниками и оппонентами, которые разделяют иные, отличные от погодинских убеждения. Здесь автор, вообще редко излагающий свои воззрения, вступает в заочную полемику и косвенно выражает свою идейную позицию: «Что же вы, европейцы, чванитесь своим просвещением <…> Где оно? <…> Сердце у меня обливалось кровью всякий раз, когда я останавливался и смотрел на них <итальянских нищих>. Вы, философы, особенно гегелисты, особенно наши доморощенные журнальные пустозвоны, посмотрите полчаса на неаполитанских лацаронов, на венгерских словаков, на парижских каторжников <…> и доказывайте потом, что все хорошо, необходимо и разумно» (ч. 2, с. 163–165).
В целом, несмотря на постоянное мелькание в «кадре», образ автора не отличается глубиной и сложностью построения. Перед читателем человек консервативных убеждений, сентименталист эпохи Карамзина и Шаликова. Он видит перемены, происшедшие со времени автора «Писем русского путешественника», но не в состоянии изменить строй своих чувств и верований. Путешествие обогащает его знаниями, но сам процесс приобретения знаний он понимает как кумулятивный: к уже имеющемуся книжному знанию присоединяется живое созерцание известного предмета. Качественных изменений в его мировоззрении не происходит. Наоборот, путешественник еще больше укрепляется в своих взглядах на важнейшие вопросы науки, политики, жизни.
С этой точки зрения путевой дневник Погодина принципиально отличается от дневников путешествий периода индивидуации (Н. Тургенев, Е. Телепнева, И. Гагарин, И. Аксаков, М. Башкирцева), авторы которых возвращались с совершенно новыми взглядами и жизненным опытом. «Год в чужих краях» принадлежит в экстравертивному типу дневников. Задача путешественника Погодина состоит в знакомстве с разными странами, народами, культурами. А цель дневника – в подробном описании увиденного. Познавательная и творческая установка не раз подчеркивалась автором в его путевом журнале: «Я сижу на козлах и пожираю глазами все предлежащее и предходящее» (ч. 2, с. 2); «Все время посвящается кофейням, палатам, ресторациям, улицам, бульварам и спектаклям! Вот где я лучше всего познакомлюсь с Парижем, с французами и их историей» (ч. 3, с. 24); «Надо хоть взглянуть на все» (ч. 3, с. 83).
В план дневника не входит анализ впечатлений и событий. Это дело будущего, по возвращении на родину. Вначале надо накопить материал. И это задание вполне отвечает научным замыслам и интеллектуальному складу Погодина-историка и литератора.
Как же обстоит дело с субъективными переживаниями увиденного и специфическими формами их выражения, о которых говорилось выше? Не являются ли они элементом авторской интроверсии и не служат ли психологическим противовесом «объективистской» части записей? Как уже отмечалось, рудименты сентиментального мышления и стиля сохраняют свою силу и значимость до последних страниц. Однако они не составляют объекта изображения в повествовании. Разнообразные чувства и эмоции служат дополнением к изображению объективного мира. Это своего рода аккомпанемент к мелодии, развивающейся по своим законам.
Правда, нередко встречаются записи, в которых сам внешний объект не описывается, а передаются лишь переживания автора в процессе его созерцания «<…> не достает слов на описание <Лaoкоона> Молчать и наслаждаться. Да, изящное производит гармонию в душе» (ч. 2, с. 71). Эти вкрапления, тем не менее, не являются автономными идейными образованиями. Они интегрированы в общее содержание записи и составляют ее неотъемлемую часть. Любая запись, в которой наряду с воспроизведением внешнего материального мира описывается отношение автора, является органическим целым. В ней нельзя резко отделить объективный план от субъективного. В сознании автора оба присутствуют нераздельно.
Главным предметом изображения от начала до конца остается динамика развертывающейся действительности. И все попутные элементы субъективно-психологического характера, как переживания, воспоминания, неприятные ощущения, являются составной частью общей картины мира. Фактом является то, что субъект не изолирован от изображаемого. И в этом отношении дневник Погодина отличается от дневника А.К. Толстого и большей части «Хроники русского» А.И. Тургенева, в которых повествователь практически выведен за план изображения. Во всяком случае его присутствие explicit не ощущается. Но у Погодина объективные явления внешнего мира не стали и поводом для внутренних переживаний, которые становятся самостоятельными сущностями, как в интровертивных дневниках.
Вместе с тем Погодин не пытается, как Л. Толстой, отделить увиденное от переживаемого и мыслимого, расчленив запись на две самостоятельные части. Типологически журнал Погодина до конца сохраняет единство.
На жанровом содержании погодинских записок можно было бы и не останавливаться, так как все их компоненты имеют вполне традиционный характер. Маршрут путешествия, пункты остановок, набор местных достопримечательностей для осмотра, сроки пребывания соответствуют неписаному путеводителю для русских туристов культурного слоя. В этом отношении отличие дневника Погодина от других путевых журналов не качественное, а количественное. Писатель провел за границей целый год и за одну поездку исколесил пространство, которое другие путешественники осиливали за несколько заездов.
Жанровая масштабность дневника обусловлена еще и тем, что Погодин в научных целях задерживался в некоторых местах гораздо дольше обычного путешественника, совершающего свой круиз из чистого любопытства. Но собственно научных материалов дневник Погодина не содержит, и поэтому нет оснований выделять его на фоне других родственных по жанру образцов.
Метод погодинского журнала, так же как и другие элементы его структуры, испытывает на себе воздействие авторского мировоззрения и творческого замысла. Стремление воочию увидеть то, что ранее было известно по книгам, лежит в основе отбора материала («чтобы судить верно, надо видеть все самому»). К визуальному способу познания добавляется рационально-чувственное средство первичной обработки материала: «Я отмечаю здесь все, что думаю и чувствую» (ч. 2, с. 146).
Подобные суждения, рассыпанные во всех четырех тетрадях дневника, еще не являются определением собственно метода. Они – лишь внешние приемы, характерные для любого путешественника, записывающего свои дорожные впечатления. Подлинный принцип отбора материала входит в творческий замысел историка и составляет цель его путешествия.
Погодин изучает культурно-исторические памятники, быт и нравы европейских народов, состояние науки. Политика, сфера идей, экономические проблемы волнуют его в меньшей степени, хотя он и присматривается к новым веяниям в области общественной мысли «<…> и я принялся читать <в Лионе журнал le Siecle>, отстав совершенно от политики в Италии, среди развалин римских и не имея никакого понятия, что на белом и черном свете делается» (ч. 2, с. 207). Интерес Погодина к той или иной области общественной жизни является не его внутренней установкой, а побуждается местом пребывания: в Италии – «развалины», во Франции – «политика» и т. п. В отборе материала он следует внешней схеме, традиции, на которую накладываются также не им сформированные представления о своеобразии интересного в той или иной стране.
По дневнику видно, что историк Погодин плохо разбирается в памятниках европейской культуры, хотя и нередко выражает свои восторги во время их осмотра. Такое выдающееся явление западной культуры, как северная готика, остается непонятым и непрочувствованным им «О соборе <во Франкфурте> нечего писать. Все эти немецкие соборы составили в моем воображении один собор, и я не знаю, что сказать о каждом их них порознь» (ч. 4, с. 49). Над сознанием (и методом) Погодина довлеет старое, классицистское представление об иерархии культурных ценностей, в которой Древний мир стоит выше Средневековья. Это подтверждается еще и тем, что в самих памятниках античности и итальянского Возрождения писатель разбирается крайне слабо, ограничиваясь эмоциями и фигурами умолчания.
Отсутствие глубокого постижения культуры проявляется и в быстрой смене настроений в процессе осмотра памятников: «Наш археолог показал нам остатки преторианских казарм, памятник несчастнейшего периода в римской истории <…> Здесь можно проклясть от души варварство и зверство – да будут же они прокляты во веки веков. Между тем мы проголодались порядком, не завтракав до сих пор» (ч. 2, с. 141–142); «Милан из всех итальянских городов сохранил много прежнего значения, величия и жизни <…> Мороженое отличное» (ч. 4, с. 180).
Восторженность и чувствительность, унаследованные Погодиным от предыдущей эпохи и превратившиеся под его пером в эпигонские штампы, вскрывают ограниченность его научного кругозора и мировоззрения в целом, включая сюда и политический консерватизм. За ахами и вздохами вскрывается неспособность раскрыть сущность явления, понять смысл политических или культурных тенденций прошлого и современности. Насколько Погодин далек от современных ему русских хроникеров, объездивших Европу (Н. Тургенев, А. Тургенев, И. Гагарин), говорит хотя бы следующая запись: «Живучи дома, бываешь иногда недоволен тем или другим, часто, уступая человеческой натуре слабой, ропщешь, зачем это делается не так; в чужих краях ничто подобное не приходит в голову <…>» (ч. 1, с. 131).
Отличительной особенностью погодинского метода является фрагментация материала. Историк не дает представления (да и сам, видимо, не представляет) о европейской цивилизации как о едином целом. В его подходе к материалу отсутствует систематичность, философско-методологический стержень. В отличие от своих предшественников и многих современников, Погодин отправлялся в путешествие не с запасом идей, которые требовалось проверить. В его творческом багаже был скудный набор обветшалых приемов и архаических представлений, которые не позволили ему нарисовать яркие, глубокие и эстетически убедительные картины «чужих краев».
Владимир Федорович ОДОЕВСКИЙ
Журнал подневных записей В.Ф. Одоевского[38] своим названием и содержанием выделяется в ряду классических образцов дневниковой прозы. Он велся в форме «текущей хроники и особых происшествий» уже немолодым писателем в последнее десятилетие его жизни.
Время, в которое был начат дневник, и возраст его автора определили функциональное своеобразие этого произведения.
В истории жанра наберется немного примеров, когда дневник начинали вести во второй половине жизни. Помимо Одоевского, к данной группе относятся П.И. Чайковский, A.C. Суворин, П.Е. Чехов, Е.И. Попова, В.В. Розанов и некоторые другие авторы. Если вообще мотивы ведения дневника лежат в психологической сфере, то для дневников, начатых в зрелом возрасте, это особенно характерно. Изменения в психике человека, проживающего вторую половину жизни, обостряют потребность в близком собеседнике, которому можно передать накопившиеся сокровенные мысли. Те, которые находят такого собеседника в дневнике, острее испытывают душевное одиночество и потребность в самовыражении. Дневник выполняет для них компенсаторную функцию так же, как для периода индивидуации, только измененную качественно. Функциональный вектор ранних дневников направлен вовне, на психологическую адаптацию к внешнему миру, поздних – вовнутрь, на поддержание равновесия стихий сознания и бессознательного. Во втором случае события внешней жизни могут не только отражаться в дневнике в равной мере с фактами сознания, но и составлять его содержательную основу. Однако их главное назначение – интегрироваться в сознании автора, переживаться эмоционально.
На эту общую для поздних дневников тенденцию у Одоевского накладывается еще и обстоятельство временного характера. Дневник был начат в конце 1850-х годов, когда в социально-политической жизни страны наметился коренной перелом. После тридцати лет политического застоя возродился интерес к злободневным общественным проблемам, о которых можно было говорить и писать относительно свободно. Фактами повседневной жизни стали явления, невозможные в недавнем прошлом. Деформировались многие стереотипы сознания.
Дневник наряду с другими литературными жанрами отразил новые веяния эпохи. Это отражалось прежде всего в принципах отбора жизненного материала. В дневниках пред– и пореформенной эпохи встречается большое количество информации, полученное из косвенных источников, – слухов, газетной полемики, неофициальных мнений официальных лиц, политических анекдотов, вплоть до откровенных сплетен. Данное явление было свойственно как дневникам начинающих авторов (H.A. Добролюбов), так и опытным хроникерам (В.А. Муханов, A.B. Никитенко, И.М. Снегирев).
Дневник Одоевского является лучшим примером, иллюстрирующим данную тенденцию. Он начат как раз на историческом переломе, в годы, когда писатель приобщался к государственной деятельности (стал сенатором) и свертывал собственно литературную работу. В дневник как бы перетекает тот материал, который его автор не в состоянии переработать художественно. Для литературно-эстетического сознания Одоевского подобный материал оказывается неприемлемым.
Обращение Одоевского к дневнику на первый взгляд выглядит неожиданным. Стареющий писатель, осколок ушедшей в прошлое культурной эпохи, берется осваивать новый для него литературный жанр, столь не свойственный его философскому складу ума. В то же время неистощимый интерес автора «Русских ночей» к различным сферам бытия, свойственный ему на протяжении всей жизни, находит в дневнике почти идеальную форму выражения. Может быть, впервые за свою долгую творческую жизнь бывший «любомудр» имеет дело с не отобранным и не возведенным в художественно-философскую категорию материалом.
Любопытна сама форма ведения дневника. Записи делались на разграфленных листах большого формата, где помимо месяца и числа было впечатано: «Место пребывания», «Чем занимался?», «Что видел?», «Что делал? Слышал? Читал?»; «с 8 ч. утра до 4 ч. вечера», «с 4 ч. вечера до 12 ч. ночи». Напечатанный типографским способом ежедневник, видимо, и подсказал Одоевскому форму, которая бы соответствовала его замыслу.
Правда, не всегда и не во всем писатель следовал подобному трафарету, так как запечатленные в дневнике мысли почти всегда были содержательнее и шире намеченных рубрик. Такое несоответствие объясняется и свойствами самого жизненного материала, который ломал привычные схемы ведения дневника у более консервативных в литературном отношении авторов, чем Одоевский, например у И.М. Снегирева.
Однако напряженность между формой и содержанием была кажущейся. Если содержание чрезмерно расширялось и грозило выйти за рамки дневникового жанра в рассуждениях и анализе, трафарет служил своего рода ограничителем, направлявшим вольную мысль в нужные границы.
В основе пространственно-временной организации материала дневника Одоевского лежит сознательная установка: автор задается целью мыслить континуально. Для этого он вписывает в свою хронику явления и факты, одновременно происходящие в различных пространственных точках.
Расширение горизонта творческого мышления было свойственно эпохе 60-х годов, и как исторический факт было прогрессивным явлением. Оно характерно для многих авторов дневников той поры. У Одоевского подобная тенденция имела свои особенности.
Для создателя первого философского романа такой принцип хронотопа не был открытием. Он входил в замысел «Русских ночей». Роман построен на идейном сопряжении событий различных временных рядов. Так же выстраиваются события и в «хронике». Однако в «Русских ночах» они осмыслены философски, т. е. на уровне широких обобщений, тогда как в дневнике даны как «сырой материал», подходящий разве что для будущей обработки. К «текущим» событиям не могло быть иного отношения, так как они не обладали свойством завершенности.
В дневнике Одоевского «текущие» события и «текучесть» являются двумя разными категориями. Первая тождественна понятию «современность», вторая означает «длящуюся действительность». Именно последнее понятие характерно для описанных в дневнике событий: «В Синоде разногласие по поводу христианства и современности <…> События Польши тревожны» (с. 133); «Людовик Наполеон устроил перемирие на 5 дней» (с. 215); «Говорят история в Театральной школе <…> Что такое в Твери?» (с. 145).
Однако синхронное изображение пространственно удаленных событий не является единственным принципом хронотопа у Одоевского. Дневник изобилует историями из недавнего прошлого, из николаевской эпохи. Анекдоты, исторические факты, легенды, живописующие нравы и порядки того времени, соотносятся с событиями современности по тематическому признаку. Главной темой «хроники» является панорама внутриполитической жизни пред– и пореформенного периода. Исторические свидетельства становятся своего рода камертоном хроникального повествования о современности («Чагин Алекс. Ив. рассказывал мне следующий анекдот 30-х годов», с. 171).
В сферу континуального хронотопа вовлекаются и многие образы дневника. Нередко они даются не как самостоятельные портреты или силуэтные наброски, а соотносятся по принципу синхронности. Одоевский показывает многообразие мира не только посредством параллельно происходящих событий – от этого картина получилась бы неполной, – но и соединением в одном временном ряду судеб разных людей: «Существование Путятина, как министра просвещения, производит в публике неблагоприятное впечатление <…> Про Михайлова <…> пишут <…> Говорят, Бакунин убежал из Сибири и через Амур и Японию едет в Лондон» (с. 141). Пожалуй, впервые в дневниковом жанре динамика истории показана при помощи движения отдельных человеческих судеб. Здесь Одоевский-хроникер использует опыт Одоевского-беллетриста, у которого в «Русских ночах» элементами картины мира были жизнеописания великих людей (Бах, Бетховен).
Образный мир дневников эпохи изменился под воздействием основных социальных тенденций. У опытных хроникеров все чаще человеческие образы даются в негативном плане. Преобладание критического подхода, резких и односторонних оценок при характеристике того или иного человека было результатом воздействия «обличительного направления» в русской литературе и общественной жизни той поры. Этому влиянию были подвержены не только «частные лица», но и государственные деятели и высокопоставленные особы. В их дневниках критика подменяет анализ характера. Подобная тенденция имела место в дневниках А.Ф. Тютчевой, A.B. Никитенко, П.А. Валуева, Д.А. Милютина.
Новое веяние не обошло стороной и Одоевского. В его дневнике негативизм является господствующим принципом характеристики человека. Однако в системе образов дневника можно выделить несколько разновидностей, которые различаются приемами их создания.
Прежде всего, образам хроники, как и образам дневников других авторов рассматриваемой эпохи, свойственна фрагментарность, отсутствие целостности. Писатель выделяет одно качество, одну черту и с ее помощью создает характеристику. Человек таким образом умаляется, низводится до единичной психологической или социальной функции: «Издатели: плут Аскоченский, вор Башуцкий и пара помешанных: Загоскин с Бурачком» (с. 136); «Смирнов очень храбрый человек – он имеет храбрость говорить глупейшие вещи, не моргнув глазом» (с. 226); «Приехал Виндишгрец <…> Этот старый паук пускает повсюду свои отравленные тенета <…>» (с. 95–96).
Подобные характеристики свойственны не только отдельным людям, но и коллективным образам. Их можно было бы назвать типами, если бы не упомянутая однобокость их трактовки. До типического им не достает психологической достоверности, все сведено к социальному и – еще уже – служебному положению целой группы или сословия: «Есть люди, у которых если отнять чины, то ровно ничего не останется. Вот почему они так отстаивают чинологию» (с. 217); «Это истинно возмутительно, – и вместе грустно, ибо все-таки эти люди, довольно высоко стоящие, и которые при случае могут попасть на важные места» (с. 219).
Односторонность наблюдается и в характерах, которые строятся не на личных наблюдениях автора, но заключают в себе общественное суждение. В таких случаях разноречивые, на внешний взгляд, мнения слагаются в единое представление о человеке. Одоевский словно ставит цель – дать убедительные, максимально «объективные» доказательства того, что данный характер и не может быть оценен иначе: «Толки о <митрополите> Филарете <…> Толпа у тела ужасная <…> Печали в народе не было видно <…> больше было заметно любопытства, глазенья <…> По Москве же ходит эпиграмматическая эпитафия <…>
Послушать толки городские: Покойник был шпион, чиновник, генерал, — На службе и теперь (не помню как) он мало потерял. По старшинству произведен в святые» (с. 236–237).Однако как художнику, создателю типов (пусть порой отрицательных), автору «Княжны Зизи» должен быть чужд односторонний взгляд на человека. И в дневнике, несмотря на приверженность Одоевского влиятельному направлению эпохи, то тут, то там встречаются попытки подняться над «частным» и «преходящим» в человеке и обозреть его с разных сторон. И если такие попытки не приводят к созданию полноценного конструктивного образа, то причину этого следует искать в противоречии между эстетическим чувством автора и жанровой природой дневника как хроники ежедневных событий.
В случае, когда образ не укладывается в рамки расхожих суждений о нем или в социально-иерархическую страту, он содержит в себе богатое эстетическое начало, правда, не выраженное, а в виде потенции. Писатель лишь намекает на него, помечает одним или двумя легкими штрихами: «Петров-Батурин – любопытная личность в остроге; лейб-гусарский офицер» (с. 224).
Образ автора в дневнике подвержен тем же изменениям, которые претерпел в 60-е годы жанр в целом. Прямые самовысказывания Одоевского в «хронике» практически отсутствуют. Его образ создается посредством косвенных характеристик и свидетельств других людей, приводимых в тексте записей. Данную тенденцию усиливает и то обстоятельство, что Одоевский, как уже было показано выше, начал дневник в зрелом возрасте, испытывая свойственные его летам психологические изменения. Мнения посторонних людей были для него не менее важны с этой точки зрения, чем самоощущения и самооценка. В дневнике образ автора дается отстраненно. Он выступает чаще не как субъект, а как объект повествования. Интерес к чужому мнению вообще, свойственный эпохе, в частности распространяется и на личность самого автора.
Многообразны источники, из которых Одоевский черпает мнения о себе. Это статья кн. П. Долгорукова, которая полностью приводится в записи под 24 ноября 1860 г.; высказывания некой Антоновской, квартиросъемщицы в доме Одоевского, в записи под 26 декабря того же года. Порой автор конструирует свой образ, прибегая к полемике с критиками, мнения которых также дословно приводятся в «хронике». Создается впечатление, что Одоевский намеренно отыскивает и с жадностью ловит на ходу всякое суждение о себе и своей частной жизни, чтобы поскорее занести его в дневник: «Про меня, после многих толков, рассказывают <…>» (с. 143); «В клубе зашел разговор (без меня), что ужасно скверно пишутся сенатские записки и что я над ними глаза порчу» (с. 174); «В «Будущности» <…> посвящена мне следующая любопытная статейка <…>» (с. 117).
Разноголосица, многообразие мнений эпохи отражаются и на образе автора. Как и другие образы его хроники, он сам становится объектом односторонних оценок, следствием которых является утрата целостности. Как у художника с философским складом ума подобные крайности вызывают у Одоевского удивление, которое выражается графически: «В шахматном клубе, говорят, на меня напали – и Лесков заступился. Ведь это очень забавно: псевдолибералы называют меня царедворцем, монархистом и проч., а отсталые считают в числе красных!» (с. 147).
Типологически дневник принадлежит к интровертивной разновидности этого жанра: «хроника» в основном сосредоточена на изображении внешних событий. В этом отношении она выделяется на фоне других продуктивных жанров в творчестве писателя. «Любомудр»-шеллингианец, философ и романтик Одоевский всегда интересовался «внутренним» человеком. И эта позиция находит подтверждение в одной из записей дневника: «Нет ничего интереснее второй жизни человека; внешняя жизнь выставлена напоказ всем. Внутренняя же, вторая жизнь есть скрытая основа, которая управляет всем существованием человека» (с. 146).
Однако в своей практике «хроникера» писатель оказывается далеким от того, чтобы применять свой излюбленный художественно-философский принцип. Этому есть несколько причин, о которых говорилось выше: далекая от установившегося порядка эпоха, замысел и творческая установка автора, наконец, жанровая природа «хроники»-дневника.
Правда, Одоевский в своих записках далек от механической фиксации событий. Аналитическое начало если и не преобладает, то явно присутствует в дневнике. Но в анализе Одоевскому не удается дойти до основ, глубин «текущих» явлений. Как человек другой эпохи он многое не в состоянии понять и правильно оценить. Порой ему просто не хватает времени для того, чтобы разобраться в сути события по причине его мимолетности. Этим вызвана фрагментарность, логическая незавершенность ряда записей. Кажется, что писатель оставляет их осмысление на «потом». Действительность преподносит новые факты, которые просятся на страницы журнала. Мысль не поспевает за ходом исторического времени, и «философствование» «по поводу» постоянно откладывается.
Одоевскому, может быть, и удалось бы проникнуть в суть происходящего, возьми он для анализа какой-нибудь сегмент исторической действительности. Но любопытство, желание охватить и запечатлеть как можно больше событий не позволяет вовремя остановиться и проанализировать случившееся. А справиться с таким объемом материала не представляется возможным. Поэтому его уделом до конца остается хроникерство. Даже в тех немногих записях, которые посвящены собственной, государственной и литературной деятельности и частной жизни, писатель не доходит до глубинного анализа проблем, оставаясь все время на поверхности.
Жанровое содержание хроники укладывается в определение дневника общественно-политической жизни. Замысел журнала Одоевского в точности соответствует его исполнению.
Дневник начат в период интенсивной подготовки крестьянской реформы. На его страницах нашли отражение важнейшие события того времени: общественные движения, тверская дворянская оппозиция, студенческие волнения 1861 г., польская тема, покушение и казнь Каракозова, политическая борьба эпохи «великих реформ».
Особое место в дневнике занимает тема сенаторства Одоевского. Ее преподнесение почти лишено личного оттенка. Она дается в контексте других событий в общем для всего произведения ключе. Одоевский выступает здесь не просто свидетелем, но активным участником происходящего. Его «сюжетная линия» встроена в движение исторического потока.
Злободневность и публицистическую остроту записям придает то обстоятельство, что источником информации для Одоевского преимущественно служат свидетельства очевидцев. При этом автор сортирует информацию, выбирая из всего многообразия материалы общественно-политической тематики. Это относится и к фактам личной жизни автора, который предстает на страницах своего дневника не как частное лицо, а в качестве государственного деятеля, человека определенных политических воззрений, потомка Рюриковичей. Реже – как известный литератор и музыкальный критик, собиратель древностей или осколок философской культуры 1820-х годов.
Из всех составляющих дневника как жанра наиболее радикальные изменения в 60-е годы произошли в методе. Оживление общественной жизни и вызванный им поток информации вынуждает хроникеров менять принципы отбора материала для своих дневников. Авторы уже не довольствуются личными наблюдениями; они все чаще обращаются к другим источникам и насыщают страницы своих журналов говором улицы, газетными сообщениями, авторитетными мнениями других лиц.
Впервые в истории жанра мы видим в дневнике Одоевского калейдоскопическую картину информационного изобилия. Кажется, писатель ловит любое мало-мальски правдоподобное сообщение и старается поскорее занести его в свой журнал. Порой он даже не брезгует такими источниками, которые еще недавно показались бы сомнительными для человека его круга, воспитания и культуры. Но, по замыслу автора, «хроника» должна вмещать в себя решительно все – в этом ее назначение.
Встает вопрос о достоверности источников информации и степени доверия к ним Одоевского. Почему маститый писатель, сенатор, человек высокой философской культуры рядом с сенатскими дебатами располагает сплетни Гостиного двора и «жареные» факты бульварной прессы? Разгадку этого психологического феномена нужно искать в необыкновенно возросшем доверии к свободному слову. Одновременно к старым источникам информации кредит доверия был здорово подорван. Официоз утратил то магическое воздействие на сознание человека, которым обладал в недавнем прошлом.
С аксиологической точки зрения все источники информации в это время уравниваются в правах. Это видно из того, что в дневнике Одоевского они зачастую соседствуют, располагаются в одном смысловом ряду. К ним относятся городские слухи, письма к автору и другим лицам, анекдоты, газетные статьи («Университетская история по городским толкам 1861 – сент. 25–26 – октябрь», с. 138; «Веневитинов при мне получил письмо от своего управителя из Симбирской губернии <…>», с. 96; анекдот о вел. Кн. Михаиле Павловиче в записи под 23.10.60 г.; «Журнал «Рассвет» <…> в Одессе напечатал статью о Шавельской истории младенцев», с. 133; «Московская болтовня <…>», с. 230).
В дневник попадают и совершенно оригинальные «кадры», крайне редко или вовсе не встречающиеся у других авторов – современников Одоевского. Они переносятся в текст почти без изменений и представляют собой художественную карикатуру и диалог «в натуре»: «Басня – верблюд и лев (на Чевкина). Лев сделал верблюда министром <…> Ходячая карикатура – Россия окружена колыбелями, в которых крестьянский вопрос, финансовый вопрос» (с. 96); «Идя по Кузнецкому мосту, я слышал следующий разговор двух людей, шедших за мною» (с. 234).
Замена повествовательной формы наглядно-иллюстративной свидетельствует об исчерпанности традиционных методов классического дневника дореформенной поры и поисках средств, адекватных жанровым трансформациям.
Однако было бы слишком смелым утверждать, что Одоевский безусловно доверяет всем источникам, поскольку переносит без разбора идущие от них сведения на страницы своей хроники. «Любомудр» и аристократ князь Одоевский был чужд дешевого «плюрализма» и осознавал разницу между истиной и правдоподобием даже в смутное и противоречивое время. Присутствующая в его дневнике «неотобранность» материала является творческим методом, а не гносеологической или этической установкой. Это отчетливо прослеживается как в истолковании ряда фактов, так и в принципах их систематизации. Поэтому ссылку на источник нельзя понимать буквально, в смысле истины в последней инстанции. В особо сложных, крайних с точки зрения правдивости случаях писатель разводит источники по степени их достоверности, как будто его рассказ адресован широкому читателю: «6 мая 1862 г. Как рассказывает публика <о новом судопроизводстве> <…> Как было на самом деле <…>» (с. 148).
Стилистическая структура дневника неоднородна. Эпоха, в которую он велся, ломала каноны жанра, в том числе и его стилистическую составляющую. Утрата монологичности открыла путь для широкого потока разнородных стилевых образований. У опытных хроникеров (A.B. Никитенко, И.М. Снегирев, П.А. Валуев, Л. Толстой) данное воздействие не было таким интенсивным в силу давно устоявшейся языковой манеры. Одоевский же начал вести дневник именно тогда, когда стилистическая система дневникового жанра претерпевала качественные изменения.
Языковыми источниками для Одоевского служат изустные истории, предания старины, газетные статьи, стихотворные вкрапления. Все они являются носителями оригинальных литературных стилей, «чужого» слова в повествовательном контексте «хроники». Функция таких автономных образований не ограничивается чистой информативностью. Благодаря им записи дневника приобретают эстетическую выразительность. Страницы хроники воспроизводят не только борьбу идей и социальные коллизии; здесь сталкиваются и по-своему вовлекаются в конфликт различные языковые сознания. Через стиль они являют свое мировоззрение. Языковая архаика анекдота 1790 г. (06.11.60) или рассказ очевидца о событиях из эпохи Николая I контрастируют с злободневной политической инвективой против министра внутренних дел Валуева не только на стилистическом уровне, но и в идейном отношении. Здесь Одоевский задает тон и предвосхищает стилистические тенденции в дневниковом жанре конца XIX в. (дневники В.Н. Ламздорфа, A.C. Суворина, В.Г. Короленко).
Будучи представителем ушедшей в прошлое эпохи практически во всех отношениях, Одоевский, тем не менее, сумел найти свое место в литературном движении 1860-х годов как автор дневника.
Александр Васильевич НИКИТЕНКО
Дневник Александра Васильевича Никитенко[39] занимает видное место в ряду нехудожественных жанров русской прозы XIX в. С момента первой публикации в 1880-е годы он неизменно привлекался исследователями в качестве источника по истории общественной жизни и литературы. Однако ни издателями, ни учеными этот литературный памятник никогда не рассматривался с точки зрения его жанрового своеобразия в ряду других образцов дневниковой прозы. К дневнику относились исключительно как к вспомогательному материалу и закрепили за ним сомнительное в научном отношении определение литературных мемуаров.
Эпоха, в которую создавался дневник Никитенко (1810–1870-е годы), была периодом бурного развития дневника, который пользовался популярностью во всех слоях образованного русского общества. Начиная со второй половины XIX века, русские исторические журналы («Русская старина», «Исторический архив») публикуют огромное количество дневников, подтверждая тем самым актуальность, продуктивность и историко-литературную значимость жанра. Дневник перестает быть элементом частной жизни и литературного быта и становится частью литературного процесса.
В свете этого закономерным было бы рассматривать дневник по аналогии с другими литературными жанрами, т. е. применять к нему такие же приемы научного анализа, как и к художественной, литературно-критической и публицистической прозе.
Однако литературное сознание эпохи, а впоследствии и научная традиция не смогли пересмотреть подхода к дневнику, осмыслить его жанрово-родовую природу. Осознать дневник не просто как литературный факт, а в качестве самостоятельного жанра, функционирующего на основании своих внутренних закономерностей, мешало то обстоятельство, что дневники вели не только и даже не столько писатели, литераторы, а люди, зачастую далекие от литературы и не имеющие литературного дарования.
В этом отношении дневник Никитенко занимает промежуточное положение. Не являясь писателем, его автор около 50 лет имел прямое отношение к литературе как университетский преподаватель, академик и цензор. На педагогическом и научном поприще Никитенко прослыл посредственностью и вошел в историю литературы исключительно как автор «Дневника».
Дневник Никитенко принадлежит к числу немногочисленных образцов жанра, которые заставляют читателя и исследователя усомниться в справедливости «приговора», вынесенного историей и наукой дневнику как вспомогательному, второстепенному роду литературы. Он обладает бесспорными литературно-эстетическими достоинствами, а в других отношениях может рассматриваться как эталон дневниковой прозы.
К тому времени, когда Никитенко задумал вести подневную летопись своей жизни, сформировались все основные жанровые особенности дневника. Процесс внутренней дифференциации жанровых компонентов выделил черты отличия и сходства, которые имел дневник в сравнении с другими жанрами. Эти черты более или менее отчетливо проявлялись во всех дневниках. В дневнике Никитенко они представлены особенно выпукло в силу ряда особенностей мировоззрения и творческого метода его автора. В этом смысле на примере дневника Никитенко можно рассмотреть теорию жанра за все столетие.
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ. Предназначение любого дневника зависит от двух главных факторов – общезначимого и конкретно-индивидуального. Первый из них всецело находится в области психологии и выполняет компенсаторную функцию. Дневник играет роль заместителя тех психологических содержаний сознания, которые не нашли своего выражения в других формах. Он компенсирует неудовлетворенную потребность человеческой души в самовыражении. В этом смысле дневник является своего рода психотерапевтическим средством.
Второй фактор лежит во внешней сфере и определяется той жизненной ситуацией, в которой оказался автор к моменту начала работы над дневником. Здесь на него могли оказать влияние среда, семейный круг, наконец, литературная традиция.
Многие авторы, ведя дневники долгие годы, не осознавали первого, решающего фактора и естественным образом подчинялись второму, не называя, как правило, в своем ежедневном журнале той задачи, которую призван был решать дневник.
Все перечисленные факторы отчетливо выступают в дневнике Никитенко и – мало того – хорошо им осознаются. Никитенко раскрывает причины обращения к дневнику и его предназначение в своей жизни. Причем подробные откровенные высказывания он делает в разные годы, что подтверждает неизменность функции его ежедневных записей. Такое ясно сформулированное целеполагание не часто встречается в дневниках XIX столетия. Оно связано с особенностями мировоззрения и личности Никитенко.
По складу ума Никитенко был рационалистом и подвергал подробнейшему анализу не только события внешней жизни, но и своего внутреннего мира. На склоне лет в записи от 2 февраля 1871 г. он так сказал об этом свойстве своей натуры: «<…> Я имею привычку каждый день перед сном пересматривать и контролировать все, что я делал, говорил и даже думал в течение дня» (III, 197). В этом смысле дневник был для Никитенко наилучшим местом хранения аналитической информации о себе.
Несмотря на то что всю жизнь Никитенко находился в гуще общественной жизни, имел большую семью и друзей из чиновной и ученой среды, потребность в близком собеседнике ощущалась им всегда. Со временем эта не находившая удовлетворения потребность сформировалась в автономный психологический комплекс и была спроецирована на дневник. Очень рано дневник стал для Никитенко заместителем духовного собеседника и оставался таковым, невзирая ни на какие жизненные обстоятельства. «Я всегда прибегаю к моему дневнику, – писал он 22 ноября 1867 г., – как к единственному другу, которому могу поверить все мысли и чувства, беседа с которым заменяет мне и общество, и так называемых друзей. Безделица – эта тетрадь с белыми страницами, а между тем она представляется мне каким-то оживленным предметом, в котором отражается мое я и разделяется, как свет в призме, на несколько лучей. И то, что могло бы во мне мелькнуть и исчезнуть бесследно, удерживается в моем сознании как частица моего внутреннего быта» (III, 105). А 15 февраля 1862 г. он сетует на занятость, которая мешает ему обратиться к дневнику: «Даже некогда хорошенько побеседовать с самим собой в этом дневнике» (II, 258). Незадолго до смерти, будучи тяжело больным, но внешне отнюдь не одиноким и не забытым бывшими сослуживцами и коллегами, Никитенко настойчиво подчеркивает функцию своего дневника: «Дневник мой, право, единственный у меня друг» (III, 359).
Нередко дневник выполнял психотерапевтическую функцию, восстанавливая душевное равновесие его автора, который благодаря рациональному складу анализировал критические ситуации в своей жизни, доводя их до разрешения в сознании: «Неудача в каком бы то ни было деле или случае, разумеется, не может не огорчать, – и я был огорчен, очень огорчен, что у меня есть враги, которым почему-то надо со всех сторон рвать на клочки мою репутацию. Но мой дневник – т. е. беседа по совести с самим собою – меня по обыкновению успокоил. Все жесткое в сердце улеглось, и я не доставлю моим недоброжелателям удовольствия – не стану на них гневаться и в этом, как и в других, более крупных случаях» (II, 507).
Таким образом, с психологической точки зрения дневник способствовал сохранению целостности и полноты душевной жизни автора.
Сохраняя общую с другими образцами жанра направленность, дневник Никитенко имел и свою функциональную особенность. Ведение основной части дневника падает на период политической реакции (1826–1855 гг.), в условиях которой трудно было излагать публично собственные взгляды. Жалобы на это не раз звучат в дневнике: «Горе людям, которые осуждены жить в такую эпоху, когда всякое развитие душевных сил считается нарушением общественного порядка. Немудрено, что и мои университетские лекции не таковы, какими бы я хотел и мог бы сделать их» (I, 131).
Идеологическая и социально-политическая ущербность, которую испытывал Никитенко вместе со своим поколением, частично была компенсирована им в дневнике путем последовательного выражения того комплекса идей, который при других обстоятельствах безусловно был бы сформулирован в лекциях, научных трудах или в публицистике. Все мировоззрение автора – его политические, философские, этические и эстетические взгляды подвергнуты подробнейшему анализу и систематически изложены на страницах дневника. Пожалуй, ни в одном дневнике XIX в. не встретишь такой четкой концепции собственного взгляда на мир, как у Никитенко. На основании материалов дневника можно написать законченный очерк о нем как о теоретике, не прибегая к помощи его научных трудов. По прочтении подобного рода записей складывается впечатление, что дневник в этом качестве заменял автору научную кафедру и учебную аудиторию.
Если учесть, что Никитенко никому не давал читать своих записей и не предназначал их для публикации (в последние годы он готовил к печати «Записки», которые не были квинтэссенцией дневника), то из сказанного естественно сделать вывод о компенсаторном характере и «теоретического» раздела его летописи.
Нет смысла цитировать многочисленные высказывания теоретического характера, которые разбросаны по всему дневнику. Они заняли бы не один десяток страниц. Будет уместным привести одну фразу, в которой выражена суть данной проблемы. Говоря о том, что всю свою жизнь он строит на системе определенных принципов, Никитенко делает заключение о характере своего мышления и жизненной установки: «Одним словом, я всегда был, есть и, кажется, навсегда останусь тем, что называется д о к т р и н е р о м» (II, 58).
ХРОНОТОП. Второй отличительной особенностью дневника как литературного жанра является оригинальное решение в его рамках проблемы пространства и времени. Если в художественной прозе пространственно-временной континуум идеализирован, а в мемуарах имеет исторический характер, то в дневнике представлено абсолютно реальное, физически достоверное время и пространство. Организация материала, последовательность его изложения и вся событийная часть дневника находятся в полном подчинении его пространственно-временной структуры. В свою очередь последняя во многом зависит от типа психологической установки автора.
По складу характера и ума Никитенко был экстравертом и рационалистом, по роду деятельности большую часть своей жизни связан с государственными институтами и общественной средой. Все это нашло почти зеркальное отражение в хронотопе его дневника.
Наиболее распространенными формами пространственно-временной организации в дневнике являются три: континуальная, локальная и психологическая. В рамках психологического хронотопа мы имеем дело не с физически протекающим временем в пределах конкретного пространства – «здесь» и «теперь», – а с фактом сознания, который, впрочем, так же реален, как и физически достоверная континуальность, но является субъективным продуктом психики автора. Особенностью психологического времени является его большая растянутость или, наоборот, концентрированность по отношению к времени физическому.
Локальное время – пространство организовано по принципу строгой последовательности протекания событий; при этом, как правило, сам автор включен в событийный ряд на уровне личного участия в ограниченной (локальной) области пространства.
Континуальная форма хронотопа представляет собой пространственно-временную рядоположенность событий, протекающих одновременно или с небольшими интервалами в разных местах, но связанных между собой по смыслу или по велению воли автора. Для такого дневника характерен «взгляд сверху» на пространственно удаленные события, некоторая отстраненность, при которой масштаб событий уменьшается, а сами они выстраиваются в более широкий ряд, не загораживая одно другого. В рамках континуального хронотопа изображаются события, участником или свидетелем которых автор не был и не мог быть по причине их пространственной удаленности.
В дневнике Никитенко представлены все три формы хронотопа, но не в одинаковой пропорции и в оригинальной последовательности.
Юношеские дневники 1819–1824 гг., в основном представляющие пространные комментарии к прочитанным книгам, выдержаны в рамках психологического хронотопа. Внимание автора направлено не на события минувшего дня, а на анализ образов и идей, захвативший его сознание. В данной форме лишь намечается переход сознания к освоению объективного времени – пространства. Она характерна для ранней стадии самостоятельной мыслительной жизни и выражает процесс психологической индивидуации (самоосуществления) личности. Подобный этап прошли авторы многих дневников как до, так и после Никитенко.
Однако психологический хронотоп периода индивидуации надо отличать от другой его разновидности, о которой речь пойдет ниже.
С 1826 г. Никитенко ведет дневники в принципиально иной пространственно-временной форме. Хроники подневных событий фиксируют наиболее значительные факты прошедшего дня, которые протекали в конкретном месте и в ограниченных временных рамках. Такие записи преобладают в дневниках за 35 лет (1826–1861 гг.).
Пространственно-временная локализация обусловлена в этот период служебным положением автора, его постоянным местопребыванием в Петербурге и, наконец, общественной атмосферой. Взгляд из служебного кабинета и студенческой аудитории еще не в состоянии охватить многообразие событий в стране и за ее пределами и придать им некоторый обобщающий смысл. Этому мешает и незнание Никитенко иностранных языков, и зависимость от государственной службы, но главное – убежденность в ценности рядового факта. Он словно намеренно сужает горизонт своего сознания, придерживаясь «доктрины» о преимуществе частного явления над общезначимым. «Ныне в моде толковать о судьбе целого, о «мировом» и т. д., – пишет он 28 июля 1841 г. – Правда, мы видим, что сама судьба неделимое приносит в жертву целому. Но это ее неисповедимая тайна. Для нас же что это, как не соблазн и не камень преткновения? Целое есть отвлеченная идея. Не целое живет, а живут неделимые, которые одни могут страдать или не страдать. Заботьтесь же о неделимых, а целое всегда будет, так или иначе, хорошо, независимо от вашей воли» (I, 235).
Приверженность факту, очевидности не приводит, однако, к раздробленности, дискретности картины мира, к утрате смысловых связей между отдельными событиями. Многообразные служебные и общественные обязанности Никитенко, личные контакты со многими значительными в социальной иерархии людьми образуют в его дневнике динамичную среду, сосредоточенную в ограниченном сегменте пространства.
Качественным отличием локального хронотопа является однонаправленность событий в его границах. Никитенко вычерчивает траекторию движения, у которой нет параллелей за пределами физически обозримого пространства: «Сегодня происходил во дворце <…> экзамен институток» (13.02.41); «Сегодня читал в совете мою речь <…> (17.02.41); Узнал сегодня об исходе представления меня по военному министерству к чину действительного статского советника» (27.04.53); «Вечер у кцязя Вяземского. Погодин читал свою старую драму <…>» (7.12.55); «Вечером большой раут у графа Блудова» (5.04.56); «Вчера с двенадцати до пяти часов занимался в «Обществе посещения бедных» раздачею пособий» (24.12.48).
Правда, и в данный период встречаются строго не локализованные записи, относящиеся не к конкретному дню и месту, а к более длительному интервалу. Но они так же вписываются в последовательный поток однонаправленных событий с той лишь разницей, что их протекание либо не завершено, либо подытоживается автором: «Холера продолжает подбирать жертвы, забытые ею во дни великой жатвы» (27.10.48); «Сколько раз бывал я обманут притворным и лицемерным изъявлением уважения к добру и истине!» (20.12.48); «Недавно был у меня князь М.А. Оболенский, начальник московского архива и рассказывал мне о подвигах Шевырева и Погодина <…>» (6.02.49).
Пространственно-временная структура дневника Никитенко существенно перестраивается с 1861 г. Социальные движения, правительственные реформы, появление новых идей и их воздействие на общественное сознание, изменения в литературной жизни привнесли в размеренное течение событий элемент непредсказуемости. Однонаправленный поток жизни стал пересекаться и сталкиваться с другими течениями. Если раньше какие-то сторонние события и могли внести некоторую дезорганизацию в ежедневную чреду фактов (эпидемия холеры, последствия революции 1848 г.), но они не представляли параллельных пространственно-временных движений, не воспринимались и не отображались автором как равноправные и равноценные наряду с событиями его привычного жизненного круга.
В дневниках 1860–1870-х годов встречается немало записей, в которых события представлены в другой пространственно-временной системе координат. К их числу прежде всего следует отнести сообщения о крестьянских волнениях, оппозиции тверского дворянства, революционном движении и польских событиях, из зарубежных больше всего внимания уделено итальянским и французским делам, франко-прусской войне. Правда, на фоне обычного событийного ряда они занимают незначительное место и представляют собой своего рода вкрапления в однонаправленный временной поток. Но тем контрастнее выглядят подобные записи на господствующем фоне.
Как рационалист и аналитик Никитенко постепенно начинает понимать неоднородность пространственно-временных отношений и вынужденно переходит от абсолютного к относительному времени: «Настоящее и будущее должны иметь связь с прошедшим» (10.04.64); «Всеобщая революция – радикальная реформа всей цивилизации и образованности – вот к чему влечет так называемый дух времени <…> Мы должны пройти через все эти ужасы, потому что настоящее поколение приняло методу полного отрицания, уничтожения всякой связи настоящего с прошедшим <…>» (16. 03.64); «Это не пруссаки и французы сражаются: это бьется прошедшее с будущим» (17.12.70); «Никакое настоящее не в праве сказать прошедшему: зачем это было так или иначе; ни будущему: будь таким и таким» (26.11.73).
Все чаще в дневнике фиксируются события, происшедшие в других пространственно-временных рамках, даже если они носят случайный характер. В них Никитенко справедливо усматривает параллельный временной поток, обладающий самостоятельной ценностью и не пересекающийся с привычной для него жизненной линией: «Страшное и гнусное злодейство. Студент Медицинской академии женился на молодой и милой девушке, но вскоре начал ее ревновать и даже задумал ее убить, поразив ее толстою булавою во время сна <…>» (15.11.65); «Третьего для молодая девушка, дочь какой-то помещицы, приехавшей из Пензы, застрелилась в Знаменской гостинице» (4.01.72); «В окружном суде производилось и решено дело некоей Седковой, которая судилась за составление фальшивого духовного завещания от имени умершего своего мужа» (2.04.75); «На днях к мировому судье явился какой-то чиновник Иванов, в оборванной одежде, с странною просьбою посадить его в тюрьму, так как он, за сокращением штатов, был уволен со службы и умирает от холоду и голоду, а в тюрьме его накормят и отогреют» (4.04.67).
Несмотря на причинно-следственную немотивированность подобных записей, в совокупности они создают целостную картину жизни в континуальном времени – пространстве, которая резко отличается от событийной и временной упорядоченности локального хронотопа прежних лет.
В это время (1860–1870-е годы) в дневнике Никитенко начинает формироваться иная пространственно-временная форма – психологическая. Ее появление было обусловлено сужением поля служебной и общественной деятельности автора, утратой большей части прежних связей и, как следствие, – обращением взгляда на себя, на свой внутренний мир. Все чаще предметом записей становится не «злоба дня», а общие проблемы бытия, общества и частной жизни, т. е. менее всего события, факты, но больше – размышления о тенденциях эпохи, судьбах и характере сословий, учений, короче, явлениях длительного временного характера. В таких записях отсутствуют обычные пространственно-временные связи и построены они на субъективной каузальности. Время в них протекает по законам сознания автора: «Осуждены мы навсегда делать глупости или они составляют только одну из переходных ступеней нашего развития? Ведь вот до сих пор случалось так, что даже из всего, что мы возьмем у других, мы непременно выберем самое худшее и спешим усвоить себе так, как будто оно составляет единственную важнейшую сторону вещей» (13.06.65); «С тех пор как Жан-Жак Руссо написал и издал свои записки, или свою исповедь, всякому умному человеку должна опротиветь мысль писать и издавать свои записки. Руссо опошлил это дело» (29.07.65); «Странные противоречия могут уживаться в одном человеке. Вот, например, я так мало доверяю всему человеческому <…> а между тем у меня сильное влечение ко всему великому и прекрасному, постигать которое и видеть можно только в человечестве же» (17.10.65); «Судьба народа зависит от того, в какой мере он одарен способностью сопротивления. Эта способность, в силу которой предмет можно гнуть только до некоторой степени, ибо он всегда может снова выпрямиться и принять должное направление» (12.09.71).
Всю жизнь вращавшийся в обществе и черпавший из него большую часть сведений для своего дневника, Никитенко в конце жизни оказался лишенным этой богатой информации. Поэтому он вынужденно мобилизует свои внутренние силы и переносит внимание на осмысление явлений, пространственно-временные связи которых не ограничиваются их фактической очевидностью: «Общественная моя деятельность ныне настолько сократилась, что я могу все более и более сосредоточивать мое внимание на моих хозяйственных делах, т. е. на внутреннем моем мире» (1.01.71);
«Я теперь ничто для общественной деятельности и, должно быть, погружен исключительно в себя самого и для себя» (2.12.76).
Однако данная форма хронотопа не является повторением юношеских размышлений в дневниках 1819–1824 гг. Тогда шло освоение видимого и мыслимого пространства, в котором временной поток не имел четкой направленности, он скорее представлял собой круговращение в узкой сфере вымышленных образов и порожденных ими чувств. Теперь же Никитенко окидывает взглядом сверху хорошо знакомое ему пространство, в котором каждое новое явление не способно принципиально ничего изменить и служит лишь количественным приращением к целому континуума.
В рамках этого чрезвычайно разросшегося мира явлений важным для автора становится смысловая сущность события, которое не укладывается в рамки физически занимаемого им времени и пространства и поэтому анализируется в психологическом измерении: «Современная наука отвергает веру, вполне доверяя одному знанию. Но знание способно ли разрешить все наши недоумения относительно нашей судьбы и назначения? <…>» (24.08.76); «Напрасно Европу считают политическим союзом государств и народов: это не что иное, как огромная мануфактура для производства разных изделий <…>» (26.08.76); «Если бы нужно было особое доказательство нашей умственной незрелости <…> то его нашли бы в той ребяческой самоуверенности и заносчивости, с какими наши так называемые передовые умы решают самые трудные вопросы человечества» (28.10.76).
Таким образом, формы времени и пространства служили выражением жанрового своеобразия и показателем эволюции дневника Никитенко.
ОБРАЗ АВТОРА, МИРА И ЧЕЛОВЕКА. Третьим важнейшим отличием дневника от других литературных жанров является специфика его образного мира. К главным свойствам художественного образа относятся обобщение и идеализация. В дневнике представлены реальные люди, а события развиваются не по заданной сюжетной схеме. Однако для дневника так же свойствен определенный отбор при создании образных характеристик и картины мира. И зависит этот отбор от мировоззрения автора и эволюции его взглядов на человека и общество.
За долгие годы ведения дневника у Никитенко сложились устойчивые приемы описания лиц и общественных групп, которые в решающей степени определялись базовым нравственным принципом автора. Этот принцип сформировался довольно рано, еще в студенческие годы, и в своей основе оставался неизменным всю жизнь. Никитенко неоднократно формулировал его в дневнике, подчеркивая тем самым его конструктивную и аксиологическую функции.
В своей основе данный принцип идеалистичен и соответствует понятию «доктринерства», о котором столь убедительно писал сам автор. Это своего рода нравственная схема, которую Никитенко, как сетку, накладывает на многообразие жизни и человеческих индивидуальностей: «Всю систему моей жизни, – писал он 30 января 1859 г., – я основал на нравственных принципах, на идеях высшего человеческого достоинства и совершенства. Мне хотелось действовать на людей этими силами, которым я старался придать и внешнюю привлекательность, заимствуя ее опять-таки от одного из нравственных начал – изящного» (II, 58). А 21 октября 1870 г. он как бы подводит некоторый жизненный итог: «Глубокое, твердо укоренившееся во мне с детства чувство справедливости и уважения к правде решительно делали меня неспособным к каким бы то ни было односторонним и преувеличенным требованиям <…> Меня часто упрекали в идеализме» (III, 186).
Идеалистический подход к человеку был составной частью более общего, мировоззренческого принципа, которым руководствовался Никитенко не только в морали, но и в науке, в философии. Суть его можно было бы сформулировать как абстрактный идеал прекрасно-доброго, лишенный всякого практического интереса и противопоставленный всему материальному, всякой пользе: «<…> элемент изящного, неразлучный с элементом идеального, я считал важным необходимым деятелем в истории человечества (III, 119).
Из этого вытекали и требования к человеческим поступкам, их оценка: «<…> и умный человек ничто, когда ему не достает возвышенных стремлений <…>» (I, 434); «Редко в борьбе и враждах люди возвышаются до идей общего добра» (II, 90). Только такой человек оценивается Никитенко положительно, которому были свойственны «всякий порыв к лучшему, всякое доверие к высшим, непреложным истинам» (I, 302–303).
Человеческие характеры в дневнике Никитенко встроены в некую отвлеченную систему нравственных понятий и ценностей.
В дневнике представлено огромное количество «персонажей» – государственных и общественных деятелей, ученых, писателей, сослуживцев и случайных знакомых. Многим из них даны развернутые характеристики. Никитенко создал галерею портретов высших чиновников эпохи, которая отличается исторической убедительностью и эстетической насыщенностью. Человек в его летописи – главное действующее лицо, но он сила не активная, а страдательная.
Любой человек, даже высший царский сановник, в изображении Никитенко подчинен такому порядку вещей, который деформирует его характер и отдаляется от того нравственного идеала, которому он должен быть привержен. Сам же этот порядок также является отклонением от нормы, от некоторого общего государственного начала. И здесь, в создании образа мира, проявилось свойственное Никитенко стремление подвергать все анализу с точки зрения абстрактных принципов. Видя недостатки монархического правления, Никитенко считает незыблемым сам принцип монархии; признавая вопиющие недостатки и пороки многих министров и аппарата, он считает безусловно правильной идею министерского бюрократического управления: «Я монархист <…> по принципу, а к Александру Николаевичу питаю искреннюю преданность со времени освобождения крестьян. Но, право, я боюсь, чтобы мне не перестать уважать его. Как можно делать министром таких людей, как граф Путятин?» (II, 235); «Не правительство, а принцип правительства дорог и нужен» (II, 315); «Люди совершают неподобные дела, а время употребляет эти дела, как умный пахарь навоз, и взращивает из них добрые плоды. Значит, не люди заслуживают уважения, а время и принцип, который вырабатывается временем» (II, 273).
Интерес к изображению человека был свойствен Никитенко со студенческой поры. Нередко событийная линия его летописи прерывалась подробной характеристикой или сравнительным анализом разных лиц и групп – воспитанников, однокурсников, преподавателей, сослуживцев. В дневнике 1820–1850-х годов преобладает тенденция к многостороннему охвату человека, куда входит, помимо личностной характеристики, описание воспитания и среды, динамика формирования характера и возможных направлений в его развитии. Так выглядят образы Д. Оболенского и Е. Штерича. К последнему Никитенко обращается неоднократно, поэтому его характер показан особенно полно: «Сын г-жи Штерич – молодой человек 17-ти лет. У него, кажется, доброе сердце и ясный ум. Физиономия его очень приятная, с легким оттенком привлекательной задумчивости. Он получил отличное воспитание, в котором нравственность не считалась делом случайным. Не лишен он и некоторых познаний <…> Он набожен без суеверия, по влечению сердца, и это одно уже ставит его выше толпы нашего знатного юношества <…> Его можно упрекнуть разве что в том, что он вообще мало размышлял и не доходит до глубины вещей» (10.01.26); «Молодой человек добр и кроток, ибо природа не вложила в него никаких сильных наклонностей. Он превосходно танцует, почему и сделан камер-юнкером. Он исчерпал всю науку светских приличий <…> весьма чисто говорит по-французски» (01.11.26); «Был у Штерича <…> Он благороден, добр, постигает все прекрасное и возвышенное; у него есть воображение. И притом самое утонченное светское образование. Обращение его исполнено мягкости и прелести <-..> Он постиг искусство нравиться <…>» (11.01.33).
Столь же пространны и созданные с большим интервалом характеристики университетских товарищей Никитенко – Армстронга, Михайлова, Линдквиста. В них, как и во многих других образах дневника до 1860-х годов, главным критерием оценки является та духовно-нравственная доминанта, которую Никитенко называет «высшими потребностями духа» и которая служит фундаментом его мировоззрения и своеобразной философией жизни: «Гебгардт-старший – товарищ мой по университету <…> Он одарен удивительно гибким, блестящим умом и редким даром слова <…> Чувствуя в себе силы на высшую деятельность, он грустно влачит дни свои по темным и грязным закоулкам чиновнического быта» (28.11.35); «Между моими близкими знакомыми есть некто Фролов, молодой человек с более благородным сердцем и умом, более способным к высшему развитию» (28.05.36); «Я, между прочим, долго говорил с адмиралом Рикордом. Это один из замечательных людей нашего времени. Ему 74 года, но он свеж, бодр, весел, полон участия ко всему хорошему и благородному <…>» (11.04.53) (выделено мной. – O.E.)
Данный критерий будет неявно присутствовать и в образных характеристиках 1860-х годов, но уже не как качество, свойственное данному человеку, а как недостающий элемент: «Кавелина можно определить следующими словами: это милый, способный, но взбалмошный юноша <…> Кавелину, подобно многим из наших передовых людей, кажется, что он подвизается единственно за истину, за право, за свободу, – а он подвизается в то же время, и чуть ли не больше всего, за свою популярность» (28.03.60); «<Граф Апраксин> умен, но, по обыкновению наших аристократов, очень легко образован <…> В этом человеке много элементов, из которых могло бы образоваться что-нибудь очень хорошее <…> но ему не достает твердых опор» (17.05.60).
В 1860-е годы под воздействием общественных движений, нарушивших стабильность жизни, привычный жизненный уклад, заметно меняется образ человека на страницах дневника Никитенко. Прежде всего, нарушается целостность человеческого образа. Автор показывает лишь фрагмент личности, причем преимущественно отрицательный. Правда, и раньше ряд характеристик был создан в отрицательном ключе. Тем не менее они обладали характером целостности. В их оценке отсутствовал пессимистический взгляд автора на человека и перспективы морального прогресса. В пореформенную эпоху негативистский подход приобретает характер устойчивой тенденции.
Не говоря уже о том, что образы людей, идейно и политически чуждых Никитенко, получают почти карикатурные формы (философ П.Л. Лавров, редактор «Русского слова» и «Дела» Г.Е. Благосветлов), деструктивная тенденция прослеживается и в оценке лиц, к которым Никитенко годами был вполне лоялен (историк С.М. Соловьев, запись от 2.05.64).
К концу жизненного пути у Никитенко возобладало совершенно парадоксальное понятие о человеке, которое постоянно сбивало его на негативные характеристики даже близких и высоко ценимых им людей: «Теперь я люблю только свой идеал нравственного величия, побуждающий меня уважать человечество и глубоко сожалеть о людях» (III, 330). Вот как, например, он пишет о своем сослуживце и приятеле, товарище министра просвещения И.Д. Делянове: «Делянов – один из лукавых армян: он притворяется добрым и умным <…> Собственно, он ни к чему не годен и не способен. Бывши попечителем Санкт-петербургского университета много лет, он решительно ничем не ознаменовал своего управления, кроме бегства из университетской залы во время акта <…>» (13.05.64). А вот характеристика П.И. Мельникова-Печерского: «Тут был и известный Мельников, плутоватое личико которого выглядывало из-за густых рыжеватых бакенбард. Он выбрасывал из своего рта множество анекдотов и фраз бойкого, но не совсем правдивого свойства» (4.12.65). В дневнике этого периода даже встречается характеристическая фраза, окрашенная цинизмом: «Знакомыми надобно обзаводиться, как мебелью» (9.09.63).
Особое место в образном мире дневника занимает личность автора. На первый взгляд, она должна была бы находиться в фокусе повествовательной структуры в силу своеобразия дневника как жанра. Однако роль и место авторского образа функционально не однозначны в разных образцах дневниковой прозы. Прежде всего они зависят от психологической установки, или типологии.
Как уже было сказано, Никитенко в своем дневнике подробнейшим образом излагает свое мировоззрение, что в значительной мере помогает понять его позицию по отношению к изображаемым событиям и степень его объективности. Как рационалист и аналитик Никитенко все подвергает суду разума, в том числе и свои собственные поступки. Но он всегда был чужд рефлексии и поэтому свой внутренний мир раскрывал до известных пределов, на уровне рассудка, а не чувств или высших эмоций. В дневнике мы встретим мало признаний, относящихся к личной жизни автора, к его семье, житейским, интимным переживаниям.
Образ автора строится по той же схеме, что и другие образы летописи. В ее основу положен некий абстрактный идеал, с которым Никитенко соизмеряет свое авторское я: «Идеалы, к которым я стремлюсь чуть ли не с детства в самообразовании и самоуправлении <…> делают то, что я кажусь самому себе крайне неудовлетворительным, и презрение, которое меня часто охватывает к человеку и человеческой судьбе, прежде всего тяжелым бременем обрушивается на меня» (III, 168–169).
Исходя из данного идеала, Никитенко лично для себя делает два вывода: 1) своеобразие судьбы ставит его в совершенно особое положение среди людей его круга и 2) побуждает перенести главную работу из внешней сферы во внутренний мир: «Ты иначе воспитался, иным путем шел, чем другие, иною судьбою был руководим и искушаем, а потому имеешь право не уважать их правил и обычаев. Ограничение внешней деятельности умей заменить внутренней деятельностью духа и возделыванием идей. Арена истории не от тебя зависит, но поприще внутреннего мира твое» (I, 317).
Однако внутренний мир Никитенко не раскрывает до конца из-за экстравертной установки своего сознания. Будучи рационалистом, он понимает его исключительно как сферу идей, т. е. ограниченно. Вот почему в дневнике так много места уделяется изложению собственного мировоззрения.
Благодаря обстоятельствам попавший в высшие бюрократические сферы, Никитенко никогда не ощущал так себя среди своих. За долгие годы пребывания в чиновничьих верхах он так и не сумел освободиться от комплекса «маленького человека» и постоянно упоминал об этом в дневнике: «Заседание в комитете по поводу устройства кантонистских школ. Члены – все сияющие и звездоносные генералы в мундирах. Я во фраке казался между ними вороною, залетевшею в стаю павлинов» (17.01.58); «Я вышел из рядов народа. Я плебей с ног до головы <…>» (23.04.60); «Заехал к Краевскому. У него сборище литераторов. Мне стало страшно. Все такие знаменитости или смотрят знаменитостями. Просто я попал в пантеон великих людей, и мне стало совестно, зачем я такой маленький» (9.11.61); «Празднование столетия Смольного монастыря <…> В зале против входа, в тени прекрасной зелени статуя Екатерины, а на всем пространстве зала были накрыты столы для завтрака. Все места были заняты женщинами, кроме одного, назначенного сановникам, между коими поместился и я, маленький и темненький человек <…>» (5.05.64).
Чувство социальной неполноценности, таившееся глубоко внутри и заявлявшее о себе в подобных мыслях, отразилось и в образной системе дневника. На переднем плане, в гуще событий, представлена социальная маска чиновника, действительного статского советника и академика, а на периферии, за событиями, порой выглядывает истинное лицо бывшего крепостного, который мучительно переживает свою социальную неполноценность и воспринимает мир глубоко эмоционально. Такая позиция выглядывания стала своеобразной особенностью образа автора в дневнике Никитенко.
Чтобы найти равновесие между двумя мирами – подавляющим своей беспощадностью внешним и хрупким и ранимым внутренним – Никитенко избирает позицию мыслителя-стоика. В стойкости и мужестве он видит высшее проявление нравственного достоинства человека: «Мужественное размышление о жизни, мужественное размышление о смерти» (9.11.62); «Сдержанность, мужество, самообладание. Не вызывай на бой судьбы, не рисуйся перед ней своею храбростью – это глупо, а покоряйся и терпи с достоинством мужа и человека и с уверенностью философа, что жизнь вовсе не заслуживает той важности, какую мы ей даем» (10.01.63).
Типология и жанр. Применительно к дневнику категория типологии имеет по крайней мере две особенности, которые свойственны только данному литературному жанру. Это прежде всего прямая зависимость от психологической установки автора (экстраверт – интроверт) и вытекающий из нее характер субъект-объектных отношений в подневных записях.
Типология дневника – это не то что, как, например, в художественной прозе, является устойчивой закономерностью при изображении человеческих характеров и событий, не способ обобщения жизненного материала, а сам предмет, т. е. не вопрос «как?», а вопрос «что?».
Поэтому в отличие от типологического многообразия художественных и иных жанров в дневниковой прозе возможны только две разновидности.
Как уже было неоднократно показано, Никитенко по психологическому складу был преимущественно экстраверт, и дневник он вел как летопись событий окружающей его жизни.
Для Никитенко все – объект, даже его духовный мир, который он чаще всего анализирует отстраненно, как скорее внешний, а не внутренний факт. Никитенко чужд рефлексии в смысле скрупулезного анализа душевной жизни, свойственный интроверту. И хотя в 1870-е годы записи интимного характера численно увеличиваются, в них отсутствует субъективизм, свойственный другой типологической разновидности жанра.
Для Никитенко обращение к собственному внутреннему миру носило характер отдыха от треволнений внешней, в основном служебной и общественной деятельности. Он всячески изгонял из своего сознания и дневника мысли, связанные с болезненностью, надломленностью душевного мира. Даже жалобы на телесные недуги носят преимущественно констатирующий характер. Болезнь и ее лечение стоят в одном ряду с другими фактами внешней и внутренней жизни; их описание не меняет ни манеры изложения, ни тональности записи. В дневнике отразилась рационально-волевая жизненная установка автора: «В нравственно-психологическом внутреннем мире человека одни только те явления заслуживают внимания, значение которых определяется разумным сознанием и воспринимается волею. Все прочее похоже на облака, гонимые и разгоняемые ветром, или на пену, мгновенно возникающую и исчезающую в волнах потока. Радость ли, горе ли приносят такие явления, они не заслуживают внимания мужественного человека или заслуживают настолько, насколько они представляют эстетический интерес, подобно явлениям внешней природы» (I, 226).
Типичность данной позиции нагляднее всего проявляется в описании такого субъективного явления, как переживание пасхальной службы. Интроверт обязательно передал бы в своем изложении тончайшие душевные движения и оттенки религиозного чувства в процессе божественной литургии. Никитенко же ограничился сугубо рациональным восприятием и описал это дорогое его сознанию событие как отстраненный факт: «Я люблю эту величественную драму-мистерию, темою которой служит отрадная, глубокая идея возрождения. Самая торжественность и пышность этой драмы, какими облекает ее наша церковь, вполне соответствует значению идеи <…> <Но> никто не одушевлен, не проникнут истиною, великою поэзиею этого священнодействия, в котором под изящными символами дух человеческий отыскивает и приветствует свою будущность, затерянную в бурных тревогах и превратностях существующего порядка вещей» (II, 116).
Органическая неспособность к изображению другого типа субъект-объектных отношений находит косвенное подтверждение в одной из последних записей 1841 года. Жалуясь на стесняющий характер общественной среды, Никитенко с чувством восклицает: «О, кровью сердца написал бы я историю моей внутренней жизни!» (I, 240). Но ничего подобного он так и не создал в силу изначальной предрасположенности и объективному способу изображения, рационалистического склада ума и незыблемости основ мировоззрения. Писать «кровью сердца» было не в природе его дарования.
Жанровое содержание дневника Никитенко оставалось стабильным на протяжении практически всех лет его ведения. Это дневник общественной жизни, в котором нашли отражение важнейшие события истории страны – в ее духовной, политической, литературной, административно-бюрократической сферах. Даже записи, которые, на первый взгляд, фиксировали факты личной жизни автора, были встроены в панораму социальных явлений. В них Никитенко не отделяет себя от общественного движения; напротив, он то и дело подчеркивает свою подчиненность, а порой и фатальную зависимость от общего потока событий: «Если я имел какие-нибудь успехи в жизни, то обязан за них не уму моему, не способностям, ни даже характеру или каким-нибудь предварительным соображениям и плану, а чистой случайности» (II, 379).
Однако в дневнике есть два вида записей, которые не вписываются в рамки господствующего жанрового содержания и образуют своеобразные жанровые окна, из которых проглядывает иной облик автора, отличный от методичного повествователя и аналитика.
К первому виду относятся мысли предельной степени субъективности, из которых становится ясно, что Никитенко порой сомневался во всесилии социальных детерминант в поведении и судьбе человека. Записи такого характера свидетельствуют о потребности автора проникнуть в глубины личности, снять с нее внешние наслоения и увидеть ядро человеческой натуры, ее природную сущность на собственном примере: «Самое важное в человеческой жизни – это уменье что-нибудь сделать. Это не ум, не доблесть, не гений, но это выше и ума, и доблести, и гения. Это то, чем люди бывают полезны и себе и другим. Без сомнения, уменье это развивается с детства и совершенствуется постоянным упражнением, навыком. Но первоначальная причина его лежит в той общей смышлености, которою всякое живое существо наделено для собственного самосохранения. Но я по какой-то странной игре немилости или каприза природы лишен этого драгоценного качества. Я ничего не умел и не умею сделать» (II, 558); «Существует ли какое-нибудь ограничение для человеческих поступков, кроме внешних условий природы и существующего порядка вещей? Другими словами: существует ли закон внутренний, закон совести, нравственный закон, который бы ограничивал наши поползновения к таким или другим деяниям? Были ошибки против правил благоразумия в моей жизни, были проступки, но преступлений или дурных дел не было» (III, 399).
Здесь намечается поворот к жанру интимного дневника.
Ко второму виду жанровых окон относятся записи предельной степени обобщенности. Они контрастно противоположны предыдущей группе, но также выражают стремление автора выйти за рамки господствующего жанрового содержания и подняться над рядовым социальным фактом путем типизации повторяющихся или сходных в своей сущности явлений. Эта группа записей по своей жанровой природе сродни записным книжкам, собраниям «частных мыслей», заметкам на память. В известной мере, здесь отразился научный склад ума Никитенко – теоретика литературы, привыкшего в своей учебной и ученой практике к обобщениям и систематизации: «<…> Общий закон для людей: быть средствами и орудиями для целого; один только великий человек свободен, и один только он достоин свободы. Он служил целому, как и все, но это служение не порабощает его. Он гражданин этого великого целого, а не раб» (I, 214); «Каждому человеку отпущена от природы известная мера сил и известный их образ. Но человек, стоящий на высшей ступени духа или которому достался большой запас сил, добирается рано или поздно до их сознания и полагает здесь основание своей нравственной конституции. Сознать свои силы и образ их – вот высшая задача мыслящего духа» (II, 315); «Нет такого дурака, который не в состоянии был бы найти что-нибудь смешное в самом умном и честнейшем человеке.
В каждом человеке, как бы он ни был умен, всегда бывает некоторая доля неблагоразумия, препятствующая успехам его предприятий и мешающая пользоваться успехами, уже достигнутыми» (III, 235).
Метод и стиль. При чтении дневника Никитенко бросается в глаза необыкновенная ясность изложения, четкость в группировке жизненного материала и строгая логика в выражении мысли. Многие записи представляют собой законченные высказывания, своеобразные повествовательные миниатюры. В этом сказались рационалистический склад ума автора и его профессиональный опыт.
Как правило, тот материал, который Никитенко отбирает для дневниковой записи, не просто излагается в виде простой суммы фактов и мыслей, а подвергается методичному анализу. Аналитизм является главным методом дневника Никитенко. В основе аналитического высказывания лежит форма силлогизма, порой перевернутая таким образом, что вывод стоит перед посылкой: «Напрасно наши ультраруссофилы восстают против Запада. Народы Запада много страдали, и страдали потому, что действовали. Мы страдали пассивно, зато ничего и не сделали. Народ погружен в глубокое варварство, интеллигенция развращена и испорчена, правительство бессильно для всякого добра» (III, 533).
В каждом общественном движении или административной мере Никитенко стремится выявить причинно-следственные отношения и выстроить цепочку логически связанных фактов. Даже те явления, которые вызывают у него отрицательную реакцию, исследуются в своих истоках и возможных последствиях: «Сильная наклонность в нынешнем молодом поколении к непослушанию и дерзости <…> Нет никакого сомнения, что это печальное явление – прямое следствие подавления в прошлом царствовании всякой мысли <…> Теперь все, особенно юношество, проникнуты каким-то озлоблением не только против всякого стеснения, но даже и против законного ограничения» (II, 168).
Как педагог, ученый и чиновник Никитенко стремится дать не только развернутую характеристику явлению, но и по возможности предложить систему средств к его желательному повороту и исходу. Наличие в дневниковых записях, наряду с оценкой событий, развернутой и логически обоснованной системы политико-управленческих рекомендаций усложняет метод и выводит дневник на границы полемико-публицистических жанров: «О настоящей конституции, может быть, нам рано еще думать; но если бы верховная власть искренно хотела бы обуздать произвол <…> то она должна была бы начать с самой себя. Это могло бы сделаться без особой формальности, двумя-тремя мерами. Во-первых, возвращение земским учреждениям самостоятельности <…> Во-вторых, решительным воспрещением министрам входить с своими докладами <…> непосредственно к государю <…> В-третьих, чтобы при решении подобных вопросов в Государственном Совете или сенате приглашались туда выборные эксперты <…>» (III, 173).
На отбор фактического материала в подневных записях решающее влияние оказали профессиональная принадлежность и чиновничья карьера Никитенко. Заполненность дня учебными и служебными обязанностями определила содержание записей, большинство из которых относятся к университету, академии, министерству, литературной жизни.
Вместе с тем стесненность кругом забот, связанных с поддержанием материального благополучия, всегда осознавалась Никитенко как вынужденная мера, не позволявшая ему в полном объеме заносить в свой журнал те мысли и события, которые выходили бы за рамки жестко регламентированного дня: «Время мое расхищено мелочными заботами канцелярской жизни. Как избежать этого?» (I, 131); «Все мое время расхищено служебными занятиями и заботами. Меня со всех сторон блокируют, как крепость» (I, 411).
Как уже было отмечено применительно к образу автора и типологии, семейно-бытовая сфера находится вне поля зрения автора. При отборе материала для дневной записи Никитенко руководствуется преимущественно тематическим принципом. Из всех возможных событий, встреч и размышлений он выбирает наиболее актуальную с точки зрения его профессионального интереса и интеллектуальной потребности тему. К той или иной теме он может возвращаться по нескольку десятков раз на протяжении многих лет. Вследствие этого в дневнике образуются большие тематические группы, которые легко запоминаются и при чтении создают эффект своеобразных сюжетов. К наиболее крупным тематическим блокам можно отнести следующие: высшая школа и образование, административная система и ее функционирование, общественная мысль, общественные движения, собственное мировоззрение.
Поскольку все темы-сюжеты скреплены ви́дением автора, его оценкой, а зачастую и личным участием в событиях, они создают целостную картину жизни, в которой господствующие тенденции и случайности искусно уравновешиваются. Мир дневника Никитенко – это мир отобранных, но закономерных явлений, в котором нет места хаотическому, беспорядочному движению.
Вопреки своему положению академика словесности, обязывающему соблюдать чистоту правил и норм русского языка, Никитенко в своей дневниковой практике придерживался более свободного взгляда на стиль. Деление жизни на официальную и частную побуждало его дифференцированно подходить и к способу организации словесного материала в двух разных сферах. Продолжая следовать профессиональным предписаниям в учебно-административно-академической области, он стремится выработать совершенно другой слог в сфере литературного быта: «Всякий должен говорить языком своего сердца и своего ума. Тот слог хорош, который делается сам, а не тот, который делают» (III, 189).
В летописи Никитенко стиль выполняет две функции – информативную и замещения. В соответствии с этим преобладают две речевые формы – повествовательная и публицистическая. Официальное положение не давало возможности Никитенко открыто выражать в печати свои мысли по злободневным социальным и литературным проблемам. Но желание высказаться со временем приобретало характер органической потребности. Где еще, как не в дневнике, можно было удовлетворить ее? Поэтому годами копившийся интеллектуальный и эмоциональный материал выплескивается на его страницы в необычной для солидного и благопристойного чиновника форме. Естественно, что основная масса публицистических высказываний приходится на период подготовки и проведения великих реформ, когда печатное слово стало средством идейно-политической борьбы партий и направлений. От спокойного повествования Никитенко переходит к острой полемике, его слово порой рассчитано на конкретного адресата и представляет собой скрытый либо явный диалог: «Полноте, и вы и я, кажется, настолько знаем людей, что не должны удивляться собственным нашим глупостям» (III, 171); «Честные, умные, просвещенные люди, здания новых порядков вы строите на песке. Вашим зданиям не достает фундамента <…> Вы выбьетесь из сил <…> Но следует ли из этого, что вы должны усесться и сидеть на ваших местах сложа руки? Боже сохрани! И вы и все немногие, верные истине и великому долгу <…> должны действовать и трудиться до конца» (III, 335).
Некоторые записи, группирующиеся в тематические циклы, представляют собой законченные публицистические статьи, как, например, высказывания о системе классического и реального образования. В них полемический запал уравновешивается позитивной программой аргументированных мер (записи 1871–1872 гг.).
Чем больше Никитенко удаляется от механизма выработки административных решений или гущи общественной жизни, тем острее становятся его публицистические тирады по жгучим проблемам современности. От спокойной манеры либерального чиновника и литератора он переходит к тону долженствования мудреца или искушенного политика: «Над людьми должны господствовать закон и страх, охраняющий закон. Все должны, хоть немного, чего-нибудь бояться: цари – революций, вельможи – немилостей, чиновники – своего начальства, богатый – воров, бедные – богатых, злоумышленники – судов и пр. <…> Только под влиянием и прикрытием страха спасается наибольшее количество добродетелей и люди не погружаются совсем с головою в омут безнравственности» (III, 149).
Помимо двух названных, в дневнике Никитенко представлена еще одна речевая форма, которая, хотя и не является продуктивной, с точки зрения научной специальности автора представляет собой немалый интерес. Это эстетически окрашенное слово.
Незначительность места, которое оно занимает, вызвано прежде всего характером жанрового содержания дневника. Но есть и еще одна причина такого расклада – своеобразие литературного дарования автора. Никитенко, хотя и делал опыты в художественной области, не имел сколько-нибудь значительного таланта, что и сказалось в его летописи, в особенности в описаниях.
Здесь проглядывает не то полная творческая беспомощность профессора изящной словесности, не то архаизм его художественного мышления. Во всяком случае, те немногие описания, которые имеются в его путевом дневнике, отдают сентиментальным примитивизмом: «Нам отвели премиленькую комнату в хорошеньком настоящем швейцарском шале <…> Немножко правее из-за зелени выглядывает прелестный домик, где пьют сыворотку» (II, 131); «Слева – отлогие берега, слегка холмистые, усеянные прелестными домиками и виноградниками <…> Мимо беспрестанно мелькали прелестные городки <…>» (II, 139); «Мы все пешком отправились к дому, который я теперь уже могу назвать вполне нашим. Домик оказался небольшой, но очень миленький, уютный, удобный. Мой кабинет чистенький, светлый – прелесть» (II, 201).
Встречающиеся в описаниях природы сравнения выглядят банальными и натянутыми: «Солнце льет свой свет на Юнгфрау, и она блестит радостно в своих снежных одеждах, как невеста, приготовляющаяся к венцу»; «Юнгфрау на минуту обнажила свои передние белоснежные члены и опять, как будто застыдясь, прикрыла их непроницаемым облаком» (II, 132); «На мгновение только проглянуло солнце, вспыхнула радуга и перекинулась через Альпы, как орденская лента через плечо кавалера» (II, 136–137).
Как сами путешествия были исключением из статично-однообразной жизни Никитенко, так и жанр описаний стилистически диссонировал с устойчивой речевой структурой текста дневника. Попытка Никитенко создать автономное стилевое образование внутри выработанной и отшлифованной формы была эстетически неудачной вследствие консервативности его языковой манеры.
Эволюция. Интенсивное развитие дневникового жанра в XIX в. естественно включало в себя существенные изменения различных его элементов. Несмотря на устойчивость эстетических и философских взглядов Никитенко, в решающей мере определивших структуру и содержание дневника, некоторые составляющие его летописи были подвержены этой тенденции. Главные направления эволюции уже были отмечены в ходе предыдущего анализа. Теперь остается лишь систематизировать их.
В эволюции дневника есть два рода изменений – универсальные и индивидуальные. Первые свойственны жанру в целом и накапливаются независимо от личности автора. Вторые присущи только данному литературному образцу.
Первым общезначимым изменением было функциональное. Переход от ранних дневников (1819–1824 гг.) к зрелым означал преодоление стадии психологической индивидуации в жизни автора. Внутренние изменения личности были спроецированы на литературную форму таким образом, что функция замещения психологических содержаний юношеского сознания преобразовалась в функцию отражения событий внешнего мира и душевной жизни, передаваемой отстраненно.
Следствием этого на первом этапе эволюции было изменение пространственно-временных форм протекания событий. Субъективно-психологическое время переходит в строго ограниченные рамки хронотопа с периодическими выходами в мир большого пространства и времени. На стадии активизации душевной жизни автора в поздних дневниках наблюдается сужение границ внешнего мира и анализ событий вне физических пределов, в форме переживания их как психических фактов.
К индивидуальным особенностям эволюции дневника Никитенко прежде всего относится изменение структуры образа человека. В последние 15 лет целостная характеристика все чаще заменяется односторонним подходом, в котором преобладают негативистские тенденции.
Другие жанровые элементы дневника – типология, метод, стиль, жанровое содержание – на протяжении 50 лет практически оставались неизменными. Это объясняется тем, что все они зависят от личностных характеристик автора и применительно к Никитенко служат выражением устойчивости мировоззрения, психологического типа и социального статуса автора.
Александр Иванович ГЕРЦЕН
В творческом наследии герценовского круга центральное место занимают художественно-документальные жанры: воспоминания, дневники, письма. Интерес к ним был сформирован как семейной традицией, так и бытовавшими в молодежно-студенческой среде формами общения – кружковыми беседами, чтением, дружескими исповедями и клятвами-признаниями.
Помимо широко известных мемуаров Герцена и циклов его писем («Письма из Франции и Италии», «Концы и начала», «Письма к старому товарищу»), к данному ряду принадлежат воспоминания Тучковой-Огаревой и ее дневник, «Исповедь» Н.П. Огарева, дневники жены Герцена Натальи Александровны и его дочери (Таты)[40].
Популярность этих форм и их преобладание над жанрами, созданными художественной фантазией, объясняются повышенным интересом поколения людей 1830-х годов к проблеме внутреннего содержания личности и ее исторического самоосуществления. Сознание людей 30-х годов формировало три мощных культурных потока: духовная культура романтизма, классический немецкий идеализм и французская историческая школа эпохи Реставрации. Из синтеза этих начал образовались взгляды передовых людей последекабрьской эпохи на соотношение личности и социума. Но отсутствие в стране элементарных форм общественности вынуждало молодое поколение переносить решение актуальных социальных проблем в интимный кружок духовно и родственно близких людей и придавать им литературно-философский характер.
Бытовые формы письма и дневника (следы «шалости», по выражению писателя), широко распространенные на начальном этапе, впоследствии перерастали в жанры пространного мемуарно-исторического повествования, которое подводило итог деятельности целого поколения и отдельной личности («следы жизни»). С этой точки зрения дневник служил своего рода подготовительным этапом: на его материале апробировались приемы самоанализа, он фиксировал первые шаги на пути философско-исторического осмысления личностного опыта.
Все дневники Герцена можно разделить на три неравные группы, среди которых наибольшее значение по объему и содержанию имеет первая. Дневник 1840-х годов начат на переломном этапе, когда писатель осознал значение критического возраста в жизни человека: «25 марта <1845 г.> Тридцать лет! Половина жизни. Двенадцать лет ребячества, четыре школьничества, шесть юности и восемь лет гонений, преследований, ссылок. И хорошо, и грустно смотреть назад» (т. II, с. 201).
Как и через десять лет Л. Толстой, Герцен намечает четыре эпохи в формировании личности, границы которых соответствуют индивидуальным психологическим, семейным и социальным условиям. В этом заключается функциональное родство раннего дневника Герцена с дневниками других авторов, но здесь начинается и его отличие от них.
Одной из важнейших функциональных закономерностей дневника является отражение в нем процесса психологической индивидуации. Те дневники, которые начинают вести в юношеском возрасте, обычно фиксируют стадии роста сознания, освоение духовного наследия прошлого в форме выписок из книг и обширных комментариев к ним, прописывание моральных правил с параллельной критикой собственных недостатков. Все эти приемы встречаются в дневниках предшественников и современников Герцена (А.Х. Востоков, В.А. Жуковский, Н.И. Тургенев, A. B. Никитенко, Л.Н. Толстой, И.С. Гагарин и др.).
Герцен приступил к ведению дневника в том возрасте, когда индивидуация завершена, когда пройден значительный этап жизненного пути и автор вступил в полосу творческой активности. Дневник уже подводит определенный итог, а не намечает первую программу действия, как у вышеназванных авторов. Однако Герцен принадлежал к тому редкому психологическому типу людей, у которых внутренний, духовный рост интенсивно продолжается длительное время. Дневник и был начат на новом этапе духовного подъема: «Кажется, живешь себе так, ничего важного не делаешь, semper idem ежедневности, а как только пройдет порядочное количество дней, недель, месяцев – видишь огромную разницу воззрения. Доселе я тридцать лет не останавливался. Рост продолжался, да, вероятно, и не остановится. В последнее время я пережил целую жизнь <…>» (т. II, с. 269).
Отраженная в дневнике эволюция сознания автора «Былого и дум» напоминает не вертикальную линию, а спираль. Герцен не только постоянно возвращается памятью к знаменательным событиям прошлого, но и в своем творческом развитии повторяет (на качественно ином уровне) некоторые прежние этапы. Это касается исторических и философских штудий, самоанализа, конструктивной самокритики, описания восторженного романтизма чувств.
Наиболее показательным в этом отношении является круг чтения, в котором отражаются социально-политические и философские взгляды писателя. Сюда входят «История английской революции» Гизо и Луи Блан, «Письма об эстетическом воспитании» Шиллера и Гегель, Шлоссер и де Кюстин. Преобладание в списке исторических и политических трудов позволяет сделать вывод о направленности интересов писателя и неосуществленных мечтах его юности, о которых он часто вспоминает в дневнике: «Я с странным чувством обращаюсь иногда назад, далеко назад к ребячеству. Как богато хотела развернуться душа, и что же вышло, какое-то неудачное существование, переломленное при первом шаге» (т. II, с. 218).
Приведенная запись наглядно показывает, что дневник Герцена запечатлел не психологическое (индивидуация), а историческое самоосуществление личности, поиски путей и средств к этому осуществлению. Не случайно дневник велся в промежутке времени, разделяющем два важнейших события в жизни молодого Герцена, – окончательного возвращения из ссылки и отъезда за границу. В этот период писатель острее ощущал противоречие между жаждой действий на общественном поприще и невозможностью его удовлетворения. И здесь дневник (как это не раз бывало с другими авторами) выполнял компенсаторно-заместительную функцию. В пределах своих возможностей он помогал осуществить нереализованную потребность в общественном действии посредством мысли, анализа: «Мое одиночество в кругу зверей вредно. Моя натура по превосходству социабельная. Я назначен собственно для трибуны, форума, так, как рыба для воды. Тихий уголок, полный гармонии и счастия семейной жизни, не наполняет всего, и именно в ненаполненной доле души, за неимением другого, бродит целый мир – бесплодно и как-то судорожно» (с. 213); «Боже мой, какими глубокими мучениями учит жизнь, лета и события, только они могут совершить становление в жизни, ни талант, ни гений! В мышлении все мое» (с. 276).
Таким образом, функциональное своеобразие дневника Герцена составляют три элемента: психологический, идейный и социальный. Дневник запечатлел новый этап роста сознания, аккумулировал комплекс философско-исторических и политических идей и взял на себя функцию, компенсирующую социальный опыт личности.
Теперь рассмотрим пространственно-временную организацию дневника. В ее основе также лежит принцип спирали, который характерен для психологической функции. События текущей жизни представлены в дневнике преимущественно в их соотнесенности с прошлым, как личным, так и историческим.
Время в дневнике Герцена играет огромную роль и часто оказывает решающее воздействие на содержание записи. С обращения к времени дневник начинается и на размышлениях о нем он заканчивается: «Три года назад начат этот журнал в этот день. Три года жизни схоронены тут <…> перечитывая, все оживает как было, а воспоминание, одно воспоминание не восстановляет былого, как оно было <…>» (с. 411).
Из современников Герцена только Л. Толстой в равной мере ощущал на себе давление времени и с такой же силой отразил его в летописи своей жизни. Но, как и у Л. Толстого, время в дневнике Герцена может быть рассмотрено в двух значениях – как философская проблема и как форма организации событий в повествовательном пространстве.
Преодоление 30-летнего рубежа в своей жизни заставляет Герцена больше ценить настоящее, каждое проживаемое мгновение. От этого время в ряде записей сжимается до экзистенции, до субъективного переживания мимолетности бытия: «Настоящее есть реальная сфера бытия. Каждую минуту, каждое наслаждение должно ловить. Душа беспрерывно должна быть раскрыта, наполняться, всасывать все окружающее и разливать в него свое» (с. 217); «Настоящим надобно чрезвычайно дорожить, а мы с ним поступаем неглиже и жертвуем его мечтам о будущем» (с. 346); «Одно настоящее наше, а его-то ценить не умеем» (с. 369); «Ловить настоящее, одействотворить в себе все возможности на блаженство» (с. 394).
Психологический характер хронотопа становится очевидным особенно в тех записях, в которых Герцен обращается к недавнему прошлому и заново перебирает запечатлевшиеся в памяти события. Обыкновенно ход события не излагается, а из его факта делается философское обобщение. Прошлое и настоящее соединяются в целостной эмоции-переживании. Страницы дневника настолько насыщены записями подобного рода, что порой напоминают календарь памятных дат: «Вчера был в Перове. В первый раз посетил те места, где 8 мая 1838 года встретился с Natalie и откуда поехал во Владимир <…> и четыре года с половиной, лучшую без малейшей тени сторону моего бытия, составило это беспрерывное присутствие существа благородного, высокого и поэтического» (с. 221); «Четыре года тому назад, 19 марта, уехал Огарев из Владимира, после первого свидания. Как все тогда было светло!» (с. 272); «Невольно вспоминается, что было в эти дни 8 лет тому назад <…> Поскакал в жизнь. Да, лишь с этого дня считается практическая жизнь <…>» (с. 275). Такой тип времени-пространства является у Герцена главенствующим, он даже влияет на структуру образов дневника, о чем речь пойдет ниже.
Субъективно-психологический характер времени – пространства в дневнике Герцена находится в прямой зависимости от главного противоречия его жизни до отъезда за границу – между стремлением к историческому самоосуществлению и практической невозможностью его выполнения. Реальное действие оказывается возможным только в семейно-дружеском кругу, узкие рамки которого уже не удовлетворяли писателя. Историческая арена открыта только в области мысли, и именно сюда автор направляет свою энергию.
В записях исторического содержания Герцен постоянно проводит аналогии с современностью и тем самым выстраивает их в своеобразную логическую схему с регулярными подъемами и возвращениями назад, которая напоминает записи-воспоминания личного характера. Для Герцена лично проживаемое время и время историческое не разделены, они образуют не два не сходящихся потока, а совпадают в своих главных тенденциях и направлениях. В дневнике, как позднее в мемуарах, будут представлены три линии развития событий: личная судьба Герцена, судьба его поколения и движение «большой» истории. Но последняя дана в дневнике пока что теоретически, на уровне литературно-философского анализа, а не как элемент личного опыта участника социально-исторических событий: «Поразительное сходство современного состояния человечества с предшествующими Христу годами <…>» (с. 344); ««Искупление, примирение, возрождение и приведение всего в первоначальное состояние» – слова, произносимые тогда и теперь» (с. 345).
Время и пространство имеют для Герцена не только психологическое и историческое значение. В таких формах они выступают в проблемных записях личного характера и в тех, которые касаются судеб человечества. В поздних дневниках 1840-х годов все чаще актуальные вопросы общественной жизни становятся предметом внимания писателя, и хронотоп в отдельных записях имеет тенденцию к континуальному охвату явлений. Герцен устанавливает между удаленными и логически не связанными событиями смысловую связь, наподобие той, которая имела место в исторических штудиях автора «Дилетантизма в науке». Здесь горизонтальная парадигма времени – пространства сменяет спиральную: «Москва 15 <сентября 1844 г.> Давно приехал <…> Первая новость, которую я услыхал, – происшествие на Лепешкинской фабрике; какие-то гг. Дубровины отдали в кабалу 700 человек крестьян, оторвавши их от семейств <…> В pendant. А суд парламента освободил О’Коннелл. Великая страна <…>» (с. 380).
Категория времени играет существенную роль и в формировании образного строя дневника. Многие образы слагаются или из суммы исторических характеристик, или представлены в виде исторического обзора деятельности человека, завершившего свой жизненный путь. По замыслу автора, они служат выражением судеб целого поколения или определенного социально-исторического слоя. Для этих лиц время становится своего рода пробой на типичность. Герцен выделяет в них не обычные человеческие качества, положительные или отрицательные, а относит таких героев к типам на основании временных, эпохальных свойств личности, роднящих их с большим классом людей конкретного времени. Подобный прием будет использован Герценом в «Былом и думах» в главе «Русские тени». В дневнике к этой группе относятся М.Ф. Орлов, К.И. Кало, В. Пассек и ряд других образов: «Вчера получил весть о кончине Михайла Федоровича Орлова <…> Он был человек между московскими аристократами, исполненный предрассудков, отсталый от нового поколения, упорно державшийся теорий репрезентативности, как они были поставлены в конце прошлого и начале нынешнего века, и выдумывавший свои теории, дивившие своей неосновательностью. Молодое поколение кланялось ему, но шло мимо, и он с горестию замечал это <…>» (с. 201–202).
Человеческий образ строится у Герцена на трех основополагающих принципах – типичности, временной динамике и эстетической выразительности. В первой группе преобладающим началом была временная характеристика – это был человек своего времени, со всеми свойственными данному времени чертами. В других образах на первый план выступает эстетическое начало. Герцен – сторонник эстетики пафоса. Как художник он предпочитает в человеке выражение, даже если оно приобретает крайние формы. В таких образах выразительность становится синонимом типичности: «Иван Киреевский, конечно, замечательный человек; он фанатик своего убеждения так, как Белинский своего. Таких людей нельзя не уважать, хотя бы и был с ними противоположен в воззрении; ненавистны те люди, которые не умеют резко стоять в своей экстреме, которые хитро отступают, боятся высказаться, стыдятся своего убеждения и остаются при нем» (с. 244).
Еще одна группа образов строится по принципу типологической соотнесенности с историческими и мифологическими личностями. Герцен не просто находит в яркой индивидуальности типическое, но стремится связать его по аналогии с образами всемирно-исторического значения. Такая связь придает личности возвышенный характер, поднимает ее до художественного обобщения. Даже в драматических ситуациях (смерть и похороны Вадима Пассека) Герцен умеет разглядеть художественную выразительность образа человека и ярко запечатлеть ее в своем дневнике: «Черткова <…> сначала она поразила меня удивительно благородной и выразительной внешностью <…> Но потом она удивила меня образом участия <…> Эта женщина была похожа на те явленные образы Богородицы, которые виделись прежними святыми и которые сходили примирительной голубицей между богом и человеком. Эта женщина была артистическая необходимость в этой группе <…>» (с. 237); «<Белинский> фанатик, человек экстремы, но всегда открытый, сильный, энергичный. Его можно любить или ненавидеть, середины нет <…> Тип этой породы – Робеспьер» (с. 242).
Особое место в жизненной летописи Герцена принадлежит образу поколения людей последекабрьской эпохи. Этот образ-тема займет одно из центральных мест в зарубежный период творчества писателя. В дневнике он представлен несколькими яркими образцами, в которых эмоциональное начало преобладает над аналитическим.
В этом образе сконцентрированы многолетние наблюдения молодого Герцена и его богатый личный опыт политического ссыльного. Поэтому подобные эпизоды по своему эмоциональному пафосу приближаются к записям интимного характера, в которых автор оплакивает гибель юношеских надежд. Здесь еще нет интонаций негодования и призывов к возмездию, которые в полную силу зазвучат в публицистике и мемуарах второй половины 1850-х–1860-е годы.
В дневнике образ поколения 1830-х годов, несущий в себе типические черты, еще не дифференцировался. Он дан крупными мазками, без светотени и детализирующей моделировки. В нем нет ни одного индивидуализированного портрета, вроде Энгельсонов или Сазонова из «Былого и дум». Это образ нерасчлененной массы, который Герцен-художник набрасывает эскизно, по причине еще не утихшей собственной боли: «Террор. Какая-то страшная туча собирается над головами людей, вышедших из толпы. Страшно подумать; люди совершенно невинные, не имеющие ни практической прямой цели, не принадлежащие ни к какой ассоциации, могут быть уничтожены, раздавлены, казнены за какой-то образ мыслей, которого они не знают, который иметь или не иметь не состоит в воле человека и который остановить они не могут» (с. 328); «Но я полагаю, что для настоящего поколения только и будут одни слезы и плаха <…>» (с. 335).
Принцип типизации нередко используется Герценом и при создании образа мира. Хотя преобладающим предметом изображения в дневнике является сфера идей и события личной жизни автора, картины официальной и крепостной России то и дело мелькают на его страницах. Они представляют именно тот антимир, которому противостоит одухотворенная и гуманная личность писателя. Этот образ складывается в основном из отрицательных черт и негативных оценочных суждений. Герцен и не пытается завуалировать тенденциозный характер подобной типизации: в ней отчетливо проступает критическая направленность его мысли. Будучи по складу ума диалектиком, Герцен сознательно отбирает для картины мрачные краски, чтобы свет разума сильнее контрастировал с властью тьмы: «Запрещено в московских газетах печатать отрывки из отчета полицмейстера о Петербурге – это знаменательно; они боятся гласности, говорящих фактов и безобразии этого города, где все искусственно, где на 4 мужчин падает одна женщина, где число солдат страшно, где сотни умирают от венерических болезней и пр.» (с. 336).
Из всех образов дневника наиболее привлекательным, конечно же, является образ автора. Он представлен на его страницах в двух ипостасях – в интимном чувстве к жене («моя святая святых, высшее, существеннейшее отношение к моей частной жизни») и в гуманистическом пафосе свободной мысли. Пафос и нежная чувствительность, внешне совершенно противоположные, тесно связаны между собой в индивидуально-психологическом отношении. Обращение к дневнику было связано с острым внутренним кризисом, внешними неурядицами, семейными драмами и конфликтами. Образ автора дан в дневнике в круговороте жизненных событий; он ищет свое место, переживает и борется, страдает и впадает в отчаяние. Со страниц дневника часто слышатся рыдания и стоны, обнажаются скорби и страдания. Выражение чувств и эмоций порой покрывает описания вызвавших их событий. Но в последний момент образованный разум торжествует над бессознательными проявлениями личности.
Главным приемом в воссоздании образа автора является философская рефлексия. Факты душевной жизни Герцен анализирует с позиций классического рационализма, но при этом никак не может до конца преодолеть романтической экспрессии. В этом – своеобразие дневникового образа автора «Былого и дум».
Философская школа и привычка к обобщениям постоянно подталкивают писателя к объективации характерных свойств своей личности. В дневнике они даются отстраненно, как качества человеческой личности вообще. Им Герцен придает элемент художественной выразительности. Эти исконные антиномии человеческой натуры выступают и как отвлеченные категории рассудка, и как эстетически оформленные стихии личности. Но за формой художественной объективации проступают знакомые по дневнику особенности характера самого автора: «Не у всех страсти тухнут с летами, с обстоятельствами, есть организации, у которых с летами и страсти окрепают и принимают какой-то странный характер прочности. Вообще человек должен быть очень осторожен, радуясь, что он миновал бурный период: он может возвратиться вовсе неожиданно. И тут решается спор – разум или сердце возьмет верх. Выше, свободнее, нравственнее – когда разум; но в самом огне, увлеченье есть прелесть, живешь вдесятеро. А после – раскаяние, упреки <…>» (с. 215).
Импульсивная, жаждущая полноты жизни натура Герцена находится в состоянии бесконечных переходов от одного настроения к другому: периоды счастья и возвышенных порывов нередко сменяются душевным упадком и мрачным пессимизмом. Рвущийся наружу поток эмоций выплескивается на страницы дневниковых записей в многоцветий оттенков и контрастов: «<…> жадное стремление к какой-то полной жизни и скептицизм, все мутящий. Всякий день уносит что-нибудь. Я быстро отцвел и отживаю теперь свою осень, за которой не будет весны» (с. 282); «Вчера вечером наш разговор <…> был кроток, меня посетило опять давно неизвестное чувство гармонии, и я плакал от радостного чувства» (с. 283).
Болезненная рефлексия и самокритика, свойственная дневниковым исповедям и в целом поколению 1830-х годов, получает в дневнике Герцена все свойства типического, как на страницах художественных произведений самого писателя и его современников («Гамлет Щигровского уезда» И.С. Тургенева, поэзия Н.П. Огарева, «Ипохондрик» П.И. Кудрявцева). Образ автора не просто соотносится с образом поколения, но является его концентрированным выражением. В соответствующих записях о себе молодой Герцен выступает не как частный хроникер, а как создатель объективной характеристики эпохи. В описании своих собственных качеств он поднимается до масштабных обобщений: «Я вгляделся в себя и в жизнь. У меня характер ничтожный, легкомысленный <…> суетливо слабый, и, как таковой, склонный к прекрасным порывам и гнуснейшим поступкам <…> страстные, раздирающие сомнения царят в душе – и слезы о веке, слезы о стране, и о друзьях, и об ней» (с. 281).
Типология дневника Герцена связана с его функциональными особенностями. Обозначив в начальной записи предметом изображения вехи своей жизни и этапы духовного развития, писатель последовательно воспроизводит динамику внутреннего мира. А поскольку жизненной целью автора является его историческое самоосуществление, внутренний и внешний миры показаны в их взаимоотношениях. Авторское я не заслоняет собой объективный мир, а изображается в его реакциях на значимые для него явления. Описанные в дневнике события отобраны, воспроизводятся не в порядке их фактического следования, а в той очередности, в какой они воздействовали на сознание и эмоциональный настрой автора.
В дневнике мы не найдем ни одной записи, в которой подробно описывается весь день жизни автора. Герцен выбирает событие, которое имеет значение для его духовной жизни, либо описывает переживание, вызванное воспоминанием. Травмирующие сознание факты – болезнь жены, смерть детей, преследование властей – зафиксированы в дневнике не в фазе физического протекания, а со стороны их психологического воздействия на писателя.
Таким же образом воспроизводятся и литературно-философские штудии Герцена. В отличие от аналогичных по функции вписок в дневниках А.И. Тургенева, A.B. Никитенко, И.С. Гагарина, эти записи даны не цельными блоками с «подстрочными» комментариями, а представляют собой самостоятельные критические этюды, размышления «по поводу», наподобие жанра «Капризов и раздумий».
У Герцена было твердое убеждение в том, что духовная жизнь автономна по отношению к физическому существованию человека и мира. И в дневнике предпочтение отдается именно первой. В этом проявился отчасти идеализм, но и трезвый реализм писателя. Духовная область стала для передовых людей 1830–1840-х годов главным поприщем деятельности и спасла их от нравственной гибели: «Сфера идей не зависит от случайности, и исключительное погружение в частности гибельно, но нельзя же опять выйти из своей кожи для того, чтобы существовать только как мысль» (с. 394); «Человеку, имеющему широкие интересы, несколько легче, нежели сосредоточенному на одном личном и семейном» (с. 317).
Принадлежность дневника Герцена к интровертивному типу во многом определила его жанровую специфику. Летопись жизни писателя – это лирико-философский журнал, написанный в жанре его ранней прозы. Философская мысль в нем органически сочетается с сердечными излияниями и лирическими раздумьями о жизни. В дневнике автор не изменяет своей обычной литературной манере, которая разовьется в «Былом и думах» и в публицистических циклах 1950–1960-х годов. В этом смысле дневник был этапным произведением в творческой эволюции Герцена. В нем формировалось то совершенно оригинальное жанровое мышление, которое было свойственно исключительно автору «Концов и начал».
К определению жанрового содержания дневника вполне подходит формулировка из «Былого и дум»: «отражение истории в человеке, случайно попавшем на ее дорогу». Правда, дневник воссоздает короткий период этой истории. В нем осмысление жизненного опыта личности еще нередко встраивается в схему философии истории классического идеализма, трактующего саму личность абстрактно, вне конкретных социальных условий. Поэтому факты современной жизни и недавнего прошлого сопровождаются лирическим аккомпанементом либо даются в форме предельных обобщений: «Дух, выработавшийся до человечности, звучит так, как цветок благоухает, но звучит и для себя; за трепетом жизни, за неопределенной радостью бытия животного следует экспансивность человека, он наполняет своею песнею окружающее <…>» (с. 217).
Идейно-художественное единство дневника обеспечивается его методом и стилем. Дневник ведется не в форме сплошной фиксации событий дня, а методом их отбора. Отбор материала не всегда зависит от пережитого в конкретный промежуток времени. Записанная мысль может возникнуть стихийно, по случайной ассоциации разновременных фактов и идей. Но в основе их, как правило, лежит груз прошлого и размышления о будущем, связанные в логическую цепь, в которой средним звеном является настоящее.
Подчиненность содержания логики мысли автора, а не ходу физически протекающих событий наглядно выражается в ее финале, который часто представляет собой итоговое умозаключение, выраженное в форме пословицы или афоризма: «Замечателен циркуляр министерства внутренних дел, объявляющий, что в этом указе (который давно был ожидаем) ничего нового нет, что он относится к желающим и чтоб не смели подразумевать иной смысл, мнимое освобождение крестьян etc., etc. Ne reveillez pas le qui dort! <He будите спящего кота>». Такая конструкция демонстрирует встроенность записи в мировоззренческую систему автора. Подобный прием встречается как в дневниках начала века (С.П. Жихарев), так и в ряде образцов жанра второй половины столетия (П.А. Валуев) и указывает на его типичность и устойчивость в дневниковой прозе.
Тенденция к проведению исторических аналогий, к философским обобщениям стала стилеобразующим фактором дневника. Эпоха 1830–1840-х годов была временем формирования «метафизического языка» (научно-философского стиля) в русской словесной культуре. Как видный представитель духовного направления эпохи Герцен был одним из создателей такого стиля. В этом отношении дневник стал творческой лабораторией этого процесса.
На стиле дневника лежит отпечаток классической немецкой философии. «Читая Гегеля и находясь весь еще под его самодержавной властью, я сам во многих случаях разрешал логическими шутками или логической поэзией не так-то легко разрешимое» (с. 317). Герцен мыслит категориями немецкой школы и одновременно передает своеобразие ее терминологии.
Здесь отчетливо выделяются два направления – автоматическое перенесение немецких слов-понятий в лексико-синтаксическую структуру русской фразы (терминологический варваризм) и передача иноязычного (в основном латинского) термина в русской транслитерации. Словесное творчество автора «Писем об изучении природы» в жанре, не рассчитанном на широкого читателя, объясняется не отсутствием русских лексических аналогов, а его стремлением освоить и культивировать на отечественной философской ниве передовую мысль Запада. В известной мере языковое экспериментаторство в дневнике может быть рассмотрено как студийный вариант будущих философских книг писателя.
Однако лингвистические опыты Герцена имели не только прагматическую природу. С их помощью молодой философ создал особый духовный мир, оригинальный образ отвлеченной мысли. Все языковые нововведения рассчитаны на субъективное понимание и представляют собой своеобразный шифр для передачи авторских мыслей и чувств, ключ к которому имеется только у его хозяина: «сильная оссификация», «абнормальное состояние», «дар логической фасцинации», «чрезвычайная нежность и сюссентибельность», «личность бога у них <славянофилов> не выходит в замкнутости обыкновенной Persönlichkeit», «тогда наступит великая фаза Betätigung».
Использование иноязычных фраз и оборотов речи было связано с типичным для позднего романтизма мышлением «интернациональными» образами-символами, восприимчивость к которым была свойственна молодому Герцену. Дневник как интимный жанр развивал специфическими средствами культуру романтического мышления. Поэтому так часты в жизненной летописи писателя романтически окрашенные фразы не философского, а сугубо лирического содержания. В них сконцентрированы дух и эстетика романтизма: «Nein, nein, es sind Keine leere Traume!» (Нет, нет, это пустые мечты!); «Grace, grace – grace pour foi – meme» (Пощади, пощади – пощади для тебя самой).
В отличие от других образцов дневниковой прозы, журнал Герцена представляет собой законченное произведение. Его записи не обрываются неожиданно, как это имело место в истории ведения большинства дневников. Причем законченность имеет двоякий характер – психологический и эстетический.
С окончанием работы над дневником завершается этап духовного и психологического развития Герцена, смысл которого заключался в поисках средств и форм исторического самоосуществления в условиях отсутствия гражданской свободы. На новых путях, которые открывались перед писателем, он избирает другие литературные формы выражения духовной жизни. В дневнике все труднее становится отражать усложнившиеся взаимодействия внутреннего и внешнего опыта. Возможности активной гражданской деятельности приводят к отказу от дневника.
С точки зрения содержания дневник представляет собой идейно законченный цикл. Ряд типичных для Герцена тем и образов проходит по кругу и, как в музыке, разрешается тоническим аккордом, придающим всему произведению эстетическую завершенность.
В 1860-е годы Герцен сделал несколько коротких дневниковых записей с интервалом в 1–2 года. Все они объединены одной общей темой, которая побудила писателя назвать свой поздний журнал «Книгой стона». Тема времени, имевшая важное значение в раннем дневнике, здесь становится центральной и приобретает мрачный, пессимистический тон. В этом коротком дневнике перед нами предстает не Герцен – носитель и пропагандист философии прогресса и оптимизма, а уставший в борьбе с жизненными невзгодами, сокрушенный в своих несбывшихся мечтах и замыслах человек. Монотематизм придает этому дневнику единство и почти художественную выразительность: «15 июня 1860. Я ужасно устал – видно, это-то и есть старость» (т. XX, кн. 2, с. 601); «27 апреля 1862. Еще два года на днях мне было пятьдесят лет – после 2 мая 1852 г.» (с. 601); «24 сентября 1863. – Генуя <…> Широкой жизни, богатой рамы искал я, переезжая первый раз Приморские Альпы <…>» (с. 603).
Тарас Григорьевич ШЕВЧЕНКО
В истории дневникового жанра 1850-х годов дневник Т.Г. Шевченко занимает едва ли не центральное место по своему художественному совершенству. Написанный на русском языке, он, как и повести поэта, по праву принадлежит русской литературе.
Дневник велся в период окончания солдатской службы, когда Шевченко ожидал официальный документ о своем освобождении. Импульсом к ведению дневника и послужило данное обстоятельство. Поэтому в функциональном отношении журнал автора «Кобзаря» родствен дневнику В.К. Кюхельбекера и ранним дневникам В.Г. Короленко. Преимущественное положение Шевченко в этой группе писателей очевидно: он считает дни до своего освобождения, а они запасаются терпением на долгие годы ограничения свободы.
С психологической точки зрения все три дневника имеют одну природу. Настоящее время является для каждого автора препятствием, и ему скорее хочется его преодолеть. Дневник заполняет это насильственно растянутое время, замещает психологически тягостное ожидание: «А я все-таки не могу ни за что приняться. Ни малейшей охоты к труду. Сижу или лежу молча по целым часам <…> Настоящий застой. И это томительное состояние началось у меня 7 апреля, т. е. со дня получения письма от М. Лазаревского. Свобода и дорога меня совершенно поглотили» (с. 15)[41].
Сама идея дневника вначале представлялась Шевченко очень смутно. Лишенный всех форм духовного творчества в течение десяти лет, ссыльный поэт пытается компенсировать отобранную свободу активной литературной деятельностью в самом конце этого мучительного и долгого пути.
Прежде всего Шевченко хочет забыть ужасы солдатчины, утопить воспоминания о десятилетней каторге в незамысловатом бытописании – этом первом труде не по принуждению. Солдатское прошлое он хочет вычеркнуть из жизни и поэтому, как и Кюхельбекер, предпочитает в своем тюремном дневнике совершенно сторонние темы, игнорирует чисто солдатскую тематику: «Однако вспоминание о прошедшем и виденном в продолжение этого времени приводит меня в трепет. А что же было бы, если бы я записал эту мрачную декорацию и бездушных грубых лицедеев, с которыми мне привелось разыгрывать эту мрачную, монотонную десятилетнюю драму? <…> Обратимся к светлому и тихому, как наш украинский осенний вечер, и запишем все виденное и слышанное, что сердце продиктует» (с. 9).
Однако отсутствие ясного плана и утрата навыка писания на первых порах затрудняют работу авторской мысли. В сфере внимания поэта оказываются совершенно незначительные предметы, и он сам иронизирует над собой по поводу того, что они невольно попадают в его журнал. Но юмор, с которым он принимается их описывать, истинно украинская лукавинка придают таким записям почти гоголевскую выразительность: «Сегодня уже второй день, как сшил я себе и аккуратно обрезал тетрадь для того, чтобы записывать, что со мною и около меня случится <…> Пока совершенно нечего записывать. А писать страшная охота. И перья есть очиненные <…> А писать все-таки не о чем. А сатана так и шепчет на ухо: – Пиши, что ни попало, ври, сколько душе угодно» (с. 8).
С самого начала Шевченко не придавал своему журналу серьезного значения, считая его делом пустяковым, вроде случайно приобретенного и пригодившегося на время чайника, с которым постоянно сопоставляет дневник. В писании дневника Шевченко видит не труд, а развлечение, не потребность, а род литературной разминки перед предстоящим серьезным делом. К тому же его ближайшие планы не связаны с писательством: он мечтает заняться ремеслом живописца.
Признание Шевченко акцидентального характера своего труда созвучно лирическому дарованию кобзаря. Приземленность жанра не согласуется с поэтическими полетами фантазии, которые обычно сопровождали его в минуты творческого вдохновения. Поэтому постоянство, с которым ведется журнал, вызывает у автора удивление, заставляющее его поскорее отогнать мысль о серьезности своих записок: «Не знаю, долго ли продлится этот писательский жар? <…> Если правду сказать, я не вижу большой надобности в этой пунктуальной аккуратности. А так – от нечего делать» (с. 11).
По мере продвижения работы над дневником представления о его функции не меняются в сознании поэта. Но та аккуратность, с которой в него заносятся сведения о прожитом, находится в разительном противоречии с многократными попытками убедить самого себя в легковесности своих ежедневных занятий. Как уже бывало в таких случаях, общение с дневником становится потребностью для его автора. Поэт бессознательно отдается новой для него работе как привычному жизненно важному делу: «Сначала я принимался за свой журнал как за обязанность, как за пунктики, как за ружейные приемы; а теперь, а особенно с того счастливого дня, как завелся я медным чайником, журнал сделался для меня необходимым как хлеб с маслом для чаю <…> Справедливо говорится: нет худа без добра».
Дневник для Шевченко становится элементом духовного быта, от которого он отвык за десять лет и к которому теперь не без труда приобщается в качестве профессионального литератора. Но как только функция замещения перестает действовать, – а это случается в Петербурге, во время фактического прекращения ссылки, – необходимость в дневнике отпадает сама собой. Его место займут традиционные для сознания и образа жизни поэта культурные потребности. Но произойдет это не вдруг, а постепенно, как гаснет затухающая свеча.
Занявший кратчайший промежуток времени в творческой эволюции поэта (один год), дневник отразил переходное душевное состояние Шевченко – от переживания одиночества к полнокровному восприятию внешнего мира. В этот период дневник не только помог поэту преодолеть «затянувшееся» время, но и стал для него своего рода психотерапевтическим средством. Через дневник накопившееся за годы психическое напряжение разряжалось в наименее острой и безопасной для сознания форме. Вот почему сам автор не может найти подходящего объяснения исходящим изнутри импульсам, заставляющим его словно против воли обращаться к своему журналу: «Я что-то чересчур усердно и аккуратно взялся за свой журнал» (с. 11); «<…> Счастливым для меня числом кончился первый месяц моего журнала. Какой добрый гений шепнул мне тогда эту мысль? <…> В первые дни не нравилось мне это занятие <…>» (с. 58–59).
Функциональное своеобразие дневника в значительной степени определяет его основные жанровые составляющие. В наибольшей степени это относится к проблеме времени и пространства. В этом отношении записки Шевченко представляют собой уникальный образец в истории дневникового жанра. Традиционные формы хронотопа здесь модифицированы в соответствии с состоянием сознания автора. События в дневнике даны в трех временных измерениях и в формах физического и идеального времени-пространства.
Основополагающим принципом пространственно-временной организации событий дневника является табу, наложенное Шевченко на период десятилетней солдатчины. Чтобы вытеснить из сознания негативные образы недавнего прошлого, автор вводит в событийный ряд записи-воспоминания о родной Украине и строит проекты на будущее. Вместе с ними установка на «уплотнение» настоящего времени создает условия для погружения в бессознательное, порождающее группы снов. Так образуется сложная зависимость акцентированных воспоминаний, повседневных событий и инициированных фантазией сновидений.
Физическое время – пространство представлено на страницах дневника его локальной разновидностью. Отсутствие информации и сосредоточенность на тягостном однообразии ежедневных занятий предельно сужают жизненные рамки повествователя. Даже перспектива расширения пространственных границ не разрушает сложившегося за годы стереотипа восприятия событий. Однако длительное проживание в ограниченном пространстве по четко фиксированному времени не создает в сознании и дневнике Шевченко экзистенциального рефлекса. Поэт постоянно ощущает и сопереживает параллельно текущие события за пределами Новопетровского укрепления. Эти события, в их пространственно-временных границах, имплицитно присутствуют в его сознании и находят косвенное отражение в ряде записей: «Вчера ушел пароход в Гурьев и привезет оттуда (курсив мой. – O.E.) вторую роту и самого батальонного командира <…>» (с. 17); «Сегодня рота придет в Гурьев, а по случаю полноводия в Урале она пройдет прямо на стрелецкую косу и сегодня уже сядет на пароход. Завтра рано пароход подымет якорь и послезавтра высадит роту в Новопетровской гавани» (с. 20); «Если бы еще хорошую сигару воткнуть в лицо <…> тогда бы я себя легко мог вообразить на петергофском празднике <…> А сегодня действительно в Петергофе праздник» (с. 38).
Перечню примелькавшихся мест и вызывающих скуку событий контрастно противопоставлены планы на будущее с подробным описанием профессиональных занятий, образа жизни, с обозначением места действия и временных интервалов. Хотя все эти предполагаемые события заключены в идеальный хронотоп, они теснее сопряжены с физической реальностью; в них отсутствует бессознательная основа сновидений, и контуры пространственно-временных форм выглядят естественнее. Петербург, Академия художеств, методичная работа, эскизы задуманных гравюр обладают всей силой действительности наряду с окружающим Шевченко предметно-событийным миром. Совершенно здоровое сознание поэта не дает повода сделать вывод о том, что подобные записи носили характер вынужденного бегства от опостылевшей жизни в спасительный мир фантазии. Выведенный на страницах дневника притягательный образ будущей жизни не менее правдоподобен, чем привычный для глаза и чувств уголок оренбургского захолустья: «Но почему же не верить мне, что я хотя к зиме, но непременно буду в Петербурге <…> увижу мою прекрасную Академию, Эрмитаж <…> услышу волшебницу оперу <…> Потом уеду на дешевый хлеб в мою милую Малороссию и примусь за исполнение эстампов <…> Кроме копий с мастерских произведений, я думаю со временем выпустить в свет <…> и собственное чадо – «Притчу о блудном сыне» (с. 27–28).
По выразительной силе и месту, отведенному им в дневнике, с двумя приведенными разновидностями хронотопа сопоставимы сны и фантазии. Эти продукты бессознательного – нередкие объекты изображения в дневниковом жанре. Разница в том, что у Шевченко они представляют автономную пространственно-временную сферу по причине особого психологического состояния поэта. Если обычно сны в дневниках сопутствуют событийной линии и могут быть объяснены, исходя из фактов настоящего, то у Шевченко большая часть сновидений воссоздает, по контрасту с настоящим, прошлую, досолдатскую жизнь. Это бессознательные образы, построенные по аналогии с воспоминаниями. В них нет ничего загадочного, причудливого, фантастического. Они не требуют усилий для своего истолкования. Здесь сконцентрировано все лучшее, что испытал поэт в молодые годы. Интенсивность сновидений, посетивших поэта именно в период напряженных ожиданий, свидетельствует об их компенсаторном характере. Они поддерживали психическое равновесие и ослабляли силу негативных последствий душевной травмы периода солдатчины.
Временны́е и пространственные формы в снах выступают отчетливо и напоминают образы действительности. Поэтому их можно рассматривать как самостоятельный мир, но не служащий продолжением мира материального, а соотнесенный с воспоминаниями: «<…> видел во сне покойника Карла Павловича Брюллова и с ним вместе товарища моего Михайлова, сначала в какой-то огромной галерее <…> Потом перешли мы в мастерскую, что в портике <…> Потом Карл Павлович пригласил нас на лукьяновский ростбиф, как это бывало во времена незабвенные» (с. 45); «<…> Я задремал и на крыльях Морфея перелетел в Орскую крепость и в какой-то татарской лачуге нашел Лазаревского, Левицкого и еще каких-то земляков, играющих на скрипках и поющих малороссийские песни» (с. 72).
Со снами содержательно перекликаются воспоминания. Так же как и сновидения, они в основном отражают светлые стороны прошлого. Правда, некоторые из них представляются автору на грани правдоподобия и сна и тем сильнее подчеркивают реализм бессознательных образов: «Незабываемые золотые дни, мелькнули вы светлым, радостным сновидением передо мною, оставив по себе неизгладимый след чарующего воспоминания» (с. 55).
Родство снов и воспоминаний основывается на пространственно-временной конкретности отраженных в них событий. Они всегда воспроизводят точную картину местности с подробностями и во временной динамике. С точностью хронографа Шевченко называет даты, имена, местные достопримечательности: петергофский праздник 1836 г., мастерская Брюллова, встреча со Щепкиным в Москве в 1845 г., кабинет Жуковского 1839 г., ильинская ярмарка в Ромны в 1845 г., игра украинского артиста Соленика и пение цыганами романса на стихи Лермонтова. За счет фантазий, снов и воспоминаний мир дневника расширяется до масштабов культурного пространства целой страны, поглощая убогий мирок военной крепости.
Хронотоп дневника периода пребывания Шевченко в Москве и Петербурге заметно отличается от пространственно-временной организации предыдущих записей. Оказавшись в кругу знакомых и покровителей, во взлелеянных мечтами центрах культуры, Шевченко с головой окунается в новую жизнь, которая не оставляет места для воспоминаний; с ними проходят и сны, имевшие компенсаторный характер. Событийная насыщенность дня вынуждает автора осуществлять отбор материала, а в особенно богатые в этом отношении дни давать беглый обзор увиденного. От этого время московско-петербургского дневника уплотняется, но не за счет его искусственного «преодоления», а с помощью более интенсивного проживания. Если неожиданными переходами из настоящего в прошлое и будущее хронотоп новопетровского дневника сродни времени – пространству эпических сказаний, то поздний журнал близок драматическому темпу событий. Здесь время не течет, а пульсирует, его ритм как бы подталкивает автора к активным действиям. Повествователь здесь находится во власти времени, там же он был полным его хозяином: «В 10 часов утра пошел проститься с А.Н. Мокрицким <…> По дороге зашел к М.И. Сухомлинову, да по дороге же зашел к барону Клодту <…> прошел в Академию на выставку <…> Из Академии поехали с Семеном на Петербургскую сторону искать дачу <…> в 6 часов приехали домой. Вечером с Семеном же были у Н.И. Петрова <…>» (с. 226–227).
Среди образов дневника личность автора стоит на первом месте. Положение ссыльного, солдата, лишенного права писать и рисовать, казалось бы, давало основание ожидать, что дневник будет наполнен воспоминаниями о тяжести пережитого, чувством мучительного ожидания того момента, когда, наконец, придет желанное освобождение. Но дневник наполнен не этим. Стойко перенеся десять лет солдатчины, Шевченко сохранил душевное здоровье. И волевым усилием преодолел негативные для психики последствия своего положения. Поэтому со страниц дневника к будущему его читателю обращается не сломленный муштрой, угрюмый мизантроп, разуверившийся в идеалах молодости, а все тот же балагур, несгибаемый оптимист, задушевный лирик, который способен в окружении людей, впавших в полускотское состояние, размышлять о высоком и сохранять присутствие духа: «Все это неисповедимое горе, все роды унижения и поругания прошли, как будто не касаясь меня. Малейшего следа не оставили о себе. Опыт, говорят, есть лучший наш учитель. Но горький опыт прошел мимо меня невидимкою. Мне кажется, что я точно тот же, что был десять лет назад» (с. 21).
Образ автора в дневнике строится на сочетании двух мотивов – самоиронии и проникновенного лиризма. Именно они помогли поэту сохранить душевное здоровье, выстоять в условиях полурабского существования в забытом богом захолустье. Оба начала относятся к разным сферам бытия Шевченко-солдата. Лирическая стихия пронизывает страницы, посвященные воспоминаниям дорогой сердцу поэта Украине. Как припев задушевной народной песни звучит призывный клич кобзаря, обращенный к родине. Щемящие звуки ожидания и надежды в этих поистине поэтических строках: «О, моя бедная, моя прекрасная, моя милая родина! Скоро ли я вздохну твоим живительным, сладким воздухом? Милосердный бог – моя нетленная надежда» (с. 64).
И совсем другую тональность встречаем в записях бытового характера. Реалистически точное воссоздание жизни, ее скудности, уродств не создает впечатление безысходности. Шевченко использует иронию как принцип не столько разоблачения действительности, сколько демонстрации несоответствия между идеалом возвышенной духовной жизни и ее прозаической стороной. Образ автора при этом выступает своего рода средним звеном. Именно на него чаще всего направлена ирония, сдобренная изрядной долей незлобивого хохлацкого юмора: «Рисовал портрет М.А. Дороховой. И после неудачного сеанса по дороге зашел к Шнейдерсу, встретил у него милейшего М.И. Попова и любезнейшего П.В. Лапу. Выпил с хорошими людьми рюмку водки, остался обедать с хорошими людьми и с хорошими людьми за обедом чуть-чуть не нализался, как Селифан» (с. 154).
Не всегда вышеназванное несоответствие имело ироническую форму выражения. В дневнике наряду с положительными представлена галерея отрицательных образов. В основном это выходцы из высшего дворянства. Им Шевченко посвящает ряд записей, которые образуют своеобразные сюжетные миниатюры. Подобный образ строится на несоответствии между сословным званием и исходящим от этого звания автоматическим воздействием на незнатного человека, с одной стороны, и его нравственными, человеческими качествами – с другой. Описывается характерная ситуация, в которой «герой» доходит до полного саморазоблачения, а в конце автор выводит «мораль» из жизненной «басни»: «Из всего этого оказывается, что помещик шестисот душ крестьян, аристократ, наперсник графа Перовского, наконец, полковник Киреевский – подлец и негоднейшая тряпка» (с. 23); «Рабочий дом, тюрьма, кандалы, кнут и неисходная Сибирь – вот место для этих безобразных животных <…>» (о сыне статского советника Порциенко, с. 26); «Я плюнул другу на порог, да и ходить перестал. Таких друзей у меня было много, и, как на подбор, все люди военные» (о гвардейце Апрелеве, с. 46).
Материал об этих типах Шевченко черпает из разных источников: рассказов коменданта (Киреевский), собственных воспоминаний о столичной жизни (Апрелев), настоящих солдатских будней (Порциенко). В совокупности повторяющихся черт данные образы представляют некий тип растленного барина и своей типичностью напоминают панаевскую коллекцию «аристократических жуков» из его «физиологических очерков» («Онагр» и др.): «Сегодняшним числом мне хочется записать или, как зоологи выражаются, определить еще одно отвратительное насекомое» (о Порциенко).
Тенденция к типизации, свойственная Шевченко-писателю, проявляется и в группе коллективных образов дневника (солдаты, купцы, офицеры, дамы провинциального общества). Причем литературная типизация порой пересекается с живописной, а с точки зрения психологии творческого процесса, возможно, и вытекает из нее. Так, строя творческие планы на будущее, Шевченко постепенно переходит от художественного замысла серии рисунков, через посредство купеческих тем у П.А. Федотова и A. Н. Островского, к собственным характеристикам этого сословия, а от него – к офицерству (запись под 26 и 27 июня 1857 г.).
Естественным порядком появляется на страницах дневника собирательный образ солдата. Как и лирические отступления о родине, он проникнут глубоким эмоциональным переживанием за его тяжелую долю. Образ солдата у Шевченко согрет личным чувством горечи и сожаления. В этих строках слышатся признания, которые превращают описываемый тип в отстраненный образ автора: «Солдаты – самое бедное, самое жалкое сословие в нашем православном отечестве. У него отнято все, чем только жизнь прекрасна: семейство, родина, свобода <…> Ему простительно окунуть иногда свою сирую, одинокую душу в полуштофе сивухи» (с. 12). Здесь Шевченко находит место и для полемики с B. И. Далем, выражая недоверие к его интерпретации солдатских типов в очерке «Солдатские досуги». Так, созданный образ обретает статус литературно-художественного.
Общая оптимистическая тенденция способствует появлению на страницах дневника группы положительных образов. Хотя сам поэт и признавался, что во всем гарнизоне был один-единственный человек, которого он любил и уважал (Мостовский), в журнале то и дело встречаются эстетически привлекательные характеры. Нередко они интересуют автора не своими нравственными качествами, а с точки зрения художественной выразительности: это новопетровские Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна «странные старые люди. Зигмонтовские, о которых автор «Кобзаря» слагает целую повесть наподобие «Старосветских помещиков»; и «человеколюбивый Андрий» Обеременко, словно сошедший со страниц «Тараса Бульбы», но по характеру родственный Остапу, а не его малодушному брату; и директриса нижегородского благородного института, «возвышенная, симпатичная женщина» М.А. Дорохова.
Сочетая в себе дарование лирика и художника, Шевченко и положительный образ строит живописно-поэтически. Нередки случаи, когда автор «Гайдамаков», работая над портретом какой-нибудь модели, в дневнике дает сравнительный анализ образа сразу в двух видах искусства: «<…> сегодня наконец я окончил портрет гусароподобной М. Варенцовой <…> Она чрезвычайно довольна портретом, потому что он похож на какую-то кокетливую нимфу в амазонке с хлыстом <…>» (с. 162).
Как уже было отмечено, в процессе создания образов вольно или невольно проявляются литературно-художественные пристрастия и антипатии Шевченко. В образной системе дневника можно выделить три группы отношений такого рода. К первой принадлежат образы, типологически родственные характерам из произведений Гоголя и Панаева, ко второй – замыслы захвативших воображение писателя образов, разработанных ранее Федотовым и Островским, третьи строятся по принципу полемической заостренности (В.И. Даль, П.И. Небольсин, И.И. Железнов).
Типологическое своеобразие дневника определяется психологическим характером Шевченко и его творческой установкой. В своих записках кобзарь предпочитает не углубляться в сферу тонких чувств и переживаний. Они находят поэтическое выражение в его стихах, а в дневнике лишь называются, но не анализируются. Отсутствие записей рефлективного характера позволяет отнести журнал Шевченко к экстравертивному типу.
Установка на «объективное» повествование в значительной степени связана живописностью мышления Шевченко-художника. Любой предмет, явление, характер он воспринимает прежде всего зрительно. А обычное повествование часто у него представляет собой развертывание событий не во времени, а в пространстве, как на живописном полотне. К этому типу относятся жанровые сценки в манере Федотова, которые так и просятся, чтобы им дали названия в стиле лубка: «Нет худа без добра, или солдатская трапеза» (с. 59); «Уговор дороже денег» (с. 84); «Кончил дело – гуляй смело, или солдатское развлечение» (с. 95); «За чем пойдешь, того не найдешь, или в поисках колбасной лавки» (с. 95).
Шевченко и сам признается в наклонности к отысканию живописных подробностей, выразительных картин быта, памятников старины. Из примелькавшейся обстановки крепости, бедной для художественного глаза, Шевченко вдруг попадает в волжские города – Астрахань, Симбирск, Самару, Нижний, своеобразная жизнь которых находит живой отклик на страницах его журнала. Картины, одна примечательнее другой, сменяют друг друга, тесня событийную часть рассказа. «Я, как живописец, – пишет Шевченко, находясь в Астрахани, – люблю шляться по этим грязным живописным закоулкам <…>» (с. 94).
И в портретных характеристиках лиц, заинтересовавших странствующего солдата, преобладает живописно-зрительная акцентировка: «<…> я заметил в солдатской публике <…> совершенно не солдатскую фигуру. Походка, физиономия, даже шапка-чабанка – все в нем отличало моего земляка <…> Физиономия его показалась мне более суровою, нежели вообще у земляков моих <…>» (с. 89); «Женщины здесь ненатурально белы и преимущественно чахоточны. Мужчины вообще в белых фуражках с кокардою <…> Всматриваясь пристальнее в господствующую здесь узкоглазую физиономию калмыка, я нахожу в ней прямодушное, кроткое выражение. И эта прекрасная черта благородит этот некрасивый тип» (с. 98).
Глубины психологической жизни не привлекают Шевченко-повествователя, хотя ему, прожившему десять лет солдатчины, было о чем поведать в этом отношении. Намеки на это то и дело встречаются в различных записях. Но автор не столько стремится скрыть выглядывающие наружу следы былых переживаний – в дневнике скрывать не от кого, – сколько попросту предпочитает мир зримый и слышимый. До конца он остается чужд романтическому дуализму внешнего и внутреннего. Целостность духовной личности и здоровый темперамент обеспечивают психологическое единство дневника.
Жанровое содержание записок Шевченко тяготеет к художественному бытописанию. Увлеченно и со знанием дела ведет Шевченко рассказ о житейских делах, буднях гарнизонной службы, незамысловатых увеселениях, завершающихся попойками, о похождениях местных чудаковатых типов. Из записок мы узнаем об особенностях кухни и аппетитах автора и других «персонажей» повествования. Человек у Шевченко погружен в вещный мир и показан в своих повседневных занятиях. Где бы ни оказался автор, его опытный глаз художника тут же схватывает все особенности и детали окружающего его мира. Как в федотовском реализме, вещи в изображении Шевченко обладают самостоятельной, не зависящей от человеческого присутствия значимостью. Они организуются то в натюрморт в фламандском стиле, то в «пейзаж и жанр» литературных «физиологий»: «<…> я прошел на малые исады (съестной базар). Кроме фруктов, огородной зелени и хлеба печеного, я на этих исадах ничего не заметил; мясо не продается по случаю поста, а рыба продается на лодках»; «Здесь все заперто, кроме скворечниц на высоких шестах, свидетельствующих о жилищах меломанов. Постучался я в несколько запертых ворот наугад, потому что билетиков здесь на воротах не приклеивают, как это водится в порядочных городах. После долгих поисков удалось мне открыть наемный чулан с миниатюрным окном, выходящим прямо на помойную яму».
Погруженность в быт, в естественную человеческую среду нередко упраздняет иерархию ценностей. И автор в одном предметно-смысловом ряду упоминает, казалось бы, несопоставимые по значимости вещи. Но за мнимой неотобранностью бытового материала скрывается любовь живописца к богатству и зрелищной красочности мира: «У щеголя, краснобородого кизылбаша, купил я за 5 копеек 5 головок чесноку <…> и отправился в кремль полюбоваться вблизи красавцем собором. Он, как щеголь XVII века, красуется в кружевах перед всем городом».
Как документ частной жизни автора, а в положении Шевченко как временное средство заполнить томительное ожидание гражданской свободы, дневник не ориентирован на изложение художественных воззрений автора. Тем не менее в истории жанра встречаются случаи, когда летопись личной жизни писателя содержала более или менее систематическое толкование его представлений о методе, стиле, эстетике. К числу таких образцов принадлежат и дневники, написанные в тюрьме и ссылке (Кюхельбекер, Короленко). Встречаются подобные высказывания и у Шевченко. Однако, в отличие от своих коллег писателей, автор «Завещания» вводит «теоретические» темы не в виде отвлеченных и не связанных с основным содержанием рассуждений (что свойственно, например, Короленко), а в известной мере поясняет свою литературную практику в самом дневнике. Строки, посвященные проблеме художественного метода, появляются в контексте размышлений о прочитанной книге и воспоминаний о творческих принципах его учителя К.П. Брюллова, с которым он мысленно не расставался весь период солдатчины. Они имеют такое же отношение к литературе, как и к живописи: «Мне кажется, что свободный художник настолько же ограничен окружающей его природой, насколько природа ограничена своими вечными, неизменными законами» (с. 60).
Отбор материала в дневнике осуществляется в соответствии с данным принципом. Поскольку содержанием дневника является обыденная повседневность и все то, что попадает в сферу визуального наблюдения автора, он становится реалистическим отображением жизни. А так как реальными являются и факты бессознательного – сны, воспоминания, мечты, – то и они на равных правах входят в повествование.
События дня группируются в соответствии с вектором движения автора. В дневнике новопетровского периода он был направлен от обязанностей солдатской службы и воспоминаний о ней. Путевой и столичный дневники имели направленность в сторону местных достопримечательностей и интересных людей.
Пространственная ограниченность и небольшое число человеческих контактов в крепости способствовали композиционному единству подневных записей. Чередующиеся события дня фиксировались в зависимости от их причинно-следственных связей. Отсутствие строгого отбора и ценностной иерархии придавали фактам характер естественного следования одного за другим. Такой метод позволял удерживать в событийном ряду даже те явления, которые не мог наблюдать автор, хотя и был их активным участником. В подобных случаях записи в дневнике за него делались его товарищами (записи под 15–20 и 25 августа, 11 сентября и 4 октября 1857 г.).
Говоря о реализме как методе ведения дневника, неверно было бы видеть в нем только правдивое описание основных событий дня и окружающих явлений действительности. Наряду с физическими фактами в дневной круг журнала входит стихотворная стихия, составляющая своего рода лирическое начало в повествовании. Дневник наполнен русскими, украинскими, польскими стихами, переводами и стихотворными эпиграфами к некоторым записям. Их число растет по мере обретения поэтом свободы от тяжелого груза прошлого. В этом смысле дневник реалистически отражает динамику художественного мышления Шевченко: от житейской и литературной прозы – к поэзии души и народной жизни.
Стиль как нельзя более отражает основные содержательные и формальные тенденции дневника. Композиционно дневник четко делится на две части. Первая воспроизводит жизнь Шевченко в Новопетровской крепости, вторая посвящена возвращению в центральную Россию и пребыванию в Москве и Петербурге. Основным речевым жанром обеих частей является повествование.
Записи в «крепостном» дневнике имеют тенденцию к оформлению в относительно самостоятельные рассказы, которые объединяются в цикл общим местом действия наподобие «Миргорода» Гоголя. Вообще гоголевская традиция проявляется в дневнике Шевченко как на содержательном, так и на языковом уровне. На последнем не только в активном использовании украинизмов, но и в характерной манере повествования. «Сюжеты» некоторых новопетровских «историй» сродни ряду гоголевских произведений. Это уже упоминавшийся рассказ о местной супружеской парочке «Филимоне и Бавкиде», водевильная история в местном духе («Премиленький и назидательный мог бы выкроиться водевильчик <…> Назвать его можно «Свадебный подарок, или Недошитая кофта», с. 14); напоминающая завязку «Ревизора» история о несостоявшемся посещении крепости вел. кн. Константином Николаевичем (запись под 17 июля 1857 г.) и др.
Порой сам автор, погружаясь в мир «гоголевских» персонажей и сюжетов, превращается в диканьковского балагура Панька или в лирического героя «Мертвых душ»: «Незабвенные золотые дни, мелькнули вы светлым, радостным сновиденьем передо мною, оставив по себе неизгладимый след чарующего воспоминания» (с. 55).
Помимо сюжетного и образного родства ряда записей дневника Шевченко с гоголевской прозой и драматургией, у них наблюдаются параллели и на уровне отдельных художественных приемов. Так, Шевченко использует гоголевский прием, который сводится к тому, что комический эффект возникает вследствие столкновения несопоставимых по смыслу предметов или явлений (запись под 12 июля 1857 г. о ветчине, письме гр. Толстой и уральских казаках).
Подобные стилистические тенденции имеют продолжение и во второй части дневника. Только там повествовательная структура упрощается из-за уменьшения объема записей. Но эстетический эффект от этого усиливается: комическое или лирическое получают предельную степень концентрации. Порой такие «истории» по краткости напоминают анекдот: «А сегодня графиня Настасья Ивановна просит запиской к себе обедать и обещает познакомить с декабристом бароном Штейнгелем. Мы предпочли декабриста борщу с карасями и за измену были наказаны бароном: он не пришел к обеду. Одичалый барон!» (с. 225).
В дневнике редко встречаются чисто информативные фразы. Слово у Шевченко всегда несет эстетическую нагрузку. Каждому явлению, предмету, характеру поэт стремится дать оценку, которая зрительно представляет образ: «Света мало, звука много, крестный ход, точно вяземский пряник, движется в толпе. Отсутствие малейшей гармонии и ни тени изящного» (пасхальная служба в Московском Кремле, с. 210); «Монумент Крылова <…> Жалкий барон Клодт! Вместо величественного старца он посадил лакея в нанковом сюртуке с азбучкою в руках. Барон без умысла достиг цели, вылепивши эту жалкую статую и барельефы именно для детей, но никак не для взрослых. Бедный барон!» (с. 228); «Вслед за мной взошли к нему <кн. Голицыну> его сестра – чернобровое, милое, задумчивое создание. О чем грустит, о чем задумывается эта едва развернувшаяся сантифолия?» (с. 160).
Несмотря на короткий период ведения (чуть больше года), дневник Шевченко проделал заметную эволюцию. Изменениям подверглись разные структурно-содержательные уровни. О некоторых из них выше уже шла речь. Постараемся обобщить основные тенденции эволюции.
Прежде всего, изменилось отношение Шевченко к предназначению своего журнала. Из средства психологической компенсации постепенно дневник становится средством хранения информации о периоде перехода к нормальной жизни и работе. Поэтому потребность в нем отпадает в тот момент, когда становится отчетливой жизненная перспектива. Психологическая перестройка, завершившаяся у Шевченко в столице, не оставляет места для такой исключительной (для поэта) формы душевной жизни, как самовыражение в дневнике.
Меняется пространственно-временна́я структура дневника. Сохраняя форму локального хронотопа, автор резко усиливает событийную насыщенность записи. От этого повествовательное пространство расширяется, а временной ритм учащается: время проживается интенсивнее. При этом практически сводятся на нет идеальные формы хронотопа – воспоминания о прошлом, сны, мечты, фантазии.
Психологическая адаптация к новому жизненному статусу, которая заняла весь период путешествия и пребывания в Москве и Петербурге, применительно к образу автора характеризуется увеличением удельного веса авторского «я». Если в гарнизонном дневнике объемы подневных записей распределялись приблизительно одинаково между самохарактеристикой и описанием внешних событий, то в путевом и столичном журналах образ автора доминирует во всех изображаемых событиях.
Вторым показателем образной эволюции является усиление образной динамики. В раннем дневнике образ мира и человека строился экстенсивным способом – рассредоточенностью по нескольким записям, преобладанием описательности и ситуативной драматургии (изображением события или конфликта в его постепенном развертывании). В путевом и столичном дневниках образы строятся из нескольких динамичных характеристик, порой живописных штрихов, которые дают не законченный портрет, а лишь силуэт. Но ослабление изобразительного начала компенсируется усилением того душевного воздействия, которое оказывает данный образ на автора: «Вечер провел у моей милой землячки М.В. Максимович <…> Она милая, весь вечер пела для меня наши родные задушевные песни. И пела так сердечно, прекрасно, что я вообразил себя на берегах широкого Днепра. Восхитительные песни! Очаровательная певица» (с. 209).
Изменениям оказались подвержены и принципы отбора материала для дневниковой записи. Бедность материалов новопетровского дневника, где событием было приобретение чайника, вдруг сменяется таким обилием событий, картин и образов, что автору приходится избирательно подходить к интереснейшим фактам. На первых порах его художественное сознание и селективный механизм памяти, основанный на десятилетнем стереотипе, с трудом перерабатывает многообразную информацию. Записи становятся короче, несмотря на многократное увеличение того, о чем можно было бы рассказать. По инерции Шевченко пытается применить к новой ситуации прежние методы работы с материалом, отчего записи приобретают фрагментарный характер, в отличие от эпически обстоятельного письма раннего периода. Создается впечатление, что поэт постоянно куда-то торопится и ему не хватает времени на полноценную запись. Импульсивность стиля выражается в частом и ранее не имевшем места использовании определенно-личных предложений в начале текста: «Сегодня написал <…> письмо графу Ф.П. Толстому»; «Начал портрет М. Варенцовой»; «Получил письма от моего милого Бронислава <…>» и т. п.
Приспособление к новым жизненным условиям диктует необходимость поисков нового метода ведения дневника. Оттесняя воспоминания, планы и сны на периферию повествования, Шевченко насыщает свой журнал стихами, которые по принципу замены начинают выполнять функцию лирического начала. Этим усиливается эмоционально-выразительная стихия дневника.
Все перечисленные методологические изменения свидетельствуют об интенсивных творческих поисках поэта. Тем не менее проблема отбора материала остается нерешенной до конца.
Оригинально выглядит окончание дневника: он завершается стихотворением «Сон». На первый взгляд, между началом и концом наблюдается определенная асимметрия: проза – поэзия, напряженно ожидание – разрядка. Но если вдуматься в смысл поэтического финала, то, наоборот, откроется кольцеобразная композиция дневника. В стихотворении крепостная крестьянка видит во сне своего младенца свободным и счастливым. Но сон проходит – и перед ней ее младенец, как и она, пребывающий в рабстве. И лишь надеждой кобзарь ободряет молодую мать. Дневник начат мыслями о воле, ими он и завершается.
Александр Васильевич ДРУЖИНИН
В историю литературы A.B. Дружинин вошел как беллетрист, критик, журналист, переводчик. Его наследие вскоре после смерти было собрано, наиболее известные повести и статьи неоднократно переиздавались. Исключение составляет дневник, рукопись которого ждала публикации более 120 лет. Причиной этого было отнюдь не невысокое историко-литературное достоинство произведения. Напротив, в своем жанровом ряду жизненная летопись автора «Полиньки Сакс» занимает весьма значительное место.
Дневник Дружинина[42] – типичный образец жанра, в котором рельефно отразились его функциональные, композиционные и стилевые закономерности. В этом отношении его можно поставить рядом с дневниками Н.И. Тургенева, Л.H. Толстого, H.A. Добролюбова и других, менее известных авторов. Мало того, некоторые специфические свойства дневника представлены в произведении Дружинина в выпуклой и даже заостренной форме.
Композиционно дружининский дневник отчетливо делится на две части, которые отличаются функциональным характером. Первая половина отражает процесс индивидуации, становление личности писателя, вторая продолжает повествование о его жизни на иных психологических основаниях. Как и в вышеназванных дневниках, переход от одной стадии к другой хорошо осознается автором и обозначается в тексте рядом характерных для жанра приемов.
Самые ранние дневники, видимо, были уничтожены будущим писателем. Но их существование несомненно, так как Дружинин ссылается на них в одной из первых записей возрожденного журнала. Они, скорее всего, напоминали тот тип отроческого дневника, который мы встречаем у И.С. Тургенева, С. А. Толстой, С. Я. Надсона, М.А. Башкирцевой и который в художественной форме нашел отражение в имитации Буткевич «Дневник девочки». Как правило, разрыв между отроческим и юношеским дневниками составляет 3–5 лет. По упоминанию Дружинина в дневнике 1843 г., он какое-то время вел такие записи в 15-летнем возрасте. Истоки подобных дневников следует искать в психологической сфере (раннее психологическое созревание – С. А. Толстая, М.А. Башкирцева) либо в литературной традиции (И.С. Тургенев).
Возобновленный в возрасте 18 лет, дневник Дружинина отражает процесс индивидуации в той степени, в какой это свойственно родственным ему образцам. Он носит рассудочный характер и резко очерчивает круг проблем, подлежащих рационалистическому анализу («Одно, что постоянно в человеке, – это его рассудок <…> И поэтому, кто хочет писать свою жизнь, тот должен смотреть не на факты, а на результат, описывать не последовательность событий, а последовательность своих мыслей», с. 128–129; «<…> скучно описывать, где был утром, что делал ввечеру, что ел, что пил, с кем об чем говорил <…>», с. 128).
Второй отличительной особенностью юношеского дневника является его обращенность к собеседнику, другу, духовно близкому человеку. Часто такой адресат бывает вымышленным, воображаемым, как в дневниках Жуковского, нередко реальным, как у Жихарева, Е. Телепневой, И.С. Тургенева, И.С. Аксакова; реже заменяется грамматическая форма второго лица множественного числа и таким образом приобретает обобщенный характер. Последняя разновидность свойственна повествовательной манере Дружинина.
Уже предпосланный дневнику эпиграф – «Вы этого хотели, я повинуюсь» – служит обращением к условному адресату последующих записей. В дальнейшем обращение несколько раз повторяется в разных формах («Не смейтесь <…>»; «Смешно скрывать что-нибудь от вас <…>»; «не ждите от меня»).
Одним из вариантов условной формы общения с собеседником является фрагмент, который напоминает диалог автора с воображаемым Наставником в дневнике Жуковского и Минево («etre imaginaire») у Н.И. Тургенева. Рассказ ведется от имени старшего друга, которому автор «предался со всей силой детского верования». Подобный «педагогический» мотив также является характерным признаком дневника периода индивидуации.
Образ «двойника» получает развитие в двух планах – реалистическом и условно-романтическом. В последнем случае Дружинин использует распространенный мотив рассказа в рассказе: повествователь, человек средних лет, рассказывает своему юному другу историю своего школьного приятеля, который напоминает ему собеседника, и предостерегает его от повторения ошибок последнего. Герой этого художественного наброска – alter ego Дружинина, объективированный методом отстраненного изображения. Иллюзии тождества автора и его креатуры способствует то обстоятельство, что данный отрывок стилистически сливается с повествовательным контекстом собственно дневника. В такой же последовательности, как и в дневниковых записях, анализируется образ молодого человека, окончившего курс.
Однако сюжет скоро увлекает Дружинина в сторону, на путь описания банального светского конфликта и на этом обрывается. Видимо, замысел показался Дружинину слишком мелким и избитым, и он решает не развивать его дальше.
Вообще ранние дневники, как и дневник Дружинина, носят воспитательный характер с уклоном в сторону самовоспитания. Здесь сказывается как просветительская традиция, так и особый склад юношеской психики, переживающей этап социальной адаптации.
В своем дневнике Дружинин бессознательно и без малейших намеков на подражание воспроизводит все фазы названного этапа. Помимо образа собеседника – воспитателя или друга – в дневник вводится рубрика «Психологические заметки» (ср. с «Психоториумом» в дневнике H.A. Добролюбова), в которых он пытается вывести особенности своей физической конституции, «природы». Подобный анализ завершается формулировкой основ собственного мировоззрения, которая еще раз подтверждает рационалистический характер юношеского дневника: «Рождается вопрос: чему я верю? Вопрос и решение его очень важны: вся жизнь зависит от убеждений <…> в трех вышеназванных идеях заключается ответ на все вопросы об обязанностях и правах» (с. 150–151).
Психологический анализ, основанный на самонаблюдении, подводит к необходимости создания жизненного плана – одной из центральных проблем периода индивидуации. В основе плана лежит представление о собственных возможностях, притязаниях к миру и та или иная нравственная система, к которой автор дневника испытывает симпатию. Опора на авторитет обычно связана с кругом чтения, с литературно-философскими пристрастиями юного летописца (у Л. Толстого, например, это «франклиновская таблица» – система правил, которую он принимает как руководство). Но у Дружинина ориентации на внешний авторитет предшествует эпоха, в течение которой он пытается следовать собственному плану: «23 сентября <1845 г.> С завтрашнего дня начинаю готовиться к деятельной и трудолюбивой жизни, а с 29 сентября начну трудиться, как прошлый год» (с. 146); «Я стал разыскивать причины моей скуки, вялости в уме и раздора с самим собою <…> Вытекала тут общая причина <…> недостаток твердости для следования новому плану» (с. 148); «12 января 1846 г. <…> Я решаюсь вставать в 7 1/2 и ходить по улицам до усталости <…> Правило мое будет: не быть праздным ни одной минуты в день <…>» (с. 149); «16 июля 1846 г. Строить реформы в самом себе хорошо в том только случае, когда у нас станет способности на реформу <…>» (с. 156); «6 марта 1848 г. <…> Надо, чтоб мысль теперь окрепла, возмужала и приучилась к деятельности. Пора работать, работать не над книгами, а над собою» (с. 160).
В определенный момент Дружинин (как и его предшественники и современники) приходит к выводу о невозможности ригористически следовать начертанному плану (ср. с записью в дневнике Л. Толстого: «Как вредно иметь планы: как только препятствие, так и раздражение», т. 57, с. 124): «Наконец, пришла пора убедиться <…> что я неспособен ни к какому постоянному практическому труду». И как следствие разочарования в своих силах происходит снижение притязаний: «Кажется <…> я буду жить по методе приятеля моего Карра (французского писателя и садовода. – O.E.), шататься под высокими деревьями, строчить ерунду и вспоминать о людях и прежней жизни, как о сне довольно тяжелом» (с. 161).
В сущности же весь процесс – планирование, попытка проведения плана в жизнь и неудача – отражает фазу расширения сознания, результат нравственно-психологического опыта. Этот опыт не был негативным, несмотря на крушение планов и отказ от многих притязаний. В форме исповеди с воображаемым собеседником Дружинин раскрывает положительный смысл завершившегося процесса: «<…> я сам изменил свой характер и довел себя в двадцать три года от роду до такой степени, что смело могу сказать: «я застраховал себя от всех несчастий» (с. 164).
Следующим элементом индивидуации, запечатленным в дневнике, является подбор книг специфического содержания и их анализ. Формировавшийся в 1840-е годы, Дружинин естественно проявляет интерес к литературе европейского романтизма и книгам социальной проблематики. В России в это время лидерство принадлежало Ж. Санд и французским социальным писателям, а из литераторов других стран – Байрону. Определяя планы на будущее, Дружинин строго отбирает книги в соответствии с новыми нравственно-психологическими задачами. В круг чтения попадают романы Ж. Санд и ее «Письма путешественника», радикально-демократический журнал «Независимое обозрение», издававшийся Ж. Санд, П. Леру и Л. Виардо. «<…> При чтении великих писателей благодарю судьбу и мои занятия, очистившие мой вкус. Имея в руках произведения одного их этих избранных, я перерождаюсь, становлюсь его достойным <…>»; «До сих пор занятия мои ограничиваются бессвязным чтением от двух до трех часов в день. Остановив несколько начатых увражей, я ограничиваюсь теперь «Ирландией» де Бомона и «Дон Жуаном» Байрона <…>» (с. 146).
Однако Дружинин не удовлетворяется лишь воспитанием высокого эстетического вкуса. В его план чтения входят и серьезные дидактические задачи: «<…> последняя книга, которую я пробежал, были «Письма путешественника» Жорж Санд. Результат идей этого сочинения противоречил недавно изложенным мною мыслям, из этих страниц <…> проникнутых горячим, страдательным чувством, я видел ясно, что чем выше, сложнее нравственный организм человека, тем большую дань он платит горести и страданиям» (с. 156–157) (ср. с дидактическим эффектом от чтения «Агатона» Виланда в дневнике Жуковского и романов Фильдинга в дневнике Н. Тургенева).
Все значительные события, отражающие духовный рост автора, систематически подытоживаются в дневнике. Дневник, таким образом, становится документом, отражающим стадии психологического развития личности: «23 сентября <1845 г.> Прошлый год она <скука> была отбита совершенно, потому что я занимался делом с жаром и со своею философиею, третьего года я только что оставил корпус, и мне было не до скуки, четвертого года я был влюблен, еще один год назад idem» (с. 146); «А между тем время идет, – близко подходит ко мне пора зрелости, та пора, в которую следует сказать: «теперь или никогда» (с. 170).
Одновременно с этапами нравственно-психологического становления Дружинин показывает, как менялась функция его дневника («записок»). Классификация Дружинина отражает не только возрастные особенности, но и жанрово-стилевые закономерности дневниковой прозы. Автор «Писем иногороднего подписчика» схватил саму суть, психологическую основу жанра, вектор которой направлен в сторону духовной целостности человека: от детского «натуралистического» дневника, через юношеский (периода индивидуации) – к дневникам, открывающим пору зрелых чувств и обретенной гармонии между внутренним и внешним в человеке: «Несколько раз принимался я писать свои записки и столько же раз бросал их. Один раз, еще мальчишкой, я описывал факты, не касаясь никаких рассуждений, и ясно почему, в другой же раз я фантазировал, рефлектировал, упуская из виду то, что по фактам то время было самым интересным из моей жизни, Еще одним материалом остались у меня письма, где безумства, и письма эти лучшая часть моей истории, по исполнению <…>' В это время, когда я писал их, я был так близок к величайшему в свете блаженству, как, вероятно, более никогда не буду» (с. 171).
Завершающим аккордом в развитии темы (становление духовной личности) становится серия записей-афоризмов житейской мудрости. В них перемежаются вариации общеизвестных мотивов с собственными жизненными наблюдениями. Подобный «лексикон прописных истин» венчал дневники периода индивидуации многих предшественников и современников Дружинина – А. Тургенева, И. Гагарина, Л. Толстого и др. Кроме того, истории дневникового жанра известны примеры, когда дневники состояли сплошь из афоризмов-«мыслей», как, например, дневники французского романтика Жубера или его соотечественника, известного писателя начала XX в. Ренара. Видимо, Дружинин здесь сознательно следует французской традиции, на что указывают названия месяцев, данные в латинской транслитерации: 7 janvier, 18 fevrier, 25 mars (с. 177–178).
Отличие таких дневников от классических образцов жанра заключается в том, что в них хронотоп из бытийного плана переведен во вневременной: события обобщаются и «переводятся» на язык мыслей, которые и составляют содержание подневной записи.
И у Дружинина подобные записи редко датируются. В них видится расширение сознания, которое пытается мыслить более масштабными категориями, чем преходящие будничные проблемы.
В ряду афоризмов (Schizzi – заметок, как именует их Дружинин), помимо общих тем – поэт, гений, политика, мораль, женщина, – в дневнике выделяется тематическая группа, которая имеет аналогии в обычных подневных записях сугубо личного характера. Подобные «заметки» являются отголосками размышлений о свойствах характера, своеобразными рефлексами, направленными на познание глубинных основ собственного «я»: «Моя эрудиция портит мою производительную способность. Если бы какое-либо событие из современной жизни нравилось мне <…> я бы написал отличную повесть <…>»; «Семейная жизнь в юности дурна, потому что выказывает нам дурные стороны того прибежища, о котором следует мечтать каждому пожившему человеку – именно спокойствия» (с. 177–178).
Знаком завершения периода индивидуации служит запись под 11 июня 1853 г., в которой Дружинин бросает взгляд на всю прошлую жизнь и проводит разделительную черту между минувшей юностью и наступившей молодостью. В этой записи, пронизанной цитатами из Гоголя и гоголевскими интонациями, Дружинин как бы прощается со счастливым прошлым и в форме лирического обращения шлет ему слова благодарности: «Где то время, когда вид какого-нибудь домика с зелеными ставнями и палисадником перед окнами заставлял мое сердце биться сильнее <…> Я сижу теперь в теплый, но серенький вечер, под окном <…> и говорю: «О моя юность, о моя свежесть!» (с. 185).
С этого момента функция дневника преобразуется. Медленно, но настойчиво Дружинин очищает записи от общих рассуждений и придает им форму и стиль повествования о событиях прошедшего дня. Вместе с содержанием записи видоизменяется и способ ее оформления: текст приобретает характер оперативного наброска, в отличие от пространного, с частыми продолжениями, рефлективно-аналитического или квазихудожественного рассуждения.
Таким образом, принципиальные изменения в записях на рубеже 1852–1853 гг. высветили функциональную трансформацию дневника, который перестал служить орудием и элементом процесса индивидуации и вписался в рамки обыденного литературно-психологического журнала.
Первая датированная запись 1852 г. делит дневник Дружинина на две части не только с точки зрения его функции, но и в плане пространственно-временной организации событий. Вся предшествующая датировка носила весьма условный характер: для юного автора важнее было время его сознания, психологического роста, нежели физическая наполненность пространственно-временного континуума. Внешние материальные события длительное время проецировались на психику и переживались автором дневника субъективно, на уровне душевных движений.
С момента обретения духовной целостности время и пространство не воспринимаются Дружининым лишь как формы сознания. Датировка в дневнике приобретает конкретный характер, а сами записи синхронно отражают подробности прошедшего дня. С топонимической точностью писатель называет местопребывание и формой настоящего времени уточняет хронологию событий: «Июль 11, 1853 г. Нарва, в гостинице с престарелой мебелью после сна и путешествия к водопаду»; «Я сижу теперь <…>» (с. 185). Время перестало быть для Дружинина условной формой, которой можно манипулировать в зависимости от причуд фантазии и рациональной установки.
Дружинин невольно ощущает объективный бег времени и удивляется развившейся у него способности прилежно воспроизводить это движение: «Четверг, 29 октября <1853 г.> Чем нелепее и неистовее идет мое время, тем аккуратнее ведется дневник» (с. 238).
Однако на начальном этапе новой жизненной эпохи в дневнике еще нередко слышатся отголоски былого времени. Писатель бросает ретроспективный взгляд на прожитое и определяет точку отсчета новой, светской жизни, которая, по его представлениям, знаменует эру самостоятельного бытия в социальном мире. Данный период – шесть лет (фактически пять, так как к моменту оформления записи Дружинину было около 29 лет) – характеризуется выходом из ограниченного пространства собственного сознания и замкнутого мира корпусной армейской жизни. Этот возраст – 24 года – Дружинин считает временем завершения юности (читай – периода индивидуации), за которым наступает полноценная жизнь независимого, самостоятельного человека в многообразном и противоречивом мире: «Только с началом цыганской жизни начал я жить на свете <…> Мне всего шесть или семь лет от роду, только шесть или семь лет я живу на свете <…> Молодость, молодость, мои 24 года <…>!» (с. 198).
Отчетливое осознание и напряженное переживание стадий личной жизни становится обязательным компонентом хронотопа дружининского дневника. В нем регулярно фиксируются преодоленные жизненные рубежи и намечаются перспективы на будущее. С одной стороны, такая метода передается по наследству от ранних дневников, с другой, свидетельствует об остром ощущении уходящего времени. В этом отношении Дружинин принадлежит к ряду оптимистов, так как не пугается неопределенного будущего и, как в юности, продолжает строить планы: «Понедельник, 28 сентября <1853 г.> Двадцать девять лет! Увы! И через год придется перешагнуть в четвертый десяток <…> Вера моя – в жизни моей, в настоящей теплоте сердца, в замыслах будущих дел, добрых и полезных. – Итак, вперед – я любил и жил» (с. 225).
Знаком наступившей зрелости является тот факт, что Дружинин научился ценить каждую минуту физического времени и дорожить теми уголками благополучия и душевного комфорта, с которыми связывали его обстоятельства и весь жизненный уклад. В этом смысле Дружинин имел в своем характере нечто обломовское, поэтому не случайна его положительная оценка гончаровского образа.
Весь довоенный период представлен в дневнике в форме локального хронотопа. Писатель изо дня в день с канцелярской точностью отмечает место и время описываемых событий, порой даже с интервалом в несколько часов: «2 июня, сельцо Мариинское, в моем рабочем флигеле, 2 часа пополудни. Среда» (с. 299); «Суббота 31 июля <1854 г.> Несколько часов тому назад проводил я от себя петербургских гостей <…>» (с. 308); «5 августа, четверг. Сегодня по случаю невыносимого зноя (жары продолжаются около трех недель, и самые адские) я дал себе еще один день отдыха <…>» (с. 309).
Не вносит существенных изменений в хронотоп дневника и длившаяся несколько лет Крымская война. Ее события находят отражение в дневнике лишь в той мере, в какой это касается безопасности автора, могущего подвергнуться угрозе в качестве жителя Петербурга в результате возможных бомбардировок с моря враждебной эскадрой.
Таким образом, дневник Дружинина запечатлел две формы времени – пространства, свойственные данному жанру, – психологическую и локальную. И обе находятся в связи с функциональной спецификой частей дневника.
Композиционное своеобразие дневника в определенной степени накладывает отпечаток на композицию образов. Прежде всего, это относится к образу автора. Как было отмечено выше, в юношеском дневнике авторское «я» занимает центральное место. Оно выступает в нескольких «ролях»: 1) отстраненно, как объект воспоминаний («Смутно припоминаю я себе все события этих двух лет <…> Чего я не испытал в этом миниатюрном и для многих грязном свете?», с. 129); 2) актуально, как хроникер своей жизни («Пропивши все мои деньги на средней Рогатке, я тащился угрюмо в хвосте батальона» с. 137); 3) как вымышленный образ, alter ego летописца А. Дружинина в ряде фрагментов квазихудожественного, квазифилософского характера (в наброске повести о двух приятелях и вставных рассуждениях-диалогах с самим собой: «Истина есть идея, никогда не приводимая в исполнение» и т. д., с. 173–174).
Такая многоликость образа автора – свидетельство продвижения юного писателя к душевной целостности, поисков формы поведения, адекватной внутренним потребностям и идеалам. На языке аналитической психологии подобная форма называется персоной и характеризует социальный и профессиональный облик человека. На пути к формированию персоны Дружинин (как и большинство юных хроникеров) совершает ряд действий, которые, по его убеждению, должны положительно повлиять на его характер.
Главным из них является конструктивная критика. Страницы этой части дневника переполнены критическими материалами – от легкой самоиронии до сочувствия и снисхождения к собственным недостаткам. Другим примером является создание психологического автопортрета в так называемых «Психологических заметках» и «статьях». В них просматривается тенденция дать образ автора многосторонне, с его недостатками и положительными чертами. «Педагогическая» направленность таких фрагментов очевидна. Они писались на отдельных от основной части дневника листах и составили самостоятельный «сюжет» в тексте. Третий прием самохарактеристики – сравнение своего характера с великими людьми) «В характере Гете <…> нахожу я сходство с моим характером», с. 153) и поэтическими образами. Последний случай особенно показателен, так как под датой даются стихотворения без комментариев. Но в них усматривается связь между личностью автора дневника и лирическим героем. В стихотворении «Моя эпитафия» Дружинин выводит себя в поэтическом образе «солдата тыла», которому противопоставлен – уже в другом стихотворении – «молодой, хрупкий» герой Маренго (Наполеон). Сгруппированные по принципу контрастного параллелизма, эти образы символизируют два полюса сознания молодого Дружинина – стилизованного под романтизм «двойника» и идеализированного кумира 20-х годов Наполеона (родственного «Ночному герою» Жуковского).
Таким образом, в раннем дневнике образ автора развертывается в стилистических параллелях и взаимоотражениях.
С 1853 г. авторский образ существенно видоизменяется. Происходит его семантическая трансформация. Метод психологического самораскрытия уступает место изображению динамики взаимоотношений автора с социальной средой. Он входит в многообразные отношения с действительностью, обрастает предметными связями. И по мере усложнения этих отношений и увеличения связей с миром события заполняют пространство, ранее безраздельно принадлежавшее личности повествователя.
Главным приобретением образа автора во второй части дневника становится его целостность: исчезает «двойник», завершаются метания и ослабевает критика в целях самовоспитания. Вместе с интенсивностью меняется и метод критики. Если ранее все негативное выворачивалось наизнанку и выставлялось на беспощадный суд, то с переходом в фазу зрелой молодости соотношение сильных и слабых сторон характера приобретает иную структуру.
Сама по себе самокритика не свертывается. Негативное в образе автора из главного объекта внимания превращается в то, что на языке психологии называется «тенью». Оно образует второй план повествования, своеобразный подтекст. Писатель, журналист, душа кружка литераторов, Дружинин в «дневной» жизни не похож на свой отраженный образ в «ночной» жизни, где он выступает «чернокнижником», посетителем сомнительных заведений и завсегдатаем общества «дам полусвета» (здесь он близок образу уайльдовского Дориана Грея).
Эта двуплановость образа (отнюдь не «двойничество» раннего дневника) составляет отличительную особенность большинства поздних тетрадей дружининской летописи.
Завершающая часть дневника в плане разбираемой проблемы представляет собой образную параллель ранним дневникам. В этом смысле журнал Дружинина имеет кольцевую композицию. Только записи 1858 г. (на которых обрывается дневник), совпадая по форме, отличаются от ранних содержательно. В тех и других образ автора преобладает. Но в немногочисленных записях 1858 г. (с середины февраля до начала марта) романтически одухотворенное «единодержавие» «я» юношеского дневника уступает место замкнутому в себе и в своих страданиях герою-образу, низведенному почти до солипсизма («Сон хороший <…>»; «Спал хорошо <…>»; «Заснул поздно <…>»; «Злая бессонница <…>»; «Хорошо»; «Не хорошо»; «Отлично», с. 406–409).
Такая композиция образа автора встречается в дневниках А. Никитенко, Л. Толстого, Д. Милютина и еще раз подтверждает жанровые закономерности этой разновидности нехудожественной прозы.
Эволюция других образов дневника имеет историю, сходную с развитием авторского образа. Смысл ее в том, что в юношеских тетрадях преобладают типы, обобщенные образные характеристики, а в более поздних черты выведенных Дружининым людей конкретизированы и индивидуализированы.
Уже в записи 1845 г. дается обобщенный групповой портрет офицерства – «молодого поколения» николаевской эпохи. Это цвет дворянского общества, русская гвардия. В своей характеристике Дружинин пытается оставаться объективным, рассматривая знакомый ему тип с разных сторон. Но сама односторонность типа является его отличительной особенностью. Дружинин не видит в этой среде индивидуальностей, отказывает ей в таких важнейших человеческих качествах, как «вера в душу, в славу, в труд, в поэзию, в науку» (с. 138).
На принципе типизации основывается и характеристика друга юности Дружинина, знаменитого живописца, основоположника реализма в русском изобразительном искусстве П.А. Федотова, выведенного в дневнике под именем «художника». Здесь Дружинин, так же как и в приведенном примере, выводит не конкретного человека, а тип («настоящий философ, немного поопрятнее Диогена», «художник, который никогда не написал, да и не напишет ни одной картины», с. 165). Это скорее типаж – художественный образ, чем индивидуализированный портрет близкого по духу человека, с которым писатель был дружен долгие годы.
С обретением зрелости, как с точки зрения жизненного опыта, так и навыков ведения дневника, Дружинин овладевает приемами конструктивного создания образа. Он заключается в последовательном и систематическом «огранивании» изначально данного характера, в выявлении в нем все новых и новых граней, черт, свойств.
Характерен в этом отношении образ И.С. Тургенева, с которым у Дружинина было много родственного в привычках, вкусах, оценке людей. Человек дружининского круга, Тургенев тем не менее подвергается в дневнике критике за свойственные ему и подмеченные другими современниками недостатки: «Тургенев очень мил и приличен, но ему, кажется, сильно хочется играть роль законодателя на русском Парнасе» (с. 253); «Тургенев отличный человек, но немножко чересчур умен, его разговор есть гастрономия своего рода» (с. 267); «Странности Тургенева. Недостаток этикета в приемах» (с. 464); «<…> Тургенев, по восприимчивости своей натуры и по тонкому складу ума, очень способен покоряться той или другой идее и даже соображать жизнь свою с нею» (с. 309); «Сам Тургенев сознается, что в нем живет фраза. И кажется мне, – он не знает сам, до какой степени порабощен он гнилою, состарившеюся фразою! Нет в нем серьезной строгости, практичности духа и спокойной широты в убеждениях. И все-таки я люблю его ужасно, за то и сержусь» (с. 370).
Вырабатывая новые приемы создания образа, Дружинин, однако, не отказывается полностью от прежних, периода юношеских дневников. Он их совершенствует, углубляет, поднимает на качественно новый уровень. Как писатель, Дружинин использует и свой опыт беллетриста в этой области. Прежде всего это касается типизации. Типы в позднем дневнике не просто являются широкими обобщениями черт профессиональных и социальных групп, а соединяют в себе, наряду с ними, характеристические, индивидуальные свойства личности.
В этом отношении показательны образы коллег Дружинина по литературному цеху – писателей противоположной идеологической ориентации и другой среды. Их образы Дружинин создает либо суммируя характеристические детали (Чернышевский), либо приемом метафоризации (Л.A. Мей): «Критик, пахнущий клопами. Злоба. Походка. Золотые очки. Прощание. Презрение ко всему. Зол, да не силен. Толчки» (с. 389); «Мей, которому будто сто блох насыпали за воротник» (с. 384).
Особое место в системе образов дневника Дружинина занимают «женщины полусвета» и обитательницы bousingots (заведений), по словам автора. Это довольно многочисленная группа, которая не дифференцирована ни по типологическому, ни по характерологическому признакам. Чаще всего Дружинин лишь упоминает о тех или иных представительницах известной профессии, различая их лишь по именам. Но встречаются и особые, правда, детально не разработанные приемы воссоздания их образов. К ним относятся эвфеминизация, использование имен известных литературных героинь (Эсмеральда – намек на «дно», среду обитания литературного прототипа знакомой (Дружинина), и введение варваризмов в качестве образной характеристики: «Дуняша и Лиза. Nudissimo horror (голый ужас)» (с. 336).
Жанрово-типологическое своеобразие дружининского дневника, так же как и другие его структурные компоненты, зависит от композиции, а в конечном счете – от функциональной направленности. Типологию ранних записей определяет интровертивная установка психики юного летописца. Она сформулирована на первом листе и строго выдерживалась почти 10 лет: «описывать не последовательность событий, а последовательность мыслей».
Упорядочение внутреннего мира, приведение в единство нравственных, интеллектуальных и творческих составляющих своего характера в согласие, обретение духовной целостности – такова задача, которую Дружинин поставил перед собой в журнале 1840-х годов. В том, что такое единство является сверхзадачей на данном жизненном этапе, Дружинин не сомневается. И в дневнике мысль об этом приходит не подспудно, не неосознанно для автора, а ясно и логически стройно формулируется: «С первых минут самосознания жизнь моя распалась на две части: мысли мои разрознились с моими действиями <…> Примирит ли во мне зрелый возраст мысль с жизнью, – бог его знает, но за будущее я должен отвечать, – я знаю свое положение» (с. 172).
С переходом в стадию зрелой жизни типологическая направленность записей меняется. Внутренняя жизнь, жизнь сознания вначале уравновешивается, а потом уступает свое господство внешней. Это естественный процесс для всякого человека с нормальной психикой. И по записям в дневнике его можно проследить на ряде примеров. Дружинин не является исключением.
С начала 1850-х годов экстравертивная установка закрепляется в жизнеописании писателя. Лишь изредка встречаются признания, что день прошел под знаком внутренней, душевной жизни: «Третьего дня я имел вечер поэзии, поэзии внутренней» (с. 194). В терминологии Дружинина, события, факты теперь преобладают над последовательностью мыслей. Дружинин перестает заниматься созданием жизненных планов, самовоспитанием и выработкой мировоззрения. Он отражает в дневнике ход незапрограммированных событий, которые стихийно возникают и естественно завершаются. В этом отношении вторая часть дневника имеет открытую композицию, не предполагающую заранее ожидаемого финала.
В жанровом отношении журнал представляет собой бытовой дневник. В нем воссоздается духовный и жизненный быт образованного человека, литератора 1840–1850-х годов: ежедневные заботы, дружеские встречи, литературные дела, поездки и т. п. факты повседневной жизни. Правда, нередко страницы дневника заполняются художественными набросками. Но для писателя они не составляют исключение, вписываясь в общий повествовательный контекст.
Дружинин не заботится об отборе бытового материала и смело вводит в свой журнал «чернокнижную» тематику – эротические увлечения, пирушки с приятелями и сочинение фривольных стихов. Смелость писателя в изложении подобных фактов объясняется сокровенным характером его дневника. Дружинина никто не мог упрекнуть в чрезмерной откровенности, так как он никому не доверял своей летописи.
Эпоха и темперамент автора «Полиньки Сакс» обусловили отсутствие социально-политической тематики в дневнике. Начинаясь с описания явлений душевной жизни, дневник до конца во многом сохраняет камерный характер. События «большой» истории практически не находят в нем отражения.
Рационалистическая установка Дружинина в дневнике определила и метод отбора жизненного материала. В этом отношении Дружинин пишет дневник по аналогии с художественными или литературно-критическими произведениями. Сформировавшийся как писатель в сороковые годы, когда проблема метода была в центре литературной полемики, редактор «Библиотеки для чтения» подходил к выбору метода вполне осознанно, полагая, что даже в интимном жанре, предназначенном для личного пользования, принцип отбора – дело первейшей важности: «С началом дневника память моя будто оживилась <…> Конечно, многое проходит, но, врезавшись в память, весьма многое остается неописанным, но метода есть, метода – половина философской системы!» (с. 215)
Однако жизнь, обстоятельства часто ломали рационалистическую схему, и Дружинину приходилось спешно приспосабливаться к стихийному течению событий. Периоды размеренной, оседлой жизни чередовались с быстрой сменой увеселений, поездок, знакомств, литературных дел. Накопившийся материал не вмещался в рамки подневной записи, и писатель вынужден был давать краткий обзор событий за более длительный период. Например, важнейшие факты января – мая 1856 г. укладываются на девяти страницах. Хотя они и даются в форме назывных предложений, их информативная ценность от этого не уменьшается. Дружинин использует для этого особые приемы, как то: расставляет смысловые акценты курсивом, прибегает к помощи афоризмов, вводит французскую и английскую речь, цитации («О хлыщеватости женщин. Великая тема <…> Сходство между возрастами человека и временами года. Начало осени», с. 381).
Уплотнение текста, как это часто бывает в дневниках, увеличивает смысловую и информативную нагрузку на фразы. Отсутствие прилагательных и причастий, а часто и глаголов придает записям смысловую многозначность.
К особым приемам следует отнести образные характеристики. При описании своих знакомых и коллег Дружинин в таких случаях стремится избегать голой информативности, чаще он использует прием метафоризации: «Здравомысл и Добросед – Островский и Толстой, Панаев – Фривол. Бодиско – разврат. Тургенев – Слабосерд. Некрасов – Крутон. Боткин – Зломин. Долгорукий – Милон. Анненков – Себялюб» (с. 381); «Умирающая рыба. Павел Васильевич» (с. 383).
Нередко характеристики лиц сводятся к номинации того поступка или свойства характера, которое данное лицо проявило в конкретной ситуации: «Донжуанство Гаевского. Удивления Григоровича. Селадонство Михайлова» (с. 386). Такие краткие характеристики заменяют подробные описания и усиливают фразовую выразительность.
Сам автор не жаловался в таких случаях на неполноту записей. Их было достаточно для того, чтобы воссоздать в памяти всю картину дня или образ поведения человека. «Как ни краток этот перечень каждодневных занятий и увеселений, – признавался Дружинин, – но в нем есть свое достоинство и только для одного меня. При чтении имен и кратчайшего упоминания о событиях, самый прожитый день возникает весь в моей памяти» (с. 361).
Стилистически дневник Дружинина представляет собой три речевых пласта: собственно подневные записи, наброски литературных произведений и записи-заметки вневременного характера. Причем количественное соотношение первых и последних приблизительно одинаковое. Это говорит о том, что писатель придавал квазидневниковым записям большое значение.
Если брать во внимание вторую, более объемную часть дневника, то его стилевая структура ближе всего повествовательному речевому жанру. Здесь преобладает информативное слово.
Дружинин – блестящий рассказчик, и в дневнике он часто увлекается заинтересовавшим его предметом или лицом в ущерб другим фигурам и фактам. Некоторые записи поэтому представляют собой повествовательные миниатюры с завершенным сюжетом или маленькие сценки. В них в форме несобственно-прямой речи содержится скрытый диалог: «Явился граф Коновицын, новый наш предводитель <…> Меня, например, он с первых слов спросил, отчего я не в военной службе <…> Я ответил порядочной глупостью <…>» (с. 313).
Второй речевой жанр, заметки («Schizzi»), имеет иную направленность. По форме они напоминают жанр афоризмов или максим. В них повествовательная стихия уступает игре смыслов, а выразительное начало преобладает над изобразительным. Несмотря на свой обобщенный характер, они отражают – непрямо, опосредованно – ту сторону жизни писателя, которая с наступлением творческой зрелости ушла со страниц основной части дневника. «Заметки» заменяют психологические штудии юного Дружинина, являясь сгустками жизненных наблюдений.
Третий стилистический слой – художественные наброски – также органически вписывается в текст хроники. Творческие замыслы входят в состав дневника как атрибуты писательского профессионализма Дружинина. Планы и фрагменты незавершенных произведений являются не автономными речевыми образованиями, а развернутым изложением той работы, которую писатель выполнял в течение данного дня или ряда дней. Нередко, как, например, в записи под 18–19 июня 1853 г., они сопровождаются бытовым комментарием, усиливающим иллюзию органичности, связанности их с текстом обычных записей (после изложения плана драмы: «Не правда ли, пьеска именно по средствам и галантности <актеров> гг. Иевлева, Семихатова, Григорьева и Прусакова <…> Герцога бы покойному Каратыгину, вот вышел бы хлыщ!», с. 188).
Многослойность стилевой структуры придает дневнику особую выразительность и динамику. Чередование разных речевых жанров создает красочную картину мира и жизни автора.
В дневниковом жанре Дружинин был человеком традиции. Всю жизнь он описывал в своем журнале меняющийся облик человека, точнее – самого себя. Но мир в его хронике оставался неизменным. Эпоха 60-х годов, внесшая сумятицу в жизнь страны и умы миллионов людей, не могла найти места на страницах дневника Дружинина. Стремительно, на глазах преобразующийся мир не соответствовал устоявшимся представлениям писателя о жанре и противоречил выработанной манере ведения записей. «Увы! Вот как он ведется, мой бедный дневник, в то самое время, когда событий так много, – жаловался Дружинин в 1857 г., – когда новые лица выходят на сцену десятками и все вокруг меня кипит и волнуется! Одно дело идет вперед, другое готовится, третье обрывается, четвертое зарождается в голове, а я ни о чем не упоминаю» (с. 401).
В отличие от тех авторов, которые сумели приспособиться к новым обстоятельствам и в соответствии с «духом времени» внесли изменения в способы ведения своих записок (В.А. Муханов, A.B. Никитенко, отчасти даже И.М. Снегирев), Дружинин принадлежал к разряду летописцев, которые не смогли (а скорее – не хотели) под давлением времени что-либо менять и предпочли реформе молчание.
Далекий от общественности в широком понимании этого слова, Дружинин всегда и во всем оставался «частным» лицом (не берем в расчет его работу в Литературном фонде, поскольку это чисто писательское объединение, и функция в нем Дружинина аналогична редактированию «Библиотеки для чтения»). Шумная публичная жизнь была чужда его складу, а люди общественного темперамента вызывали у него скрытую неприязнь (Чернышевский). Умеренный либерал по политическим убеждениям, Дружинин оставался консерватором в образе жизни и формах общественного поведения. Поэтому дневник в его творчестве исчерпал себя к тому времени, когда в целом этот жанр находился на подъеме, а дал литературе новые оригинальные образцы.
Николай Гаврилович ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Первое литературное произведение Н.Г. Чернышевского[43] менее всего принадлежит литературе, а скорее является элементом душевной жизни, журналом психологических самонаблюдений и шкалой духовного роста, на которой регулярно делаются отметки, фиксирующие его увеличение. Литературный способ самонаблюдений служит лишь средством для автора, в такой же мере, как обычное письмо является средством передачи определенной информации. Но это – для автора.
С точки зрения жанровой классификации, истории и теории дневниковой прозы дневник Чернышевского является классическим образцом процесса индивидуации, и не отражением, а составной частью этого явления. Литературная форма в таком случае становится необходимой, так как устанавливает логические связи между стихийными и неподвластными рациональному контролю душевными импульсами.
Функционально дневник Чернышевского стоит в одном ряду с ранними дневниками В. Жуковского, Н. Тургенева, Л. Толстого, Н. Добролюбова и других авторов, у которых период формирования личности проходил в условиях рефлективно-аналитической активности. Стремление повлиять на душевные процессы, придать им желаемую направленность, исправить «негативные» тенденции в формирующемся характере – все это было свойственно юношескому возрасту с его интенсивными этическими исканиями и борьбой с неподконтрольными воле психофизиологическими процессами.
На этой стадии развития у значительной части юношества пробуждается потребность придать хаотическому движению души и тела некоторую упорядоченность, локализовать сильнейшие внутренние импульсы посредством языка. Слову в таких случаях придается магическое значение, и, надо признать, не без оснований. Как сгусток мысли и функции я-сознания слово на стадии индивидуации оказывается регулятором душевных движений, а порой и тормозом внутренних конфликтов. Массовое увлечение дневниками в юношеском возрасте подтверждает гипотезу о психотерапевтической функции этого способа самоосуществления.
Вместе с общепсихологическими процессами, отразившимися в ранних дневниках, в них формируются и определенные литературные, жанровые закономерности. Их общезначимость для жанра так же не зависит от индивидуальной воли каждого из авторов, как и психическая эволюция. Можно с уверенностью сказать, что абсолютному большинству авторов юношеских дневников законы жанра остаются неизвестными. Удивление вызывает (на первых порах) то обстоятельство, что во всех дневниках встречаются родственные или абсолютно тождественные элементы, мотивы и приемы, о которых авторы явно не могли знать в силу интимного характера жанра и главное – малого жизненного и литературного опыта.
Своеобразие юношеских дневников заключается еще и в том, что многие авторы прекращают их ведение в момент завершения процесса индивидуации. И лишь натуры противоречивые, психически неуравновешенные, душевная жизнь которых развертывается как цепь конфликтов и критических состояний, продолжают работу над ними и в следующем психологическом возрасте.
Душевная жизнь Чернышевского лишь на стадии созревания и роста сознания была отмечена рядом сложностей и противоречий. Именно в этот период будущий мыслитель и революционер подробно описывал обе стороны своего бытия – внешнюю и внутреннюю. В конце дневника перед нами предстает уже сформировавшаяся – психологически, умственно и социально – личность автора. Все основные компоненты личности оказываются завершенными: мировоззрение, социальная адаптация, готовность к семейной жизни, творческая способность. И с ними оказывается исчерпанной психологическая проблематика дневника. Проследим поэтапно литературную и психологическую эволюцию, отраженную в дневнике.
Периоду психологической индивидуации свойственны поиски основы той теории, которая могла бы стать доминантой формирующегося мировоззрения молодого человека. В дневнике эта тенденция выражается в виде большого числа выписок из сочинений классиков философии, из социальных и этических трактатов, исторических трудов, сопровождающихся пространными комментариями-рассуждениями. Такую практику мы встречаем в дневниках А.И. Тургенева, A.B. Никитенко, И.С. Гагарина, молодого Л.Н. Толстого, А.И. Герцена и ряда других, менее известных литераторов. Подобные штудии имеют четкие временные границы и, как правило, заканчиваются наступлением творческой и гражданской зрелости.
Дневник в данный период является своеобразным тиглем, в котором переплавляются мировые идеи и из их сочетания формируется органическая доктрина, которая становится путеводной звездой для юного мыслителя. Эта часть дневника бывает наиважнейшей с точки зрения идейного роста автора.
Чернышевский начал вести дневник в университете, когда отчетливо обозначился круг его духовных интересов. По дневниковым записям можно предугадать будущую направленность литературной деятельности их автора. Чернышевский – человек поколения конца 1840-х годов, для которого доверие к идеалистической философии было основательно подорвано бурными политическими событиями в Европе. Поэтому интерес интеллектуально озабоченной молодежи резко сместился в сторону политики, социальной истории и революционной теории. В дневнике будущего автора «Июльской монархии» преобладают разборы сочинений таких мыслителей, как Гизо, Мишле, Фурье, Л. Блан, отчасти Фейербах. Главное внимание уделяется французским событиям и идейным вождям радикальных политических движений.
В дневнике просматривается целая система идеологических акцентов, которая носит не констатирующий, а воспитательный характер: «Весь день читал все «Débats». Странно, что я стал человеком крайней партии <…>» (с. 115); «Изложу мои мнения о Франции» (с. 224); «<…> он <Луи Блан> первый был моим учителем <…>» (с. 358).
Отличительной особенностью дневника Чернышевского в рамках рассматриваемого функционального типа является то, что не в пример своим собратьям по перу (А. Тургеневу, А. Никитенко, Л. Толстому и даже А. Герцену) он подробно анализирует не классические произведения прошлых эпох или современности, а газетно-журнальную периодику, отражающую политическую злобу дня. На это определяющим образом оказали влияние политический темперамент и отчетливая публицистическая направленность дарования автора.
Функция дневника периода индивидуации заключается в упорядочении, систематизации того умственного багажа, которым располагает юный автор на данный момент. Хаотическое нагромождение разнородного материала препятствует выбору главного направления будущей деятельности, и поэтому требуется четкое разнесение по отраслям и рубрикам различных форм сознания с последующим изложением взглядов на данный предмет. Этот общераспространенный прием встречаем и в дневнике Чернышевского.
На протяжении всей основной части дневника предпринимаются попытки систематического изложения позиций по фундаментальным мировоззренческим проблемам в форме рубрикации: «Обзор моих понятий. – Богословие и христианство <…> Политика <…> Литература <…> Мысли <…>» (с. 66); «Напишу что-нибудь о моих религиозных убеждениях» (с. 132); «Должен написать что-нибудь о своих мнениях и отношениях. 1. Религия. 2. Политика. 3. Наука. 4. Литература. Надежды и желания» (с. 297).
Вторым функциональным элементом дневника периода индивидуации является составление жизненного плана и контроль за его выполнением. Большинству авторов юношеских дневников свойствен ригористический подход к этой сфере своего бытия. Как правило, за основу берутся два полярных показателя – этический идеал (или норма) и актуальное состояние автора: его дурные привычки, недостатки слабости. Задача состоит в постепенном сближении обеих полярностей. Причем чем больше встречается препятствий на пути выполнения задуманного, тем последовательнее и настойчивее проводятся «правила» и «распорядок» (Н. Тургенев, В. Жуковский, Л. Толстой).
Создание жизненного плана составляет одну из главных функций дневника Чернышевского. Однако характер этих планов преимущественно позитивный и оптимистический. Все те недостатки, которые замечает в себе автор, не входят в противоречие с идеалом, а последовательно преодолеваются: «Итак, я думаю, что постепенно все исцеляюсь от своей способности смущаться и конфузиться <…>» (с. 137); «<…> у меня недостаток проницательности <…> я узнаю человека в год, между тем как другой узнает в одну минуту» (с. 145); «<…> я приеду в Саратов через год, через два уже степенным человеком, между тем как в глазах слишком многих еще имею слишком многие следы ранней молодости» (с. 397); «Есть вещи <…> которые бывают с другими в 15–16 лет, а со мною только теперь хотят быть хотят быть <…>» (с. 259).
В дневнике часто встречаются оптимистические прогнозы на будущее, которые также входят в сферу жизненных планов автора. На первый взгляд, они кажутся беспочвенными и отдают юношеским идеализмом. Однако сравнительный анализ подобных высказываний на фоне всего дневника показывает эволюцию различных составляющих мировоззрения автора, в котором намеченные перспективы выглядят вполне реалистично. Они подкрепляются деловым подходом автора к важнейшим жизненным проблемам – от создания семьи и планирования расходов до взаимоотношений с родителями и духовными наставниками: «<…> через несколько лет я журналист и предводитель или одно из главных лиц крайней левой стороны, нечто вроде Луи Блана, и женат, и люблю жену, как свою душу <…>» (с. 298). В отличие от литературно-идеалистических проектов Жуковского, Л. Толстого или Надсона, жизненные планы, изложенные в дневнике Чернышевского, заключают в себе элемент прагматизма с трезвой рассудочностью. В этом сказывается влияние разночинской среды, взрастившей будущего писателя, и ранняя определенность жизненных целей. В этом же видится и причина того, что вскоре по выходе из университета потребность в ведении дневника отпадает сама собой. Функция систематизации знаний, выработки идей, критики и самовоспитания оказывается выполненной. Психологическое, гражданское и духовное самоосуществление состоялось.
К дневнику примыкает так называемый «Дневник моих отношений с тою, которая теперь составляет мое счастье». Эти записки не являются самостоятельным дневником, а представляют собой часть процесса самоосуществления. С этой точки зрения они функционально примыкают к дневнику.
Чернышевский вывел описание взаимоотношений с невестой из основного повествования не потому что они составляли автономную сферу его жизни – записи интимного содержания нередко встречаются и в первом дневнике, – а потому что к тому времени семейная жизнь и любовь оставались единственной областью, в которой царила неопределенность.
В приведенной выше цитате семья и супружеские отношения входили составной частью в перечень основных планов на будущее. С женитьбой и семейным счастьем Чернышевский связывал осуществление и других жизненных задач. Поэтому по завершении основной части дневника и возникшей параллельно ему связи с О.С. Васильевой записки получают как бы свое продолжение и эпилог в форме пространного повествования о знакомстве, ухаживании и сватовстве будущего писателя.
В структурном и жанрово-стилистическом отношении второй дневник мало чем отличается от предыдущего. В нем также показана эволюция психологических состояний автора, его меняющиеся отношения к человеку и динамика самооценки. Все эти вопросы будут затронуты в соответствующих разделах.
Пространственно-временная организация записей дневника зависит от прагматической установки автора и склада его интеллекта. Поставив задачу описать свой духовный рост, изложить мировоззренческие позиции и проанализировать отношения с близкими и знакомыми, Чернышевский строго придерживается той временной последовательности, в которой происходят все события дня. Дневник ведется в рамках локального хронотопа.
Не составляют исключения и те записи, которые воссоздают события европейских революций 1848–1849 гг. Их анализ входит в сферу политических штудий юного мыслителя; они интегрированы одной из основных функций дневника.
Роль воспоминаний, фантазий, снов, т. е. всего того, что относится к психологическому времени – пространству, сведена к минимуму. Об этом Чернышевский вскользь упоминает лишь на завершающей стадии ведения своего журнала: «Никогда я не считал себя способным к тому, чтобы до такой степени дорожить воспоминаниями, которые, наконец, так длинны» (с. 471).
Насыщенность дневника планами, прогнозами, замыслами не влияет на структуру хронотопа в силу того, что эти, на первый взгляд, идеальные формы времени и пространства соотнесены с реальными событиями, с фактами повседневной жизни. Они являются как бы отдаленным следствием происходящего сегодня. В их формулировке Чернышевский опирается не на теоретические построения трактатов или абстрактные нравственные категории, а на личный опыт и реалистическую оценку своих способностей и потенций.
С эстетической точки зрения хронотоп дневника Чернышевского выглядит однообразно. Он напоминает стихотворный текст, в котором последовательно повторяющийся ритм во всем соответствует заданному размеру и длительное время не нарушается ни спондеями, ни пиррихиями, ни удлинением, ни укорачиванием строки.
Заданность временного ритма отвечает практической потребности автора, для которого дневник – часть работы по самовоспитанию и подготовке к творческой деятельности. В этих, позитивных, рамках время и пространство не могут иметь ни идеального, ни континуального оттенка. Пространственно-временная ограниченность является для разночинца Чернышевского жизненной необходимостью. Он просто не в состоянии позволить себе расточать реальное (позитивное) время на деятельность, не дающую конкретных, ощутимых результатов. Студент Чернышевский тратит свое время так же экономично, как и свои скудные материальные средства.
В дневнике Чернышевского впервые пространственно-временная локализация выступает как сознательная ограничивающая установка. Ее действие распространяется даже на такую сугубо идеальную область, как теоретические штудии. Обычно комментарии к выпискам из книг расширяют хронотоп дневника и как бы приводят в столкновение различные временные ряды (особенно отчетливо эта тенденция проступает в дневниках А.И. Герцена и И.С. Гагарина). Этому движению порой способствует полет юношеской фантазии, преодолевающий на расстоянии идеальное время – пространство.
У Чернышевского начисто отсутствует свободное перемещение мыслей и образов. Они приземлены, привязаны к конкретным событиям и реальным повседневным задачам. Читатель дневника порой испытывает тяжесть десницы времени, которая давит своей неумолимостью, сдерживая всякий порыв вдохновения. Тем не менее эта материальность времени выглядит более правдоподобно и убедительно, чем его идеализированный образ в дневниках Жуковского, A.A. Олениной или Герцена. Если Герцену не хватает реального времени для осуществления его грандиозных замыслов и он прибегает к времени психологическому, то Чернышевский, наоборот, стремится максимально продуктивно использовать отведенный ему природный интервал. В итоге Чернышевский имеет положительный результат, а Герцен в конце дневника мечется в поисках потерянного реального времени.
Образный строй дневника по-своему отражает стадию индивидуации. Образ автора дается в развитии с точки зрения преодоления отрицательных свойств и развития и совершенствования полезных задатков. Так же как в создании планов и жизненных задач, в самооценке автора преобладают положительные мотивы. Чернышевский уверен в своем призвании и способности достигнуть намеченных целей.
Однако самохарактеристика ведется не автономно, а в соотнесенности с образцами человеческих характеров, которыми в тот период для Чернышевского были И. Введенский и В. Лободовский. Первая половина дневника (1848–1849 гг.) насыщена записями, раскрывающими отношение студента Чернышевского к своему старшему товарищу и его жене.
Лободовский является для будущего писателя образцом ума, рассудительности, носителем высоких моральных качеств. Близость к своему кумиру расценивается Чернышевским как большое личное благо. Долгое время Лободовский служит для него мерилом, с которым он соотносит свои поступки и факты душевной жизни: «Я нашел, что привязан к нему больше, чем думал, потому что эти вещи могут так занимать меня, что я думал о них почти так же сильно и постоянно, как думал раньше о себе и своем изображении и о том, что я сосуд божий, и проч., – значит, я не так, в сущности, холоден ко всем, кроме себя, и не такой эгоист, как раньше думал» (с. 34).
В отраженном свете своего кумира воспринимается и личность жены Лободовского. Не обладая ни умом, ни талантом, она ценится Чернышевским исключительно как человек, выбранный его старшим и высоко почитаемым товарищем. В таких случаях прямая характеристика Надежды Егоровны подменяется косвенным признанием ее достоинств, заслуживших счастье принадлежать замечательной личности: «А какое счастье быть любимой им! Боже, какая сила чувства, какая сильная, нежная, великая душа!» (с. 52).
Помимо соотнесенности с внешними образцами человеческих характеров, Чернышевский находит в себе те свойства, которые могли бы претендовать на некую универсальность в смысле положительного примера, достойного подражания. Поиски внутренних потенций для самосовершенствования отличают образ автора в дневнике Чернышевского почти от всех аналогичных образов в дневниках периода индивидуации. Самокритика, неизменно присутствующая во многих записях, не переходит в самоедство и крайности негативизма по отношению к личным качествам. Чернышевский – автор дневника, как и будущие положительные герои его романов, культивирует в себе положительные ростки, видя в них общечеловеческие истоки: «<…> всегда я склонен – может быть, потому что дурен сам <…> – судить о других не по тому, каков я сам, а по тому, каковым бы мне хотелось быть или каковым быть было бы легко, если бы не мерзкая слабость воли <…> я не хочу оскорблять человечество, судя о нем по себе вообще, а сужу о нем не по цепи всей моей жизни, а только по некоторым моментам ее, когда бываю доступен чувствованиям высшим <…>» (с. 38). (Ср. с записью в дневнике Л.H. Толстого, сделанной пятью годами позже: «Хочу принудить себя быть таким, каким по моим понятиям должен быть человек», т. 46, с. 172–173).
Аналитический подход к собственному развитию позволяет Чернышевскому выявить причины недостатков своей натуры. Эти недостатки он объясняет характером среды и условиями воспитания, а отнюдь не считает их врожденными. Поэтому диалектику собственного развития он видит в постепенном освобождении от власти социальных условий: «<…> воспитывался в пеленках, так что я не жил, как другие, не испытал, не знаю жизнь и людей и, кроме этого, через это самое развитие приняло, может быть, ложный ход» (с. 50).
Чернышевскому как представителю поколения «шестидесятников», наряду с признанием собственных недостатков, свойственна высокая самооценка. Оптимистический взгляд на перспективы будущей деятельности подкрепляется у него уверенностью в своем высоком предназначении. В таких случаях Чернышевский пишет о себе несколько отстраненно, пытается представить себя на определенной жизненной дистанции: «Итак, должен сказать, что я довольно твердо считаю себя человеком не совершенно дюжинным, а в душе которого есть семена, которые если разовьются, то могут двинуть несколько вперед человечество в деле воззрения на жизнь» (с. 127–128); «Должен сказать, что я думаю довольно часто <…> об этих записках и жалею отчасти, что пишу их так, что другой не может прочитать. Если умру <…> то ведь это пропадет для биографов, которых я жду, потому что в сущности думаю, что буду замечательным человеком» (с. 193).
И все-таки главным критерием духовного роста автора остается соотнесенность со средой и признанными авторитетами. Уверенность в своем предназначении только тогда получает реальную опору, когда автор ощущает, что высоко поднялся над средой и стал равным или превзошел своих недавних учителей и кумиров. На этой стадии завершается и процесс индивидуации, и ведение дневника: «Так мы вырастаем! Из этого источника раньше я воспитывался, а теперь смотрю на этих людей, как на равных себе» (с. 84); «<На Любодовского> смотрю как на равного себе по уму <…>» (с. 399); «<…> я выше всех из кружка Введенского, например, хоть выше его и Милюкова» (с. 514).
На других образах дневника лежит отпечаток воззрений Чернышевского на человека вообще. Чернышевский считает, что сформировавшуюся личность отличает постоянство свойств, неизменность основ характера. Во всех жизненных ситуациях человек обязательно проявляет эту незыблемую основу своей натуры. Человеческая субстанция не зависит от случайностей, в которых, однако, могут проявиться акцидентальные качества. Но эти последние характеризуют либо незавершенность личности, либо ее зависимость от внешних обстоятельств: «<…> человек всегда и везде во всех положениях своей жизни и во всех кругах своей деятельности, во всех поступках своих решительно одинаков, и <…> нет в нем противоположных свойств» (с. 153); «<…> у нее <Н.Е. Лободовской> нет той развитости, ловкости, которых никак не может придать, как я думаю, природа, а должно придать общество и образование и без которых действительно женщина не то, чем могла бы и должна бы быть» (с. 93).
Исходный принцип в определении человеческой природы распространяется Чернышевским на близких и знакомых, случайных людей и знаменитостей. Центральное место среди образов дневника занимает уже упоминавшаяся фигура Лободовского. В характеристике старшего товарища Чернышевский последовательно придерживается своей теории человеческого характера. Весь период индивидуации (= ведению дневника) начинающий литератор считает Лободовского образцовым типом личности: «Самое главное место в сердечном отношении занимает Лободовский. В отношении к нему мое мнение остается по-прежнему: я все так его уважаю, так что не ставлю никого наравне с ним из тех, кого знаю, не исключая даже и самого себя» (с. 111); «Напишу о моих отношениях к Вас. Петр. <…> мысль о нем почти постоянно у меня и почти всегда я о нем думаю почти так же, если не более как о себе <…> Мое мнение о его достоинстве и уме и сердце остается прежнее, т. е. самое высшее, какое только я имел о каком человеке, мне знакомом» (с. 143).
Однако образы в дневнике Чернышевского никогда не даются безотносительно. Как правило, они соизмеряются с личностью самого автора. В глазах Чернышевского образ известного человека остается постоянным, но сам автор вырастает в своем мнении о себе. Поэтому неизменность оценки человека не влияет на динамику личностных изменений автора, в том числе и относительно данного человека. Если раньше Чернышевский испытывал пиетет к той или иной личности, то по мере собственного внутреннего роста он мог превзойти уважаемую личность, но от этого личность не умалялась в глазах автора: «Он <Ханыков> человек умный, убежденный, много знающий, и я держал себя к нему в отношении ученика или послушника перед аввою <…>» (с. 183); «Перед ней <О.С. Васильевой> я чувствую себя почти так же, как в старые годы чувствовал себя перед Вас. Петр, в иные разы при разговорах о политике – вижу, что тут не я попираю других <…>» (с. 475); «Что до Вас. Петр. – ничего не могу сказать <…> к нему – уже не тянет <…> и теперь <…> кажется, что даже странно такое постоянное участие в человеке, как я себе раньше воображал» (с. 192).
Итак, с одной стороны, система образов дневника встроена в антропологическую доктрину Чернышевского, а с другой – соотносится с внутренней динамикой периода индивидуации. Подводя итог этому разделу дневника, следует отметить метафизический (недиалектический) характер структуры образа. В дневнике зафиксировано развитие его автора, но сложившийся характер (конечный пункт развития) далее уже не подлежит существенному изменению.
Типология дневника в значительной степени зависит от антропологической установки молодого Чернышевского. Главное внимание в дневниковых записях сосредоточено на событиях внешней жизни. Такой акцент может показаться странным, учитывая, что в дневнике развертывается процесс индивидуации. По всем понятиям в нем решающую роль должна играть внутренняя жизнь. В сущности, так оно и есть, только эта внутренняя жизнь передана посредством ее внешних проявлений. Чернышевский не имеет ни малейшего желания погружаться в глубины сознания или подробно разбирать свой нравственный мир в отрыве от мира внешнего. Внутренний рост он понимает как здоровый естественный процесс. Поэтому на фоне психологического самоанализа Н.И. Тургенева, Жуковского или Л. Толстого духовный мир Чернышевского может показаться бедным, а способ его раскрытия – упрощенным. Однако такое впечатление может сложиться только потому, что основы внутренней жизни Чернышевского далеки от той запутанности, изломанности, которая свойственна перечисленным авторам. Именно поэтому процесс индивидуации у автора «Что делать?» прошел быстрее и с меньшими конфликтами.
Чернышевский в большей степени, чем его предшественники и современники, подвергает контролю свои мысли и поступки. Только у него это происходит систематически и более сознательно. Он не отказывается от своих планов и замыслов, не разочаровывается в них, как Л. Толстой, если сразу не удается их осуществить. Принципиальное отличие между ним и другими авторами юношеских дневников – в степени успеха на поприще нравственного становления. Ему быстрее и безболезненнее удалось освободиться от мелких недостатков. От этого и самоанализ кажется неглубоким, поверхностным.
Чернышевский в своем дневнике постоянно находится на грани внешнего и внутреннего, не впадая ни в одну из крайностей – рефлексию или бытовизм. Его можно назвать умелым диспетчером, который вовремя переключает внимание с одного объекта на другой.
Стремление к упорядочению духовной жизни приводит к созданию в дневнике отдельной рубрики, в которой описываются внутренние процессы: «О внутренней жизни. Главная часть принадлежит Вас. Петр., а через него много думаю о ней. После следуют мысли о человечестве, о религии, о социализме и пр., особенно о Франции» (с. 121).
Духовную жизнь Чернышевский понимает шире своих собратьев по перу: в нее входят не только конфликты и отрицательные эмоции, самокритика и размышления над неосуществленными планами. Это – и сфера практических задач, раздумья об отдаленных событиях, которые активно влияют на формирование мировоззрения и нравственных устоев личности. Такие духовные искания лишены идеалистического налета, свойственного, например, Герцену периода ведения дневника.
Чернышевский объективирует события внутренней жизни, но так, что они не противопоставляются миру внешнему, а интегрируются в него. Чернышевский не разделяет оба мира, а объединяет их с целью достижения гармонии и счастья. В свете сказанного, различия между интровертивным и экстравертавным типами дневников стираются. В движении авторской мысли происходит плавный, едва заметный переход от одной сферы бытия к другой.
В жанровом отношении дневники периода индивидуации не отличаются разнообразием. По просветительской традиции их можно разделить на две разновидности – «годы учения» и «годы странствий». Иногда обе объединяются в дневнике одного автора (А. и Н. Тургеневы).
Жанровое содержание юношеских дневников воссоздает процесс расширения сознания молодого человека, происходящий во время обучения или путешествий (Е.С. Телепнева, А.К. Толстой, М.А. Башкирцева). Часто дневник заводят исключительно на этот период и ставят перед ними практическую задачу сохранить приобретенный опыт и зафиксировать духовный рост (А.Х. Востоков, И.Н. Крамской). К последней группе принадлежит и дневник Чернышевского.
Начатый на старшем курсе университета, дневник с первых страниц вводит в атмосферу разночинского быта. В отличие от дневников дворянской молодежи, в журнале Чернышевского этой стороне жизни отводится очень значительное место. Порой даже кажется, что бытовые подробности заслоняют главное – духовную жизнь формирующейся личности. Но это не так. Весь ход повествования в дневнике показывает, что дух не деформируется бытовыми условиями, как бы тягостны они ни были. Более того, в дневнике показано своего рода сосуществование приземленного быта и напряженной духовной жизни. Многие бытовые проблемы материально стесненного студента раскрывают лучшие стороны его души и по-своему воспитывают эту душу в высоких нравственных принципах. Как в области типологии порой с трудом можно обнаружить тончайший переход от внешнего к внутреннему, так и в жанровом отношении границы между бытовой и нравственно-интеллектуальной сферами часто кажутся размытыми.
Наряду с типологией и жанровым содержанием процессу индивидуации подчинен и метод. Жизненный материал заносится в подневную запись не сплошь, а отбирается в зависимости от рационально-психологической установки автора. Выборочный характер записи – одно из распространенных свойств юношеских дневников. Как правило, наиболее примечательными событиями дня, достойными занесения в дневник, становятся те, которые нашли душевный отклик у автора. Важное для личного опыта явление превосходит своей значимостью крупное, но нейтральное в этом отношении событие. Поэтому зачастую у юных летописцев мелочи вырастают до размеров масштабного и знаменательного факта. Иерархия ценностей в дневниках этого возраста имеет свои неписаные законы.
Как уже было показано на жанрово-типологическом уровне, ординарные, изо дня в день повторяющиеся бытовые явления занимают в дневнике Чернышевского место рядом с событиями его умственной жизни и нередко даже обусловливают последние. Но этим своеобразие метода Чернышевского не исчерпывается.
Изображение и оценка событий даются в рамках строго выдержанного рационального принципа. Эта особенность психологического склада автора неоднократно подчеркивается им самим: «Чувствовал только головою» (с. 53); «<…> чувствую головою, тоски нет» (с. 73); «<…> это меня более прежнего задело, но снова за голову, а не за сердце» (с. 81).
Рационально-аналитический метод господствует решительно во всех записях основной части дневника. Он присутствует даже там, где, казалось бы, с учетом ситуации должен уступать сердцу и чувству, а именно в интимной сфере. Но и эта сфера пронизана у Чернышевского рассудочностью и логистикой: «Вот что еще: из этого серьезно, может быть, выйдет, что я стану сближаться с существами другого пола, которые будут и всегда чисты, и привлекательны по душе; может быть, из этого выйдет перемена моего характера» (с. 37).
Перемена действительно наступает (правда, не очень значительная) в дневнике, посвященном отношениям с невестой. Количество фраз, передающих чувства и эмоции, резко возрастает. Но это почти не меняет общей тональности записей, а следовательно, и мётода. Хотя нельзя сомневаться в искренности чувств автора, привычка анализировать заставляет его с методичной последовательностью подвергать свои переживания суду разума. А когда в описании чувств он заходит слишком далеко (по его меркам), то даже спохватывается от такого произвола и торопится остановить непослушное перо: «Боже мой, как подробно описано! Все, решительно все со стенографической подробностью!» (с. 471).
Как маленькие вольности, позволительные влюбленному молодому человеку, можно объяснить появление на страницах второй части дневника эмоционально окрашенных фраз, адресованных мнимому сопернику Чернышевского, некоему Куприянову: «этот дурак и мерзавец», «он дурак и свинья», «эта скотина» (с. 470–471).
Система речевых форм дневника, так же как и метод, строго выдержана в рамках информативно-аналитического письма. Чернышевский практически не использует эстетически нагруженное слово, которое прозвучало бы диссонансом в его повествовании. Его отсутствие ослабляет выразительные возможности дневниковых записей, которые представляются сухими и монотонными. Но этим достигается психологическая цель повествования: процесс жизненного становления завершен, и не в последнюю очередь с помощью дневникового слова.
На последних страницах дневника, живописующих обретенное автором счастье, он как бы окидывает взглядом долгий путь своей мысли и выделяет в нем страницы, написанные в стиле «ума холодных наблюдений», от строк, преисполненных сердца не горестных замет: «Со следующей страницы начинаются снова описания событий. Но теперь они будут уже рядом с чувствами, размышлениями, впечатлениями» (с. 504). Но на осуществление этого замысла дневника уже явно было недостаточно. Поэтому вскоре его записи прерываются навсегда.
Лев Николаевич ТОЛСТОЙ
В наследии Толстого для потомков отчетливо выделяются три ипостаси: художественное творчество, «голгофа» его жизни и дневники. В каждой из них нам видится свой Толстой, не похожий ни на одного, ни на другого. В каждой из них известный и на первый взгляд кажущийся цельным образ художника-мыслителя обретает самостоятельную жизнь, свою собственную историю. Внутренняя энергия Толстого, не находя исчерпывающего выражения в одной отдельно взятой форме, постоянно выплескивается и ищет себе новый выход. Но набор таких форм ограничен даже для великого человека тремя возможными сферами – внешней жизнью, воображением и внутренней борьбой. Вспомним те же ипостаси в «Божественной комедии» Данте: ад внешней жизни, чистилище внутренней борьбы и рай веры.
Из трех сфер бытия Толстого наиболее изученными и почитаемыми являются две – художественное творчество и биография. «Внутренний» Толстой, Толстой дневников, всегда находился на заднем плане, казался неудобным своими откровениями. Канонический образ автора «Войны и мира», педагога и проповедника праведной жизни, не вязался с мотивами смерти, обесценивания жизни и неверия в человека, проходящими через все дневники.
Противоречия Толстого периода «Воскресения» и поздней публицистики, хотя и признавались «кричащими», все-таки оставались в пределах основных конфликтов эпохи. В дневниках отразилась бездна, которая страшила исследователей, была неудобочитаема для «массового» любителя литературы и потому не вдохновляла издателей. До сих пор мы имеем одну-единственную полную публикацию дневников Толстого в труднодоступном академическом издании, подготовленном еще в 20-е годы В.Г. Чертковым. И это при массовом издании и многомиллионных тиражах практически всех основных жанров его творчества!
Дневники Толстого до сих пор не нашли своего глубокого истолкователя еще по двум, по крайней мере, причинам. Они (впрочем, как и все другие образцы данного жанра) использовались главным образом в качестве материала для изучения иных проблем его творчества: из дневников делались извлечения, с тем чтобы подтвердить или придать убедительность доказываемой мысли, гипотезе или тезису исследователя. Отношение к дневнику как к служебному источнику превратилось в традицию с момента первого разглашения его материалов.
Вторая причина гораздо серьезнее и кроется в личных жизненных обстоятельствах его автора. Она связана с характером той болезни, истоки и своеобразие которой наука определила лишь в XX в. Отсутствие связей между филологией и психологией затормозило изучение глубинных процессов сознания Толстого и их отражения в дневниках. Применительно к такой фигуре, как Толстой, ни у кого не хватало смелости назвать своими именами очевиднейшие вещи, подробно изложенные в дневнике, – то, что дневник, помимо всего прочего, был историей болезни великого писателя.
Со страниц множества научных трудов до сих пор слышатся хрестоматийные истины о противоречиях и заблуждениях Толстого, о его сектантстве в трактовке основ христианской религии, о семейной драме непонимания и других подобных вещах. Однако истоки всего этого ищут (и находят) исключительно в социальной сфере.
Ограничиваясь одной детерминантой толстовского творчества, критики и исследователи на протяжении полутораста лет упрощенно истолковывали и ведущий художественный метод писателя – психологический анализ. Весь сложный мир героев Толстого был сведен к понятию «диалектики души», хотя автор термина и не помышлял о его универсальности.
Многие заблуждения, вызванные неразработанностью научной терминологии, неразвитостью смежных дисциплин (прежде всего психологии), а порой и просто заимствованиями из публицистики, без изменений перекочевали из XIX в XX в. и заняли место в ряду аксиом. На них потом строились концепции отдельных произведений и целых периодов творчества Толстого. Одна из таких истин-заблуждений заключалась в признании оптимистического жизнеутверждающего пафоса творчества автора «Войны и мира». Этот тезис, небесспорный даже по отношению к художественному творчеству писателя, завораживающе действовал и на всех исследователей, занимавшихся дневниковой прозой Толстого. Так, В.Я. Лакшин следующим образом резюмирует обзор дневников писателя: «Могучая сила, душевное здоровье и изобилие – вот что остается главным впечатлением от чтения толстовского дневника»[44]. Прочитав такое заключение маститого автора, можно только руками развести.
На отрицании психологических детерминант дневникового жанра Толстого основана ранняя работа Б. Эйхенбаума «Молодой Толстой». Здесь автор представляет дело таким образом, что дневник, как и любое другое словесное произведение, искажает процесс душевной жизни и поэтому не может быть источником ее анализа («мы должны как бы не верить ни одному слову дневника и не поддаваться соблазну психологического толкования»).
Дневник Толстого, согласно гипотезе Эйхенбаума, является средством формирования творческого метода писателя, который в полную силу заявит о себе уже в первых художественных опытах автора «Детства».
К подобным выводам автор исследования приходит по причине крайне упрощенного понимания структуры психики, которое имело широкое распространение в первой трети века среди большинства ученых-гуманитариев, не знакомых с открытиями аналитической психологии. Эйхенбаум вводит понятие «творческое сознание» и противопоставляет его «натуре» Толстого. «Это сознание, – пишет исследователь, – по существу своему не только сверхпсихологично, но и сверхлично <…>»[45] Творческое сознание, обладая автономией, является элементом сознания человека, которое, в свою очередь, представляет собой часть психики. Психика же, помимо сознания, состоит еще и из бессознательного, которое в силу своей природы («натуры», по выражению Эйхенбаума) оказывает воздействие на формирование сознательной установки личности. Поэтому рассматривать продукты сознательной деятельности (в особенности дневники) вне связи с «душевными явлениями как таковыми» (Эйхенбаум) будет методологически ошибочно.
«Формальная» установка Эйхенбаума на поиски творческого метода Толстого в его ранних дневниках игнорирует их истинную природу и дезавуирует сам метод психологического анализа, который является неотъемлемой частью творческого метода писателя.
Другой принципиальной ошибкой Эйхенбаума является то, что анализ ранних дневников Толстого ведется автономно, без сопоставления с другими образцами жанра. А ведь даже беглый сравнительный анализ юношеских дневников других авторов выявит многочисленные черты сходства мотивов и приемов письма прежде всего в области психологии (Жуковский, братья Тургеневы, И. Гагарин). Наконец сопоставление с дневниками зрелого периода прольет свет на типологические закономерности всех дневников Толстого, на их отражающие, а отнюдь не искажающие свойства.
Среди исследователей бытует упрощенное понимание жанра дневника и его функции. Такие второстепенные признаки, как общедоступность и простота, заслоняют главные свойства дневника и создают ложное представление о легковесности жанра. Так, В.Я. Лакшин называет дневник и письмо «самыми повседневными и доступными любому жанрами»[46].
Ускользающая от анализа функция дневника может еще не осознаваться применительно к рядовым авторам. У Толстого же эта функция выражена отчетливее, чем у кого бы то ни было из русских писателей.
Импульсом к ведению дневника стал невроз, сформировавшийся в психике Толстого в юношеском возрасте. Истоки невроза лежат не только во внешней среде, в семейной и социальной сферах; они глубоко уходят в его психическую организацию. Интровертный склад юноши Толстого обусловил повышенную тревожность, склонность к самоанализу из-за мелочей, внимание к своим поступкам и их критическую оценку. Свойства характера, поведение, собственная внешность, истолкованные критически, наносили неустойчивой психике будущего писателя болезненные раны. И кризис возраста, наступающий обычно в 18–19 лет и переходящий в нормальный процесс роста и расширения сознания, у Толстого вылился в невроз, который впоследствии образовал устойчивый поведенческий комплекс.
Записями подобного рода пестрят все ранние дневники: «20 марта 1852 г. <…> Все время, которое я вел дневник, я был очень дурен, направление мое было самое ложное: от этого от всего этого времени нет ни одной минуты, которую бы я желал возвратить таковою, какою она была»[47]; «25 июня 1853 г. <…> Ни в чем у меня нет последовательности и постоянства. От этого-то в это последнее время я стал обращать внимание на самого себя, я стал сам себе невыносимо гадок» (46, 162); «7 июля 1854 г. <…> Посмотрим. Что такое моя личность. Я дурен собой, неловок, нечистоплотен и светски необразован. – Я раздражителен, скучен для других, нескромен, нетерпим и стыдлив, как ребенок. – Я почти невежда <…> Я невоздержан, нерешителен, непостоянен, глупо-тщеславен и низок, как все бесхарактерные люди, я не храбр. Я неаккуратен в жизни и так ленив, что праздность сделалась для меня почти неодолимой привычкой. – Я умен, но ум мой еще никогда ни на чем не был основательно испытан. У меня нет ни ума практического, ни ума светского, ни ума делового» (47, 8–9).
Дневник является знаком невроза и одновременно неосознанным средством его лечения. Как животные инстинктивно ищут целебную траву, так психика человека создает защитные механизмы и средства для врачевания своих недугов.
Наряду с психотерапевтической функцией, юношеский дневник был аккумулятором процесса индивидуации (самоосуществления) личности. «Теперь, – писал юный автор, – когда я занимаюсь развитием своих способностей, по дневнику я буду в состоянии судить о ходе этого развития» (46, 29). Для такой импульсивной натуры, как Толстой, дневник был незаменимым средством самоанализа и самоотчета по текущим житейским делам и нравственным поискам. Дневник начат в критический для Толстого период. Когда он задумал отказаться от беспорядочной, неразумной жизни и намеревался строить свою дальнейшую судьбу согласно правилам разума: «7 апреля 1847 г. Я никогда не имел дневника, потому что не видал никакой пользы от него. Теперь же, когда я занимаюсь развитием своих способностей, по дневнику я буду в состоянии судить о ходе этого развития»; «8 апреля. Хотя я уже много приобрел с тех пор, как начал заниматься собою, однако все еще я недоволен собою»; «14 июня 1850 г. По дневнику весьма удобно судить о самом себе»; «8 декабря 1850 г. Большой переворот сделался во мне за это время».
Помимо журнала фиксации нравственных изменений личности, дневник в этот период становится у Толстого сводом этических норм. Юный моралист стремится создать систему правил, опираясь при этом на всеобщие нравственные ценности, и встроить в эту систему свою повседневную жизнь, подвести под незыблемые этические понятия бытие единичного человека. Для этого он ведет параллельно два вида записей: для всеобщих нравственных постулатов «Правила жизни» и тому подобные заметки, а для ежедневных нужд – собственно дневник. Толстой даже положил себе за правило каждую запись заканчивать, наподобие аутогенной тренировки, следующими словами: «Важнее всего для меня в жизни исправление от лени, бесхарактерности и раздражительности», – и ригористически придерживался этого правила в течение нескольких месяцев 1854 г.
Главный конфликт этой эпохи осознается Толстым как непреодолимое противоречие между разумом и инстинктом, сознанием и бессознательными поступками. Признавая сознание верховным руководителем нравственной личности, автор дневника понимает невозможность во всей жизни следовать сознательным установкам. От этого у него появляются болезненные фрустрации: «3 июня 1851 г. Теперь удерживаюсь и живу сознанием»; «3 июля 1852 г. Цель, найденная мною в жизни, не так уж занимает меня. Неужели это не истинное, твердое правило, а одна из тех мыслей, которые под влиянием самолюбия, тщеславия и гордости так же скоро рождаются, как и исчезают? Нет, это правило истинно. Моя совесть говорит мне это. Я хочу, чтобы вследствие одного этого умозрения вся жизнь моя пошла бы лучше и легче. Нет, правило это нужно подтверждать действиями, и тогда действия оправдываются правилом. Нужно трудиться».
Убежденность в невозможности осуществить на деле теоретические постулаты приводит к свертыванию параллельных дневнику жанровых образований в середине 1850-х годов. Сохраняется лишь записная книжка, которая выполняла другую функцию и о которой речь пойдет впереди.
В середине 50-х годов происходит определенная переоценка соотношения сознания и бессознательного в человеке, разума и чувства. Юношеский максимализм, выразившийся в попытке удержать в строгих рамках «правил» и распорядка «неразумные» страсти и пороки, корректируется более зрелыми суждениями о роли чувства в жизни человека: «21 марта <1856> Главная моя ошибка в жизни состояла в том, что я позволял уму становиться на место чувства» (47, 68). Эта мысль служит знаком тех душевных конфликтов, которые имели место на протяжении почти десятилетнего периода в жизни Толстого.
Со второй половины 50-х годов функция дневника заметно меняется. В нем полнее отражаются события внешней жизни, чаще даются характеристики знакомых и близких, несколько ослабевает критицизм. Это связано с изменениями во внешней жизни и в социальном статусе Толстого: вхождение в писательскую среду, серьезные сердечные увлечения, попытка хозяйственной деятельности, интенсивная творческая работа. Дневники этого периода имеют переходный характер. Они отличаются как от ранних, так и от поздних записей. Сокровенная жизнь сознания автора еще не перекрыта ни творческими импульсами периода создания «Войны и мира» и «Анны Карениной», ни погруженностью в радости семейной жизни и педагогических опытов начала 60-х годов. В них еще нет девальвирующей тенденции послекризисного периода, когда духовная жизнь писателя будет сосредоточена именно здесь. Психическая энергия еще равномерно распределяется между внешним бытием, художественным творчеством и рефлективной жизнью в дневнике.
Однако усилия, предпринимаемые все эти годы с целью обретения целостности сознания – то в форме самокритики, то в виде регламентации внешней жизни, – не привели к желаемым результатам. И дневник зафиксировал этот невротический симптом. В ночь на 11 апреля 1858 г. у Толстого была манифестация бессознательного в сновидении, о которой он делает две параллельные записи, – лаконичную в дневнике и пространную в записной книжке. Дневник: «Тревожно спал, кошмар и философская теория бессознательного <…>»; записная книжка: «Я видел во сне, что в моей комнате вдруг страшно отворилась дверь и потом снова неслышно затворилась. Мне было страшно, но я старался верить, что это ветер. Кто-то сказал мне: «Поди, притвори». Я пошел и хотел отворить сначала, <но> кто-то упорно держал сзади. Я хотел бежать, но ноги не шли, и меня обуял неописуемый ужас. Я проснулся и был счастлив пробуждением» (47, 75).
Темная комната, несомненно, символизирует стихию бессознательного, из которого Толстой долгие годы стремился вырваться методом установления над ним цензуры сознания (правила, распорядок, планирование, постоянное упоминание о вредных привычках с целью избавиться от них). В то же время комната – это четырехугольное помещение, в идеале – квадрат (мандала). Инстинктивным стремлением сновидца было отворить дверь, несмотря на совет бессознательного, безусловно, тождественного «голосу». А открыть дверь – значит, наполнить ее светом сознания, сделать зримым квадратуру помещения, обрести целостность. Но бессознательное, тайно проникшее в комнату, удерживает сновидца от этого, мешает в его стремлении жить сознательно и, в конце концов, оставляет во мраке темных инстинктов.
Этот сон проливает свет на истоки скептического взгляда Толстого на эффективность принятых ранее рациональных правил и «франклиновской таблицы» (системы самовоспитания): 18 марта 1855 г. С самого начала я принял методу самую логическую и научную, но меньше всего возможную – разумом постигнуть лучшие и полезнейшие добродетели и достигать их» (47, 38). Этого взгляда Толстой придерживался и в старости, памятуя о неудачах молодости: «25 августа 1909 г. Как вредно иметь планы: как только препятствие, так и раздражение» (57, 122).
Таким образом, ранние дневники зафиксировали не формулированное, но всем ходом вещей очевидное стремление Толстого восстановить целостность души, довести до стадии осознания бессознательные стремления и инстинкты и волевым методом преодолеть «недостатки» характера.
Толстой принадлежал к психологическому типу людей, воля которых направлена против внутреннего (сексуальность, в терминологии Толстого – «сладострастие», «похоть») и внешнего (групповая мораль) принуждения. Достигая критического возраста (Толстой определил его точно – 14 лет), этот тип попадает в зависимость от групповых (сословных) стандартов (о групповом идеале «комильфотности» Николенька Иртеньев подробно говорит в «Юности»), но со временем отказывается идентифицировать себя с интересами и нравственными нормами своей среды (у Толстого 18 лет – начало ведения дневника). Противоречие между принудительной властью групповых норм и стремлением к независимости от них становится источником невроза в том случае, когда индивид не обретает полноты искомой свободы и таким образом погружается в состояние непрерывного внутреннего конфликта. У Толстого осознание этого факта произошло в 23 года: «<…> в том горе, что я слишком рано взялся за вещи серьезные в жизни, взялся за них, когда еще не был зрел для них, а чувствовал и понимал <…> и разочаровался я в вещах важных в жизни, а в мелочах еще ребенок» (46, 77); «<…> 28-го минуло мне 23 года. Много рассчитывал я на эту эпоху, но, к несчастию, я остался все тот же» (46, 87).
Освободиться от болезненного невроза в таких случаях могут лишь исключительные личности, к которым принадлежал Толстой. Они обычно не взирают на сословную, классовую, групповую мораль и смело идут по непроторенному пути идейных, художественных или религиозных исканий. Художественные традиции, классовые предрассудки и групповые нормы преодолеваются их мощным духовным порывом к самосовершенствованию; их дух высвобождается из ограниченных рамок идейных воззрений эпохи.
У Толстого, как личности, очень рано заявившей о своей независимости от условностей среды, движение к духовному освобождению имело три этапа, проходило в трех разных сферах – семейной, литературно-художественной, духовно-религиозной. И дневник был своеобразным аккумулятором внешней и внутренней борьбы писателя.
С начала 60-х годов вплоть до кризиса 1881 г. Толстой обращается к дневнику нерегулярно. В его ведении отсутствует внешняя последовательность и логика. С 1863 по 1880 г. сохранились отдельные записи в дневнике с пробелами в несколько лет (1866–1872, 1879–1880). В духовной эволюции Толстого данного периода акценты оказываются расставленными на иных, по сравнению с прежним временем, объектах. Психическая энергия (либидо) писателя перетекает в сферу художественного сознания и интимно-семейной жизни после женитьбы в 1862 году. Период «семейного счастья» в жизни Толстого совпал с напряженнейшей работой над «Войной и миром». На рефлексию и самокритику не хватало ни душевных сил, ни времени. Сознание как бы переключилось на другую волну, и лишь изредка происходят сбои и возвращения к прежним формам душевной жизни. Так, например, короткий дневник 1863 г. полностью посвящен отношениям с молодой женой, а отдельные его записи (18.06; 5.08) представляют собой развернутую исповедь, в которой анализируется душевное состояние с точки зрения отношения Толстого к жене и семейной жизни.
Заполненность жизни новым содержанием, а сознания – грандиозным планом эпопеи не оставляла дневнику его традиционной функции замещения невыраженных психических содержаний. Частично такую функцию взяли на себя «Записные книжки», работа над которыми продолжалась большую часть того времени, когда не велись дневники.
«Записные книжки» 1860–1870-х годов представляют собой собрание мыслей, афоризмов, возникших на основе жизненных наблюдений, но не обязательно приуроченных к определенному событию и времени. В них главным является элемент обобщения, они носят собирательный характер: август – октябрь 1865 г. «Люди кажутся друг другу глупыми преимущественно оттого, что они хотят казаться умными. Как часто долго два сходящихся человека ломаются друг перед другом, полагая друг для друга делать уступку, и противны один другому, до тех пор пока третий или случай не выведут их, какими они есть, и тогда как оба рады, узнавая разряженных, новых для себя и тех же людей» (48, 105).
«Записные книжки» в известной мере являются продолжением юношеских «Мыслей» и других близких дневнику жанров, работа над которыми велась в 1840–первой половине 1850-х годов. В книжках есть сходные заглавия разделов: «Советы», «Порядок», «К роману». Записи в книжках в основном датированы. По ним можно проследить, чем в данное время увлекался Толстой, что читал из философии, истории, литературы. Многие записи посвящены физическим явлениям, в них содержатся рисунки, чертежи, таблицы: книжка № 7 представляет собой «Азбуку для семьи и школы с наставлением учителю»; № 8– коротенькие рассказы «Инок», «Соломон», «Каменщик»; № 12 собрание пословиц и поговорок.
Пережив духовный кризис, Толстой с начала 1880-х годов возвращается к регулярной манере ведения дневника. Это событие совпало по времени с завершением работы над крупнейшими романами и периодом стабильности в семейных отношениях. Всплеск бессознательного, во многом определивший критическую направленность всей последующей творческой и духовной деятельности писателя, выводит из равновесия тот психический строй жизни, который сложился за 20 лет. Кризис сознания вновь вызывает потребность в сокровенно-исповедальной форме самовыражения.
Такой кризис является обычным для 50-летнего возраста, когда человек вступает в полосу проживания второй половины сознательной жизни. В это время человек, как правило, стремится разобраться со своим бессознательным и все чаще направляет свой внутренний взор на проблему, никогда или редко волновавшую его в молодые и зрелые годы, – на проблему смерти. У Толстого весь этот комплекс психических проблем стареющего сознания осложнялся острыми семейными противоречиями и социальными конфликтами пореформенной эпохи, которые вызывали неприятие и – как следствие – ряд новых невротических расстройств. Основной психологический конфликт 1880–1900 гг. у Толстого – это конфликт между эросом и танатосом. В душевной жизни автора «Смерти Ивана Ильича» данный конфликт приобретает религиозную форму вследствие перехода писателя на почву раннехристианской евангельской морали. На обычное в психологии старения противоречие между любовью к жизни и тяготением к смерти была наложена идея христианского дуализма, обесценивающая земное бытие человека в пользу бытия небесного. От этого внешняя и внутренняя жизни Толстого, и ранее обладавшие известной автономией, разделились и шли параллельными путями до конца.
Это обстоятельство отразилось в дневнике, который композиционно четко делится с 80-х годов на записи, отражающие внешние события и внутренние переживания и мысли автора: «20 декабря 1888 г. <…> Да, надо записывать две вещи: 1) весь ужас настоящего, 2) признаки сознания этого ужаса» (50, 16); 31 августа 1884 г. «<…> Хорошо думалось: умереть? Ну что ж. Износить свою личность так, что она не нужна, т. е. неразумна. Мне противно неразумное, стало быть нужна и радостна смерть» (49, 119); «19 июля <1892> Эти люди, признающие здешнюю жизнь приготовлением, испытанием для другой жизни, или испорченной жизнью, падением, грехом, как это понимают церковные люди, – все тут хорошо. «И равнодушная природа красою вечною сиять», – но назначение человека не здесь, а там, по ту сторону» (52, 94).
Это противоречие настолько укоренилось в психике Толстого, что вызывало желание говорить о нем во всеуслышание, в любой подходящий момент. Данную склонность писателя зафиксировали дневники других авторов, в частности его домашнего врача Д. Маковицкого, который 25 августа 1905 г. записал следующие слова своего великого пациента: «Л.Н.: Жизнь – постоянное умирание. Дети Горбуновых – умирают. Надо жить так, чтобы легче было умереть. – Софья Андреевна: Почему надо постоянно думать о смерти? Надо радоваться жизни. – Л.H.: То, что мы, живя, приближаемся к смерти, математически верно. Это не исключает радостей, они будут от такого сознания чистые, непреходящие Мы родимся, чтобы умереть»[48].
Обесценивание жизни становится устойчивой бессознательной тенденцией даже относительно знакомых и близких Толстому людей. Смерть отдельного человека расценивается больным писателем не как освобождение от земных тягот и мук сознания, а как абсолютное и желанное благо каждого: «18 августа 1901 г. Умер Адам Васильевич. И очень хорошо» (54, 110); «5 апреля 1904 г. Александра Александровна умерла. Как это просто и хорошо» (55, 27). Аналогичную реакцию Толстого на смерть людей зафиксировал и Д. Маковицкий в тот период, когда Софья Андреевна находилась между жизнью и смертью после операции в 1906 году: «Л.Н. <…> говорил, что не важно, умрет или нет, а важно, как она живет, ее внутренняя жизнь <…> Л.Н. заметил: «Важно, что она пережила в эти дни и как пережила, а не осталась ли жива <…>» (2, 240); «17 декабря <1907> У Софьи Андреевны левый глаз слезится. Не может писать, оттого больше внимания обращает на боль в левой ноге. Вечером говорила, что умрет от болезни ноги, что это рак: Увидите, я умру. Л.H.: Отчего же не умереть? К этому <надо> готовиться, к этому все идет» (2, 529).
Сложившаяся после кризиса система взглядов, в основе которой лежала идея христианского всепрощения и любви, была в разительном противоречии с окружающей действительностью и личной семейной жизнью Толстого. Этот конфликт последние 30 лет оставался главным источником невроза и в конечном счете спровоцировал трагический финал писателя.
Особенность религиозного сознания Толстого позднего периода заключалась в жестком рационализме веры, в преобладании рассудка над чувством. Чем резче выражалась сознательная установка с определенным идейным содержанием, тем настойчивее бессознательное стремилось скорректировать ее. В дневнике последовательно зафиксирована компенсаторная функция снов, виденных Толстым в короткий промежуток времени послекризисного периода: «24 мая 1889 г. <…> нужно дело. Не общение душ нужно <…> а во всякое число нужно сходиться в одном <…> в непризнании Церкви, Государства, Собственности <…> Не конгрессы мирные нужны, а непокорение солдатству каждого» (50, 85); «25 мая 1889 г. <…> Во сне видел, что я взят в солдаты и подчиняюсь одежде, вставанию и т. п., но чувствую, что сейчас потребуют присяги и я откажусь, и тут же думаю, что должен отказаться и от учения <…>» (с. 85).
Жизнь в постоянном душевном напряжении, в состоянии, когда учение не находило сочувствия со стороны семьи, способствовала обострению невротических симптомов. Обращение к дневнику в таких случаях давало выход части накопившейся психической энергии, объективировало душевные конфликты, не давало им уйти в глубину подсознания. Однако жесткость сознательной установки нередко провоцировала приток бессознательного. Оно заявляло о себе двумя типами снов невротического характера. Один из них прямо указывал на неконтролируемую сознанием часть психики, которая стихийно выплескивает энергию: «21 <сентября 1889 г.> Ночью кошмар: сумасшедшая, беснующаяся, которую держат сзади» (50, 145). Второй, виденный чуть раньше приведенного сна, представлял собой хтонический образ архитипического содержания – жабу человеческих размеров. Жаба – земноводное существо, в сновидении символизирует стихию бессознательного. Исторически этот образ соответствует ранней фазе человеческого сознания, которое постепенно высвобождается из темноты досознательного психического хаоса, олицетворявшегося образами первобытных чудовищ, пресмыкающихся и реликтовых видов.
Не преодоленный со временем юношеский травмирующий опыт в старческом возрасте предопределил сильное душевное напряжение писателя. Он оставался причиной постоянной тревожности сознания, которую человек с нормальной психикой переносит как простое воспоминание. «Я теперь испытываю муки ада, – пишет Толстой 6 января 1903 г. – Вспоминаю всю мерзость своей прежней жизни, и воспоминания эти не оставляют меня и отравляют жизнь» (54, 154). И в качестве реакции на негативную сознательную установку у Толстого периодически возникает состояние регрессии в бессознательное состояние, как и человек может стремиться во взрослом возрасте вернуться в материнское лоно, где у него не будет нервных раздражителей: «5 июня 1910 г. Очень был плох целый день. Ничего не работал и целый день сам себе жалок. Хотелось, чтобы меня пожалели, хотелось плакать, а сам всех осуждал, как капризный ребенок» (58, 61); «11 марта 1906 г. Хочется умереть. К вечеру это состояние перешло в чувство сиротливости и умиленное желание ласки, любви; мне, старику, хотелось сделаться ребеночком; прижаться к любящему существу, <матери – так в зачеркнутом варианте>, ласкаться, жаловаться и быть ласкаемым и утешаемым» (55, 207).
Последние строки напоминают заключительные слова Поприщина из «Записок сумасшедшего» Гоголя: «Матушка, спаси твоего бедного сына! Урони слезинку на его больную головушку»[49]. Не случайно Толстой работал над рассказом с тем же названием, где хотел показать процесс постепенного заболевания сознания героя. К сожалению, рассказ оказался незавершенным. Тем не менее связь между этими произведениями очевидна. Она говорит о том, что Толстой инстинктивно глубоко осознавал невротическую симптоматику, и не в последнюю очередь на собственном опыте.
Другие источники косвенно подтверждают регрессивную реакцию психики писателя. Обычное для нормального протекания старческой жизни состояние, когда человек жалеет о минувшей молодости с ее здоровьем и цветением, у Толстого переходит в свою противоположность. Доживание жизни, конец пути для него оказывается предпочтительнее энергии молодости и зрелости: «Л.Н. за чаем спрашивал Софью Андреевну, Льва Львовича и других про их года. В последовавшем затем разговоре о том, как прошла молодость, Л.Н. сказал, что старость лучше; что не желал бы, чтобы ему было 25 или 46 лет. Хорошо, когда поседеешь»[50].
Таким образом, психотерапевтическая функция дневника отчетливо прослеживается на протяжении всех лет его ведения. Дневник был начат Толстым в период первых невротических травм, и завершающая его часть отражает основные симптомы застарелого невроза. Одновременно значительная часть раннего дневника отображает процесс психологической индивидуации юноши Толстого в соответствии с общей закономерностью данного жанра.
С особенностью психической организации Толстого и вытекающей из него функцией дневника тесно связана проблема хронотопа. В дневнике Толстого она имеет двоякое значение – содержательное, как тема размышлений и анализа, и формальное, как способ пространственно-временной организации жизненного материала. Часто, особенно в поздних дневниках, эти разновидности одного явления тесно переплетаются и взаимодействуют.
Время – пространство в дневнике Толстого имеет психологический характер. Оно соответствует не объективным закономерностям его протекания, а выражает субъективное чувствование и переживание автора. Это – время нравственных опытов Толстого и пространство его души. В теоретических рассуждениях Толстого астрономическое время – пространство увязывается с жизненным смыслом, ощущением индивида своего бытия: «Утром в постели думал: бесконечность пространства и времени кажутся и непонятными и заключающими в себе противоречие, когда они, бесконечность пространства и времени, думаются сами по себе, независимо от жизни своей и ее смысла и цели. Но стоит понять жизнь и ее смысл – совершенствование и приближение к благу, и тогда бесконечность пространства и времени не только не понятны, непротиворечивы, но эта бесконечность есть необходимое условие или, скорее, последствие жизни. Какое же могло быть совершенствование или приближение к благу, если бы время и пространство были бы ограничены?» (50, 123–124).
Для обозначения психологического хронотопа Толстой вводит понятие «рост жизни». Под этим подразумевается духовное развитие личности в отличие от будничных событий, заполняющих окружающее человека пространство. В записи от 31 октября 1889 г. дается своеобразная схема биологического времени человека: эгоистическая внутренняя жизнь, для которой используются внешние вещи; внутренняя жизнь, направленная на благо других; жизнь внешняя и внутренняя, но во благо духовное. В соответствии со схемой обновляется и организация записей в дневнике. Время – пространство начинает более отчетливо (логически и графически) подразделяться на внешнее (локально-физическое) и внутреннее (психологическое). Толстой выбирает характерное слово-знак – «думал». Эта, вторая часть записей ведется вне физических временных границ: «1 апреля 1891 г. <…> Соня уехала в Петербург 28. Ваня заболел оспой, вчера привозили Руднева. Нынче получил хорошие письма от Черткова, Попова и Горбунова <…> 3-го дня ездил в Тулу к Рудневу о больном. Нынче приехал Сережа <…> Думал: 1) сон, полный сон без сновидений, это жизнь в другом, ином мире – другая, иная жизнь, память той, иной жизни исчезает; но нравственные последствия той жизни остаются <…>» (т. 50, с. 25).
Сосредоточенность на внутреннем мире, одержимость религиозно-нравственной идеей часто вытесняет из памяти события минувшего дня. Физическое время и пространство оказываются подчиненными психологическому хронотопу. Так, после пространной записи на двух с половиной листах о равенстве, общности и социальной справедливости от 1 сентября 1889 г. следует короткое замечание: «Не помню, что делал днем» (т. 50, с. 133).
О невысокой значимости для Толстого физического времени говорит и то обстоятельство, что некоторые записи, не будучи доведенными до конца в один день, продолжаются в записи другого дня. Порой писатель просто утрачивает представление о физическом протекании времени, ощущая его чисто психологически, внутренне: «Мне казалось, что прошло два дня, а прошло больше 10 дней» (13. 06. 94).
<…> Пространственно-временной континуум представляется Толстому пределом, ограничивающим «рост жизни», или человеческого сознания. Духовную жизнь Толстой понимал как расширение границ нравственной деятельности человека в окружающем его пространстве. Поэтому время – пространство приобретает дополнительный этический оттенок: «3) Что такое время? Нам говорят: мера движения. Но что же <такое> движение? Какое есть одно несомненное движение? Такое есть одно, только одно: движение нашей души и всего мира к совершенству. 4) Пространство есть предел личности» (53, 16–17).
Чтение «Критики чистого разума» Канта укрепило Толстого в его убеждении в субъективности категорий времени и пространства. В последнее двадцатилетие своей жизни писатель склонен был считать эти понятия иллюзией человеческого сознания. Духовное движение проходит вне пространственно-временных границ, которые обыденное сознание отождествляет с материальным бытием вещей в мире. Материальные вещи сами по себе не нуждаются в данных категориях, это наше сознание приписывает им подобные рассудочные определения: «Читал Канта <…> громадная <его> заслуга – условность времени. Это велико. Чувствуешь, как бы ты был далеко позади, если бы, благодаря Канту, не понимал этого» (55, 91); «Противоречие во всем, что мы думаем вне формы пространства и времени <…> т. е. нашего ума не хватает на мышление вне пространства и времени. Логично только то, что мы видим в пространстве и времени. Но самое пространство и время не логичны» (55, 9); «<…> я давно знаю, что пространство и время суть только порядок распределения предметов <…> времени и пространства нет, а это только две возможности понимать предметы <…> Это все вздор, и тут ничего нет реального. Реальны только наши чувства и мысли» (55, 142).
В годы после кризиса у Толстого формируется мироощущение (нашедшее почти зеркальное отражение в дневнике), в рамках которого действует тенденция переживать все частные события экзистенциально, вне социально-исторического и хронологического контекста, а также вне соотнесенности с отдаленными, но одновременно происходящими событиями. Сознание Толстого оперирует вневременными и внепространственными, отвлеченными абсолютными категориями, которые прилагаются писателем к единичным событиям и лицам: «Себя в пределах своего тела я чувствую вполне ясно; других, одновременно и в одном месте живущих со мной людей, менее ясно; еще менее ясно людей, отдаленных от меня временем и пространством <…>» (58, 54–55).
Объединение в одной и той же записи единичного события или лица с всеобщим духовным законом, экзистенции с абсолютом создает впечатление двоемирия, в котором сознание Толстого находилось в послекризисные годы. Все предшествующие дуальные формы хронотопа в дневнике от юношеского разделения записей на временные события, с одной стороны, и долгосрочные «правила», «мысли», «наблюдения» – с другой, до собственно дневников и записных книжек позднего периода представляли собой разные этапы эволюции взглядов писателя на философские категории пространства и времени.
И уход Толстого из дома был в конечном счете выражением его давно наметившегося бегства из мира случайного и временного материального бытия в мир абсолютных духовных ценностей: «Жизнь представляется в освобождении духовного начала от оболочки плоти – вот так (2.01.05) т. 55, с. 115:
Как видно из приведенного обзора, обесценивание внешней жизни, стремление к упрощению всех ее проявлений параллельно с усложнением и повышением значимости жизни внутренней приводит к перемещению акцентов в формах хронотопа. Психологическое время – пространство становится главным в дневнике Толстого, физическое (локальное) отодвигается на периферию жизни и творчества.
Образный мир дневников Толстого так же многолик, как и художественный мир его романов. И так же как и в романах, в дневниках есть своя иерархия человеческих характеров: центральные герои (члены семьи Толстого), главные герои (сподвижники писателя и его коллеги по литературному цеху), второстепенные персонажи (многочисленные знакомые) и, наконец, эпизодические образы (посетители Ясной Поляны – паломники Толстого). Над всем этим морем непохожих друг на друга и родственных фигур возвышается личность автора, которая раскрывается до глубин нравственного мира и истоков самосознания.
Принцип изображения человека в дневнике определили два важнейших фактора нравственно-психологического свойства – невротическое заболевание Толстого и его духовный переворот. Они деформировали образ человека в дневнике, лишив его целостности, в сравнении с полнотой и объективностью художественных созданий писателя. Образы дневника встроены в систему мировоззрения автора и таким образом подведены под специфические критерии оценки этой системы.
Несмотря на временные и типологические различия двух главных детерминант образного строя дневника (невроз и кризис), между ними есть очевидная содержательная преемственность: оба фактора предъявляют к личности требование императивного характера – духовное совершенствование. И невыполнение этого требования влечет за собой негативную оценку человека, развивает деструктивную тенденцию в авторском самосознании: «10 января <1910 г. > Для жизни необходим идеал. À идеал только тогда идеал, когда он СОВЕРШЕНСТВО» (58, 6).
Дневник эпохи юношеского травмирующего опыта (периода формирования невроза) и психологической индивидуации (самоосуществления) еще полон оптимистических ожиданий и надежд на избавление от пороков методом самоконтроля и следования нравственным предписаниям: «8 апреля 1847 г. <…> Хотя я уже много приобрел с тех пор, как начал заниматься собою, однако еще все я весьма недоволен собою» (46, 29); «17 апреля 1851 г. <…> После четырех месяцев отсутствия я опять в той же рамке. В отношение лени я почти тот же. – Сладострастие то же. Уменья обращаться с подданными – немного лучше. Но в чем я пошел вперед, это в расположении духа» (46, 59); «26 августа 1853 г. <…> Хочу принудить себя быть таким, каким по моим понятиям должен быть человек» (46, 172–173); «27 августа <…> Главный недостаток моего характера и особенность его состоит в том, что я слишком долго был морально молод и только теперь, 25 лет, начинаю приобретать самостоятельный взгляд на вещи – мужа, – который другие приобретают гораздо раньше, 20 лет» (46, 234).
Юношеский максимализм начинающего писателя не ослабевает и тогда, когда становится очевидной невозможность преодолеть слабости характера и вопреки здравому смыслу жить «по правилам». Противоречие между рассудочным долженствованием и «натурой» приводят в инфляции недовольства собой, отразившегося в знаменитой разоблачительной самохарактеристике 7 июля 1854 г. «Что я такое?..» Эта исповедь, самая обстоятельная из всех, что имеются в 13 томах дневников Толстого, является итоговой в развитии дневникового образа раннего Толстого.
Весь этот период отмечен стремлением молодого писателя обрести целостность своего я. Хотя в дневнике той поры (1850-е гг.) в образе автора заметна деструктивная тенденция, он еще свободен от стесняющих уз учения. Молодой Толстой занят поисками приемлемой модели социального поведения и личной жизни. Он ощущает недостаточность и «франклиновской» системы, и нравственных методов собственного изобретения, о чем неоднократно признается в дневнике. Поэтому образ автора в этих дневниках динамичен и полон энергии. Работу Толстого над собой, как она представлена в них, можно сравнить с творчеством ваятеля, который резцом удаляет все лишнее у глыбы мрамора, чтобы выделить из нее человеческую фигуру. Так автор «Детства» стремится избавиться от всего дурного, лишнего в своей натуре, что мешает ей вылиться в целостный характер.
С начала 80-х годов, после многолетнего перерыва, Толстой возобновляет регулярное ведение дневника. Эта эпоха в жизни писателя после духовного перелома отмечена двумя фундаментальными изменениями мировоззрения и психики. 1. Толстой создает религиозно-нравственное учение, в основе которого лежит признание ценности за первобытной (земледельческой) цивилизацией и отрицание современной цивилизации прогресса; отказ от церковного христианства и признание приоритета в христианстве за евангельским учением (критика апостола Павла), т. е. возврат к первоистокам христианской религиозной морали. По существу духовный кризис Толстого имел сугубо психологические истоки. В религиозной форме он выражал регрессию в бессознательное, к примитивной фазе человеческого сознания, которым оно обладало на ступени древней земледельческой культуры. Откат в сторону бессознательного был вызван многолетним напряжением психики писателя, которая стремилась приспособиться к враждебному окружению (нежелательным раздражителям). Процесс выхода психической энергии в те годы то затормаживался, вызывая кризисы сознания (негативная критика) и всплески бессознательного («вещие» сны), то нормализовывался (направлялся в художественную и семейную сферы). К концу 70-х годов движение психической энергии (либидо) по естественным путям было заторможено и привело к кризису сознания. Но кризис не развился в сторону неизлечимой патологии, не привел к расщеплению сознания на автономные фрагменты, как у Гоголя, Гаршина или Глеба Успенского. Либидо направилось по каналам, по которым долгие годы шли интенсивные нравственные поиски Толстого. Таким образом, сознательный выбор был предрешен сложным движением бессознательного, которое выбрало путь регрессии. 2. Эпоха после духовного перелома ознаменовалась тяготением сознания Толстого в сторону смерти, признанием смерти как положительного исхода для человека. С момента кризиса положительную энергию (либидо, стремление к жизни) стало перевешивать мортидо (стремление к смерти), выступающее как его психическая противоположность. В дневнике данное явление отразилось резким численным ростом записей – размышлений о смерти: «3 мая 1884 г. Мне тяжело. Я ничтожное, жалкое, ненужное существо и еще занят собой. Одно хорошо, что я хочу умереть» (49, 89). Другим результатом перестройки сознания Толстого стало качественное изменение в структуре и оценке образа человека.
На первый взгляд, в первой группе дневников послекризисного периода (1880-е годы), в той их части, которая относится к личности автора, повторяются мотивы записей периода индивидуации: критика недостатков сочетается с поисками средств их устранения («9 июня <1884 г.> Одно средство для того, чтобы сделать что-нибудь, это приготовить орудия работы, завести порядок в работе и кормить. Накормить лошадь, запрячь ладно и не дергать, а ровно ехать, тогда довезет легко. То же с работой своей – кормить, т. е. 1) питаться верой – религией, мыслью о жизни общей и личной смерти; 2) чтоб было к чему прикладывать деятельность; 3) не рвать, не торопиться и не останавливаться» (49, 102). Но на самом деле цель критики становится иной. В новом миросозерцании писателя меняется место человека, а с ним – и собственного «я». В дневниках раннего периода критика была направлена на искоренение личных недостатков, для того чтобы занять достойное место в обществе, жить в соответствии с нормами гражданского мира. Теперь же Толстой стремится выделить в человеке (и прежде всего в своем «я») не индивидуальное, социальное или общечеловеческое, а идеальное, «божественное», надчеловеческое. Такое понимание «я» отвечало религиозно-философской части учения Толстого, которая отводила место совершенному человеку в кругу безличного божественного начала. Психологически подобная тенденция представляла собой дальнейшую регрессию сознания от самости к стихии доличного состояния, к фазе развития психики до образования самосознания: «20 декабря 1896 г. Одно очень поразило меня: это мое ясное сознание тяжести, стеснения от своей личности, от того, что я – я. Это мне радостно, потому что это значит, что я сознал, признал хоть отчасти собою того не личного я» (53, 123); «31 мая 1909 г. Сегодня <…> живо понимал свое ничтожество и не величие – величие сказать мало, а бесконечность – не гадины Льва Толстого, а существа, сознающего себя божественным» (57, 88); «24 октября 1909 г. Очень хорошо было нынче: это поразительно ясное сознание своего ничтожества всячески – и временно, и умственно, и в особенности нравственно» (57, 159): «27 октября, 1909 г. Одно хотел записать – это мое ясное сознание своего ничтожества» (57, 161).
Регрессивное движение сознания Толстого в бессознательное вело его к утрате ощущения реальности своего индивидуального, личностного «я», «самости» (в понятиях глубинной психологии): «1 февраля 1905 г. Понять иллюзию своего я и реальность своего я – одно и то же» (55, 124). Что у Толстого представляет гениальное прозрение, интуицию, впоследствии вошло в научный обиход психологии середины XX в. Толстой рисует в дневнике схемы, увиденные им во сне (еще одно подтверждение реальности движения бессознательного, а не рассудочная конструкция), с высокой степенью точности соответствующие позднейшим открытиям глубинной психологии: «31 января 1890 г. Странное дело: с необыкновенной ясностью видел во сне, что жизнь человеческая не то, что я думал, не круг или шар с центром, а часть бесконечной кривой, из которой то, что я вижу, имеет подобие шара» (т. 51, с. 15).
Согласно глубинной психологии, точка в центре окружности схематически представляет собой «самость», ту часть человеческого сознания, которая развивалась из «я» и представляет высшую (современную) стадию его развития. Установка на движение в бессознательное приводит к тому, что в одной из форм бессознательного – во сне – Толстому архетипически представляется стадия становления сознания в виде аморфной окружности в процессе ее формирования.
Переживаемое Толстым состояние было не плодом его интеллектуального творчества, а отражало реальные процессы в его психике послекризисного периода – энергетическую регрессию (мортидо). Поэтому частые записи в дневнике о смерти являются не следствием пессимизма и старческой мизантропии писателя, а болезненным состоянием его души, где в борьбе животворных сил с танатосом победа оказывается на стороне последнего. Специфической особенностью Толстого было то, что эта болезнь затянулась на долгие годы (около 30 лет). Хотя Толстой и объяснял свое состояние с религиозной точки зрения, подсознательно он понимал этот переход в бессознательное состояние как движение к естественной смерти: «Мне очень грустно, серьезно, но хорошо. Как будто чувствую приближающееся изменение формы жизни, называемое смертью. (Нет, и это слишком смелое утверждение). Не изменение формы, а тот переход, при котором ближе, яснее чувствуешь свое единство с богом. Так я представляю себе:
И т. д.
Прямая линия – это бог. Узкие места – это приближение к смерти, и рождение. В этих местах ближе бог. Он ничем не скрыт. А в середине жизни он заглушен сложностью жизни <…>» (52, 110).
Аналогичную эволюцию претерпевают и другие образы дневника. Этапы эволюции соответствуют двум периодам жизни писателя – до духовного переворота и после него. С начального периода ведения дневника (конец 40-х годов) до середины 60-х годов, структуру человеческого образа у Толстого определяет его взгляд, сформулированный в записи от 4 июля 1851 года и соответствующий принципу построения художественного образа: «Мне кажется, что описать человека собственно нельзя; но можно описать, как он на меня подействовал» (46, 67). Динамика и диалектика являются центральными понятиями, которые Толстой приписывал человеческому характеру. Для Толстого неприемлем односторонне-статичный подход к человеку. Толстой оценивает личность исходя из принципа целостности человеческого характера и противопоставляет этот принцип подходу к человеку своих знакомых из литературной среды: «25 октября <1856 г.> <…> У моих приятелей литераторов, старых холостяков, у всех одна общая грустная черта: встречаясь с человеком, они считают необходимым вперед определить себе его характер и потом это мнение берегут, как красивое произведение ума. С таким искусственным, мелким зрением нельзя любить и поэтому знать человека. Валерия – цельная натура, поэтому надо особенно осторожно обращаться с ней» (47, 199). В соответствии с этой установкой создаются разные группы образов дневника докризисного периода. Этот принцип изображения характера лучше всего проследить на двух типичных образах – самого близкого Толстому человека Т. А. Ергольской и чаще всех упоминаемого из писателей И.С. Тургенева.
О Ергольской у Толстого на всю жизнь сохранились самые теплые и сыновние воспоминания: с раннего детства она заменяла ему мать. Поэтому неожиданными кажутся те строки дневника, в которых звучат резкие и критические нотки в ее адрес. Однако более глубокий анализ показывает, что дело здесь не в критике, не в оценке, а в общем принципе, которым руководствуется писатель в подходе даже к самому дорогому человеку. Особенностью данного подхода является еще и то, что автор дневника берет на себя смелость судить не о неустановившемся, развивающемся характере, а о натуре сложившейся, в известном смысле типической.
В Ергольской Толстой выделяет две стороны – коренное свойство ее натуры и черты, взращенные ее социальным положением: «<…> Тетенька Т. А. Она прелесть доброты» (12.06.56); «Тетенька Т. А. удивительная женщина. Вот любовь, которая выдержит все» (1.07.56); «Что за прелесть тетенька Татьяна Александровна, что за любовь!» (11.07.56) и «Т. А. даже мне неприятна. Ей в 100 лет не вобьешь в голову несправедливость крепости» (28.05.56); «<…> добродушная деспотка тетка» (31.05.56); «Скверно, что я начинаю испытывать тихую ненависть к тетеньке, несмотря на ее любовь» (12.06.56).
Однако образ Ергольской строится у Толстого не только на антагонизме социальных и природных характеристик. Здесь отчетливо проступает тот самый принцип впечатления, которое, по Толстому, производит на нас любой человек. А человек может производить впечатление не только постоянными свойствами своего характера, но и случайными или второстепенными признаками. Подобное воздействие представляется Толстому не единичным актом; оно складывается из суммы разных, несхожих ситуаций, раскрывающих личность с различных сторон: «<…> Я с тетенькой был сух. Она все та же. Тщеславие, маленькая красивая чувствительность и доброта» (19.05.56); «Один порок тетеньки – любопытство» («Записная книжка», июль 1856 г.); «Еще бы это было ничего, что Татьяна Александровна примерно сладко слушает вас, но вдруг она скажет такую» (так в подлиннике: «Зап. кн.», т. 47, с. 195).
Такая же диалектика свойственна и дневниковому образу И.С. Тургенева, с той лишь разницей, что по мере развития отношений между двумя писателями негативная оценка характера автора «Записок охотника» усиливается и достигает кульминации в печально знаменитом эпизоде их ссоры. И здесь Толстой изначально стремится к объективности и строит образ из противоречивых характеристик, которые воссоздают личность целостно: «Приехал Тургенев. Он решительно несообразный, холодный и тяжелый человек, и мне жалко его» (5.07.56); «Тургенев дитя» (10.02.57); «Он <Тургенев> добр и слаб ужасно» (24.02.57); «Тургенев ни во что не верит, вот его беда, не любит, а любит любить» (25.02.57); «Тщеславие Тургенева, как привычка умного человека, мило» (26.06.57); «Тургенев мною ложно был поминаем» (28.02.57).
Однако уже в дневниках второй половины 50-х – начала 60-х годов в образной характеристике Тургенева намечается та тенденция, которая станет главенствующей в послекризисный период. Усиливающаяся неприязнь писателя к своему старшему коллеге порождает едва уловимую бессознательную психологическую компенсацию, которой кризис придаст впоследствии мощный энергетический заряд и которая оформится в комплекс религиозного всепрощения: «<Тургенев> тяжел невыносимо» (4.09.58); «Тургенев (дрянь)» (9.10.59); «Глупый Тургенев» (13.10.60); «Замечательная ссора с Тургеневым; окончательная – он подлец совершенный, но я думаю, что со временем не выдержу и прощу его» (25.06.61).
Последствием духовного кризиса для системы образов дневника стали две тенденции: 1. Человек (его внутреннее содержание и поступки) стал оцениваться с точки зрения религиозно-нравственного учения Толстого; 2. Этот критерий, которого писатель неуклонно придерживался все последние 30 лет своей жизни, в силу его категоричности и прямолинейности обусловил преимущественно отрицательные характеристики большинства образов дневника. В основе подхода позднего Толстого к человеку лежит принцип духовности, но духовность понимается писателем исключительно как религиозная духовность. Дополнительным источником негативных оценок является неспособность самого Толстого во всем следовать своему учению. Открытие религиозно-нравственной «истины» не приносит писателю душевного покоя, не способствует обретению семейного мира. Конфликт сознания и действительности обостряет невротическое заболевание, что отчетливо сказывается на отношении писателя к близким, знакомым и случайно виденным людям: «23 апреля 1884 г. <…> Хочется знать истину и осуждать других, но делать ее не хочется» (56, 88).
В образах послекризисного периода утрачивается динамика и диалектика; главенствующее место занимает схематизм, порожденный догматикой «учения». Не укладывающийся в рамки требований характер получает негативную оценку, в которой главными критериями являются отсутствие духовности, аналогичное безмыслию (глупости, младенчеству), и «роста жизни» (религиозно-нравственного перерождения).
Критика подобных характеров сочетается у Толстого со стремлением внести в отношение к «заблудшему» (порочному) человеку элемент христианского прощения, жалости: «Полонский интересный тип младенца, глупого, глупого, но с бородой и уверенного и не невинного» (49, 89); «<…> жалкий Фет со своим юбилеем. Это ужасно! Дитя, но глупое и злое <…>» (50, 23); «<…> Пошел к Озмидову. Унылость. Он умственно больной, но хороший <…> и Фет жалкий, безнадежно заблудший» (50, 65).
Нередко в дневнике встречаются групповые образы, которым дается оценка с тех же позиций, что и отдельным индивидуумам. Это не всегда паломники Ясной Поляны или случайные встречные. К коллективным образам относится и домашний круг Толстого. И та и другая группа рассматривается критически, с позиций утвердившегося в сознании писателя религиозно-нравственного императива: «<…> После обеда <…> пришла учащаяся на акушерских курсах <…> потом три студента <…> Студенты ужасны. Молодое сумасшествие еще бродящее. Фразы, слова, отсутствие живого чувства, ложь на лжи – ужасно» (50, 35); «<…> Дома толпа праздная, жрущая и притворяющаяся. И все хорошие люди. И всем мучительно» (50, 75).
Помимо критической направленности в дневнике намечается и другая тенденция – оправдание человека, его естественных слабостей и недостатков. Однако оптимистические нотки, нотки надежды на обретение света истины, луча веры идут на убыль с начала 1900-х годов. Если в дневнике последнего двадцатилетия XIX в. четко зафиксированы обнадеживающие мотивы в оценке хорошо известных и уважаемых Толстым людей, то позднее намерение оправдать, поверить в просветление сознания не находит отражение в толстовской летописи; о них мы узнаем из других источников: «<2 октября 1889 г.> Он <Фет> на мои грешные глаза непохороненный труп. И не правда. В нем есть жизнь. Бьется эта жилка где-то в глубине» (50, 151); «<28 мая 1896 г. > Танеев, который противен мне своей самодовольной, нравственной и, смешно сказать, эстетической (настоящей, не внешней) тупостью и его coq du villager’ным <первое лицо, общий баловень> положением у нас в доме» (53, 96). Тем не менее Танеев – желанный гость в доме Толстых, его часто приглашает сам хозяин, с удовольствием слушает его игру и подолгу беседует с ним. В дневнике Танеева зафиксирован факт приглашения Толстым композитора, переданного через Софью Андреевну.
Исключительно важное место в дневнике занимают образы родных и близких Толстого, прежде всего жены и детей. Несмотря на различия в их отношении к главе семейства и далеко не одинаковое отношение самого писателя к каждому из членов семьи, все они в равной степени включены в сферу толстовского религиозно-нравственного учения и подвержены критике с известных позиций. Временной интервал, который отделяет первые попытка Толстого разобраться в характере и особенностях мира души Софьи Андреевны и семерых детей от записей, сделанных под диктовку умирающим на станции Астапово писателем, составляет четверть века. За это время большинство детей обзавелось семьей (а некоторые, разведясь, завели новую), подарило стареющему писателю внуков, но заметных изменений к ним со стороны отца не произошло, как не изменились к лучшему взаимоотношения Толстого с женой. Единственным нюансом, который зафиксировал дневник, было чувство мучительного терпения и порой искренней жалости к заблудшим и пребывающим в духовном грехе родным. Члены семьи Толстого представляют в летописи его жизни как бы один групповой портрет, в котором свет и тени распределены в зависимости от степени отдаленности того или другого от солнца духовной истины, исповедуемой писателем. Причем полутона могут с годами меняться пульсирующим образом, то высвечивая ту или иную добродетель, то, напротив, выделяя темноту порока. Напряженные внешние отношения в семье Толстых, отмеченные рядом мемуаристов (в том числе самими членами семьи), не идут ни в какое сравнение с теми болезненными переживаниями писателя за духовный строй детей и спутницы жизни, которые раскрываются в дневнике.
Образы родных в дневнике строятся не в форме развернутых характеристик или динамики поступков. Им скорее свойственна статика и известная односторонность. Все они – их характеры, действия, взгляды – поверяются излюбленным толстовским мерилом: способны или не способны к духовному совершенствованию, могут ли жить по нормам первобытной земледельческой культуры, отказаться от условий жизни цивилизации прогресса. Не находя в жене понимания, а в детях проблеска духовного роста, Толстой окружает их образы чувством безысходности и сострадания: «<4 мая 1884 г.> Старшие дети грубы, а мне больно. Илья еще ничего. Он испорчен гимназией и жизнью, но в нем искра жизни цела. В Сергее ничего нет. Вся пустота и тупость навеки закреплены ненарушимым самодовольством» (49, 90); «<16 июля 1884 г.> Иду гулять с девочками. Весело гуляли, но мертвы. Слишком много пресного, дрожжи не поднимаются. Я это постоянно чувствую на моей Маше» (49, 104); «<23 июня 1884 г.> Вызвал Таню. Она возила граблями. Она мягка тоже, но уж очень испорчена» (49, 106); «30 мая 1884 г. Отчуждение с женой все растет. И она не видит и не хочет видеть» (49, 99).
Ценой огромных усилий над собой Толстой сдерживается в выражении негативных оценок близких. На страницах дневника постоянно мелькают раскаяния писателя, его признания в нехристианском отношении к «заблудшим» и греховным членам семьи. Не раз накопившиеся отрицательные эмоции прорываются в экспрессивные монологи, в которых оценка перемежается с наставлениями. Но раздраженный писатель долго не выдерживает учительский тон и, обмягший и ослабевший, снова возвращается к состоянию религиозного смирения: «31 августа 1909 г. Вчера был не добр в душе и даже на словах с Сережей (сыном). Вот уж именно cercle vicieux: как только не в духе, так не любишь людей, а чем больше позволяешь себе не любить, тем больше и больше становишься не в духе» (5, 129).
Под влиянием усиливающегося невроза и регрессии в бессознательное образ человека в поздних дневниках претерпевает значительные изменения. Религиозная антропология (служившая выражением бессознательных тенденций психики Толстого) вследствие многолетней укорененности в сознании привела к унификации человеческих образов. Единичные образы стали сливаться в представлении писателя в некие обобщенные образы-типы, в которых индивидуальные черты (возрастные, характерологические) ослабевали, а порой и растворялись. То, что это представление сформировалось в результате сложного взаимодействия сознательных и бессознательных психических тенденций, подтверждается записью, сделанной в ночь на 29 июля 1909 года. Она представляет собой маленький трактат под названием «Представление о людях и их жизни», в котором излагается взгляд Толстого на человеческую природу и устройство общества. Здесь люди названы «существами», им дается негативная оценка.
Участившиеся манифестации бессознательного («вещие» сны, желание смерти и стремление попасть под материнскую опеку) возвращают индивидуализированный образ человека, присущий глубоко дифференцированному сознанию, в состояние аморфного нерасчлененного представления, свойственного ранней стадии в развитии человеческой психики: «3 сентября 1903 г. Часто смешиваю людей: дочерей, некоторых сыновей, друзей, неприятных людей, так что в моем сознании не лица, а собирательные существа» (54, 191); «24 мая 1905 г. Сестра Машенька (монахиня) и Пелагея Ильинична, тетушка (полумонахиня), в моем представлении сливаются в одно существо» (55, 141).
Типологически все дневники тяготеют к двум разновидностям – к преимущественному изображению либо внешнего, либо внутреннего мира. Каждая из двух установок зависит от психологического типа автора. Толстой как интроверт с рационалистической ориентацией создает интровертивный тип дневника. Сама потребность в ведении дневника была вызвана серьезным намерением юного Толстого освободиться от внутренних недостатков методом систематического упражнения воли. Поэтому дневник естественным образом приобретает ту форму выражения, которая совпадает с внутренними устремлениями будущего писателя. Последствия травмирующего опыта, перенесенного в ранней юности, определили тональность ранних записей и в значительной степени всего «холостяцкого» периода жизни писателя, отразившегося в дневнике. В этом смысле ранний дневник Толстого не составляет исключения. Напротив, он вписывается в ряд образцов той же типологической разновидности, которую в XIX в. открывают дневники Н.И. Тургенева и В.А. Жуковского. Общим для них является подробное описание невротических симптомов травматического свойства: сновидений, фантазий, болезненного желания смерти. Внутреннее состояние здесь описывается не со стороны роста и расширения сознания, как, например, у А.Х. Востокова, а как устремление либидозных потоков внутрь, где они разрушительно воздействуют на психику. Те самые глубины сознания, открывающиеся в дневнике Толстого (и его предшественников в этом жанре), при последовательном психологическом анализе приводят к порогу бессознательного, за которым изображение внутреннего мира автора «Воскресения» не заканчивается.
Именно этот порог не удалось научно преодолеть толстоведам вплоть до 1990-х годов. Они видели в «откровениях» Толстого либо реализм в форме «диалектики души» (Б. Эйхенбаум), либо «душевное здоровье и изобилие» (В.Я. Лакшин), просмотрев, по известным причинам, главное – причудливое движение и превращение психической энергии. А без понимания этого явления нельзя объяснить длительный перерыв в ведении дневника и последовавший за ним типологический дуализм всех поздних образцов дневниковой прозы писателя.
Применительно к дневнику духовный переворот конца 1870-х – начала 1880-х годов означал на первых порах расширение сферы изображения за счет явлений внешнего мира. Правда, круг этих явлений ограничивается территорией Ясной Поляны и ближних деревень, изредка Тулы и Москвы. Событийный и образный ряд дневника 80-х годов позволяет сделать вывод об избирательном подходе Толстого к внешнему миру: под перо писателя попадает не все виденное и пережитое им за день в том или ином месте, а лишь то, что отвечает его нравственно-психологической установке. Критика, ранее направленная на «я» сознания, теперь активнее включает в свой круг явления объективного мира. Но сами эти явления в значительной степени сформировали новое сознание Толстого. Поэтому фактически расширения диапазона изображения не произошло. Имело место переосмысление значимости ближайшей сознанию сферы «не-я»: если прежде границы изображения в дневнике определялись возможностями «я» сознания перевоспитать себя в строгих рамках общественно-семейного быта, то теперь укоренившееся в сознании религиозно-нравственное учение распространило свое влияние на область «человеческого». И в ранних дневниках Толстой затрагивает эту область, представленную книжными, абстрактно-философскими идеями «общечеловеческих» этических норм и принципов. Но тогда они имели субъективно-личностный, воспитательно-прикладной характер.
Второй особенностью типологии поздних дневников стало расширение зоны бессознательного. С момента кризиса и возобновления систематического ведения дневника эта сфера бытия Толстого занимает в его летописи исключительно важное место. Толстой постоянно находится как бы на грани двух миров, измеряя глубину то одного, то другого. Ощущение зыбкости границ между ними и легкости соскальзывания в глубь, в тьму и неопределенность бессознательного из области света сознания озвучивается рефреном, завершающим и открывающим записи за ряд лет: «Е. б. Ж.» – «если буду жив. – Жив». Многочисленные рассуждения о времени и пространстве, о границах «я» и «не-я» отражают дальнейшее движение мысли Толстого в неведомую сферу психики. Все чаще объектом изображения становится не обычный для интеллектуала «духовный мир», а не подверженные рациональному определению и волевому контролю психические зоны: «18 июня, <1889 г.> Утром думал о том, что жизни нет, потому что ушел в себя» (50, 97); «15 <сентября 1904 г.> Странное дело: я пришел к тому убеждению или, скорее, вернулся, что всякое объективное изучение есть суета, обман, даже преступление, попытка познать непостижимое. Только свой субъективный мир открыт человеку, и только изучение его плодотворно» (55, 90); «8 <июня 1895> Как к старости начинает уничтожаться реальность мирской жизни, начинает прощупываться сквозь мнимо реальные явления, сквозь образ мира – пустота, а за пустотою бог, от которого пришел и к которому идешь» (53, 36); «21 <ноября 1906> Все заблуждения философов – от построений объективных. А несомненно только субъективное, не субъект Иван, Петр, а субъективное общечеловеческое, познаваемое не одним разумом, но разумом и чувством – сознанием» (55, 275); «20 декабря 1896 г. Одно очень поразило меня: это мое ясное сознание тяжести, стеснения от своей личности, от того, что я – я. Это мне радостно, потому что это значит, что я сознал, признал хоть отчасти собою того не личного я» (53, 123).
Жанровое содержание дневника Толстого не подлежит однозначному определению. Хотя типологически дневник не выходит за рамки интровертивной разновидности, его содержательная насыщенность не укладывается в обычную жанровую форму. Эволюция дневника от журнала самонаблюдений и нравственного самовоспитания периода индивидуации к анализу душевной, семейной и общественной жизни с позиций выработанного в начале 80-х годов учения позволяет дать ему обобщенное (но очень приблизительное, условное) название дневника психологического. В этом смысле он может быть соотнесен не только с упоминавшимися дневниками Н.И. Тургенева и В.А. Жуковского, но и в определенной мере с летописями Герцена, Чернышевского и Добролюбова. Последний не случайно дал одной из своих ранних дневниковых тетрадей жанровый подзаголовок «Психоториум». Именно так следовало бы назвать и значительную группу дневников Толстого разных периодов. Но если у вышеназванных авторов «психология» не выходит за рамки поверхностного самоанализа и обычных для возраста рассуждений на общие темы, то Толстой в своих дневниках ту же самую проблематику доводит до протонаучного психоанализа. Помимо «психологии», в дневнике представлены философские, социальные и религиозно-нравственные темы, эстетическая критика и полемика, литературные штудии и домашний быт. Все это не попадает под общее определение и зачастую рассматривается вне психологического аспекта. Жанровые границы дневника Толстого настолько же размыты, насколько и его романы. Как признавался Толстой по поводу «Войны и мира», это то, что хотел выразить автор в той форме, в которой оно выразилось: «12 января 1909 г. Напрашивается то, чтобы писать вне всякой формы: не как статьи, рассуждения и не как художественное, а высказывать, выливать, как можешь, то, что сильно чувствуешь» (57, 9).
Подобная свобода выражения и отбора материала далась Толстому нелегко. На протяжении ряда лет начинающий писатель старался придерживаться правил в области метода не менее скрупулезно, чем в бытовой повседневности. И в организации материала дневника он стремился навести тот же порядок, что и в душевном бытии. Но везде рамки оказывались тесными для его богатой натуры и оригинального таланта. Следование рациональному методу стало возможным только на короткий срок.
Уже на раннем этапе ведения дневника Толстой пытается группировать материал по степени его обработанности и практической значимости для будущего. Так возникает идея «записных книжек», которые долгие годы служили своего рода черновым вариантом дневника. Этот метод был эффективен в том смысле, что позволял сразу же фиксировать пришедшую в голову мысль, не дожидаясь исхода дня, когда писатель, как правило, обращался к своему журналу.
Порой записи делались наспех, на случайном клочке бумаги и уже потом переносились в дневник: «Хотел выписать записанное в книжке – потерял <…>» (51, 61); «Носил, носил записочку с мыслями и потерял».
Существенное воздействие на метод дневника оказало то обстоятельство, что о его ведении с начала 60-х годов знали многие родные и близкие Толстого. Проникновение другой хотя бы и родственной души во внутренний мир писателя нарушало сокровенный характер записей и всегда было нежелательно для него. Правда, у Толстого не раз встречаются мысли о том, что дневник пригодится для детей и потомков, что не стоит уничтожать слишком интимные вещи ранних тетрадей. Но эти записи как бы перечеркивались признаниями другого рода и психической тенденцией позднего периода к радикальному уходу «в себя», в мир внутренних переживаний и тайных дум. Такая тенденция намечается уже в первый год после женитьбы, когда Толстой и его юная супруга параллельно вели записки о своей жизни и взаимно доверяли их чтение: «18 июня <1863 г.> Все написанное в этой книжке почти вранье – фальшь. Мысль, что она <Софья Андреевна> и тут читает из-за плеча, уменьшает и портит мою правду <…> Должен приписать, для нее. – Она будет читать – для нее я пишу не то, что не правда, но выбирая из многого то, что для себя одного я не стал бы писать» (48, 54).
Невозможность скрыть от широкого круга посвященных подробности его духовной летописи приводит Толстого к нескольким попыткам создания тайного дневника. Таких попыток было три: «Карманный ежедневник 1907 г.», тайный дневник 1908 г. и наконец «Дневник для одного себя», который писатель вел в течение трех месяцев перед самой смертью в 1910 г. Все эти факты свидетельствуют не только о стремлении писателя «уйти от всего этого чужого» (56, 138), но и о приверженности привычному, испытанному временем методу самоанализа.
Способ отбора жизненного и «мыслительного» материала определил и стилистику записей. На протяжении многих лет в дневнике Толстого происходит борьба и развитие двух стилевых тенденций – информативной и аналитической. В поздних дневниках они распределились по двум рубрикам: описательной и рационалистической («думал»). До этого времени обе были представлены в нерасчлененном виде, так, что порой автор сознательно отдавал предпочтение одной, хотя на самом деле другая тенденция нередко первенствовала какое-то время: «9 июля 1854 г. Девизом моего дневника должно быть: не для доказательства, а для рассказа» (47, 10).
Преобладание одной из названных стилевых тенденций зависело от жизненных обстоятельств и психического состояния писателя. Интерес к информативно-повествовательной форме, как правило, повышался с тех случаях, когда Толстой строил планы ведения регулярной жизни. И наоборот, приток бессознательного увеличивал долю аналитического материала на философские, нравственные и религиозные темы. Эти периоды чаще всего совпадали с конфликтами с самим собой и семейными кризисами. Но в любом случае обе тенденции органично переплетались и, как и в художественной практике, составляли особенность толстовской повествовательной манеры.
Дневник как «оперативный» жанр не всегда удовлетворял Толстого стилистически. В нем то и дело встречаются жалобы на невозможность быстро и полно выразить и записать промелькнувшую мысль в той форме, в какой она заслуживала бы сохранения на будущее. В то же время Толстой всегда подчеркивал отличительную особенность дневникового стиля как шероховатого, неотработанного, эстетически «сырого». В этом он видел его преимущество перед «законченностью», «искусственностью» стилей других литературных жанров: «13 сентября 1891 г. Есть огромное преимущество в изложении мыслей вне всякого цельного сочинения. В сочинении мысль должна часто сжаться с одной стороны, видеться с другой, как виноград, зреющий в плотной кисти; отдельно же выраженная, ее центр на месте, и она равномерно развивается во все стороны» (52, 51).
Нередко, особенно в поздний период, стиль дневника Толстого испытывает сильное воздействие извне, со стороны близких писателя, читавших и переписывавших его записи. Такой обычай, заведенный в семействе Толстого, деформировал логику мысли и способ ее выражения, вынуждал автора вносить нежелательные изменения, придававшие записям искусственный характер. В таких случаях Толстому приходилось вести борьбу с деформирующей тенденцией: «30 марта 1909 г. То, что читают и списывают мои дневники, портит мой способ писания дневника. Хочется сказать лучше, яснее, а это не нужно. И не буду. Буду писать, как прежде, не думая о других, как попало» (57, 44–45).
Важной особенностью стиля дневника является наличие в его составе многообразных автономных жанровых образований. В целом представляя собой психологическую жанровую разновидность, дневник Толстого включает в себя рассказы-миниатюры, маленькие философские и этические трактаты, критические разборы произведений различных авторов – от Лао-цзы до современников писателя, статьи богословской тематики, заметки к художественным произведениям, монологи-исповеди. Вся эта пестрая, жанровая и стилистическая, картина тем не менее обладает объединяющим началом, позволяющим судить о дневнике как о монолитном стилистическом образовании, – это личность автора. Она не дает рассыпаться на части громадному неоднородному материалу и воспринимать эти части в качестве самостоятельных произведений, как, например, в дневнике младшего современника Толстого Короленко. Сохранению единства способствует и то обстоятельство, что при всем жанрово-стилистическом многообразии дневник Толстого остается «гомофонным», в нем отсутствует чужое слово в той или иной его разновидности. Масштабная личность автора подавляет и вытесняет из многотомной летописи все «неличное», «чужое», и тем самым заявляет о своем единодержавном господстве.
ДНЕВНИКИ КРУГА Л.Н. Толстого
Ведение дневников было одной из устойчивых традиций культурного слоя русского дворянства на протяжении всего XIX столетия. Если письмо было элементом культуры общения и литературной образованности, то дневник охватывал более широкую сферу духовной жизни.
Предназначение дневника было настолько многообразным, что его границы простирались от потребностей психики переходного возраста до хранилища семейных преданий.
Дневники часто служили первыми литературными опытами, в которых проявлялась творческая самостоятельность авторов. Многие известные деятели дворянской культуры начинали свой творческий путь с дневников. Среди знаменитых дворянских родов можно назвать десятки фамилий, которые на протяжении жизни нескольких поколений поддерживали семейную традицию ведения дневников: симбирские Тургеневы, Аксаковы, Герцены, орловские Тургеневы, Мухановы, Бакунины, Романовы (великие князья) и др.
Совершенно исключительное место в рамках этой традиции занимают дневники рода Толстых. В сущности это не просто традиция, а целый пласт или направление в отечественной письменной культуре. Она охватывает период времени более чем в сто лет. Кроме протяженности исторической дистанции, толстовская дневниковая традиция включает в себя небывалое количество ее продолжателей. Причем к ним относятся не только члены семьи или дальние родственники, но и люди кровно не связанные с родом, но духовно настолько близкие, что порой они воспринимались в качестве прямых продолжателей и наследников духовного опыта.
Центром этого обширного круга, его духовным солнцем был Л.Н. Толстой, вокруг которого сформировались «планеты», «спутники» и «астероиды», годами и десятилетиями питавшиеся неиссякаемой энергией центра и обогащавшие всю систему своими исканиями, находками или просто добросовестным трудом регистраторов.
Начало дневниковой традиции в семействе Толстых было положено матерью писателя Марией Николаевной Толстой, которая начала вести дневник еще в девичестве. Первые записи в нем были сделаны в 1810 г. во время поездки с отцом из Москвы в Петербург. Работа над дневником была продолжена уже замужней женщиной в 1826 г., и назывался этот дневник «Журналом поведения Николеньки». В него молодая мать ежедневно вносила свои наблюдения над поведением старшего сына.
Завершила семейную традицию старшая дочь писателя Татьяна Львовна Толстая-Сухотина в 1930-е годы.
Колоссальная литературная летопись, над которой трудились три поколения Толстых и их духовных наследников составляет несколько десятков увесистых томов. В ней запечатлена такая богатая история духа, которую без преувеличения можно сопоставить с отдельными разделами гегелевской «Феноменологии».
Среди дневников круга Л. Толстого (за вычетом дневника самого писателя) выделяются три большие группы. К первой мы отнесем дневники членов семьи писателя – его жены Софьи Андреевны, дочерей Татьяны, Марии и Александры, а также племянницы (дочери младшей сестры Толстого Марии Николаевны) В.В. Нагорновой. Их мы выделяем как наиболее значительные образцы жанра. Дневник средней, любимой дочери писателя Марии Львовны не сохранился. Он был уничтожен после ее смерти ее мужем Н.Л. Оболенским.
Вторую группу составляют дневники приближенных писателя и близких семейству Толстых людей: секретарей H.H. Гусева и В.Ф. Булгакова, домашнего врача Д.П. Маковицкого, пианиста А.Б. Гольденвейзера. Все они вели свои записи с единственной целью – оставить для потомков правдивое описание личности великого писателя, его жизни в домашнем кругу.
И, наконец, третью, более пеструю группу образуют дневники сподвижников Толстого, толстовцев и людей, разделявших его взгляды и пытавшихся проводить в жизнь христианские, этические и педагогические идеи учителя. К этому разряду, например, принадлежит дневник толстовца Н.Д. Ильина или помещицы З.М. Гагиной, открывшей в своем рязанском имении школу и ведшей интенсивную переписку с писателем. Вместе с письмами она посылала Толстому копии записей своего дневника.
При всех различиях в таланте, возрасте, близости к писателю или даже в глубине понимания духовных основ его творчества перечисленных авторов сближает интерес к личности Толстого и стремление как можно выразительнее передать свои впечатления от своего общения или знакомства с ним. Диапазон этих впечатлений простирается от любовно-критических записей за сорок восемь лет совместной жизни в дневнике С. А. Толстой до записок, сделанных в десятимесячный срок юным студентом В.Ф. Булгаковым, последним секретарем автора «Войны и мира».
Естественно, что далеко не каждый писавший по свежим впечатлениям от общения с Толстым мог хорошо разбираться в его личности. Этому могли препятствовать и недостаток жизненного опыта, и уровень культуры, и, наконец, – как ни странно это звучит – знание произведений Толстого. К примеру, его любимый и самый преданный секретарь H.H. Гусев, заняв при писателе столь ответственную должность, на тот момент не читал ни «Войну и мир», ни «Анну Каренину» и знал о своем великом патроне только по его религиозно-этическим и антивоенным статьям.
Дневники круга Толстого представляют интерес не только тем, что в них более или менее детально воссоздается образ великого писателя. Многие из них примечательны сами по себе как образцовые произведения дневниковой прозы, оставившие глубокий след в истории жанра. Всегда следует помнить, что ближайшее окружение писателя составляли люди одаренные и творчески активные. Некоторые из них были Личностями с большой буквы и безотносительно к Толстому вошли в историю отечественной культуры (например, пианист и педагог А.Б. Гольденвейзер). Поэтому дневники этих авторов могут быть рассмотрены самостоятельно, с позиций основных жанровых закономерностей.
Для анализа нами выбраны четыре дневника по принципу кровнородственной и духовной близости их авторов к личности Толстого. Но, как было отмечено, данный принцип не является определяющим для исследования жанрового своеобразия дневника.
СОФЬЯ АНДРЕЕВНА ТОЛСТАЯ (1844–1919). Самый совершенный в художественном отношении дневник принадлежит жене писателя[51]. И это не удивительно, так как Софья Андреевна была человеком разносторонних дарований, а ее природный литературный талант совершенствовался параллельно многолетней редакционной работе над произведениями Льва Николаевича.
Вести дневник Толстая начала с 11 лет и до замужества имела солидный опыт в этом жанре. Собственная семейная традиция, жизненная потребность и личные душевные качества сформировали ее оригинальную летопись до знакомства с ранними опытами в этом жанре ее жениха. Ее дневник возник и в дальнейшем писался независимо от литературных влияний мужа-писателя. В этом – отличие ее журнала от других дневников круга Толстого.
На функциональное своеобразие дневника Толстой оказали влияние два жизненных обстоятельства: рано пробудившаяся духовная жизнь и замужество.
Духовная направленность интересов и интенсивная внутренняя жизнь уже в раннем юношеском возрасте требовали эстетически емкой формы выражения. Привычка общаться в тесном домашнем кругу, в условиях замкнутого быта дворянской усадьбы крепостной эпохи ограничивала возможности культурных контактов, разнообразных форм творческого общения. Духовная жизнь поневоле уходила вглубь и искала подходящие рамки для свободного протекания. Для развивающейся и творческой личности в стадии ее формирования дневник оказался незаменимым средством материализации внутренних порывов. Начатый на стадии индивидуации, дневник Сонечки Берс вобрал в себя еще не дифференцированные способности и отразил поиски своего, оригинального творческого пути. Развившиеся позднее музыкальное, художественное, литературное и педагогическое дарования представлены в ранних тетрадях журнала в сгустке бурлящей и выплескивающейся наружу жизненной энергии: «15 июня 1860 г. Я вовсе не радуюсь <возвращению> домой <…> Напротив, мне бы хотелось уехать куда-нибудь подальше <…> Мне было так хорошо, так отрадно, так весело, но не долго длилось все это, теперь стало так тяжело жить на свете! <…> Что делать, как действовать? Не знаю и кидаюсь во все стороны, как птица в клетке <…> Протяни мне кто-нибудь руку, дай совет, сообразный моему положению, я охотно прислушаюсь» (т. 1, с. 474).
Раннее пробуждение духовной жизни сказалось и в том, что юная Сонечка Берс быстро и легко освободилась от родительского влияния. Дневник был одним из этапов приобретения психологической самостоятельности. В нем не зафиксированы сколько-нибудь значительные факты, подтверждающие тесную связь с родителями.
Скороспелая независимость подготовила фазу индивидуации, начало которой совпало с замужеством. Все противоречия этого этапа, соединившие в себе две психологические линии развития, нашли отражение в дневнике. С началом семейной жизни функция дневника преобразуется. Если ранее он был журналом откровений девической души, то теперь дневник становится хранилищем событий формирующегося нового мира. Не оправдались надежды на то, что свой душевный мир можно будет спроецировать на душевный мир мужа – друга и наставника.
Хотя вначале возвращение в дневнику осознается как дань девической привычке, подсознательно Софья Андреевна ощущает, что новый журнал будет служить не продолжением старого, а средством формирования автономной сферы сознания: «Опять дневник, скучно, что повторение прежних привычек, которые я все оставила с тех пор, как вышла замуж. Бывало, я писала, когда тяжело, и теперь, верно, оттого же. Эти две недели я с ним, мужем, мне так казалось, была в простых отношениях, по крайней мере, мне легко было. Он был мой дневник, мне нечего было скрывать от него. <…> И стала я сегодня вдруг чувствовать, он и я делаемся как-то больше и больше сами по себе, что я начну создавать себе свой печальный мир, а он свой – недоверчивый, деловой» (т. 1, с. 370– 38).
Сложности начального этапа супружеской жизни совпали с противоречиями периода индивидуации. И дневник в таких условиях был естественной формой выражения душевных конфликтов. Правда, процесс понимался односторонне как приобретение супружеского опыта. Но на самом деле, как мы знаем по другим дневникам, ведшимся в этом возрасте, Толстая переживала фазу психологического самоосуществления. Дневник дает этому убедительное доказательство: «Так все стало серьезно, а впечатления девичьи живы, расстаться еще трудно, а воротиться нельзя. Вот так-то через несколько лет я создам себе женский, серьезный мир и буду его любить еще больше, потому что тут будет муж, дети. Которых больше любишь, чем родителей и братьев. А пока не установилось. Качаюсь между прожитым и настоящим с будущим. Муж меня слишком любит, чтобы уметь сразу дать направление, да и трудно, – сама выработаюсь <…>» (т. 1, с. 42).
Ко второй половине 1860-х годов завершается формирование автономной духовной сферы и соответствующей ей формы дневника. Функция дневника определяется как разговор с собой, но не по причине отсутствия проницательного и сочувствующего собеседника. Она выражает потребность в объективации тех переживаний, которые не принято высказывать вслух даже духовно близким людям.
В характерологическом плане продолжение дневника по завершении индивидуации было делом натур, у которых одна из дифференцированных психических функций требовала регулярной исповеди. Но традиционные церковные и светско-бытовые формы последней не подходили по причине специфических содержаний сознания. Мыслительный материал, его этические содержания не соответствовали ни патерналистскому характеру института религиозной исповеди, ни его семейно-родственному аналогу. Исповедовать подобные содержания можно было только перед самим собой. «Я так часто бываю одна с своими мыслями, – признавалась Толстая в дневнике 1865 г., – что невольно является потребность писать журнал. Мне иногда тяжело, а нынче так кажется хорошо жить с своими мыслями одной и никому ничего не говорить» (т. 1, с. 68); «26 января 1902 г. Не знаю, зачем я пишу. Это беседа моей души с самой собой» (т. 2, с. 43).
В содержательном отношении такая исповедь могла включать в себя как положительные, так и отрицательные материалы. Не в этом было ее главное предназначение. Суть в том, что дневник давал направленность и выход накопившейся психической энергии в виде объективированных чувств, эмоций, переживаний. Разговор с самой собой в дневнике был своего рода психоанализом, который помогал безболезненно преодолевать многие душевные конфликты, не давая им дойти до невротической стадии: «Осталась одна, и так я целый день крепилась не задумываться и не оставаться сама с собой наедине, что вечером, теперь, все прорвалось в потребности сосредоточиться и выплакаться и выписаться в журнале <…>» (т. 1, с. 66). И эта функция дневника сохранялась на протяжении 55 лет его ведения.
Таким образом, мы видим, что дневниковая летопись Толстой охватывает три жизненные стадии: время до замужества, этап индивидуации, совпавший со временем становления семейных отношений, и последующий период зрелой сознательной жизни. Каждую из них дневник отразил в специфическом отношении, сохраняя неизменной психологическую основу: хронологические рамки дневника почти полностью соответствуют стадиям роста сознания, фазам психического развития человека и отражают общеродовую тенденцию, закрепленную в большом числе образцов дневниковой прозы XIX в.
В основе пространственно-временной структуры дневника Толстой лежит субъективно-психологическое понимание времени. Для нее время всегда было и оставалось мерой личностных измерений, реже – семейных и никогда – континуально-исторических. Аналогичным образом понимала она и пространство.
Подобное понимание не было обусловлено исключительно индивидуально-психологическими особенностями. На нем лежит печать воспитания и образа жизни жены писателя.
Своеобразие хронотопа дневника определяет противоречие между широтой культурного кругозора Толстой и узостью физически освоенного ею пространства. Большую часть жизни, за исключением восьми лет, прожитых зимой в доме в Хамовниках, Софья Андреевна провела в Ясной Поляне, изредка выезжая в Москву на симфонические концерты и музыкально-драматические спектакли. Еще реже, в деловых целях, посещала столицу. На склоне лет она с горечью признавалась в дневнике, что ее географический кругозор крайне узок: «<…> я никогда нигде не была, ни за границей, ни по России» (т. 1, с. 435).
Правда, значительную роль в формировании дневникового хронотопа играют психологический характер автора и типология дневника. Однако в истории жанра встречаются примеры, когда его изначальная форма менялась в зависимости от динамики внешней жизни повествователя. Так, дневник Н.И. Тургенева зафиксировал принципиальную смену пространственно-временной парадигмы в 1820-е годы: от психологического времени дневников 1800–1810-х годов, под влиянием многочисленных путешествий, впечатлений и перемен мест, он перешел к локально-континуальному временному измерению. Расширившийся географический горизонт естественным образом вместил увеличившееся культурное время – пространство.
У Толстой подобные изменения не наблюдаются ни в малой степени даже во время ее пребывания в Гаспре в 1902 г. Крымские впечатления не входят в повествование вследствие выработавшегося творческого принципа пространственно-временной организации событий.
Едва заметные изменения в этой области намечаются по мере того как старшие дети, обзаведшиеся своими семьями, начинают уходить из родного дома. В круг описанных дневных событий понемногу входят факты их самостоятельной домашней жизни, а с ними расширяется и пространство: Телятинки, Кочеты, Козловка. Но это обстоятельство не оказало существенного влияния на устоявшуюся структуру хронотопа.
Время и пространство являются формами автономного внутреннего мира Толстой, который сложился в ее сознании в 1860-е годы. Вместе с другими элементами этого мира они проецируются на события текущей жизни, зафиксированные в дневнике.
В поздних тетрадях время представляется как итог прожитого, вне пространственной конкретности. Оно измеряется нравственно-психологическими понятиями: «Вечер у Колокольцевых. Какой трагизм в материнстве! Эта нежность к маленьким <…> потом это напряженное внимание и уход, чтобы вырастить здоровых детей; потом старание образовать их, горе, волнение <…> и потом отчаяние, упреки, грубость со стороны детей, и какое-то отчаяние, что вся жизнь, вся молодость, все труды напрасны» (1, с. 380) (курсив мой. – O.E.).
Попытку преодолеть условность дневникового времени и пространства представляют собой так называемые «Ежедневники», которые Толстая вела с 1905 г. параллельно дневникам. Эта разновидность записей аналогична той, которую Толстой делал в своем дневнике под заголовком «Думал». Объективно-физическое время – пространство здесь противопоставлено автономному следованию событий душевной жизни. Их несоответствие как бы устанавливается фактически.
Усложнить способ ведения дневника Толстую, как и самого писателя, заставили возрастные изменения в психике, осложненные духовным одиночеством каждого из супругов. Все труднее оказывалось совмещать в одной записи внутренние переживания, текущие в своих временных рамках, с событиями объективного мира. В молодом сознании эти две автономные сферы соприкасались по той причине, что впереди была еще большая жизненная перспектива, и мир, несмотря на все противоречия, воспринимался целостно. Во второй половине жизни душевный мир оказался ценнее и предпочтительнее мирских забот, семейной жизни.
Для Толстой рубежом в этом отношении стала смерть младшего сына Ванечки. Только через два года после этого события она возобновила ведение дневника. И именно тогда появляется первый намек на переход к новой системе временных координат: «Буду писать строго одни факты, а когда буду расположена, – опишу и эти промежуточные два года моей столь значительной, по внутреннему ее содержанию, жизни» (1, с. 239).
Окончательное формирование новой структуры дневника, а с ней и дуальной системы хронотопа приходится на начало 1900-х годов. В связи с изменением обязанностей и забот, вызванным отделением детей, поворот в сторону душевного мира завершается: «Внешние события меня утомили, – признается Толстая в записи под 27 марта 1901 г., – и опять очи мои обратились внутрь моей душевной жизни <…>» (2, с. 17). А с появлением «Ежедневников» время начинает идти самостоятельно в двух параллельных измерениях. Лишь смерть писателя останавливает психологическое время дневника.
Образный мир дневника Толстой можно подразделить на четыре группы. В центре его, конечно же, находится сама Софья Андреевна с ее повседневными бытовыми и духовными заботами, раздумьями, переживаниями и надеждами. Личность С. А. Толстой настолько масштабна и глубока, что заслоняет собой все остальные фигуры, упоминающиеся в дневнике, включая самого Л.Н. Толстого. Своеобразие дневникового образа Толстой в том, что она в нем светится не отраженным светом своего великого спутника жизни, а представляет собой пусть и менее значительную, но тем не менее яркую звезду.
Второе место по значимости занимает образ Толстого. Он не сходит со страниц дневника даже после ухода из жизни писателя. Воспоминания о нем продолжают наполнять летопись Софьи Андреевны. Третью группу составляют образы детей, значимость которых усиливается по мере их взросления. И, наконец, четвертую группу образуют многочисленные родственники, друзья дома и знакомые Толстых. Именно в образах этой группы наиболее наглядно раскрывается принцип изображения Толстой человека.
Сущность этого принципа заключается в том, что Толстая изначально ценила в человеке два качества – духовность и талант. Одаренность, и, наоборот, люди ординарные, пусть и положительные, ничем не примечательные оставляли ее равнодушной: «<…> приехал сосед, В.Ю. Фере, смоленский вице-губернатор, старый знакомый <…> Человек хороший, добродушный, любит музыку <…> но человек обыкновенный» (2, с. 172); «Е.Ф. Юнге – умная, талантливая, всем интересующаяся женщина» (1, с. 446). Данный принцип является определяющим в оценке всех «персонажей» дневника – от автора, членов семьи до случайных посетителей Ясной Поляны.
Жизненная драма Толстой раскрывается в дневнике как противоречие между порывом к возвышенной духовной жизни и вынужденной привязанностью к миру материальных забот, которые под старость воспринимаются как непосильная ноша, не давшая развернуться в полную мощь богатым природным дарованиям.
В этом отношении структура образа автора проходит два этапа развития. На первом, который совпадает с периодом замужества и приблизительно пятнадцати лет супружеской жизни, дневниковый образ Софьи Андреевны дается в соотношении с Толстым по методу контраста. Величие мужа становится критерием самооценки, как правило заниженной: «Я ужасно стала робеть перед мужем <…> Мне кажется <…> что я для него глупа (старая моя песнь) <…>» (1, с. 58); «Чувствую, что он – жизнь, сила; а я только червяк <…>» (1, с. 69); «Все больше хочется гнуться от своего ничтожества <…>» (1, с. 76); «Что бы я была без этой постоянной опоры честной, любимой всеми силами, с самыми лучшими и ясными взглядами на все?» (1, с. 87).
По мере приобретения жизненного опыта и относительной самостоятельности, в основном в своем узком житейском кругу, у Толстой меняется и самооценка, а с ней и общая структура образа. Негативистская тенденция, свойственная прежнему психологическому автопортрету, сменяется элементами драматизма. Сначала эта черта проступает как недовольство собой, но не в форме контрастного противопоставления, как в ранних тетрадях, а как трезвая оценка особенностей собственного темперамента, природных задатков: «У меня такая натура, которая требует или деятельности, или впечатлений, иначе я сгорю» (1, с. 226).
В более поздних дневниках самокритика вытесняется чувством сожаления о неосуществленных желаниях, неудовлетворенных интересах. Структура образа вбирает в себя конфликт между прозаическим бытом и возвышенными духовными потребностями: «<…> проходят дни в болтовне <…> в мелких делах, раздаче лекарств, денег, забот о еде, хозяйстве, дел по книгам и имениям, – без мысли, без чтения, без искусства, без настоящего дела <…>» (1, с. 396).
Впоследствии эта тенденция усиливается с перенесением акцента на нравственную сторону конфликта. Толстой суть жизненной драмы видится в непонимании ее душевных переживаний близкими людьми. А ее добродетели представляются ей самой как свойства, зависящие от естества или имеющие рассудочный характер. Чувства, так высоко ценимые хозяйкой Ясной Поляны, как будто и не принадлежат ей: «На душе уныло, одиноко, никто меня не любит. Видно, недостойна. Во мне много страстности, непосредственной жалости к людям, – но тоже мало доброты. Лучшее, что во мне есть – это чувство долга и материнства» (2, с. 117).
В последней тетради, где подводится своеобразный жизненный итог, к уже знакомым чертам душевного облика Толстой добавляется почти зримая выразительность. Образ дается на фоне природы, которая усиливает впечатление гармонии между одухотворенностью и портретной достоверностью (молодость души – моложавая внешность – природа). За трогательной сентиментальностью признаний, однако, скрывается глубокий внутренний драматизм, который выражается в эстетически сдержанной форме, напоминающей возвышенную красоту женских образов русской литературной классики: «<…> мне 66 лет, и все та же энергия, обостренная впечатлительность, страстность и – люди говорят – моложавость <…> Встала утомленная бессонницей, пошла ходить по парку. Прелестно везде: старые аллеи всяких деревьев, полевые вновь зацветшие цветы <…> тишина, одиночество, – одна с богом <…> Молилась о смирении, о том, чтобы перестать с помощью бога страдать душевно» (2, с. 184).
Второе по значению место в дневнике, естественно, занимает образ Л.Н. Толстого. На образе мужа лежит печать семейных отношений, семейной и человеческой драмы супругов. С первых дней замужней жизни Толстая осознавала масштабность личности своего спутника жизни и всецело была поглощена его интересами. Воссоздавая в дневнике образ Льва Николаевича, Софья Андреевна понимала всю меру ответственности – не смешать великого человека с близким человеком: «Меня упрекают многие, что я не пишу своего журнала и записок, так как судьба поставила меня в столкновение с таким знаменитым человеком, как Лев Николаевич. Но как трудно отрешиться от личного отношения к нему, как трудно быть беспристрастной <…>» (1, с. 118).
Говоря о журнале и записках, Толстая подразумевала не тот дневник, в котором она делала данную запись. Упреки близких и знакомых касались особого дневника, который, по их мнению, должен быть летописью жизни великого писателя Толстого. И Софья Андреевна, поступив безусловно мудрее, не стала вести эту отдельную работу, наподобие записок Д.П. Маковицкого[52]. В обычном дневнике она запечатлевала писателя таким, каким он ей виделся в разных ситуациях их долгой совместной жизни, не отстраненно, а порой пристрастно, «необъективно». Такой Л. Толстой оказался для последующих поколений интереснее и ближе того Толстого, который был описан «со стороны», на заранее заготовленных листках, бесстрастно и стенографически точно.
Образ Толстого на страницах дневника Софьи Андреевны соткан из так и не разрешенного до конца противоречия между безграничной любовью к нему и непреходящим ощущением недостаточного внимания и ответного чувства с его стороны. Многие записи, посвященные отношениям двух супругов, наполнены излияниями нежных чувств, переходящими в упреки по его адресу: «Левочка, христианин, от тебя видела больше осуждения, чем любви и жалости. А вся история только от моей беспредельной любви к нему» (1, с. 238); «Сорок лет прожили вместе, и чем бы и как я ни жила, смело могу сказать, что Левочка был всегда, во всем на первом плане и самый любимый» (2, с. 82); «<…> какое-то тяжелое к нему чувство за то, что он поработил всю мою жизнь и никогда ни обо мне, ни о детях не особенно заботился, а, главное, продолжает порабощать меня <…>» (1, с. 286); «Мы легко живем врозь <…> Но мне нелегко без друга, без человека, который бы интересовался моей жизнью, с которым бы можно жить душой вместе. А Лев Николаевич жил со мной вместе телом и любил меня только плотской любовью. Эта сторона стала отживать, и вместе с этим отживает желание жить не разлучаясь» (1, с. 311).
Неразрешимое взаимными усилиями в течение многих лет противоречие в конце жизни Толстая пытается преодолеть посредством религии. Эта область психического становится единственным утешением, посредством которого она надеется обрести душевный покой, восстановить (хотя бы по видимости) равновесие в отношениях. Конечной идеальной целью ее упований является целостный образ любимого человека, о котором она тосковала последние десятилетия и который хранился в ее памяти с первых лет совместной жизни: «Молилась и о том, чтобы бог вернул мне перед нашей смертью любовь мужа. Я верю, что я вымолю эту любовь, сколько слез и веры я кладу в свои молитвы» (2, с. 184).
Итак, образ Л. Толстого создается не средствами описания или анализа, принятыми обычно в классических дневниках (которые в малой мере тоже имеются у Толстой), а путем воссоздания динамики отношений, изменчивости и противоречивости чувств. Устойчивые формы этих отношений создают стабильную образную структуру. Ее основополагающие свойства остаются константными на всем повествовательном пространстве дневника.
Что касается степени истинности этого образа, то, во-первых, не вызывают сомнений искренность и проницательность, с которыми Софья Андреевна изображает в дневнике черты любимого человека. Установка на интимность жанра предохраняла хозяйку Ясной Поляны от излишней боязни за суд современников и потомков и помогала избежать той «отстраненной объективности», которая сглаживает шероховатости в отношениях ради хрестоматийной «чистоты» образа.
Во-вторых, образ Толстого в дневнике его жены в общих чертах (а кое-где и в деталях) воссоздает известный по многочисленным источникам (в том числе по личным дневникам писателя) противоречивый психологический портрет автора «Крейцеровой сонаты». Субъективность (не субъективизм) восприятий и оценок Толстого не искажают, а усиливают основные контуры и штрихи образа.
Образы восьмерых детей Толстой в целом имеют сходные с другими «персонажами» дневника структуру. Все они рассматриваются в свете той системы ценностей, которую Софья Андреевна применяла к другим людям. Главными из них являются духовные интересы и природные дарования личности. Правда, отсутствие яркой выраженности этих качеств не лишает того или иного ребенка материнской любви, но в смысле человеческого идеала они всегда были предпочтительными для супруги Л. Толстого: «Совсем мои дети не такие, какими бы мы желали их <видеть>: я хотела от них образование, сознание долга и утонченные эстетические вкусы» (1, с. 290).
Толстая прощала многие недостатки тех детей, в которых видела искру таланта, скрытые, но нереализованные потенции. Так, она искренне ценила музыкальные способности Сергея, испытывала смешанное чувство любви – жалости к средним сыновьям Илье и Льву за богатство их натур, но «непутевую» и нескладную жизнь. Это противоречие между задатками и их реализацией находило отражение в структуре дневникового образа: «Сережа все жалок, очень. Много музыкой занимается и сочинил прекрасный романс <…>» (1, с. 379); «Невыносимо тяжело пережила я сегодня отъезд и разлуку с Левой <…> Какой он на все талантливый и какой хороший нрав! А несчастлив и неуравновешен» (2, с. 440).
Воплощением родительского идеала Софьи Андреевны был младший, рано умерший сын Иван (Ванечка). В его образе соединились представления Толстой о высшей духовности, о нравственном совершенстве. Но образ этого ребенка в дневнике идеализирован в том смысле, что он скорее воплощал в представлении матери неземной идеал, далекий от реализации в условиях обычной человеческой жизни: «<…> бестелесный, худенький, он весь был душа: чуткий, нежный, любящий. Это был тончайший, духовный материал, конечно, не для земной жизни» (1, с. 305).
На противоположном полюсе находилась младшая дочь Толстых Саша, которая выступает в дневнике как воплощение бездуховности и грубой материальной силы. С ней у Софьи Андреевны отношения всю жизнь были напряженными, порой доходящими до конфликтов. Это было связано не только с крутым нравом дочери, но и с теми представлениями о возвышенной, духовной жизни, которые она пронесла через всю жизнь и которые служили для нее мерилом человеческой ценности. Душевного и духовного начал Толстая не видела у своей младшей дочери с детских лет и до конца своей жизни: «Рождение Саши, ей 13 лет <…> Она груба, дика, упряма и измучила меня, оскорбляя всякую минуту все мои лучшие, человеческие чувства» (1, с. 250); «Саша <…> весь день хохочет, толста, красна и груба всем» (1, с. 266); «Какое грубое создание. Просто непонятно, как можно так оскорблять мать <…> И какое страшное и злое было при этом лицо» (2, с. 155); «Приезжала Саша, толстая, красная, как всегда упорная, скрытная, несговорчивая и недобрая» (2, с. 337).
Другие образы дневника имеют ту же идейно-смысловую структуру. Их оценка зависит от изначальной аксиологической установки, в которой центральное место принадлежит духовно-творческому началу. Его Толстая противопоставляет всему материальному, физическому, «плотскому», бездуховному, тому, что граничит с пошлостью и нравственным уродством: «<…> все те привязанности к мужу и другим лицам в моей жизни всегда были сильнее в области душевной, художественной и умственной <…> <Л.Д.> Урусова я полюбила за тот мир философии, в который он меня ввел <…> Впервые открылась мне с ним эта область высокого человеческого мышления <…> К Сергею Ивановичу <Танееву> я привязалась тоже посредством <…> его удивительного, музыкального таланта. То благородство, серьезность и чистота, которая в его музыке, очевидно, истекает из его души» (1, с. 305).
Нельзя не упомянуть в этой связи о многочисленных «толстовцах», образы которых периодически возникают на страницах дневника Толстой. Самым запоминающимся и мрачным из них, безусловно, является В.Г. Чертков. К нему Толстая испытывала патологическую неприязнь, так как видела в нем главного виновника семейной драмы, злодея, отнявшего у нее любимого человека. Тем не менее данный образ нетипичен с точки зрения исходной системы ценностей. В нем слишком много субъективного, наболевшего, желчного, по-достоевски надрывного. Он карикатурен и по всем меркам не укладывается в схему Толстой.
Другое дело «сподвижники» и последователи Толстого. В их оценке Софьей Андреевной также преобладает девальвирующая тенденция. Однако почти всегда, делая запись в дневнике об их посещении Ясной Поляны, Толстая придерживается «схемы», стремясь встроить каждую новую фигуру в систему своих ценностей. Поскольку толстовцы, при всех индивидуальных отличиях, в конечном счете представляют один тип, Софья Андреевна присваивает им родовое прозвище «темных». Тем самым она противопоставляет их «идеалы» примитивного, докультурного быта свету разума, красоты и цивилизованной жизни: «Приехали темные: глупый Попов, восточный, ленивый, слабый человек, и глупый толстый Хохлов из купцов <…> Жалкое отродье человеческого общества, говоруны без дела, лентяи без образования» (1, с. 133).
Так структура человеческого образа в дневнике Толстой подчиняется главной, но строго выдержанной последовательности, в которой нашли отражение духовные идеалы автора.
Типологию дневника определили характер и образ жизни Софьи Андреевны. На страницах дневника нашла отражение та двойная жизнь, которую многие годы вела супруга писателя. Противоречия между возвышенными духовными устремлениями и повседневной «прозой» жизни вылились в типологический дуализм. Толстая неоднократно признавалась в этом и считала дневник своеобразной формой психокатарзиса, высвобождавшего нереализованную духовную энергию: «Мои дневники – это искренний крик сердца и правдивые описания всего, что у нас происходит» (2, с. 219); «Не знаю, зачем я пишу, это беседа моей души с самой собой» (2, с. 43).
Дуальная форма дневника возникла не сразу. Дневники первых лет замужества представляют собой классический интровертивный образец. В них интерес к внутреннему миру преобладает над описанием событий внешней жизни. Это было обусловлено не только складом характера, но и узким кругом жизнедеятельности молодой хозяйки Ясной Поляны. Записи 1860-х годов отражают размышления Софьи Андреевны о взаимоотношениях с Львом Николаевичем, но о самих отношениях в их повседневном проявлении говорится редко и скупо. Так же как медленно зрели неразрешимые противоречия между супругами, постепенно складывалась и типологическая форма дневника.
Примечательно, что дневник Толстого эволюционировал в том же направлении, правда, с большим временным интервалом. Когда у Софьи Андреевны, параллельно ее «двойной» жизни, окончательно сформировался тип дневника (наподобие его поэтического предшественника – «Двойной жизни» К.К. Павловой), Лев Николаевич выработал в 1880-е годы аналогичную по содержанию (но несколько иную – логически и графически более отчетливую) типологию ведения записей (делал – думал). Будучи оба интровертами, Софья Андреевна и Лев Николаевич с юных лет жили интенсивной внутренней жизнью. Они всегда тяготились внешними условными формами и воспринимали их как долг (Толстая) или как наказание (Толстой). Поэтому изначальная интровертивная установка их дневников деформируется внешними условиями. Они вынужденно принимают жизненный гнет и так же вынужденно перестраивают ракурс изображения.
У Толстой типология дневника приобретает осциллирующий характер. Изображение внешнего мира плавно перетекает в описание дум и нравственных переживаний. Граница между экстравертивным и интровертивным изображениями не проведена так отчетливо, как у Льва Николаевича: «Живу вяло и лениво, хотя внешне жизнь полна» (1, с. 274); «<…> целый мир новой жизни во мне, и мне никого и ничего не нужно для развлечения» (1, с. 318); «А его <Л.Н.> злобный, молчаливый протест вызывает и во мне протест и желание оградить и создать свой душевный мир, свои занятия и свои отношения» (1, с. 329); «Три вечера были проведены так разнообразно, что, при кажущейся ровной моей семейной жизни, удивляешься, как значительно переживаешь внутреннюю жизнь» (1, с. 366); «Внешние события меня утомили, и опять очи мои обратились внутрь моей душевной жизни; но и там – и нерадостно, и неспокойно» (2, с. 17).
С типологией соотносится и жанровое содержание дневника Толстой. Семейно-бытовая тематика органически переходит в размышления о прожитом, в психологический анализ душевных переживаний. И опять ранние тетради (1860-х годов) в этом отношении гораздо более насыщены «психологией». В них сказывается и девическая привязанность к сфере идеального, и конфликты души, вызванные непониманием со стороны мужа ее сердечных устремлений. Наклонность к созерцательности, периодически проявлявшаяся у Софьи Андреевны, соответствовала образу мыслей, настроенности на самоанализ: «Целый день <…> все копаюсь в своих мыслях, любуюсь и чувствую природу <…>» (1, с. 69).
По мере того как с ростом семьи усложнялась внешняя жизнь, события дня, отраженные в дневнике, приобретали все более предметный смысл. Отвлеченные рассуждения, переживаемые эмоции, чувства к детям и мужу становятся как бы аккомпанементом к главным делам и заботам. Но обытовления содержания в обычном понимании этого слова не происходит. Дневниковые записи остаются в области нравственно-психологического анализа. Толстой всегда была чужда сухая стенографичность. Она даже не стремилась рассказать в полном объеме о важнейших событиях, побудивших ее задуматься или вызвавших сильное волнение. В дневнике о них говорится намеком, в лучшем случае передается результат. Толстая не в состоянии была в дневнике погружаться в бытовую сферу, несмотря на то что часто день ее был полностью посвящен житейским делам. Содержательное своеобразие дневника Толстой состоит в его интеллектуально-нравственной направленности. Семейный быт изображается не на уровне описательности, а на уровне нравственно-психологической интерпретации.
Из обзора жанрового содержания вырисовывается принцип отбора материала, который использовала Толстая. Сама она так сформулировала свой метод: «<…> я пишу только правдивые факты в своем дневнике» (2, с. 200). Фактами для нее были события душевной и повседневной обыденной жизни. Однако далеко не все события дня попадали на страницы дневника.
Будучи женой великого человека, она с первых дней замужества осознавала масштабность той личности, с которой ей предстояло быть вместе долгие годы. Но сама Софья Андреевна тоже была человеком незаурядным. И в дневнике ее роль не сводилась к повествованию о ежедневной жизни писателя. Лев Николаевич не попал в фокус ее летописи. Привыкшая с отрочества к самостоятельной духовной жизни, Толстая не изменяет своей привычке и оставляет в дневнике автономной область собственного бытия. Толстой здесь находится на втором плане.
С годами у Софьи Андреевны обостряется сознание ценности своей личности. Со страниц дневника исчезает самодевальвирующая тенденция. Внутренний мир раскрывается все полнее. Усиление значимости бытовых фактов в жизни не ведет автоматически к усилению аналогичного материала на страницах дневника. В подневных записях он дается пропорционально фактам душевной жизни. Каждое событие сопровождается описанием того психологического состояния, которое оно вызвало: «Ходила навестить Сергея Ивановича <Танеева> <…> говорили о музыке, о Бетховене <…> Как всегда, осталось от свидания с Сергеем Ивановичем спокойное, удовлетворенное и хорошее чувство» (1, с. 310).
В дневнике Толстой дается не перечень событий дня («внешних» или «внутренних»), а воспроизводится состояние автора, проживающего эти события. Т. е. описывается жизненная ситуация, в которой то или иное событие дается не отвлеченно, а в единстве его протекания и переживания субъектом повествования.
Л. Толстой делил в поздних дневниках подневную запись на две части: делал – думал. Проводилось это, с одной стороны, затем, чтобы противопоставить духовную жизнь материальной; с другой – такая форма объективно отражала патологические изменения в психике писателя (прогрессирующий невроз).
У Толстой, несмотря на многолетнюю «двойную жизнь» «души» и «тела», сохраняется целостность бытия в его физическом и психическом проявлениях. Такая целостность поддерживалась семейной функцией Софьи Андреевны – хозяйки, матери, жены, обеспечивающей жизнедеятельность большого и сложного механизма Ясной Поляны. Быт, ежедневные житейские заботы препятствовали распаду двух дифференцированных сфер существования – духовной и материальной. Такое единство и отражено в дневниковой записи, несмотря на известную автономность этих образований. В жизни они были скреплены волевым началом – понятием долга, в дневнике – единством эстетического сознания, воспринимающего жизнь органически.
T.Л. СУХОТИНА (ТОЛСТАЯ) принадлежала к третьему поколению летописцев рода Толстых. Ее дневник охватывает 54 года жизни и по времени занимает третье место среди других дневников круга Л. Толстого[53].
Журнал старшей дочери писателя имеет две особенности. Значительная его часть (22 года) приходится на период после смерти отца. В своем дневнике Сухотина еще в большей степени, чем мать, пишет о личной жизни и меньше касается жизни Л. Толстого. Тем не менее, она так же, как и остальные члены семьи, родственники и близкие, в своей летописи вращается в орбите дневникового творчества, питается письменной культурой круга Толстого. К моменту начала ведения дневника в этом кругу уже существовало семейное правило – доверять чтение своих журналов близким или старшим. Такой способ знакомства с жанром помогал быстро овладеть приемами и навыками дневникового письма. Сухотина без труда усвоила как типологические основы, так и литературные принципы дневника.
Наиболее отчетливо дочь писателя понимала психологическую функцию своей летописи. Имея отнюдь не рациональный склад характера, она осознавала эту функцию интуитивно, испытывая облегчение после выражения наболевшего на страницах журнала. Катартическое начало прослеживается в тетрадях разных лет еще последовательнее, чем у ее матери: «<…> пишешь его <дневник> в самые дурные, грустные минуты, когда чувствуешь себя одинокой и некому жаловаться. Тогда хоть на бумагу, но надо облегчить себя от своего грустного настроения, и это удается, – сейчас же успокаиваешься» (с. 175); «Но, выливши эти помои на бумагу, я как будто освободилась от них. Как мне сейчас уже в сердце легче» (с. 335).
Начальный этап ведения дневника Сухотиной напоминает опыты ее матери. Рано пробудившаяся духовная жизнь в окружающей ее атмосфере интеллектуальных и нравственных поисков обратила подростка Таню Толстую к проблеме самосознания. Обнаружив в себе массу недостатков, девочка принялась за дневник как средство измерения духовного роста. Она фиксирует в нем свой меняющийся внутренний облик (а иногда и внешний), определяет положительные сдвиги в характере и поведении: «С тех пор как я перестала писать дневник, я очень переменилась: я стала совсем большой; в ином я к лучшему переменилась, а в ином и к худшему» (с. 23); «На днях читала свой дневник 1878 года, и мне так стало жалко, что я до этого не писала и потом бросила, что я решилась опять начать. Мне грустно делается, когда я думаю, что мое детство прошло <…>» (с. 26); «Я знала, что в Москве я не так часто буду писать свой дневник, и мне это жалко, потому что кажется, что это для меня очень полезно: я стала за последний год гораздо серьезнее и стала более здраво смотреть на жизнь, чем прежде» (с. 60).
Период констатации подобных фактов подготавливал начавшийся вскоре процесс индивидуации, который, если следовать дневниковым записям, растянулся до 25 лет. Ему были свойственны все те признаки, которые мы наблюдаем у других авторов, в том числе у родителей юной Тани Толстой. К ним относятся: критика собственных недостатков, порой граничащая с девальвирующей тенденцией; составление свода правил, под который нередко отводятся отдельные тетради; составление жизненного плана; выбор авторитетного наставника или нравственного путеводителя из числа старших или литературно-философских знаменитостей. У Сухотиной данные процессы имели свою особенность в том, что в лице отца у нее был источник, соединяющий в себе многое из «катехизиса» жизненных истин и правил. В дневнике эта линия также намечается: «Еще мне нужно (по гадкому чувству нужно) admiration <восхищение> и ласки: я к ним слишком привыкла <…> вообще я недовольна и одинока. Это гадко и неблагодарно» (с. 60); «Странно, что всегда подделываешься под тон каждого человека, когда с ним разговариваешь <…> Как это гадко! Надо записать в мою книгу правил» (с. 29); «Сегодня я <…> все думала о том, как надо жить <…> Прежде я думала, что, придя к известным убеждениям, надо что-то необыкновенное предпринять: все раздать, пойти непременно в избу, никогда не дотронуться до копейки» (с. 144); «Сколько морали я пишу для себя <…> Еще правило мне хочется усвоить себе, это – не осуждать других» (с. 186).
С функциональными особенностями дневника связаны и его пространственно-временные формы. Основой хронотопа в дневнике дочери Толстого становится то, что сам писатель определил как «рост жизни». Он соотносится не с объективно-физическим, а с субъективно-психологическим временем. Последнее соответствует стадиям роста сознания, процессы становления личности, который у каждого человека имеет индивидуальные черты и пределы.
Сухотина произвольно меняет временную структуру, подгоняя ее под явления внутренней жизни: сжимает объективно более длительные события и, наоборот, раздвигает границы астрономического времени. Ее дневник вбирает в себя не сумму ежедневных событий, а последовательность душевных феноменов, не подчиненных объективной временной динамике. В летописи Сухотиной мы имеем дело с психологическим временем: «Я вчера разговаривала со всеми этими людьми и подумала, что ведь только очень недавно я стала на положении большой, что серьезные люди сообщают мне свои мнения и взгляды и спрашивают мои. Положим, я очень недавно стала их иметь сама» (с. 255).
Точки пространственного проживания также зачастую не совпадают с важнейшими душевными событиями дня. В подневной записи повествование может идти о фактах душевной жизни, которые сгруппированы по типологическому признаку, хотя вызвавшие их явления имели место в пространственно отдаленных друг от друга пунктах: «Отъехали от Вежболова <по пути в Москву >.
<…> На границе было неприятно <…> Получила в Париже письмо от Веры Толстой <…> Папа писал мне в Париж <…> Я накупила платьев в Париже <…> Живу спокойно <…>» (с. 337–339).
Как и в дневниках родителей, в журнале Сухотиной воссоздано множество образов знакомых, близких, родных. Центральное место, как уже отмечалось, принадлежит образу автора. Дневник Сухотиной – это ее исповедь, которая по искренности не уступает летописям Льва Николаевича и Софьи Андреевны. Дневник последовательно отображает внутренний облик Сухотиной – девочки, девушки, замужней женщины и матери. И в каждом психологическом возрасте авторский образ сохраняет исконные черты. Главными из них являются те, которые были унаследованы Сухотиной от отца. Они сформировались под его воздействием в той напряженной атмосфере духовных, нравственных исканий, которая царила в доме писателя во время становления характера старшей дочери. Сложившаяся система этических принципов включала в себя три коренных начала: беспощадную критику собственных недостатков ради самоусовершенствования, беззаветную любовь к ближним, понимание жизни как долга и служения. Все эти принципы заключены в императивную форму, и их выполнение при самохарактеристике служит идеалом: «Жизнь есть место служения <…> радости-то настоящие могут быть только тогда, когда люди сами понимают свою жизнь, как служение <…>» (с. 134); «Надо так себя поставить <…> чтобы все счастье сосредоточивалось в своей любви к ближним <…> Я чувствую, как я должна жить, но ужасно далека от этого <…>» (с. 137).
Так же как у Толстого, невыполнение установленных рассудком требований влекло усиление самокритики и формирование своеобразного комплекса нравственной неполноценности. Правда, Сухотина не страдала болезнью разрушительного самоанализа, благодаря которой в сознании писателя возобладала деструктивная тенденция по отношению к миру и людям. Порой она признавала ригористический характер своей позиции, выработанной под влиянием моральной проповеди отца. Ее взгляд на человека корректировался, а непримиримость к слабостям людей она относила к собственным недостаткам: «Еще потому я ни с кем не близка, что у меня установился презрительный взгляд на людей, которые не разделяют взглядов папа на жизнь. А к его последователям я не близка потому, что очень плоха, слаба <…>» (с. 174).
Периоды острой самокритики сменялись признанием за собой и неоспоримых достоинств. От этого образ сохранял целостность. Но даже в положительном Сухотина вольно или невольно следовала взглядам отца. Данная тенденция зримо проступает в тех записях, где говорится о необходимости взращивания в себе ростков нравственной жизни.
Обе тенденции проявлялись и в самохарактеристиках, данных в связи с отношениями Сухотиной к сердечно близким людям. Борьба между естественным чувством и нравственным запретом приводила к деформации образа. В саморазоблачительных высказываниях Сухотиной проступала искусственность моральных постулатов, служивших основанием для недовольства собой: «Мне только очень стыдно за мои письма <к М. Сухотину, будущему мужу> и вообще за весь эпизод, который останется одним из самых позорных моих воспоминаний» (с. 397).
Те высокие нравственные требования, которые Сухотина предъявляет к себе, служат для нее критерием оценки и других людей. Дополнительным элементом характеристики здесь выступает эстетическая привлекательность человека. Красота, в представлении Сухотиной, является важной чертой человека, и ее отсутствие ослабляет нравственное воздействие личности на окружающих. Однако определяющим фактором поведения остается все-таки высокий моральный облик. Долг, польза для ближнего, бескорыстие – вот главные свойства, которые превыше всего ставит дочь Л. Толстого. Интеллектуальные и внешние качества не могут заменить общественного и семейного предназначения человека: «Лили Гельбиг – одна из самых образованных и воспитанных девушек <…> Она хороша, весела, очень высокого мнения о себе, и все высокого мнения о ней. Но она никому не нужна, она luxe (роскошь) <…> «(с. 155–156); «Из них <пустых людей > я исключаю <…> Веру Толстую. Она за последнее время много думала, и думала одинаково со мной <…> Она решила все, что она носит, шить самой, и делает это и вообще делает на себя и на других все, что только ей можно <…>» (с. 144); «Я говорю: она <Вера> прекрасна <…> я нахожу, что ее нельзя назвать дурной, но что она некрасива <…> Душа у нее золотая <…>» (с. 61).
Будучи натурой увлекающейся, но глубокой, Сухотина часто меняла мнения о людях то в лучшую, то в дурную сторону. Причиной таких метаний был склад ее ума, особенность восприятия человека. При первом знакомстве она приходила в восторг от внешних проявлений той или иной примечательной личности. Потом, заметив фальшь или неестественность в поведении человека, переходила к критике. Но, если при более близком знакомстве, проникнув в сердцевину натуры, обнаруживала там дорогие ее нравственному чувству качества, она в своей оценке личности склонялась в положительную сторону. Принцип оценки человека у Сухотиной был близок «диалектике души» в произведениях Л. Толстого 1850-х годов: «Я его <Н.Н. Ге>. Я <…> перешла с ним три степени: 1-е – страстное увлечение, 2-е – осуждение в неискренности и лицемерии и отчуждение от него и 3-е – не то что прощение, а признание некоторых его способностей и рядом с ними огромных достоинств» (с. 306).
Образ Л. Толстого в дневнике Сухотиной занимает незначительное место. Это может показаться странным, но, если учесть, что дневник имеет интровертивную направленность, в данном факте мы не увидим ничего неестественного. Для сравнения можно обратиться к свидетельствам Сухотиной о содержании дневника ее сестры Марии, любимой дочери писателя. Как пишет Татьяна Львовна в своем дневнике, летопись сестры представляет собой такую же, если не в большей степени, исповедь, где главенствующее положение занимает образ автора: «Ее дневник – это такой сумбур, в котором разобраться невозможно» (с. 171).
Прямых характеристик отца в дневнике встречается немного, но его образ незримо присутствует во многих записях. Это относится к рассуждениям на моральные темы, к самокритике с позиций толстовских принципов, к оценкам людей. В тех или иных ситуациях, воспроизведенных в дневнике, Толстой является своего рода нравственным ориентиром, с которым соизмеряются поступки и мысли автора. Apriori Сухотина признает авторитет отца, и его образ получает некую отстраненную характеристику, раздваивается: в нем видится не родитель, а наставник, из-под духовной власти которого воспитанница не в состоянии выйти: «<…> при нем я ясно чувствую, о чем стоит думать и беспокоиться и о чем нет, что важно в жизни и что пустяки» (с. 58); «Если я не унываю, если я стараюсь быть нравственной и честной, то главным образом благодаря ему» (с. 403).
Воздействие личности Толстого на образ мыслей и строй чувств Сухотиной сохраняется и после его ухода из жизни. Став образом-воспоминанием для Татьяны Львовны, «дух» отца еще глубже укореняется в ее сознании: «В первый раз начинаю его <новый год> без него и думаю о предстоящем новом годе без связи с ним живым телесно, а с ним без его тела» (с. 460).
Однако дневник запечатлел образ Толстого и в несколько ином измерении. В состоянии острого душевного кризиса Сухотина иногда ощущала давление отцовских идей, воспринимала их как бремя, правда, не называя прямо источника дурных настроений. Из подобных записей видно, что нравственные проповеди писателя не только воодушевляли его дочь и родных, но и тяготили, нередко психологически травмировали их. С этих страниц на нас смотрит другой Толстой – суровый доктринер и аскет, беспощадный обличитель, виновник семейной драмы, заставивший родных жить на нравственном изломе: «Он увидал, что я глупая и слабая <…> как бы в отместку за это, я думаю, оттого, что я почувствовала себя свободной от того рабства (выделено мной. – O.E.), в которое я себя добровольно поставила, я почувствовала в сильной степени прилив молодости, желания нравиться, и чувствовала опять то пьянство успеха, какое испытывала в ранней молодости» (с. 354).
ДУШАН ПЕТРОВИЧ МАКОВИЦКИЙ (1866–1921). Среди дневников, посвященных Л. Толстому, дневник Маковицкого выделяется не только объемом (4 фолианта), но и подробностью записей («добросовестный труд», как охарактеризовал его В.Ф. Асмус, т. 1, с. 11), их почти стенографической точностью[54].
Первоначальный замысел летописи носил ограниченный характер и разрастался по мере работы автора над ней («Я начал записывать слова Л.Н. сначала для чешских и словенских Селовацких> друзей и для биографов Л.H., потом продолжал записывать и потому, что те, кто лучше меня мог это делать, не делали этого; затем уже втянулся в эту работу», т. 1, с. 89).
Известно, что Толстой не любил, когда его слова записывались и потом разносились по свету людьми не его круга. Об этом он неоднократно говорил тем, кто при нем пытался вести «стенограмму». Он знал о дневниках своих секретарей и если прямо не возражал против их ведения, то в лучшем случае терпеливо переносил нежелательное для него «подглядывание» и «подслушивание».
К работе Маковицкого он был более доброжелателен, так как высоко ценил своего домашнего врача за его личные качества. В этом он признавался младшему сыну Андрею: «Папа узнал о том, что вы пишете дневник <…> Одобрил, сказал, что вы одних взглядов с ним <…>» (т. 2, с. 263).
В процессе работы над дневником Маковицкий сознавал историческое значение своего труда. Как никому другому из ближайшего окружения писателя, ему открывалась возможность слышать и видеть самое сокровенное в последние 6 лет его жизни. И он старался воспользоваться этой возможностью сполна. Помимо основной задачи летописца, Маковицкий одновременно стремился основательно усвоить этические воззрения Толстого, из первоисточника черпать житейскую и философскую мудрость великого проповедника. Эта напряженная внутренняя работа также отразилась в дневнике.
Ограниченность творческого задания определила и пространственно-временные параметры дневника. События четко укладывались в «три единства» – места, времени и действия: «Ясная Поляна, события дня, жизнь писателя Л. Толстого. Крайне редко автор упоминает о выезде за пределы имения и деревни. Поездка на родину, к больному отцу не описывается. Родственники Толстого и посетители его дома изображаются в связи с жизнью писателя в данный день. Толстой находится в фокусе событий, он «единодержавный» герой всего происходящего, и время дневника связано с временем его жизни: с остановкой пульса писателя на станции Астапово в 6 час. 05 мин. 7 ноября 1910 г. дневник заканчивается.
Замкнутость пространства в дневнике Маковицкого несет определенную смысловую нагрузку. Она усиливает драматизм событий, словно происходящих на обозримой единым взглядом сцене, и переносит акцент с изображения на выражение: Толстой у Маковицкого больше говорит, чем действует. Действия в основном имеют эмоциональный оттенок. Маковицкий как врач подмечает недужные жесты, реакции, мимику своего пациента, т. е. то, что относится к области выражения.
Локализация повествования сводит всех участников духовной и семейной драмы писателя «лицом к лицу». На ограниченном участке вселенной происходит вселенская драма мысли и жизни. Изредка упоминаемые события войны и революции усиливают впечатление того, что конфликт между главными духовными силами происходит здесь, а не на полях сражений, которые являются его глухими отголосками.
Все образы дневника сгруппированы в соответствии с его жанровой спецификой. Образ автора оказался на последнем месте с точки зрения значимости в событийном пространстве дня. Маковицкий сознательно стушевывается, старается говорить о себе как можно меньше. Но это не значит, что образ автора бесцветен. В отсутствие развернутой характеристики заключается отчетливая идейная и творческая позиция автора.
По своему мировоззрению Маковицкий, бесспорно, принадлежит к последователям учения Толстого. Но среди толстовцев были активные проводники его теории и образа жизни (а некоторые из их числа даже отличались известной агрессивностью) и были такие, которые не занимались проповедью, а ограничивались рамками жизни согласно учению Толстого, как, например, М.А. Шмидт. К числу последних принадлежал и автор «Яснополянских записок».
Как и H.H. Гусев, Маковицкий вначале занимал позицию прозелита толстовства. Ему, несмотря на его далеко не юный возраст, были чужды какие-либо высказывания или действия агитационного характера. И в семье писателя он жил (или по крайней мере старался жить) незаметно, выдвигаясь на первый план только в роли домашнего врача. Подобная позиция отразилась и в его дневнике.
Первоначальная стеснительность и боязнь быть непонятым из-за плохого знания русского языка способствовали формированию линии поведения, которая не всегда находила понимание у близких Толстого. В многочисленных дневниках и воспоминаниях круга Толстого Маковицкий упоминается вскользь, мимоходом. Одними он воспринимается как фигура незначительная, другими – как человек ограниченного ума (см., к примеру, отзыв о нем в дневнике С. А. Толстой: «<…> Л.H. поехал с глупым Душаном верхом <…>», т. 2, с. 205). В основном личность Маковицкого вошла в сознание большинства обитателей и завсегдатаев яснополянской усадьбы в его профессиональной функции.
Позиция наблюдателя и «осторожного» участника событий отчетливо прослеживается на протяжении всего повествования. Только в самом конце рассказа о Толстом Маковицкий выражает свою активную позицию: сопровождая его во время бегства из Ясной Поляны, организует его отдых, лечение, ограждает от назойливых посетителей, наконец, препятствует общению с умирающим писателем Софьи Андреевны.
Из жизненного положения Маковицкого в доме Толстого вытекала и его творческая позиция в дневнике. Образ автора строится по принципу контраста: летописец противопоставляет свою человеческую слабость величию и силе характера Толстого: «Когда я сегодня просматривал все собранное мною для «Круга чтения», мне стало неприятно и совестно, что сам я пишу такие вещи, а жить так не умею» (т. 1, с. 99).
Из наблюдений над жизнью писателя, из многочисленных бытовых ситуаций, реплик Маковицкий делает выводы для себя и стремится строить свое поведение в духе толстовской линии жизни. Он перевоспитывается, глядя на образцы нравственности. Высказываний в этом роде в дневнике встречается немного, но главная тенденция пронизывает все повествование. Она выражается в той осторожности и деликатности, с которыми Маковицкий подходит к оценке слов, дел и мыслей Толстого. Мы почти не встречаем на страницах многотомной летописи категорических суждений. Это говорит не об авторской бесстрастности, а об усвоенных им моральных правилах толстовства: непротивлении, смирении, прощении, сострадании к заблудшим. Наоборот, невыполнение тех или иных религиозно-этических заповедей влечет мгновенную самокритику: «Как у Чертковых и Толстых нет подобострастия! Надо и мне быть таким со всеми людьми: и с низшими – простым, неизбалованным, и с высшими – тоже простым, не приниженным» (т. 1, с. 184); «Я сегодня утром был сердит на больных, а потом угрюм. К Л.Н. равнодушен, невнимателен. Его два поручения (письма) исполнил только официально. А не с радостью, охотой» (т. 4, с. 219).
Оценка человека с точки зрения категорий толстовской религиозно-нравственной философии свойственна и другим образам дневника. Как правило, сторонники учения Толстого рисуются в мягких тонах, кратко, с использованием набора близких по смыслу понятий. Это – «классические» толстовцы, на деле доказавшие свою верность учению патриарха: «За обедом я застал Буланже. Он не состарился, серьезный, деловитый, скромный, приятный» (т. 1, с. 128); «Сутковой <…> пришел пешком <…> мягкий, добрый, не человеконенавистник, скромный, работящий» (т. 2, с. 254); «С Булгаковым не было во все время его пребывания в доме никакой распри. Правдивый, простой, мягкий, прилежный, способный человек» (т. 4, с. 264).
С людьми иных идейных убеждений и психологического склада Маковицкий в силу мягкости своего характера не вступал в дискуссии и так же как единомышленников предпочитал наблюдать со стороны. В дневнике образы таких людей отличаются большей экспрессией, порой в их характеристике звучат резкие нотки. При этом структура образа в целом не меняется. Образ сохраняет целостность. Появляются лишь дополнительные оттенки, не свойственные толстовцам. Видно, что Маковицкий ценит в человеке высокое идейное начало, подкрепленное яркими способами его эстетического выражения: «Щербак производит сильное, внушительное, ошеломляющее впечатление (таким я себе представляю воздействие Бакунина). У Щербака могучая, крупная фигура, черные, сверкающие глаза; лицо подвижное как у актера; меткие, энергичные движения, голова с черной гривой и кулачищи; громогласен и речист; убежденный (и убедительный) тон, с каким провозглашает, долбит свою «непогрешимую» программу, внушительный» (т. 1, с. 445).
Напротив, люди идейно и душевно ущербные воспринимаются Маковицким отрицательно. Их образы деформированы. В слова, используемые для их характеристики, Маковицкий вкладывает отрицательный смысл: «Офицеров – он сошел с пути, стал декадентом и критикующим «толстовцев и толстого» <…> На меня произвел впечатление самодовольного, оригинальничающего, циничного декадента» (т. 3, с. 11–12).
Наиболее противоречивым был образ Софьи Андреевны. Как жену Толстого Маковицкий не мог ее не уважать и не ценить. На протяжении шести лет он вместе с ней заботился о больном старце, входил в подробности семейного быта, часто лечил саму хозяйку Ясной Поляны.
Присмотревшись к тем отношениям, которые складывались в семействе Толстых между супругами, между родителями и детьми, Маковицкий занял в конфликте одну из сторон, что как врач не имел права делать. Правда, эта позиция не было столь явной, чтобы усиливать противоречия. Но в дневнике она выразилась в последовательном увеличении отрицательных характеристик Софьи Андреевны. Высказывания Маковицкого о жене писателя в ситуациях обостренного невротического возбуждения последней граничат с отсутствием профессиональной этики. Здесь Маковицкий выступает не как врач, а как толстовец. Хотя Толстая непосредственно не была пациенткой Маковицкого, за 6 лет он имел возможность составить представление об этиологии ее болезни. В трактовке ее образа сказалось отсутствие таланта проницательного психолога.
Образ Толстой дан в развитии в смысле его постепенного снижения. Приводимые в дневнике высказывания Софьи Андреевны о своей прошлой жизни, об отношении к ней Льва Николаевича соседствуют с негативными оценками ее поступков в спорах и конфликтах с мужем. Все то, что Толстой делает и говорит, Маковицкий возвеличивает, а многое из того справедливого, в чем Софья Андреевна упрекает мужа, он либо оставляет без комментариев, либо оценивает отрицательно. Нервные срывы больной женщины он нередко сводит к капризам и искусственной истерике и во всех случаях оправдывает и жалеет Льва Николаевича: «Софья Андреевна сегодня охвачена злом <…> Взбудоражила весь дом, особенно Александру Львовну, своей злобой и лганьем» (т. 3, с. 411–412); «каюсь в грубости, ненависти к Софье Андреевне. Л.Н. во всем терпелив, внимателен» (т. 3, с. 438); «<…> Софья Андреевна начала раздражаться на Л.Н. и Черткова <…> стала отчасти от самоистязания действительно болеть (одышкой и сумасшествием <!!!>)» (т. 4, с. 296).
Негативистская тенденция (повторяем: слабо выраженная) компенсируется апологетическим изображением Толстого. Наряду с А.Б. Гольденвейзером, H.H. Гусевым, В.Ф. Булгаковым Маковицкий создает в дневнике идеализированный образ автора «Войны и мира». Для Маковицкого Л. Толстой – безупречный авторитет в вопросах жизни, морали, в своих изустных и печатных проповедях и произведениях искусства.
Развернутых суждений о писателе, однако, в дневнике мы не встречаем, по двум причинам. Во-первых, они не входили в замысел автора. Во-вторых, судить о Толстом – художнике и мыслителе – было не под силу доктору Маковицкому. Его роль ограничивалась точным воспроизведением сказанного, сделанного, пережитого за день.
На протяжении всего повествования сохраняется по-детски восторженное отношение автора к своему кумиру: «Я онемел от радости, впиваясь в него глазами, и долго не мог прийти в себя» (т. 1, с. 103). Те противоречия между учением и жизнью Толстого, на которые указывали многие корреспонденты писателя, не нашли отражения в записках Маковицкого. Образ Толстого дан в теплых, мягких полутонах: «У него лицо усталое, но проясненное. Глаза глубокие, открытые, не в глубине под бровями, как обыкновенно. Брови с рыжинкой, седая борода начинает желтеть» (т. 2, с. 99).
В передаче острых психологических состояний, как врач, Маковицкий старается ослабить напряжение, как бы успокоить боль своего пациента: «Л.Н. был потрясен <…> он прямо физически страдал <…> Был уставший, ужасно расстроенный, глаза у него блестели, как в лихорадке, и глубоко ввалились» (т. 1, с. 162).
По мере того как автор дневника глубже постигает масштабы личности Толстого и его значение для современной цивилизации, чисто эмоциональные оценки уступают сравнительно-историческим. Маковицкий пытается, по мере своих способностей, определить роль Толстого в грядущих судьбах человечества. В таких случаях он отвлекается от бытовой конкретики и мыслит широкими временными категориями: «Как современники не замечали, не понимали Христа! Подобно как теперь Л.H., его разъяснения (истины), предостережения <…> А может случится то, что с Христом: через несколько десятилетий или столетий им, Л.Н-чем, будет жить мир» (т. 2, с. 118).
С этой точки зрения надо рассматривать и многочисленные изречения Толстого, приводимые летописцем. Они образуют в структуре повествования автономную жанрово-стилевую сферу. Это – аналог учительского Евангелия, своего рода logia Толстого, которые Маковицкий, как апостол Иоанн, дословно приводит в дневнике. Хотя на их долю приходится незначительное количество текста, в содержательном отношении они играют весьма весомую роль. В структуре дневной записи logia Толстого составляют идейный центр. Чаще всего изречения группируются в последовательный ряд по тематическому принципу: «– Знаю, что лучше, чем писать «Круг чтения», кротко относиться к людям. – Желание воздействовать на других граничит с желанием славы людской, тут надо усилить (борьбу с этим желанием). – Желание жить в душах других людей законно» (т. 2, с. 504); «– Русский народ стоит впереди всех. – Надо понять основной принцип: кто будет владеть землей, будет владеть людьми. – Равенство людей друг перед другом, но <кто?> это осуществит? – Они устроят это. Один идет в город, продает; другой отказывается от надела. – Непонимание самого основного – того, что народ понимает. – Русский народ стоит гораздо выше. Его развращают очень успешно» (т. 4, с. 147–148).
Исследователями отмечалось отсутствие у Маковицкого литературного дарования. Он сам признавал и сожалел, что плохое владение слогом умаляет значимость его записок. Свою задачу он видел в точном воспроизведении слов и дел Толстого, но для этого у него не доставало умения: «Л.Н. так не говорит, как я записываю. Он выражается кратко, сильно, ни одного лишнего слова <…>» (т. 1, с. 112).
В процессе работы над дневником Маковицкий прошел своеобразную школу литературной образованности. Его слог совершенствовался, усваивая все лучшее из его окружения. Годы близости с Толстым, его близкими, коллегами по перу и помощниками способствовали формированию его дневникового метода и стиля. Не последнюю роль в этом сыграло знакомство с дневниками Толстого и его круга: «Я сегодня читал дневник Гусева. Как хорошо он записывает! <…> и особенно связно и ясно, и короче» (т. 3, с. 50).
В тексте «Яснополянских записок» мы встречаем различные речевые жанры, которые придают им оригинальный литературный колорит. Простота и даже некоторая примитивность стиля окупаются искренностью описаний. В минуты радости и вдохновения Маковицкий нарушает план повествования и то вводит в текст рассказ-миниатюру, то делает пейзажную зарисовку. Безыскусность манеры, непосредственность таких записей создают в дневнике особое настроение, которое нарушает однообразие ежедневной хроники событий. Рассказ оживляется эмоциональным тоном, в котором проступает чувство чистого душой человека: «Утром пролетели на юг дикие гуси. Пополудни – журавли в четырех стаях. Утром – один градус Мороза. Иней. Приблизительно за месяц первый ясный день, и солнце грело. В прошлые дни сильные ветры оборвали листву – сперва с лип, вязов, дубов, теперь падает уже с берез. В парке слышно громыханье телег по шоссе. Вчера и сегодня прилежно копают и сушат картошку» (т. 1, с. 409).
Видное место в дневнике занимает драматический диалог. Маковицкий фиксировал далеко не все разговоры Толстого с его домочадцами. За 6 лет жизни в Ясной Поляне он научился отбирать наиболее интересные и острые споры писателя и его собеседников. Именно в построении диалогов Маковицкий был далек от стенографирования. В его дневник попадали только идейно значимые разговоры.
В особо драматических ситуациях Маковицкий пытался передать внутреннее напряжение Толстого и его оппонентов посредством театральных ремарок. Этот прием эффективнее описаний воссоздавал внешний облик писателя в моменты душевных конфликтов и острых переживаний: «М.С. Сухотин (за завтраком): – Я должен сказать, что порадовался убийству Плеве. – Л.Н. (со стоном страдания): – Нет, нет, нет! За все это время было одно радостное для меня событие – гурийцы» (т. 1, с. 216).
К сожалению, со смертью Толстого Маковицкий прервал свою летопись. В отличие от Софьи Андреевны, он не чувствовал себя в праве говорить о себе, маленьком человеке, после того как 6 лет жил в своем дневнике жизнью гения.
ВАЛЕНТИН ФЕДОРОВИЧ БУЛГАКОВ. Из всех летописей жизни Л. Толстого булгаковская – самая короткая[55]. Она охватывает последние десять месяцев жизни писателя. Личность ее автора весьма примечательна в том смысле, что, будучи безвестным студентом, он вдруг становится личным секретарем создателя «Войны и мира». Надо было обладать действительно незаурядными душевными качествами, чтобы обратить на себя внимание писателя и его семейства.
Предназначение дневника Булгакова совершенно очевидно и не требует дополнительных комментариев. Булгаков старался сохранить для современников образ живого Толстого в его повседневной жизни, как это до него и параллельно ему делали секретари писателя и его домашний врач.
Отношение к Булгакову ближайшего окружения Толстого было доброжелательным, и это способствовало его успешной работе как первого литературного помощника писателя и ведению дневника: «Ко всем решительно окружающим Льва Николаевича я не питаю никакого иного чувства, кроме глубокой благодарности за их доброе отношение ко мне» (с. 370).
Форма подневных записей вытекала из служебных обязанностей Булгакова. Дневник велся непринужденно, в свободной манере, без той стенографической скрупулезности, которая была свойственна Маковицкому. Вполне естественно, что в пространственно-временном отношении он был ограничен повседневными событиями яснополянской жизни и именно этой сосредоточенностью раскрывал драму Толстого в последний год его жизни, предвосхищал неизбежность его конца.
Взгляд раскрепощенного, общительного человека, не связанного догматами «учения», хотя и причислявшего себя к толстовцам, существенно отличался от суровой, аскетичной манеры Маковицкого. В дневнике последнего чувствуется известная дистанция между его автором и писателем, какая-то отстраненность, несмотря на шестилетнюю близость его с Толстым. Манера Булгакова поражает своей теплотой и задушевностью, словно он был знаком с писателем долгие годы и был ему близким человеком. Булгаков то приближается к Толстому, то отдаляется от него в зависимости от задачи изображения. В этом перспективном вйдении личности великого художника видится человек другого поколения, иной формации, в котором тяга к положительному в учении Толстого сочетается с жизненным оптимизмом, идущим от молодости, от ощущения полноты сил и надежд на будущее. В то же время Булгакову чуждо все мрачное, «самоедское» в произведениях писателя. Он смело обходит его в своей летописи, видя в нем источник разыгрывающейся на его глазах трагедии. Единственный из всех современников Толстого, знавших его лично многие годы, Булгаков оказывается пророком, предсказывая в дневнике исход этой трагедии: «И мне очевидно стало, что яснополянская трагедия еще долго будет продолжаться; или, напротив, кончится скоро, но конец будет неожиданным» (с. 340).
Несмотря на короткий срок проживания в Ясной Поляне, Булгакову удалось увидеться и познакомиться с огромным количеством ее посетителей. Часто эти встречи были кратковременными, мимолетными и не оставили о себе записей в дневнике. Но значительная их часть была освещена Булгаковым. Булгаков испытывал глубокий интерес к личности единомышленников Толстого, частых гостей Ясной Поляны и близких писателя.
Все образы дневника имеют идейную и структурную доминанту. Они рассматриваются и оцениваются в их отношении к личности Толстого: «<…> здесь, ставя невольно каждого посетителя рядом с Толстым, по большей части приходишь к выводам слишком строгим по отношению к наблюдаемому человеку и делаешься, вероятно, несправедливо придирчивым» (с. 191).
Единомышленникам Толстого отдается предпочтение в том смысле, что о них Булгаков пишет подробнее: коротко излагает их биографию, делает акцент на нравственном перерождении под воздействием учения Толстого, описывает отношение к ним последнего. Так строятся образы М.В. Булыгина, В.В. Плюснина, Я.А. Токарева, Ф.Х. Граубергера, O.K. Клодт и других толстовцев. К примеру, характеристика Булыгина занимает полстраницы, а о зяте Толстого М.С. Сухотине Булгаков говорит мимоходом, ограничиваясь короткой и идейно нейтральной фразой («очень остроумный человек»).
Если Сухотин, не будучи правоверным толстовцем, не вызывает неприязни или конструктивной критики по причине своей «нейтральности», то люди, не симпатизирующие «учению», а напротив, принадлежащие к западной культуре, к «интеллигенции», описываются подробно, в умеренно негативном тоне. Так строятся образы знаменитого актера П.Н. Орленева и сына художника Н. Ге: «<…> Ге – чуждый Льву Николаевичу по духу человек, хотя его и зовут у Толстого «Колечка Ге» <…> и он издавна считается другом всей семьи. Это – типичный интеллигент, с каким-то западным оттенком (недаром Ге не любит Россию и перешел во французское подданство)» (и далее Булгаков приводит пространный диалог Ге с Толстым).
Образы родных Толстого по своей структуре отличаются от основного типа. Они также строятся по принципу «сторонник – противник» «учения», но захватываются более глубоко. Среди них выделяются образы Софьи Андреевны и младшей дочери писателя, Александры Львовны. В жизни они были антиподами по отношению к «учению», по культуре и воспитанности, кругу интересов и образу жизни. При создании их образов Булгаков отходит от своей схемы, занимая объективистскую позицию. Невзирая на то что Александра Львовна слыла правоверной толстовкой, а Софья Андреевна – ярой противницей «учения» и практики толстовства, Булгаков в своих характеристиках обеих женщин расставляет акценты по-другому. Он отвлекается от «идеологии» и рассматривает их образы по отношению к Толстому не с точки зрения верности «учению», а в человеческом плане. Близость дочери к Толстому не нейтрализует отрицательных черт ее характера в представлении Булгакова, а конфликтные отношения с писателем его жены не умаляют жалости и сочувствия секретаря Толстого последней.
Несмотря на молодость, Булгаков верно оценивает роль каждой из женщин в семейной драме писателя. При характеристике Александры Львовны он руководствуется не только личными наблюдениями, но и использует высказывания Софьи Андреевны о своей дочери: «Александра Львовна <…> влетела в комнату <…> с расставленными в виде полукруга руками, точно она собиралась вступить с кем-то в единоборство. Невольно вспомнилось мне, как характеризовала ее Софья Андреевна: «Разве это светская барышня? Это – ямщик!» Потом <…> неподвижно, сжав губы в длинную, полунасмешливую, полупрезрительную, холодную улыбку, молча сидела на диване за письменным столом» (с. 362).
Образ жены Толстого в дневнике Булгакова далек от той односторонности, которая свойственна некоторым другим летописцам жизни писателя в последние годы его жизни. Известно, что в самой семье Толстого конфликт развел родных по разные стороны в отношении матери и отца. Хроникеры невольно поддавались веяниям той нравственной атмосферы, которая царила в яснополянском доме. В этом смысле позиция Булгакова заметно отличается как от роли родственников Толстых, так и от воззрений мемуаристов.
Сознание молодого Булгакова еще не было отягощено идейными предрассудками и нравственными изломами. Им движет естественное чувство добропорядочного и искреннего человека, который инстинктивно сочувствует страданию и не приемлет бессердечия и равнодушия. Поэтому образ Софьи Андреевны в его дневнике дан наиболее объективно, целостно, во взаимодействии противоречий, свойственных ей в последнее десятилетие жизни Толстого.
Булгаков не акцентирует внимание, как Маковицкий, на болезненных сторонах ее психики, хотя попутно и говорит о психологических срывах. Он видит в ней прежде всего глубоко страдающего и любящего человека, вынесшего на своих плечах огромное бремя забот, тревог, испытаний: «Лицо Софьи Андреевны было бледно, брови насуплены, глаза полузакрыты, точно веки опухли… Нельзя было без боли в сердце видеть лицо этой несчастной женщины. Бог знает, что было в это время у нее на душе, но она не потерялась <…>» (с. 381).
Образ Толстого в дневнике Булгакова складывается из двух слагаемых. Ему свойственны характерные всем летописцам жизни писателя черты восторженного отношения к гению и сугубо индивидуальные приемы. К первым относится ощущение эмоциональной приподнятости, восторга и обожания, которое по сравнению, например, с Маковицким, выливается в более выразительную эстетическую форму. Булгаков не ограничивается записью эмоции, спонтанно прорвавшейся наружу, а воссоздает всю ситуацию. Структура записи от этого усложняется. Она приобретает свойства художественного текста, в котором диалог переплетается с описанием и передачей лирического состояния автора. Именно последнее является кульминацией всей сцены: «Можно ли было променять на какое бы то ни было пение ту радость общения с Толстым и все, что оно давало, которыми я пользовался!.. – Какой прекрасной музыкой прозвучал для меня самый вопрос Льва Николаевича, до такой степени растрогавший меня, что я едва был в состоянии удержать готовые брызнуть слезы!..» (с. 108).
Сложная структура личного отношения к писателю воспроизводится Булгаковым и при непосредственной характеристике Толстого. Как опытный художник, Булгаков идет от внешнего к внутреннему. За мимикой, жестикуляцией, позой Толстого он стремится угадать состояние его души; за сменой самочувствия – движение мысли, переживание. Наблюдения Булгакова всегда метки, характеристики состояний Толстого полны и по-художнически лишены субъективизма. Булгаков не ограничивается подробным описанием и анализом, он обязательно делает выводы нравственно-психологического содержания. В выводах он опирается как на собственные убеждения, так и на господствующее мнение о личности писателя. Но это последнее прямо не выражается в тексте записи. Оно составляет идеологический фон повествования. Непосредственные наблюдения и широкомасштабные выводы соотносятся у Булгакова как особенное и общее: «Удивительно меняется Лев Николаевич в зависимости от состояния здоровья: если он болен, он угрюм <…> даже борется в такие минуты с «недобротой» <…> напротив, если он здоров, он очень оживлен, речь веселая, быстрая походка, большая работоспособность» (с. 149); «Голова, выражение лица, глаз и губ Льва Николаевича были так необычны и прекрасны! Вся глубина его души отразилась в них» (с. 207–208); «Я любовался способностью Льва Николаевича войти в интересы другого человека, в данном случае Оболенского, даже в его манеры, стать с ним на одинаковую ногу и соблюсти в то же время человеческое достоинство, не сделав ни малейшей уступки в сохранении своей духовной независимости» (с. 277–278).
Принципы создания образа в обобщенном виде находят применение в масштабах дневника в целом. На их основе формируется творческий метод автора, стиль его летописи.
Булгаков – литературно одаренный автор. Он мастерски владеет повествовательным жанром. Многие страницы его дневника представляют собой замечательные образцы прозы. Изображение и выражение образуют у него гармоничное единство.
Как уже отмечалось, Булгаков не ограничивается констатацией какого-то события в жизни Толстого или обитателей Ясной Поляны. Он по-музыкальному разрабатывает «тему», соизмеряя главное с деталями. Нередко описание эпизода обращается под пером летописца в развернутую мизансцену, в которой действие обставляется интерьером и пейзажем. Поступки «персонажа» показываются не отвлеченно, сам он оказывается погруженным в быт или природную среду.
Наряду с живописным фоном рассказчик воссоздает динамику действий своего героя. Булгаков – враг статичных описаний. Он испытывает острое пристрастие к подробностям действий человека: его манеры держать себя, говорить, сидеть на лошади, двигаться. Порой он даже чрезмерно увлекается своим искусством зрительно представлять поступки Толстого или кого-то из его окружения. Подобные записи переходят жанровые границы дневника и превращаются в очерки. К ним относится запись под 20 апреля, передающая поездку Толстого с Булгаковым на московско-орловское шоссе, занимающая 4 страницы.
Так же обстоит дело с диалогами, передавая которые, секретарь Толстого сохраняет все обстоятельства их течения и добивается высокоточной «инсценировки».
Дневник Булгакова блестяще завершает сложившуюся за долгие годы традицию, передавая эстафету поколению мемуаристов, писавших о Толстом.
Николай Александрович ДОБРОЛЮБОВ
Своеобразие дневника Добролюбова[56] обусловили два фактора – индивидуально-психологический и социально-исторический. Критик создавал летопись своей жизни в том возрасте, который мы называем периодом индивидуации. Дневники, отражающие психологию созревания, имеют свою устойчивую структуру, подчиняются строгой логике расширяющегося сознания.
Правда, основной текст добролюбовского дневника относится к периоду общественного подъема, который оказал сильное воздействие на различные элементы жанровой структуры дневниковой прозы. Социальная тенденция ускорила духовный рост критика, интенсифицировала процесс психологического самоосуществления. В дневнике обе тенденции в их сочетании создали определенное напряжение на уровне стиля, метода, хронотопа и образного мира. В нем как бы существуют два слоя, легко различимые по своим характеристическим признакам. Традиционная жанровая структура, таким образом, усиливает звучание новационных элементов и тенденций.
Первые попытки ведения журнала подневных записей были предприняты будущим критиком в возрасте 14 лет. Этот материал относится к жанру пародии. Вероятно, он имел хождение среди сверстников Добролюбова, так как велся не от имени автора, а отстраненно, в манере игривого травестирования («Летопись классических глупостей» – «глупости, сделанные в классе учениками (Выдержки из дневника я ***)»).
Параллельно юный пародист делает записи вполне серьезного содержания, в которых проступают черты дневника зрелого периода. Они представляют зародыши того нравственного «катехизиса», который обычно включался в перечень основных пунктов периода индивидуации. Такой «катехизис» содержал нормы и правила поведения, которые предписывал себе молодой летописец (ср. с дневниками Жуковского, И. Гагарина, Л. Толстого, Дружинина, Чернышевского). Правила, или моралии, часто заключались в форму афоризма или непосредственно заимствовались из сочинений авторитетных мыслителей и литераторов, чтением которых в данный период занимался автор дневника («Замечательные изречения», «Pro memoria», «Добродетель есть summum bonum каждого человека. Добродетельный человек достоин уважения, хотя бы всего прочего лишен был. Без добродетели все другие выгоды не избавят его от поношения и презрения», с. 574).
Позднее, по мере интеллектуального и нравственного взросления, Добролюбов обращается в поисках мудрых мыслей к признанным авторитетам отечественной литературы и философии. Для его поколения таковым, бесспорно, был А.И. Герцен. Поэтому в одной из записей встречаем знаменательную фразу: «Надо об этом прочитать о развитии понятия чести у Искандера: он, может быть, наведет меня на какие-нибудь мысли» (с. 445).
Ранние записи содержат не только юношеские рефлексии, но и попытки анализа чужого характера. Такая черта также свойственна авторам дневников в этом возрасте. Как правило, молодых летописцев привлекают фигуры, личность которых может служить образцом для подражания, этаким идеалом добродетели, интеллекта или творческой мощи (Андрей Тургенев в дневнике Жуковского, Лабодовский в дневнике Чернышевского, П. Федотов в дневнике Дружинина).
Будучи выходцем из семьи священнослужителя и учеником духовной семинарии, Добролюбов находит много достоинств в личности нижегородского епископа, которому посвящает специальную пространную запись. В ней, правда, нет прямого указания на то, что данное лицо служит юному семинаристу нравственным идеалом. Его образ скорее напоминает литературный портрет с элементами психологического анализа. Не случайно автор во второй записи дневника замечает, что «для психолога преосвященный Иеремия – находка» (с. 419). Тем не менее налицо сам факт выделения в самостоятельный очерк воспоминаний о яркой, заслуживающей внимания и раздумий личности.
Третьим элементом содержания ранних дневниковых записей (наряду с «нравственным катехизисом» и поиском объекта симпатий и подражаний) является критика собственных недостатков и вытекающее из этой критики стремление к их искоренению. Для этой цели Добролюбов «открывает» в журнале целый раздел под характеристическим заглавием «Психоториум». В него он заносит сведения о своих слабостях и пороках, критически оценивает формирующиеся черты характера: «Нынче <…> принял намерение с этого времени строже соблюдать за собою. Не знаю, будет ли у меня сил давать себе каждый день подробный отчет о своих прегрешениях» (с. 454).
Как заведено в дневниках периода индивидуации, критика часто сочетается с наблюдениями за стадиями духовного роста. В этой части юношеские дневники вместе с динамикой развития личности обычно фиксируют изменения в представлениях авторов о нравственных и жизненных ценностях.
Духовное развитие Добролюбова шло такими стремительными темпами, что он не успевал оперативно обрабатывать накопившийся материал, оставлял дневник, окунаясь в гущу жизни, потом снова возвращался к нему, так что возрожденная летопись отражала постоянное обновление сознания и мировоззрения автора: «Пора возобновить забытый свой дневник, излить в нем новые живые впечатления, которые я нынче получил» (с. 432); «Начну с этих записок. Хоть теперь нет передо мной первых листов их за прошлый год, но я помню ясно, что в тот год я писал хуже: нынче у меня рука тверже, и как-то размашистее пишу я. Во-вторых, я припоминаю, что в начале прошлого года я записал спор свой и поражение В. Соколова, теперь я иначе смотрю на это, и мне стыдно, что обратил внимание на подобную мелочь» (с. 446); «Кроме того – заметно даже мне самому (впрочем, это не диво: я люблю наблюдать за собой), что я сделался гораздо серьезнее, положительнее, чем прежде» (с. 447).
На завершающей стадии периода индивидуации авторы составляют в дневнике жизненный план, своеобразную программу действий на перспективу. Здесь не только расписываются по пунктам задачи и проекты будущего, но дается взвешенная оценка собственных сил, направленности интересов, выбирается род деятельности.
У Добролюбова, в силу своеобразия его ранних дневниковых тетрадей, этот элемент встречается в более поздних записях. Однако если считать весь дневник (вплоть до 1859 г.) отражением процесса индивидуации, то появление его в структуре систематических записей не покажется случайным. В этом, напротив, видится логика духовного развития критика, который строит планы на будущее тогда, когда для этого созрели необходимые объективные и субъективные предпосылки: «<…> я очень ясно вижу свое настоящее положение и положение русского народа в эту минуту и поэтому не могу увлекаться обольстительными мечтами <…> Я чувствую, что реформатором, революционером я не призван быть… Не прогремит мое имя, не осенит слава дерзкого предпринимателя и совершителя великого переворота… Тихо и медленно буду я действовать, незаметно стану подготовлять умы; именье <…> жизнь, безопасность личную я отдам на жертву великому делу <…>» (с. 463).
Если обобщить все сказанное о ранних дневниках Добролюбова в функциональном отношении, то представится следующая картина. Разрозненные записи 1850–1855 гг. содержат практически все жанровые элементы, свойственные дневникам периода индивидуации. Но на этом этапе дневник ведется бессистемно. Добролюбов переживает не только период становления характера, но и поисков жанровой формы. Попытки автора придать записям разноплановую функциональную направленность приводят к разбросу материала по разным тетрадям. И в итоге мы видим отсутствие единства в восприятии мира. Это и есть поиск целостного мировоззрения, свойственный данному психологическому возрасту. Отсутствие идейного и методологического единства, стилистическая неупорядоченность придают раннему дневнику характер экспериментаторства, выработки индивидуальной манеры письма.
С точки зрения пространственно-временной организации событий юношеские дневники обыкновенно тяготеют к психологической форме хронотопа. Наблюдения над собственным характером, выработка мировоззрения, разбор прочитанного, планы и мечты оставляют очень мало места для описания событий внешнего мира. Но если даже таковые и попадают на страницы дневника, они подлежат строгому отбору и включаются в сферу сознания автора, т. е. подчиняются законам психологического времени-пространства. Нередко датировка событий носит условный характер: они не прикрепляются к определенному месту и по времени могут растягиваться неопределенно долго.
В ранних дневниках Добролюбова время соотносится со стадиями внутреннего роста, а поскольку они зависят от психологического возраста автора, то и оно приобретает соответствующий оттенок. Вместе с тем параллельно психологическим заметкам будущий критик делает записи, указывающие на конкретное время событий. Они образуют самостоятельные тетради, т. е. отделяются от первых не только содержанием, но и особенностью проживания временных интервалов. Эта группа записей свидетельствует о том, что в дневнике появляется новая тенденция, связанная с расширением сознания автора. Она означает выход за пределы субъективно переживаемого времени в предметный, а затем и в большой, социально-исторический мир.
Элементы нового пространственно-временного мышления накапливаются постепенно. По ним можно проследить, как расширяется горизонт сознания юного литератора: «Памятный листок 1853 года. 22 июня. Написал стихотворение. 20 стихов. – 4 июля. Писал «Провинциальная холера». Рассказ»; «4 августа. Письмо домой»; «Встреча Христова праздника. 1853 год»; «Заметки и размышления по поводу лекций Степана Исидоровича Лебедева. (1857 г.)»; «Закулисные тайны русской литературной жизни (1855 г.)».
Переход к форме локального хронотопа совпал с крупными общественно-политическими событиями второй половины 1850-х годов, которые резко изменили представления человека о своем месте в мире и как бы ускорили ход времени. И в дневнике Добролюбова все чаще встречаются записи, отражающие факты, свидетелем или участником которых автор не был, но которые имели место незадолго до этого. Синхронизация отдаленных событий с моментом их занесения в дневник становится влиятельной тенденцией как у Добролюбова, так и у ряда современных ему летописцев: «Недавно в Александринском театре было представление «Дмитрия Донского». Когда актер сказал: «Лучше смерть, чем позорный мир», все зрители встали с мест, и произошло волнение весьма значительное» (с. 485); «<…> на днях мужики и купцы, собравшись и напившись в одном трактире на Васильевском острове, тоже прониклись патриотическим воодушевлением <…>» (с. 485).
Поскольку записи сохранившихся тетрадей дневника по своему содержанию не вышли за функциональные границы периода психологического самоосуществления, в них до конца сохраняются все три формы хронотопа. Лишь в самых последних записях намечается перелом в этом отношении, и то в виде декларации. Грядущие изменения констатируются, но текстуально еще не реализуются: «Голос крови становится чуть слышен; его заглушают другие, более высокие и общие интересы» (с. 559).
Таким образом, линия развития хронотопа дневника Добролюбова представляется не прямой, а извилистой и ломаной. Она в точности соответствует стилевым, функциональным, типологическим и жанровым тенденциям летописи критика.
Структура человеческого образа в дневнике также трансформируется под воздействием общественных перемен и жизненного опыта критика.
Немногочисленным образам ранних дневников присущи конструктивность и целостность. Так, воссоздавая образ епископа Иеремии, юный семинарист передает не только свое субъективное впечатление, но и рассматривает его как человеческий характер и тип. В портрете священника умещаются детализация облика (осанка, походка, меняющееся выражение глаз), характерность действий и психологические свойства. Образ отличается завершенностью и отвечает намерению автора «вывести» из него «общий итог» (с. 414, 416, 419).
Обращает внимание то обстоятельство, что 15-летний летописец описывает заинтересовавшую его личность не с ходу, а посвящает этому особую рубрику («Заметки <…>»). Он словно упражняется в лепке литературного образа на знакомом и близком ему материале. Поэтому этот первый образ дневника отличается обстоятельностью и претендует на глубину проникновения в человеческий характер.
Другая тенденция заключается в десакрализации образа, в разрушении литературных штампов, довлевших над сознанием будущего критика. При столкновении с действительностью Добролюбов замечает несоответствие между реальным обликом человека и тем обобщенным образом, типом, который известен ему из художественной литературы и который он соотносил с первым.
В одной из записей раннего дневника «литературность» еще является конструктивным приемом в создании образа знакомого человека: «К.П. Захарьева. Странная женщина!.. Нежна до приторности, чувствительна до обидчивости, деликатна до сентиментальности. Слова в простоте не скажет, все с ужимкой <…> Часто она пишет письма к папаше такие же, как и она сама; так и веет от нее Катериной Петровной, как от аптеки лекарством» (с. 424). И в то же самое время намечает новый подход к трактовке образов. Он строится по контрасту с известными из литературы типами: «У Никольских видел я, между прочим, мадам, приставленную к детям <…> Это что-то новое для меня. По романам я представлял гувернантку именно таким существом, как ее описывают, но эта совершенно другое дело. Она жеманится. Важничает, жалуется на угар, сердится, говорит: «Я не могу», «я не хочу»; а все ей смотрят в глаза, все за ней ухаживают, все ей кланяются. Мне кажется, что она весь дом скоро заберет в свои руки, если уж не забрала» (с. 423).
Аналогичное изменение наблюдается и в образе автора. Добролюбов стремится преодолеть в себе стремление разочарованного и не понятого обществом скептика. Эту тягу он связывает с возрастной психологией и выводит из нее борьбу сознательных и бессознательных тенденций в своей душе: «Я имею горестное утешение в том, что понимаю себя с моим еще не установившимся характером, с моими шаткими убеждениями, с моей апатической ленью, даже с моей страстью корчить из себя «рыцаря печального образа» Печорина или по малой мере «Тамарина». Знаю, что тут много поддельного, что это просто кровь кипит и сил избыток, что со временем все это пройдет, и я сам буду смеяться над самим собой. Но все это пройдет не скоро, а до тех пор ничего мне не помешает бороться, страдать и внутренне представлять себя героем нашего времени или по крайней мере романа» (с. 437).
Со второй половины 1850-х годов в структуре человеческого образа происходят существенные изменения. Они вызваны общей эволюцией мировоззрения критика, выработкой приемов портретирования, но еще в большей степени – социальными переменами, сменой нравственно-эстетической и аксиологической парадигмы в общественном сознании.
Во-первых, в дневнике Добролюбова рядом с конструктивными образами появляются репродуктивные, т. е. созданные не рукой автора, а воспроизведенные со слов других людей. В основном данный прием используется при характеристике чиновников прошлого царствования. Их личности быстро обрастали анекдотами, сплетнями. Толки и пересуды создавали устойчивое отрицательное мнение о таких лицах, и Добролюбов нередко переносил в дневник неотобранный материал: «Носится слух, что меняют Мусина-Пушкина <…> Мусин-Пушкин никак не хотел пропустить вторую часть «Мертвых душ» (с. 486) (и далее следует список служебных прегрешений николаевского сановника); «На днях пришло известие, что И.И. Давыдов получил чин тайного советника. Странно, что его никто не любит, все говорят о нем худо» (с. 491) (И снова набор негативных характеристик); «Человек этот <директор пермской гимназии И.Ф. Грацианский> <…> очень недалек, но много о себе думает и распространяет ужас между учениками одним своим появлением» (с. 496). Встречаются и положительные характеристики, составленные на материале косвенных свидетельств и дополненные личными умозаключениями автора.
В таких случаях основанием для позитивной оценки становится идейная близость прогрессивным течениям эпохи: «Это <Мордвинов> – человек, лично знакомый с Герценом и имеющий тенденции совершенно такие же, как и этот человек» (далее излагается история Мордвинова по слухам, с. 473).
Вторая тенденция в эволюции образа находится в русле конструктивного метода. Добролюбов не довольствуется первоначальным впечатлением от личности и старается за внешним слоем характера отыскать сущность человека. Оценка в таких случаях может меняться на противоположную, зато сам автор выигрывает от глубины проникновения в него и многосторонности подходов.
Конструктивно построенные образы отличаются еще и тем, что они созданы на основе личных впечатлений автора и несут на себе печать субъективных оценок. Это, однако, не мешает им быть правдоподобнее тех, которые создаются силой общественного мнения. Собственный взгляд и жизненный опыт становятся важнейшими критериями в оценке человека в данной группе образов: «Аверкиев для меня довольно загадочен. В первое время знакомства он мне очень нравился по своей живости, подвижности, любви к литературе. Но с течением времени все это потеряло для меня цену. Я увидел, что он жив оттого, что по молодости пустоват <…> Кельсиев <…> совсем другое дело. Это человек серьезно мыслящий, с сильной душой, с жаждой деятельности, очень развитый разнообразным чтением и глубоким размышлением» (с. 538).
В сопоставлении с другими дневниками добролюбовский журнал выигрывает с точки зрения образной структуры в том отношении, что, несмотря на негативистские тенденции в общественном сознании и особенно в литературе, он сохраняет целостность как основополагающий принцип в воспроизведении человеческого характера. Даже отрицательные образы в дневнике автора «Темного царства» строятся не на доминирующей черте, а целокупно. Если здесь уместно сравнение с живописью, с ее законами создания человеческого образа, то добролюбовский принцип стоит к методам и приемам образотворчества современных ему летописцев в таком же отношении, в каком объемная живопись находится в плоскостной.
В дневниках периода индивидуации центральное место в системе образов занимает авторский. Личность летописца является одновременно субъектом и объектом повествования. Формирование характера, выработка мировоззрения, критика недостатков, составление жизненного плана – все это определяет движение дневникового «сюжета». Все события для дневника отобраны таким образом, что призваны отображать динамику развития личности автора.
Особенность образа автора в дневнике Добролюбова состоит в отсутствии напряжения между крайностями характера, острых психологических конфликтов, в бескризисном преодолении противоречий. При всех душевных перипетиях образ сохраняет целостность. В повествовании Добролюбова о себе нет хронической неудовлетворенности, как в дневнике Н.И. Тургенева; противоречия между духовными потенциями и невозможностью их социальной реализации, как у А.И. Герцена; затяжного конфликта «бесполезных для ума и сердца удовольствий» и «желанием усовершенствоваться», как у А.Н. Вульфа; наконец, непреодолимого нравственно-психологического противоречия, как у Л.Н. Толстого. Весь обычный для стадии психологического самоосуществления путь Добролюбов проходит на редкость уверенно и целеустремленно.
Критик принадлежал к поколению, которое не страдало душевной изломанностью, и упоминание в дневнике о печоринстве и желании видеть себя героем романа носит оттенок легкой самоиронии. Отрицательные самооценки компенсируются мыслями об уверенности в своих силах и славном будущем: «Во мне таки есть порядочный запас ненависти против людей – свойство ума холодного, острожного, подозрительного, – и злопамятности против судьбы – признак сердца сухого, черствого <…>» (с. 439); «Я рожден с чрезвычайно симпатичным сердцем <…>» (с. 440); «Август и сентябрь прошлого года были бурны для моей душевной жизни. Во мне происходила борьба, тем более тяжелая, что ни один человек не знал о ней во всей силе <…> я совершенно опустился, ничего не делал, не писал, мало даже читал» (с. 450); «Личность моя очень симпатична: это я давно знаю» (с. 537).
Внутренние противоречия, которые автор нередко подмечает в себе, не имеют антагонистического характера, не деформируют образ, а являются проблемами роста. Поэтому образ автора в повествовании получает нравственную силу и художественную выразительность: «<…> как же не сознаться <…> что во мне <…> внутренних сил гораздо больше <…>» (с. 545); «Верно, и мне пришла пора жизни – полной, живой, с любовью и отчаянием, со всеми ее радостями и горестями» (с. 533).
В отличие от болезненной рефлексии романтиков и идеалистов 1840-х годов, гиперболизирующей как увеличительное стекло, душевные изъяны и царапины, самопознание представлено Добролюбовым как акт освобождения от искусственного воспитания, груза литературно-философских условностей, как рывок к свободной и здоровой творческой деятельности. И образная динамика в заключение перерастает в эстетику развивающейся личности: «Итак, вот она начинается, жизнь-то… Вот время для разгула и власти страстей… А я, дурачок, думал в своей педагогической и метафизической отвлеченности, в своей книжной сосредоточенности, что я уже пережил свои желания и разлюбил свои мечты… Я думал, что я выйду на поприще общественной деятельности чем-то вроде Катона Бесстрастного или Зенона Стоика Но, верно, жизнь возьмет свое… И как странно началось во мне это тревожное движение сердца!..» (с. 517).
Типологически дневники периода индивидуации имеют интровертивную установку. Она обусловливается повышенным интересом молодых летописцев к собственному внутреннему миру, к жизни души. Из фактов внешней жизни отбираются преимущественно те, которые вызывают определенные душевные переживания. Вступление в другой психологический возраст обычно меняет соотношение «субъективного» и «объективного» материала в пользу последнего (дневники Жуковского, Дружинина). Дневник приобретает экстравертивный характер.
Этот переход с «физиологической» точностью отмечен в дневнике Добролюбова. «Голос крови становится чуть слышен; его заглушают другие, более высокие и общие интересы», – писал критик в самом конце своей летописи. Однако мы не располагаем той частью дневника, которая была уничтожена Чернышевским и на которую он ссылался в речи на похоронах своего друга и соратника. Из слов Чернышевского можно сделать вывод, что и дневник 1861 г. содержал немало записей, отражающих внутреннее состояние его автора.
Если связать единой линией развития несохранившуюся часть дневников с теми тетрадями, которыми мы располагаем, то их типология будет выглядеть следующим образом. Добролюбов в своем дневнике никогда не придерживался типологической однородности. В пользу этого говорит хотя бы то, что различный по характеру событий материал он разносил по нескольким тетрадям: «Памятный листок 1853 года» и «Встреча Христова праздника. 1852 год» относятся к «внешнему» миру, «Психоториум» и «Замечательные изречения» к миру «внутреннему». Да и в «систематическом» дневнике то и дело встречаются самостоятельные сюжетные вкрапления, в которых сам материал и характер его обработки выделяются на фоне основной части текста («Закулисные тайны русской литературы и жизни» (1855), «Заметки и размышления по поводу лекций Степана Исидоровича Лебедева» (1857), «Цензура» (1859)). С психологической тенденцией периода индивидуации к объективированию душевной жизни уживается стремление охватить как можно больше фактов «большого» мира, развивающегося по своим законам.
Со второй половины 1950-х годов последняя тенденция усиливается в связи с изменениями в общественной жизни. Тем не менее до конца (точнее – до завершения известного нам текста) интровертивный план остается центральным. Именно он отражает развитие личности автора. События же «большой» истории не имеют органического единства. Ее картины, запечатленные в дневнике, фрагментарны, эскизны, порой случайны. По степени интерпретации они не идут ни в какое сравнение с «духовной» историей критика.
Жанровое содержание дневника колеблется в тех же пределах, что и типология. Основная часть текста близка психологическому жанру. Она отражает функциональные закономерности дневника этого периода: наличие «психологии» в форме самоанализа является обязательным условием в обосновании мотива его ведения. Но уже на раннем этапе образуются жанровые окна. Они созданы с целью выхода в другой мир.
Каждое из окон самостоятельно в жанровом отношении. Среди них мы встречаем и бытовой дневник, и хронику закулисной литературной жизни, и очерк-портрет замечательной личности, и картину всенародного праздника. Оформление каждого текста в виде автономной смысловой единицы означало, что Добролюбов с самого начала имел «чувство жанра». Оно заставляло весь чужеродный материал выводить за пределы классического дневника, оставляя в нем только то, что соответствовало его жанровой природе. Другие разновидности подневных записей не ассоциировались в сознании критика с его представлениями о дневнике.
Нельзя объяснить наличие жанровых окон недостатком навыков ведения дневника. Окна встречаются не только в ранних тетрадях, но и в конце сохранившегося текста (1859 г.). Скорее всего этот факт говорит о том, что ко второй половине XIX в. в дневниковой литературе сформировалось жанровое мышление. Оно выработало не только структурные категории, но и дифференцировало элементы содержания.
Работа над основной частью дневника совпала с переменами в общественной жизни, которые не могли не отразиться в нем. По большей части это относится к методу. Как уже отмечалось (см. главу о дневнике Одоевского), в дневниках 60-х годов принцип отбора материала становится менее жестким. С либерализацией государственной цензуры ослабевает и цензура внутренняя. Снимаются запреты на многие темы, которым раньше в дневниках не находилось места. Расширяется источниковедческая база жанра. Дневники наполняются слухами, анекдотами, сплетнями, в них раздается говор улицы, городской толпы, попадают тексты правительственных документов, журнальной публицистики, отголоски зарубежных событий. В дневнике происходит ломка фундаментального понятия – события дня. Согласно жанровому канону, дневник отражает – и это зафиксировано в его названии – факты, явления, имевшие место вчера или сегодня (в зависимости от того, когда делалась запись), т. е. в течение дня. Исключения были, но они, как водится, подтверждали правило. В 60-е годы происходит расширение понятия «сегодня». Оно все чаще подменяется категорией «современность». Интересующее летописца событие не укладывается в один день. Поэтому он вынужден либо «растягивать» структурную ячейку жанра, как это делал Дружинин, вмещавший в одну запись события нескольких недель, давая их пунктиром, либо оставлять все как есть, осознавая условность хронологических рамок записи.
В дневнике Добролюбова эта общежанровая тенденция отчетливо прослеживается. В изложении Многих событий критик опирается не на собственные наблюдения, а ссылается на чужие источники: «<…> таможенную шутку рассказывали о князе А.С. Меншикове» (с. 471); «Писемский, сказывают, большой эгоист, думает о себе весьма много <…>» (с. 472); «Вышнеградский рассказал мне несколько сведений об Уварове <…> Вот, например, анекдот <…>» (с. 478).
Количество информации, полученной из чужих уст, увеличивается по мере усиления общественной активности и радикализации умонастроений. В орбиту интересов Добролюбова – автора дневника – попадает все больше случайных событий, которые осмысливаются им как типические: «Сегодня попался мне извозчик, удельный крестьянин. Я разговорился с ним. Мужик он неглупый <…> Я спросил, кто же нами правит, так он отвечал мне очень просто <…>» (с. 484) (далее приводится разговор); «Между самими солдатиками вот какие песни ходят:
Как четвертого числа Нас нелегкая несла Горы занимать. Барон Вревский анерал К Горчакову приставал, Когда под шафе. Князь! Возьми ты эту гору, Не входи со мною в ссору, Не то донесу» – и т. д. (с. 488).Вместе с неопровержимыми фактами дневник наполняется слухами и особенно анекдотами из конца николаевской эпохи. К ним автор испытывает такое же доверие, как и к очевидным явлениям. В обычном информативном ряду они выглядят не диссонирующими элементами, а равноправными смысловыми единицами. Сами слова «анекдот», «слух» утрачивают значение преувеличенного и полудостоверного происшествия «фольклорного» характера и несут ту же информационную нагрузку, что и реальные события. Они становятся прообразами той «фантастической» действительности, о которой как о знамении времени позднее будет писать Достоевский. К ним Добролюбов относится без тени иронии или сомнения: «Вот еще два анекдота о Райковском» (с. 481); «В заключение месяца еще анекдот об И.И. Давыдове» (с. 499); «В один из последних годов жизни Николая Павловича случилось с ним следующее происшествие» (с. 487).
Стилистическая структура дневника испытала на себе воздействие двух факторов – функциональной направленности и эволюции метода. Слово в дневниках периода индивидуации имеет аналитическую установку. Создание жизненного плана, самокритика, психологический анализ душевной жизни выражаются при помощи специфической системы речевых форм. Ее основу составляет громоздкая синтагма, объединяющая в сложную смысловую конструкцию предложения посредством необычной синтаксической связи: союзие после бессоюзия, цепь отрицательных сравнений, однородных членов или подчинений. Такой вычурный синтаксис был призван выразить тот сложный комплекс духовных исканий, который соответствовал процессу психологического самоосуществления личности.
Анализ душевных феноменов не укладывался в рамки традиционной логики и грамматики. Для ее реализации требовались иные средства. И юный летописец находит его в языковом экспериментаторстве – в связывании фразовых единиц различной синтаксической природы: «Странное дело: несколько дней тому назад я почувствовал в себе возможность влюбиться: а вчера, ни с того ни с сего, вдруг мне припала охота учиться танцевать… Черт знает что это такое… Как бы то ни было, а это означает во мне начало примирения с обществом… Но я надеюсь, что не поддамся такому настроению: чтобы сделать что-нибудь, я должен не убаюкивать себя, не должен делать уступки обществу, держаться от него подальше, питать желчь свою» (с. 508).
Проникновение в дневник во второй половине 1850-х годов многочисленных форм чужой речи – анекдотов, слухов, песен, диалогов – изменяет повествовательную структуру. Повышается удельный вес информативного слова, передающего вместе с содержанием эстетический колорит источника информации. Однако чужие интонации находятся в орбите авторского сознания и слова. Они не нарушают стилистическое единство записи, а лишь расцвечивают текст «живописными» подробностями, лишая его монотонности.
Дальнейшая стилевая динамика дневника, если придерживаться слов Чернышевского, вела к усилению напряжения между собственно повествовательными элементами и аналитикой душевных переживаний, которое (напряжение) придавало записям почти художественную выразительность, так поразившую сподвижника Добролюбова.
Алексей Сергеевич СУВОРИН
Начинать дневник на исходе жизни человека подталкивают особые психологические причины. Это и потеря родных и близких, единомышленников и друзей, и потребность подвести некоторые жизненные итоги, и желание попробовать свои силы в новом роде деятельности (или новом жанре). Во всех случаях поздние дневники имеют иную функциональную направленность, нежели ранние. В юношеском возрасте человек стремится реализовать себя как личность, и дневник призван отразить этапы такого процесса. В дневниках этого периода запечатлено расширение сознания их авторов. Человек, проживающий вторую половину жизни, писанием дневника удовлетворяет потребность в бессознательных движениях души, компенсирующих многолетнюю сознательную установку.
Дневников, начатых во второй половине жизни, не так много. Тем не менее их функциональное единство настолько же очевидно, насколько родственны по своему предназначению ранние дневники. Дневники Е.И. Поповой, В.Ф. Одоевского, П.И. Чайковского, С. И. Танеева, П.Е. Чехова имеют сходные мотивы, несмотря на совершенно разные характеры их авторов. К этой группе примыкает и дневник A.C. Суворина[57], хотя история его создания несколько отличается от летописей других авторов.
Первые попытки вести дневник относятся к 1873 г., когда входящему в моду литератору не сравнялось и 40 лет. Но из этого начинания ничего не вышло: записи делались нерегулярно, интервалы порой составляли несколько лет, менялось жанровое определение написанного (мемуары, «записные книжки», «дневник»). По содержанию начальные наброски больше походили на воспоминания, чем на журнал подневных событий. Так продолжалось около 20 лет. И только с 1893 г. дневник ведется систематически.
Столь длительное «эмбриональное» развитие не могло остаться без последствий: появившийся на свет плод оказался перезревшим, с родовыми пятнами своих престарелых родителей – мемуаров и записных книжек. К тому же конец века в развитии жанра был отмечен новыми чертами, которые как временные отметины отложились на структуре и содержании суворинского детища. Из взаимодействия двух факторов и формировался дневник хозяина «Нового времени».
Вступив в полосу доживания своего века, журналист серьезно задумался над тем, как бы оправдаться перед потомством, не уйти в могилу с дурной репутацией (один из мотивов многих авторов, например П.А. Валуева и Д.А. Милютина), которая утвердилась за ним в сознании прогрессивной общественности. Этот мотив усиливало чувство одиночества и ненужности в меняющемся на глазах мире, от которого Суворин не мог избавиться ни в своем петербургском кабинете за письменным столом, ни на шумном европейском курорте: «Мои старые идеи, мои старые слова не отвечают больше тому, что около меня действует и говорит. Что мне делать в этом мире?» (с. 443); «Внутреннее беспокойство просто грызет меня, и я не знаю, что делать, как быть. Зачем меня понесло сюда? Я прекрасно вижу, что я – мешок с деньгами и ничего больше. Интерес ко мне исчерпывается таким образом <…> Скука и тоска. Тоска человека, выброшенного из жизни, ощипанного, куцего какого-то, переставшего жить. А рубеж прозябания, бездействия мозга и мысли, когда будут говорить только инстинкты» (с. 81).
Привычные для писателя способы самовыражения и литературные жанры не удовлетворяли его. Наоборот, они-то и создали знакомый всей читающей России образ преуспевающего газетного магната, политического дельца и беспринципного публициста.
Кризис возраста обнажил противоречие между психологической персоной (термин аналитической психологии, обозначающий «поведение повседневной жизни индивида») и внутренними побуждениями. Блокированные искусственными преградами, бессознательные импульсы искали выход в идеальной области прошлого, в воспоминаниях. Несколько раз Суворин порывался начать их, и дневник запечатлел ряд таких попыток. Даже ранний дневник задуман в этом жанре. Однако писатель понимал принципиальную невозможность вынести все сокровенное на суд публики и в связи с этим неоднократно высказывал сожаление по поводу того, что с молодости не вел систематического дневника: «Я жалею, что не вел правильного дневника. Все у меня отрывки, и набросанные кое-как. Их выбросят, вероятно, как хлам никому ненужный. Но вести дневник – нелегкое дело для себя самого» (с. 269); «Я не записывал очень интересных вещей, потому что они требуют того, чтобы хорошо их передать, а записывал вздорные вещи. Недолго мне осталось держать перо в руках. В этом периоде умирания, когда не хочется никому говорить, что действительно умираешь <…> дарование не бывает злобно» (с. 296).
Метание между мемуарным жанром и дневником в конце концов склонило стареющего писателя к последнему. В нем Суворин видел возможность докопаться до глубин сознания, дойти до истоков и побудительных причин мыслей и поступков. Откровение перед самим собой, обнажение истины отвечало чувству справедливости, а в перспективе открывало дорогу к доверительному разговору с читателем. Последние два десятилетия, на которые приходится основная часть записей, Суворин искал возможность примирения с читателем посредством высказывания последнего слова (по Достоевскому), исчерпывающего истину о себе: «Иногда ужасно хочется высказаться, может быть, грубо, но все равно как-нибудь высказаться откровенно, чтобы меня дураком не считали. Мое самолюбие постоянно уязвлялось и уязвляется. Может быть, в старости это уязвление становится невыносимым, ибо чувствуешь свое бессилие что-нибудь сделать новое, достойное, удивительное и хочешь, чтобы тебя уважали за старое. А старое кому нужно?» (с. 350).
Дневник более всего подходил для выражения такого содержания. Но многолетний литературный опыт, сложившаяся манера письма и жанровое мышление препятствовали образованию «чистого» жанра с заданными структурными параметрами и «наполнением». Поэтому дневник в своей содержательной динамике постоянно отклоняется от выбранного курса, принимая облик тех газетных жанров, которые были продуктивны в многолетней журналистской деятельности Суворина.
Такое явление не было исключением. Оно выражало закономерности творческого дарования автора и составляло своеобразие его дневника. Недаром в одной из записей Суворин откровенно высказал мысль о том, что в любой новой для него жанровой форме он будет мыслить свойственными ему художественно-эстетическими канонами, как и всякий другой писатель: «Чехов сегодня пишет: «Я бы на вашем месте роман написал <…>» Он бы на моем месте, конечно, написал. Но я на своем не напишу <…> Если бы писать роман, надо было бы совсем особую форму, к которой я привык, с которой сжился. Форма фельетона <…>» (с. 244). Так функция дневника незаметно пересеклась с излюбленной жанровой формой автора.
Жанровое своеобразие дневника – наличие в нем мемуарных компонентов – обусловило и специфический пространственно-временной охват событий. Суворин не ставит перед собой задачу описать событие дня в его неповторимости и уникальности. Жизненный опыт постоянно напоминает ему о связи прошлого с настоящим. И писатель ищет причинно-следственные отношения между удаленными по времени событиями. В установленных связях смысл позднего события раскрывается полнее, а в прошедшем высвечиваются новые семантические оттенки: «Сегодня в газете Трубникова «Мировые отголоски» напечатан удивительный донос на «Новое время» и на меня <…> Три года назад он подавал государю прошение, в котором говорил о «Новом времени» черт знает что <…> Служил в III отделении тайным шпионом в так называемом литературном столе» (с. 185).
Нередко Суворин выстраивает факты в ряд и связывает их по аналогии. От этого разновременные и пространственно удаленные события кажутся происходящими одновременно и в одной системе координат. Происходит приращение смысла, но не методом сложения, а благодаря размещению событий в целостном повествовательном кругу, наподобие разных ведут одной картины. Возникает единый смысловой контекст, в котором явления различной каузальной природы рассматриваются в рамках синонимичных понятий: «Чехов <…> здесь для постановки «Чайки». Савина сказала, что роль для нее слишком молода. Она отказалась в пользу Комиссаржевской, сама взяла Машу. У нас в театре тоже перемены. Яворская снова выступает <…> Холева совсем ее не хочет» (с. 148).
События, между которыми Суворин не усматривает смысловой близости, но которые происходят в пределах одного дня, отделяются в тексте записи горизонтальной чертой. Так создается континуальный пространственно-временной ряд. Он преобладает в дневнике, поскольку отвечает характеру «журналистского» мышления автора. Зачастую запись строится как последовательность заметок или репортажей с места происшествия, в целом образующих калейдоскопическую картину мира: «30 мая 1893 г. Скачки в Лоншане. Тысяч 200–250 народу <…> – Видел индийского принца со свитой <…> – Город Петербург ничего не делает <…>» (с. 67–68); «1 мая 1896 г. У Витте вечером, от 9 до 19 <…> – <…> Было совещание у министров внутренних дел, финансов, народного просвещения <…> – «Гражданин» на днях сделал выписку из газеты «Владивосток» с либеральным оттенком <…> – Витте видел на столе у государя «СПБ. Ведомости» и «Новое время» <…> – С. И. Смирнова рассказывала вчера <…>» (с. 116–118).
Еще в 1860-е годы в дневниковом хронотопе происходит трансформация фундаментальной жанровой категории «событие дня». Она отождествляется с понятием «современность» и вбирает в себя близкие к дню записи события. В конце века эта тенденция усиливается. Расширение информационной базы и кругозора человека приводят к тому, что в структуре дневниковой записи меняется сущность начала, объединяющего содержание. Если прежде таким началом был календарный день со всеми происшедшими в его пределах событиями, то теперь им стал взгляд автора. Категория «дня», будучи объективным онтологическим явлением, выступала регулятором потока событий и определяла их дискретность. «Взгляд автора из сегодня» имел субъективную экзистенциональную природу и охватывал событие, длительность которого не укладывалась в астрономические границы дня, а обладала собственными хронологическими пределами.
Дневник Суворина строился именно на новом принципе хронотопа. Писатель не ограничивается описанием события, а углубляется в его «историю». Такими образом расширяется и уточняется его смысл, становятся понятными необъяснимые с позиций сегодняшнего дня поступки человека или сущность явления. Здесь репортерская оперативность уступает место исторической ретроспекции, взгляду из прошлого: «Сенатор Закревский написал в «Times» письмо, где протестовал по поводу процесса Дрейфуса против французских судов и, давая понять, что во Франции начались неправедные дела со времени союза с Россией, уволен за это из сенаторов <…> обратился к Сипягину с просьбой, нельзя ли это дело как-нибудь поправить <…> Лет 25 тому назад жена Закревского была замужем за господином, которого я знал <…> Закревский с нею жил <…> доктор Гаврилов был приглашен в имение супругов и «особенным лечением» свел его в могилу. Закревский женился на ней и получил огромное состояние» (с. 275–276).
Данный принцип распространяется и на записи сугубо личного содержания. В таких записях прошлое и настоящее взаимодействуют по закону ассоциативной связи, т. е. приобретают форму психологического хронотопа: «Вчера статья Перцова о Герцене. По поводу Герцена вспомнил: в 1858 г. у меня была «Полярная звезда» <…>» (с. 261).
Наличие в дневнике элементов мемуарного жанра, к которому Суворин тяготел с самого начала, обусловило частые ретроспекции. Помимо самостоятельных мемуарных фрагментов, нередко встречаются записи, в которых прошлое возникает как зародыш современных состояний. Взаимодействие двух временных пластов в таких случаях является не просто вольным полетом воображения. Факт частной жизни писателя возводится к универсальному обобщению, типизируется: «Я совсем зарылся в книги <…> Целые дни сижу за антикварными каталогами и выбираю книги. Любезная страсть! Надо иметь какую-нибудь страсть <…> Книги я любил всегда <…> В 20 лет у меня уже была библиотека <…>» (с. 196).
Эту запись можно расположить в порядке обычного умозаключения: надо иметь какую-нибудь страсть – я любил книги всегда и поэтому совсем зарылся в книги – это есть любезная страсть. Так заурядное явление обыденной жизни получает смысл логически выверенного силлогизма. Формальная категория времени способствует расширению смыслового поля в повествовании.
Дневник Суворина – это портретная галерея политических деятелей, литераторов, всевозможных типов и оригиналов своего времени. По богатству образов с ним могут равняться немногие дневники эпохи.
Принцип создания образа у Суворина основывается на его «фельетонном» методе. Он заключается не в описании, сосредоточенном в одной записи, и не в последовательном раскрытии в нескольких следующих друг за другом характеристиках, а в нашумевшем событии, которое карикатурно обнажает скрытую от глаз сущность человека.
Наблюдательный глаз журналиста отыскивает в толпе такие фигуры, которые отличаются выходящими из ряда вон поступками. Они напоминают персонажей из нововременской хроники происшествий: «Граф Гр. Ферзен, промотавшийся, увлек Строганову, 30-летнюю деву, увез ее, повенчался с ней, получил хороший куш, обыграл Паскевича на 300 тысяч рублей» (с. 36); «Черткова – муж идиот – в Петербурге пользуется репутацией злого языка <…> Проиграла на бирже 3 миллиона рублей» (с. 52); «Она <жена Коровина> выпросила себе после войны концессию <…> на панораму Карса и продала ее французской компании за 40 тысяч. Потом появилась в Петербурге продавать шампанское от какого-то фабриканта <…> Понесла письмо на почту. Нет марки. Молодой человек, англичанин, предложил ее. Вышла за него замуж» (с. 66).
Обилие подобных образов свидетельствует не столько об избирательном подходе автора, сколько о жанровой тенденции. Действительно, в конце века в композиции дневникового образа возобладало деструктивное начало. Образ человека утрачивает былую целостность и дается фрагментарно. Причем авторы дневников выделяют негативные стороны человеческого характера или поступка.
Созданный таким способом, образ не производит, однако, впечатления одностороннего или нарочито упрощенного. Девальвирующая тенденция уравновешивается «задним планом». Курьезные случаи в жизни человека, его экстравагантные поступки воспринимаются как результат длительного развития его характера, как следствие, вытекающее из нравственных устоев личности. Поэтому описываемые поступки не воспринимаются как случайные; они типичны для данного характера. Не выявленный задний план подразумевается, а этический поступок соотносится с ним. Вл. Анат. Шереметев, «кутила, картежник, проиграл миллионы своего и женины <…> После одесского Строганова <…> получил наследство в 21/2 миллиона, но не успел еще им воспользоваться. Государь заплатил за него 800 000 долга из уделов <…>» (с. 28); «<…> Гольцев, эта научная дрянь, бездарная, неумелая, весь из хитрости, из обходов, обобрав любовницу свою Воронцову, не брезгал дружбой с мошенниками, льстил перед Данилевским <…> потому что Данилевский был членом Главного управления по делам печати <…>» (с. 30); «Один почтовый чиновник промочил пролитою водою на несколько рублей почтовых марок и с отчаяния, что заплатить нечем, пошел и повесился» (с. 213).
Суворин строит образ так, что в одном или нескольких поступках виден весь человек. Таким образом он устраняет необходимость рисовать полный психологический портрет личности и лишь указывает на доминанту его характера.
Образ автора соответствует основной тенденции поздних дневников. В своем журнале, помимо фиксации основных событий, Суворин стремится подвести жизненные итоги. Поэтому его образ дан не в развитии, как это свойственно летописям первой половины жизни, а ретроспективно. На «современный» образ наслаиваются черты прошлого. По своему пафосу он ближе мемуарному образу.
В дневнике Суворина образ автора осложнен тем, что включен в историю рода. Экскурсам в родословную посвящено несколько записей. В совокупности они образуют автономный сюжет. Повествование начинается с предков, живших во второй половине XVIII в., и обрывается на умерших детях. Размышляя об их судьбах, писатель рисует в своем воображении процедуру собственного погребения и даже фантазирует о посмертных странствиях своей души («Душа моя будет выходить из гроба, опустится под землею в Неву, там встретит рыбку и войдет в нее и будет с нею плавать», с. 98). Так что эстетически образ автора завершен, хотя с точки зрения дневниковой хронологии у него еще имеется временной ресурс.
Образ автора развертывается в соответствии с двумя основополагающими тенденциями – функциональной и жанровой. Во-первых, поздние дневники, как уже отмечалось, ориентированы на бессознательную функцию психики, и в этом отношении авторский образ движется не к «свету», а к «тьме». Во-вторых, этот образ, как и другие, подвержен деструкции и девальвации.
Факт периодического обращения к прошлому, а также постоянные размышления о приближающейся смерти говорят о возрастных изменениях в психике, основательно расшатавших сознательную установку. Погружения в бессознательное, в котором образ идеализирован, отвлекают сознание автора от неразрешенных жизненных проблем и придают его реальному образу некоторую ущербность. А постоянные жалобы на дурное душевное состояние усиливают ее: «Внутренне беспокойство просто грызет меня <…> Вся жизнь потрачена на труд, и к старости, когда смотришь в могилу, нет никого, кто принимал бы сердечное участие <…> Скука и тоска» (с. 81); «<…> с каждым годом становится все хуже и хуже и только ешь много» (с. 146).
Воспоминания о прошлом призваны – бессознательно – уравновесить настоящее состояние неудовлетворенности путем создания положительного образа энергичной и с оптимизмом смотрящей в будущее молодости. В этом контексте приобретают положительное звучание и «тени» предков, изредка появляющиеся на страницах дневника. Они помогают глубже постигнуть смысл собственного существования и отгоняют мысли о бесцельности прожитого. Собственная жизнь воспринимается значимым эпизодом в развертывающемся свитке имен и «дел» предков. И воспоминания завершаются не горьким, а ироническим выводом: «Если мне жить, как прадеду, то умереть очень скоро, а если как отцу, то еще ничего. Почудим!..» (с. 249).
В замыслах Суворин всегда противопоставлял дневник как камерный жанр своему писательскому призванию публициста, журналиста и общественного деятеля. Но в преклонном возрасте попытка создать принципиально новую литературную форму потерпела неудачу. Типологически дневник остался в русле ведущих творческих тенденций писателя, т. е. был сориентирован на события внешнего мира. Как ни старался редактор «Нового времени» отразить на страницах своего дневника душевную жизнь, он непроизвольно превращался под его пером в летопись современных общественных событий. Никакие декларации и заклинания не смогли преодолеть инерцию всех прошлых лет. Напрасно писатель тешил себя перспективой интровертивного дневника – «Надо начать писать о том, что я думаю» – замысел так и остался нереализованным. Даже многочисленные мемуарные вкрапления в текст не меняют его общей направленности: они описывают историю внешней жизни автора, почти не касаясь темы его духовного становления, внутренней эволюции. А историю скитаний своей молодости Суворин обставляет многочисленными «фельетонными» фактами из жизни знаменитостей того времени (Лесков, Чернышевский).
Многолетний журналистский опыт, специфика газетного дела в значительной степени определили и жанровое содержание дневника. Суворинская летопись бесспорно относится к политическому жанру, так как основной ее материал посвящен внутриполитической тематике.
Однако это не та политика, с которой мы имеем дело в дневниках П.А. Валуева, Ф.Ф. Фидлера или В.Н. Ламсдорфа. И дело здесь не в степени приближенности к собственно политическим сферам. Основная часть суворинского дневника приходится на период, когда хозяин «Нового времени» находился на вершине своего политического могущества. Возможности его влияния на политическое мнение широких кругов общественности было не менее велико, чем у высших царских сановников. Дело в другом.
Если в дневниках государственных деятелей типа Е.М. Феоктистова, П.И. Игнатьева, Д.И. Милютина мы имеем дело с политикой в «чистом» виде, без литературной «примеси» в стилистическом и жанровом смысле, то суворинский журнал фильтрует политическую тематику, «прогоняет» ее через очистительный механизм профессионального писательского шаблона, сквозь штампы жанрового мышления. Ведущими жанрами, в которые Суворин облекает политически злободневные факты, являются анекдот, фельетон, репортаж. В этом отношении к суворинскому дневнику ближе дневник В.А. Муханова 1850–1860-х год» в: «В «милостивом» манифесте упомянуто слово «ликовать» или ликование. Митрополит Сергий при встрече их величеств в Троицкой лавре сказал между прочим: «Великая обитель сия, преданная тебе, со священным ликованием сретает тебя, моляся, да благополучно будет и долговременно твое царствование».
«В моей повести «Чужак» <…> выведен мужик-ханжа, живший с красивою бабою и проводивший с нею ночи. Он говорил… что вместе с бабою «они ликуются» (с. 134); «Александр III русского коня все осаживал. Николай II запряг клячу. Он движется и не знает куда. Куда-нибудь авось придет» (с. 264); «Делянов воскликнул после убийства Александра II: – Какое несчастие! Никогда еще этого не было. – А Петр III? – Да, но это на улице. – В комнатах можно душить, а на улице нельзя!» (с. 278).
Второй особенностью политического жанра Суворина является то, что писатель не делает различий между «большой» политикой и незначительными политическими событиями, а нередко снисходит до описания интриг, «грязной» истории. В этом также сказывается профессиональная, журналистская закваска автора: «Наследник <будущий император Николай И> посещает Кшесинскую и <…> ее. Она живет у родителей, которые устраняются и притворяются, что ничего не знают. Он ездит к ним, даже не нанимает ей квартиры и ругает родителя <…> Очень неразговорчив, вообще сер, пьет коньяк и сидит у Кшесинской по 5–6 часов <…>» (с. 24).
Журналистский склад дарования Суворина то и дело склоняет его к обособлению злободневных политических историй в самостоятельные сюжеты новеллистического характера. Так в дневнике появляются: рассказ «Еще о Жохове, убитом Утиным», письмо неизвестной к Суворину, письма самого Суворина, политические статьи из газет. Все эти литературно обработанные произведения, хотя и сохраняют свою автономию в дневниковом контексте, тем не менее явно тяготеют к общей жанровой направленности произведения. Их наличие в дневнике обусловлено своеобразием творческого метода автора.
К концу столетия у классического литературного дневника основательно меняется источниковедческая база. Личные наблюдения и переживания автора уже не являются единственным критерием истины и главным средством информации. Наряду с автором появляются новые ее носители: пресса, общественное мнение, предания в форме анекдотов о недавнем прошлом, частные письма и дневники других авторов.
Летописцам все труднее становится отбирать материал. Порой они просто теряются и впоследствии, уже после сделанной записи, признаются в неправильной селекции. Возникает противоречие между каноном жанрового мышления и новой практикой, требующей от дневниковеда более гибкой методы.
Эта тенденция не только объективно нашла отражение в дневнике Суворина, но и выразилась в негативной форме – в жалобах на неудачный отбор материала для дневника: «Мои заметки носят характер случайный. Вносится часто то, что не стоит, и пропускается то, что записать следовало бы» (с. 306).
Тем не менее писатель не мог противопоставить набирающей силу тенденции устаревшую методологическую модель. Сказывался многолетний литературный опыт. Да и кругозор писателя, склад его характера, природа таланта говорили за новые принципы отбора.
Фельетонность творческого метода выражается в выборе источников информации. Как у заправского репортера ими у Суворина становятся городские слухи, ходячие анекдоты, меняющееся общественное мнение: «Пропасть сплетен за эти дни <…>» (с. 22); «Анекдот об Иннокентии» (с. 91); «С. С. Татищев рассказывал о пререканиях в министерстве иностранных дел» (с. 153). Нередко на страницы дневника попадают выдержки из правительственных распоряжений, фрагменты газетных статей, выписки из дневников других авторов. Все они являются новостями «из первых рук» и создают впечатление достоверности и объективности изображаемого: «Сегодня в «Правительственном вестнике» № 279, четверг, появилось следующее: Внутренние известия <…>» (с. 394–395); «Из записки мин. Финансов (Госуд. Двор. Зем. Банк) 7 апреля 1897 года, № 1263 <…>» (с. 195); «Читал выписку из заметок покойного Любимова – давал сын его <…>» (с. 202).
Суворин черпает материалы для дневника везде, где можно. Неотобранность источников создает на его страницах атмосферу неорганизованного многообразия. Мир словно склеивается из разноцветных осколков различной формы и величины. В нем утрачивается единство, и автор как организующее начало теряется за обилием фактов, до конца не осмысленных и не приведенных в логический порядок мыслью.
Эта тенденция усиливается в последние годы ведения дневника. Его страницы довольно точно изображают прогрессирующий хаос в общественной жизни страны и одновременно неспособность самого автора к привычной работе: «Ничего не выходит. Плохо пишется <…> Ничего не будет хорошего, когда нет государственных людей. Страна не может управляться сама собой» (с. 397).
Записи последних лет все больше походят на заметки из записной книжки. Они представляют собой разрозненные мысли, слабо отражающие события дня и носящие обобщенный характер. Это скорее размышления об эпохе, философия современной истории, связанная с фактами посредством опущенных при рассуждении опосредующих звеньев: «Традиции основываются, как и почва отечества, из праха мертвых. – Все вырождается: и короли, и знать. – Всякая борьба – дело серьезное, она только тогда не безнравственна, когда ведется трагически, как борьба не на живот, а на смерть. – Дети традиций, дети нового духа» (с. 443–444).
Система речевых средств суворинской летописи ориентирована на повествовательную форму. Будь то рассказ о своем прошлом или экскурс в родословную, сообщение со слов очевидцев о ходынской трагедии или подробности частной жизни известных деятелей эпохи – слово в дневнике несет информативную нагрузку. В этом Суворин остается верен своему главному жанру – газетным новостям («4 марта 1902 г. Я журналист, не художник, не критик»). Динамика эпохи не оставляет времени для подробного анализа событий. А противоречия и конфликты настолько глубоки, что эстетическое сознание не в силах изобрести для их выражения адекватную форму. Поэтому в дневнике преобладает эстетика голого факта – слова, не нашедшего свой стилистический контекст, схваченного на лету ради его сугубо информативной ценности.
Правда, время от времени предпринимаются попытки ввести слово в аналитический или художественный контекст (отчет о ходынской трагедии, рассказ об убийстве Жохова), но они встречают сильное сопротивление материала, требующего более глубокого постижения с точки зрения его оригинальной стилевой организации. Дневниковый жанр оказывается непригодным для подобных экспериментов со словом. Ежедневный переход к новым событиям требует иного эстетического восприятия: например, после страниц о Ходынке идут театральные новости. Для введения этого материала в целостную стилистическую структуру требовалось более универсальное стилевое мышление, функцию которого не могла вытеснить «газетная» языковая модель с ее акцентом на прямом безоттеночном значении слова. Эта задача на рубеже веков не могла быть выполнена, потому что прежние стилистические каноны жанра не соответствовали характеру нового материала, проникшего в дневник. Камерный дневник начала XIX века и общественный дневника конца столетия содержали две полярные тенденции, которые нельзя было объединить.
Николай Георгиевич ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ
Книга Н.Г. Гарина-Михайловского[58] «По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову» – выдающийся образец дневниковой прозы, стоящий в одном ряду с такими шедеврами, как дневники С.П. Жихарева, A.B. Никитенко, С.А. Толстой.
Ведшийся как путевой журнал, материал был впоследствии обработан и издан отдельной книгой как полухудожественное, полудокументальное произведение. По основным жанровым признакам книга представляет собой классический дневник путешествий и в этом отношении родственна «Хронике русского» А.И. Тургенева, «Году в чужих краях» М.П. Погодина, а из художественно-документальных произведений – «Фрегату “Паллада”» И.А. Гончарова.
В отличие от других образцов жанра, дневник Гарина-Михайловского имел три функциональные составляющие. Прежде всего, это журнал подневных записей, в котором аккуратно фиксировались события дня и впечатления путешественника. С этой точки зрения дневник представляет собой жанр в «чистом» виде, не обремененный материалами специального содержания. Эту последнюю функцию выполнял другой, так называемый «технический дневник», ведшийся параллельно основному.
Вторая функция дневника, выходящая за традиционные жанровые рамки, – художественно-эстетическая. Писатель дал своей книге подзаголовок «Карандашом с натуры», подчеркнув таким образом эскизный характер материала. Однако в процессе обработки это свойство было утрачено и текст приобрел качество полноценного художественного произведения. Дневник читается как книга путешествий, в которой устранены все шероховатости записей, сделанных на привале, на остановке, на ходу и т. д. Хотя пометки о полевых условиях работы над материалом часто встречаются в дневнике, они воспринимаются не буквально, а скорее как художественный прием, необходимый автору для реалистического воссоздания картин жизни и путешествия.
Наконец третья функция гаринских записок – прагматическая. Наряду с «техническим дневником» данный материал предназначался для специалистов – географов, инженеров, этнографов. Огромный содержательный массив дневника относится к широкой области наук о земле и народонаселении. Здесь Гарин-Михайловский предстает перед нами первооткрывателем, смелым исследователем неведомых ранее племен и территорий. В этом отношении дневник также предназначался для читателей и поэтому был книгой полезной в прямом смысле слова.
Особенность гаринской книги, точнее мастерства ее автора, состояла в том, что все три функции переплетались в художественном целом произведения и не выделялись по отдельности. Напротив, писатель, подчеркивая своеобразие своей манеры, сетовал на недостаточно четкое разделение научного и вненаучного материала: «Воображаю, с каким раздражением и нетерпением какой-нибудь терпеливый географ будет читать мой дневник, в массе хлама выуживая нужные для него новые сведения» (т. 5, с. 237).
При всей оригинальности дневник Гарина-Михайловского сохраняет элементы жанровой формы и должен рассматриваться в ряду родственных ему образцов. Эта последняя книга путешествий уходящего века является еще и своего рода итогом развития жанра путевого дневника.
Хронотоп гаринского дневника – один из самых сложных в своем жанровом ряду. Его своеобразие обусловлено творческим методом писателя. При отборе материала автор вводит в текст записи не только события и впечатления дня, но и воспоминания о прежних путешествиях, мифы и сказки народов Дальнего Востока, выстраивает перспективу развития края на долгие годы вперед, сравнивает и сопоставляет европейскую и азиатскую цивилизации.
Существенное влияние на формирование пространственно-временной структуры дневника оказало творческое задание писателя. Он задавался не только прагматической целью исследовать территории, имевшие важное политическое и хозяйственно-экономическое значение для России, но и стремился постигнуть природный и духовный мир экзотических краев. Традиционные представления европейского человека о времени и пространстве во многих отношениях оказались непригодными для решения второй задачи, и Гарину приходилось по мере проникновения в глубь континента менять систему координат, привыкать к тем условностям, которые лежали в основании ориентальных культур.
Уже на первом этапе путешествия в повествование в форме локального хронотопа писатель вводит историческое время – пространство. Знакомые места вызывают у него воспоминания о более раннем путешествии: «Помню эти места, где проходит теперь железная дорога, в 1891 году, когда только производились изыскания. Здесь, в этой ровной, как ладонь, местности, царила тогда николаевская глушь, – полосатые шлагбаумы, желтые казенные дома, кувшинные, таинственные чиновничьи лица, старинный суд и весь распорядок николаевского времени <…> Я помню наше обратное возвращение тогда» (с. 11); «Я сижу у окна и вспоминаю прежние свои поездки по этим местам» (с. 13); «Иные картины встают, когда вспоминается Иртыш к югу от Омска» (с. 14).
На первый взгляд может показаться, что воспоминания содержательно отделены от основной линии повествования, не образуют с ней органического целого. Однако из дальнейших записей становится понятно, что Гарин проживает историческое время так же, как и текущее. Встроенность прошлого в современность является способом художественного мышления писателя в дневнике.
Знакомые места вызывают у Гарина-путешественника не только воспоминания. Воображение рисует эти места преображенными, а народы – ассимилированными новыми условиями жизни и быта. Временная перспектива, таким образом, открывает в дневнике новый план повествования. Гарин устремляет свой взор в будущее, но не как писатель-фантаст, а исходя из реалистичных расчетов. Три формы времени образуют единую линию, которая представляется тенденцией исторического развития: «И несомненным здесь станет только одно: что, когда в нации возродится атрофированная теперь способность к мышлению, а с ней и творчество, китайцы обещают, при их любви к труду и энергии, очень много <…> Но, вероятно, это произойдет тогда, когда и само слово: китаец, немец, француз – в мировом хозяйстве уже потеряет свое прежнее национальное значение <…>» (с. 331–332); «Да, Восток – сочетание догнивающего конца с каким-то началом, какой-то зарей той жизни, о которой только может еще мечтать самый смелый идеалист наших дней» (с. 362).
Как путешествующий литератор Гарин аккуратно собирает местный фольклор. По мере проникновения в духовную сущность дальневосточной культуры в его сознании формируется новая временная категория, нашедшая отражение на страницах дневника. Условно ее можно назвать мифологическим временем. Оно так же неотделимо от локального хронотопа, как и время историческое. Категория мифологического времени – пространства, являющаяся элементом мировоззрения туземных народов, часто прилагается Гириным-повествователем к реальным, конкретным условиям и жизненным ситуациям. Границы переживаемого в данный момент состояния расширяются до необъятных размеров. Автор хочет дать читателю почувствовать перекличку веков и эпох.
Обычно подобные состояния переживаются рассказчиком и его спутниками в то время, когда местные жители рассказывают легенды, предания или мифы. А окружающая обстановка представляет фон, на котором разыгрываются вековечные сюжеты мифологических сказаний: «Мы присели на утесе и смотрели на панораму гор <…> Как будто уже был когда-то в этих горных теснинах, видел эту даль и краски ее и снова переживаешь прелесть былых ощущений <…> И кажется минутами наше пребывание здесь сном, очарованием, в котором мы все здесь перенеслись в неведомую глубь промчавшихся тысячелетий» (с. 136–137).
Порой представляется, что Гарин-писатель вносит элемент художественного вымысла в такие эпизоды. Но общая картина нарисована настолько достоверно, что не возникает сомнений насчет реальности временных перемещений. Именно в такие моменты вступают в силу законы мифологического хронотопа.
Масштабность пространственно-временного мышления Гарина-Михайловского сочетается с необыкновенно плодотворным проживанием каждого момента, короткого отрезка. Гарин стремится не упустить ни малейшей малости быстро текущей жизни. Историческая перспектива, рисующаяся его воображению, часто сочетается с такой хронотопической локализацией, в которой поражают топографическая предметность и временная определенность: «Шесть часов утра. День просыпается лениво <…> Мы собираемся, складываются палатки, затюковываются вещи» (с. 120); «Три часа утра. Ночь звездная, ясная морозная. В последней четверти месяц забрался на небо далеко-далеко и маленький, печальный светится оттуда <…> На этот раз петухов разбудили мы <…> Костер наш тускло горит <…>» (с. 198).
Результатом взаимопроникновения различных пространственно-временных планов становится особое мироощущение автора, в котором рационально-философское осмысление событий сочетается с эмоционально-чувственным их проживанием. Временность и бесконечность, миф и реальность представляются полюсами единого диалектического движения Вселенной и человеческой жизни: «Как быстро, кажется теперь, пронеслось время, что мы провели вместе: пронеслось, как все проносится, как пронесется и сама жизнь, оставив след не более вечный, как тот, который бурлит теперь за нашим пароходиком» (с. 349).
Богата и своеобразна образная система дневника. Она строится на диалектике единичного, особенного и общего. Из встреч с людьми Гарин делает широкие обобщения. Каждый человек в его изображении предстает не только индивидуальностью с множеством присущих лишь ему свойств, но и соотносится с племенем, народностью, расой. Казаки, корейцы, маньчжуры и китайцы, хунхуза и крестьяне – все они в совокупности своих национальных и этнических особенностей составляют многоликий и в чем-то единый мир Дальнего Востока.
Как первопроходец и исследователь Гарин заносит на страницы путевого журнала групповые образы, в которых сочетаются профессиональные и национальные черты. Обычно групповой образ слагается из двух основных элементов – внешних характеристических свойств и трудовых навыков. Оба признака являются наследственными у этой группы, и поэтому данный тип нельзя смешать ни с одним другим: «Киргизы большие мастера по части насечки и серебра <…> Киргиз высок, строен, добродушен и красив. Темное лицо и жгучие глаза производят сначала обманчивое впечатление людей, легко воспламеняющихся» (с. 16); «Часть этой полосы занимают буряты <…> Трудолюбивый, воздержанный народ, очень честный <…> Их одежда, их косы, темные лица делают их похожими на китайцев» (с. 31); «Местное население – казаки. Это крупный в большинстве народ, причем помесь бурятской и других кровей ощутительна; женщины некрасивы. Казаки зажиточны; имеют множество немереной земли, на которой и пасутся их табуны лошадей и скота» (с. 37).
Часто типическое в человеке выделяется посредством сопоставления с историческим и художественным образами. При этом главным качеством обыкновенно становится не внешнее сходство, а функциональное, способ действий, жизненные принципы или признак эпохи. Сравнение может быть не прямым, а косвенным, и от этого оно выглядит убедительнее исторически и эстетически: «Владелец – экономный, расчетливый человек. Он напоминает тип героя из «Паяцев» Леонковалло в первом действии, когда торжествующий хозяин выезжает на сцену <…>» (с. 42); «Тут же и толпа китайцев в круглых шапочках с крылышками, как изображают Меркурия, с бритыми лицами, очень часто с типичными римскими лицами» (с. 272); «По обеим сторонам тянутся ряды деревянных клеток <…> В этих клетках <…> сидят безмолвными неподвижными рядами набеленные японки <…> Для кого же выставлены все эти тела в этих нероновских клетках?» (с. 387).
В образном мире гаринского дневника типами являются не только отдельные представители народности, сословия или этнической группы. Как художник Гарин в каждой индивидуальности старается найти следы типического. И краткие, и масштабные характеристики человека всегда строятся у него на сочетании индивидуального, особенного и общего. Это относится и к тем людям, с которыми ему довелось плечом к плечу пройти сотни километров. Подобные характеристики всегда динамичны и отличаются историческим подходом. Схватывая суть данного типа, писатель стремится представить его во временном измерении: «Доктор лежит и философствует. Я смотрю на него и думаю: тип ли это девятидесятых годов если не в качественном, то в количественном отношении. Он кончил в прошлом году. Практичен и реален. Ни одной копейки не истратит даром <…> Решителен в действиях и суждениях. Знаком с теорией, симпатии его на стороне социал-демократов, но сам мало думает о чем бы то ни было. Вообще все это мало его трогает. То, что называется квиетист» (с. 73).
Образ автора так же оригинален, как и другие образы дневника. Главное впечатление, которое складывается при чтении, – художественность его построения. Это – тип объективированного повествователя из литературы XIX в. Так и кажется, что за ним скрывается подлинный автор, который ничем не выдает себя, кроме способа группировки материала и общего плана повествования.
Ложность создавшегося представления становится очевидной в том случае, если образ автора сопоставить с другими структурными элементами дневника, например временем и пространством. Образ автора предстанет таким же многоликим, как и формы хронотопа. Но в разных модальностях он, как и время, сохраняет единство.
Гарин – путешественник и повествователь выступает в дневнике в трех ликах. Самой распространенной формой выражения авторского «я» является образ участника событий, исследователя и созидателя. Он следует по тем местам, которые уже пробуждены к активной жизни его волей и практической деятельностью. И новые, еще не освоенные земли он уже видит в своем воображении преображенными его творческими планами и энергией: «Река Обь, село Кривощеково, у которого железнодорожный путь пересекает реку <…> Изменение первоначального проекта – моя заслуга, и я с удовольствием теперь смотрю, что в постройке намеченная линия не изменена» (с. 20); «Измучен, устал, столько впереди еще… И ни заслуг, ни славы… Нет, что-то есть… есть… есть… что же? А, Сунгари и выясненный вопрос истоков… По новой дороге пойдет, где не была еще нога европейца <…>» (с. 221).
Самым задушевным образом автора в дневнике является лирический. Гарин предстает перед читателем поэтом природы, экзотических сказок и преданий. И сам он порой вырастает в сказочника или таинственного шамана, творящего легенду. Здесь он поднимается над прагматикой обыденной жизни исследователя заповедных краев. В этих эпизодах его образ овеян романтизмом, возникшим из причудливого соединения куперовских и байроновских черт: «А пока не рассыпались еще они <корейцы> или пока всесокрушающая культура не переработала еще их, я, пионер этой культуры, жадно слушаю и спешу записать все, чем так доверчиво делятся со мной эти большие дети» (с. 137); «В первый раз здесь я был один, лицом к лицу с здешней природой. Точно первое свидание, с риском дорого поплатиться за него. Я замечтался и сижу. Сама осень, ясная, светлая, навевает особый покой и какую-то грусть» (с. 178); «Прощай, прекрасное! Всегда останешься ты в моей душе, как сон, который трудно отличить от действительности» (с. 216).
Лирические излияния автора не являются стилистическим приемом. Они органично входят в текст и демонстрируют богатство душевного склада его личности. Человек рационалистической культуры, он тем не менее вносит своей деятельностью в неподвижную жизнь Востока не один разлад и дисгармонию. В лирическом образе кроется способность прочувствовать и понять поэтическую сторону дикой, но прекрасной жизни края и его обитателей.
Третья разновидность образа автора – это свободный созерцатель, незаинтересованно и философски осмысливающий окружающий мир. Он свободен как от практической заинтересованности, так и настроений, навеянных яркостью и многообразием зрительных впечатлений: «<…> я, турист, с птичьего полета смотрящий на всю эту, чужую мне жизнь. Могут быть только впечатления: искренние или неискренние, предвзятые или свободные. В своих впечатлениях я хотел бы быть искренним и свободным» (с. 332). Данный образ редко появляется на страницах дневника, так как Гарин не желает быть бесстрастным и безучастным свидетелем происходящего. Эта роль не согласуется с целью его путешествия, да отчасти и темпераментом. И все же автор-мыслитель поднимает (особенно к концу путешествия) важные философские проблемы. Его образ в этой ипостаси фигурирует в диалогах с философствующими спутниками, колонистами, случайными встречными. Он как рефрен в финале повествования обобщает весь мыслительный материал дневника.
Типология дневника совершенно прозрачна и не меняется на протяжении всего путешествия. События окружающего мира составляют неизменный предмет повествования. Объективированные мысли и чувства автора тоже вписаны в развертывающуюся панораму действительности. Мифы, легенды, сказки наряду с природными стихиями живут общей жизнью сознания и поступков людей. Преобладание зрительных образов над мыслительными составляет экстравертивный план повествования. Лирическое начало не носит характер отступления. В нем выражается один из способов переживания событий, который настолько же зависит от объективных причин, насколько от субъективных, внутренних. Даже уродливые явления действительности не вызывают душевных изломов. Они являются составной частью диалектики жизни. В дневнике воплотился здоровый оптимизм человека – созидателя и хозяина природы. Жизнеутверждающее мировоззрение писателя отразилось в дневнике как стремление запечатлеть все виденное и слышанное в виде грандиозного исторического процесса на гигантских пространствах Восточной Азии.
Жанровое содержание дневника выходит далеко за рамки традиционного путевого журнала. Помимо уже упоминавшейся поэзии природы, страницы гаринских записок наполнены публицистикой, вопросами геополитики, историческими экскурсами. Но главное: автор, готовивший свои материалы для публикации, ставит в них важные политико-экономические вопросы. Он подходит к предмету повествования с деловыми мерками, как возможный будущий (а в известной степени и настоящий) участник созидательного процесса. Поэтому в дневник заносятся пространные рассуждения о средствах и путях решения актуальных проблем. Художественный взгляд на вещи сочетается с оценкой практика, специалиста. Автор выдвигает научные гипотезы и делает долгосрочные прогнозы. Все это не вяжется с распространенным в литературе путешествий представлением об авторе – пассивном созерцателе, любознательном наблюдателе, лишь получающем определенную информацию.
Жанр дневника органически объединяет два начала – научно-публицистическое и художественное. Подробное описание края, часто с использованием богатых художественных средств, сопровождается глубоким анализом его социально-экономических проблем: природопользования, демографии, строительства коммуникаций, трудовых ресурсов. Михайловский-инженер словно соревнуется с Гариным-художником в глубине и достоверности сведений об известных и неосвоенных землях. Мастерство в подаче материала усиливает интерес к таким комплексным описаниям.
Переход с языка публицистики на художественную речь порой осуществляется довольно резко, с тем чтобы поддерживать эстетическое равновесие в повествовании: «Вопрос здесь только в том, как на те же деньги выстроить как можно больше дорог <…> И, конечно, все это было бы более чем ясно, если бы у нас существовал общий железнодорожный план, а не сводилось бы все дело к какой-то мелочной торговле <…>.
Ошибка, простительная людям сороковых годов, когда была принята у нас не более узкая колея, подходящая более к карману, а более широкая, подходящая более к крепостнической ширине тех времен, повторяется и в наши дни, когда при желании решить правильно вопрос, есть все данные из теории и фактов для рационального его решения… Довольно.
Синее небо – мягкое и темное – все в звездах. Смотрит сверху. Утес, «салик», обрывом надвинулся в реку, ушел вершиной вверх; там вверху, сквозь ветви сосен, еще нежнее, еще мягче синева далекого неба» (с. 63). Распространенность такого приема заставляет предполагать наличие высшей эстетической инстанции в замысле произведения, которая регулирует компоненты жанрового содержания дневника.
По мере продвижения в глубь неизвестных территорий научно-публицистический элемент видоизменяется. Источником информации для рассказчика становятся сведения, полученные от образованного слоя туземцев, путешественников, следующих параллельно автору, местные предания и многолетние наблюдения народов Дальнего Востока. По форме такой материал близок к художественному элементу, так как включает в себя диалоги, рассказы от первого лица, литературно отредактированные легенды. Поэтому резкого контраста между двумя содержательными частями не наблюдается. Но сущность модифицированного научно-публицистического начала остается прежней: в этой части записи сосредоточена информация о состоянии края – уровне жизни, торговле, характере производства и т. п. Таким образом, жанровый дуализм является отличительной особенностью дневника Гарина-Михайловского.
Метод работы над материалом Гарин сформулировал в одной из поздних записей, на исходе путешествия: «Мысль и фантазия невольно приковывают к отдельным образам, жадно приникают к ним и опять отвлекаются к новым» (с. 359). Научный и художественный принципы, тесно связанные и с жанровым содержанием, лежат в основе отбора, изображения и оценки материала. Почему двоякий метод понадобился писателю, достаточно убедительно показано в предыдущем изложении: географические, экономические и технические сведения требовали научного подхода («мысли»), а картины природы, этнография и фольклор – художественного («фантазии»).
Уже отмечалось, что излюбленным приемом изображения у Гарина является зрительный. Он использует его с разными целями – и для статистики, и для описания восточно-азиатских типов, и, конечно же, при создании пейзажных зарисовок. Писатель полагает, что знакомство европейца с неведомой и чуждой ему культурой Востока должно начаться со зрительных впечатлений. Научному познанию обязательно предшествует познание эстетическое. Картинность как суггестивный метод поможет впоследствии проникнуть и в духовную сущность культуры. От внешнего к внутреннему – такой путь совершает и сам автор дневника: «Что передаст фотография там, где все в тонах, красках, фигурах, позах и выражениях? И если меня, много видавшего на своем веку, захватывает и поражает эта жизнь младенческого периода человечества, то изображенная на картинках, в пластике, разве она не поразила бы и не привлекла бы ту толпу, которая наполняет наши выставки?» (с. 273); «Бытовая картинка: вверх по реке толпа китайцев матросов тянет шаланду <…> Все они изогнулись и пригнулись к реке, упираясь ногами, хватаясь руками за камни почвы. Вся поза их, натянутая, как струна, бечева, говорит о крайнем их напряжении» (с. 277); «Только картинка в памяти: в темной рамке ночи горящая фанза и темный лес, освещаемый молнией залпов, и всеми своими изворотами, перекатами и глубинами, берега и горы, притоки и деревни попадают на бумагу» (с. 283).
Михайловский – знаток Сибири и Дальнего Востока – не всегда надеется на собственный опыт. Помимо личных наблюдений автора, в дневнике приводится множество других источников информации. Некоторые из них интересуют его не как достоверные научные данные, а в качестве дополнительного материала к общему представлению о типе культуры и ее носителях. Это, как правило, легендарные и полуфантастические рассказы, приметы и верования местных жителей. Более солидные авторитеты – шаманы, охотники, старожилы поселений – интересны писателю как хранители исторической памяти, преданий веков. Без их рассказов картина развития края и его народов была бы неполной. Здесь и понадобился Гарину его второй, художественный метод – «фантазия».
Обычно миф, даже в его мастерском изложении рассказчиком, не производит неизгладимого, эстетически сильного впечатления. И Гарин для произведения эмоционального эффекта создает маленький сюжет, в котором в качестве фона вводит описание природы, внешности и манеры изложения сказителя и – главное – художественно обрамляет миф глубоким философским осмыслением (запись под 20 сентября 1898 г.). Лирическое начало – природа и люди («По этим ветлам там и сям поэтичные фанзы. Юноши корейцы в косах, в женских костюмах, мечтательные и задумчивые, как девушки») – сочетается с эпическим и философским («И мне рассказывают прекрасную, глубоко альтруистическую сказку о добродетельной жене»). Завершается вся сцена историческим обобщением автора («Времена еще Гомера у корейского народа, как любовно и серьезно они слушают»).
Длительное общение с миром Дальнего Востока, проникновение в духовную сущность его культуры порой порождают в сознании писателя такие состояния, когда вымысел и действительность сливаются. Он начинает воспринимать миф, как и его знакомые – туземцы, буквально. В таких случаях поэтическая картина перерастает в художественный прием и воспринимается наряду с реалистической сценой. Мастерство Гарина-художника уравновешивает через эстетическое восприятие содержательно неоднородный материал: «<…> и за нами идти не радость им (корейским крестьянам. – O.E.). Ведь там, на этой святой горе, в спрятанном от всех озере, живет суровый дракон <…> то он гремит, то облаком взлетает, то посылает такой ветер, что стоять нельзя. Стоит только рассердить его, так и не то сделает <…> Наши корейцы стоят совершенно растерянные» (с. 211).
Включение мифа в реальность не просто обогащает содержание записи, но поднимает осмысление изображаемого на иной идейный уровень. Из бытовой зарисовки картина жизни вырастает до монументального символического полотна с множеством смысловых ассоциаций. В нем взаимоотражаются историческое и современное, прошлое человечества с общностью его культуры и актуальное содержание древнего мифа.
Дневник Гарина-Михайловского, как можно было проследить по предыдущему изложению, отличается единством приемов на всех структурных уровнях. Данное правило распространяется и на его стиль. Главным его свойством являются изобразительность. Гарин – блестящий пейзажист, сочетающий в своей манере предметную точность и лиризм. Он мастерки владеет богатой системой сравнений, которые в путевом жанре играют исключительно важную роль. Функция сравнений, помимо художественного, приобретает семантическое значение. Знакомство с миром природы и культуры далекого и чуждого континента может осуществляться только путем поиска смысловых аналогий и поэтических параллелизмов. «Перевод» литературного пейзажа или красочной панорамы жизни экзотических земель на язык закрепленных в художественном сознании условных формул (в том числе и литературных) упрощает путь постижения идейного содержания произведения.
Несмотря на большой опыт, Гарин-путешественник часто затрудняется напрямую передать впечатление от увиденного или просто правдиво нарисовать картину. Опосредование оказывается необходимым уже на начальном этапе – этапе восприятия сегмента действительности. Для этого писатель использует три основных стилистических приема: народно-поэтическое сравнение (чаще не «чистое», а стилизованное), сравнение с живописными образами и литературно-исторические аналогии.
В первом случае пейзаж, или картина жизни, не является культурно чуждой. Напротив, фольклорная формула используется потому, что в изображаемом материале есть то общее, что роднит его с уже знакомыми автору видами: «С утра и горы поблекли, – краски осени, как годы утомленной после блестящего праздника красавицы, уже чувствуются и выступают ярче, говоря о ее будущей еще, но уже скорой непривлекательности» (с. 180).
Второй прием используется в ситуациях, когда изображаемое не знакомо повествователю, но нечто далекое и все-таки подобное он находит в живописи и приводит в качестве вспомогательного средства для представления: «Как красивы эти ковры мхов: изумрудно-серые, темно-красные, нежно-лиловые, затканные серым и белым жемчугом. Перо не опишет их красоты, не передаст фотография; нужна кисть, и я вспоминаю К.А. Коровина, его прекрасную картину архангельской тундры с иными, чем эти, мхами» (с. 209).
Третья группа сравнений – наиболее сложная. Здесь сложность и феноменальность явления объясняются посредством таких же сложных и исторически живучих образов европейской культурной традиции. В них сосредоточено глубокое философско-историческое содержание, использовавшееся многими художниками слова в разных национальных контекстах. Во всех интерпретациях этих образов содержится недосказанность, они неисчерпаемы, как мифы и эпические сказания. Используемая Гариным формула сравнения также предполагает содержательную неисчерпаемость воссоздаваемого образа: «Самый кратер Пектусана закрыт гигантским острым осколком скалы. Он угрюмо выделяется в небе. На одинокой иззубрине фигура женщины. Она сидит, слегка наклонившись, и смотрит в озеро. Сафо или Лорелея. В ее позе, в ней красота, страдание, нежность и полный контраст с угрюмыми скалами; она вечно здесь, в своем одиночестве, она смотрит в страшное, зеленое, как глаза Лорелеи, озеро, она вечно одна в этом безоблачном голубом просторе неба <…> Пройдут века, и кто-нибудь снимет проклятье, и, встав, она принесет миру эту великую тайну» (с. 236).
Стилевая манера Гарина-Михайловского показательна в том смысле, что является результатом сложной эволюции дневникового стиля за весь XIX в. И если Короленко в своем дневнике завершает историю этого жанра за столетие в идейном и структурном отношениях, то Гарин-Михайловский заканчивает ее стилистически.
Владимир Галактионович КОРОЛЕНКО
На В.Г. Короленко завершается развитие жанра классического дневника XIX в. Дневник В.Г. Короленко[59] является самым ярким и художественно значительным среди писательских дневников. В нем проступают две основные линии жанровой динамики: во-первых, воспроизводятся главные элементы формы, свойственные дневнику на протяжении века; во-вторых, в результате эволюции жанра намечаются новые тенденции в развитии его традиционных структурных и содержательных компонентов.
Несмотря на многообразие таких тенденций, важнейшим показателем новационности становится более тесное взаимодействие дневника с художественными и публицистическими жанрами, с письмами и записными книжками. Происходит взаимопроникновение разнородных литературно-художественных и дневниково-эпистолярных элементов.
Дневник Короленко эволюционирует в том же направлении, в каком происходит развитие его художественной манеры – к усилению публицистического начала, от сюжетности и «объективности» повествования – к оперативной хроникальности с сильно выраженным субъективным тоном.
В то же время именно у Короленко ослабевают и порой сводятся на нет некоторые важнейшие жанровые составляющие дневника: психологическая обусловленность уступает социальной детерминанте, метод личного наблюдения постепенно заменяется на другие, чаще всего коллективные источники информации, жанровое содержание представляется аморфным из-за пестроты его частей.
Замена подневных записей письмами, наличие в дневнике законченных художественных миниатюр, активное проникновение в текст многочисленных образцов «чужого» слова, полемический характер многих записей, превращение дневника в студийно-творческую лабораторию писателя – все это, на первый взгляд, представляет собой картину распада жанра, его «растаскивания» по другим литературным «ведомствам». Однако вся эта мнимая калейдоскопичность (кстати говоря, имеющая немало аналогов в дневниковой прозе конца XIX – начала XX в.) скрепляется единством стиля и личностью автора. Выработанная уже в раннем дневнике манера и специфическое ви́дение писателя придают всем несхожим по содержанию фрагментам и пластам его хроники монолитную эстетическую форму. Скрепленность разнородного материала дневника стройной и отчетливо выраженной мировоззренческой позицией писателя является их главной отличительной особенностью. Это свойство было присуще им уже на раннем этапе их ведения, а причиной тому стало своеобразие их изначальной функциональной направленности.
По своим функциональным признакам дневник Короленко отличается от большинства писательских дневников: он не является выразителем не нашедших выхода психических содержаний, не отражает процесса индивидуации, не служит показателем критического возраста и не продолжает семейную традицию. На начальном этапе он отражает особенности судьбы писателя и в этом отношении ближе всего стоит к дневникам В.К. Кюхельбекера и Т. Г. Шевченко.
Начало ведения дневника приходится на период второй ссылки Короленко: первые его записи сделаны на пароходе, доставлявшем провинившегося административного ссыльного из Перми в Якутскую область. Своеобразие природы и местных типов, отсутствие элементарных источников культуры, питавших интерес образованной личности, развили у вчерашнего студента потребность в объективации своих впечатлений. Так появляются колоритные наброски виденного, в которых проглядывает смена настроений путника, отправившегося в вынужденное путешествие.
Дневник, таким образом, как литературный жанр предшествовал ранним художественным опытам будущего писателя. Ряд пейзажных зарисовок и описаний случайных дорожных встреч, сделанных «с натуры» в записной книжке, послужили прецедентом для дальнейшей работы в этом направлении. Постепенно накапливающийся материал дал толчок работе художественного сознания – и путевые заметки стали преобразовываться в законченные литературные произведения, рассказы и очерки. Устоявшаяся за годы ссылки привычка – делать записи по горячим следам – не была прервана с началом художественного творчества. Дневниковый опыт отвечал потребности начинающего писателя в субъективно-эстетическом переживании явлений окружающей жизни.
С возвращением в центральную Россию дневник наполняется новым содержанием: изобразительное начало уступает место проблемно-аналитическому. Расширившийся горизонт социального мышления автора способствует введению в дневник многослойного жизненного материала: политики, истории, литературы, собственных творческих штудий. Дневник сопровождает писателя во всех его поездках, как добровольных, так и вынужденных. Он приобретает характер хроники современной жизни, написанной для потомства, и в этом смысле предвосхищает в известной мере «Историю моего современника». Осознавая художественно-историческую значимость своих подневных записей, Короленко надеется на их будущее прочтение потомками: «Когда-нибудь мне хочется восстановить эти эпизоды и это настроение в повести из конца нашего русского и специально областного «Конца XIX века»… Поэтому я записываю все это так подробно. Может, и пригодится, а не пригодится для повести – может, и так будет когда-нибудь надобно» (т. 3, с. 103). А на первой странице дневника, открывающей 1901 г., писатель делает следующую запись: «1901 г. (начало XX столетия)». «Заметки (для будущего)» (т. 4, с. 222).
Со временем ведение дневника входит в привычку, которую не могут нарушить даже неблагоприятные для него обстоятельства. В таких случаях писатель быстро находит замену своему повседневному спутнику. Так, во время поездки в Крым в 1889 г. Короленко не ведет дневник, но подробно описывает свои впечатления в письмах к жене, которые называет страничками из дневника. К таком способу прибегает и один из героев рассказа Короленко «Не страшное», в дневнике которого «были отдельные странички в форме как бы писем к <…> его отдаленному другу».
Социальная активность Короленко-писателя и Короленко – общественного деятеля – побуждала его не оставлять без тщательного анализа и фиксации на память ни одного мало-мальски значительного факта. То, что не попадало на страницы художественной или публицистической прозы, обязательно оседало в дневнике как долговечном хранителе бесценных примет времени. Пропуск знаменательного события расценивался автором как нарушение нормы. «Я уже привык к своему дневнику, – признавался писатель самому себе, – и чувствую угрызение совести, когда позади остается нечто, заслуживающее отметки, но не внесенное в дневник» (т. 2, с. 180).
Из всех названных функциональных особенностей дневника Короленко, как сближающих его с писательскими дневниками, так и отличающих от них, более всего выделяется одна. Это – исключительная роль творческих заготовок. По своим масштабам подготовительные материалы занимают в дневнике Короленко место, не соизмеримое ни с одним другим образцом жанра. И это при том, что параллельно дневнику писатель вел еще и записные книжки.
Первоначально функция дневника ограничивалась, по-видимому, двумя задачами: объективацией эстетически значимого для начинающего автора материала и его хранением для последующей художественной обработки. Некоторые сцены и описания имеют пометки, позволяющие догадываться именно о таком предназначении записей. А ряд изданных впоследствии художественных и публицистических произведений Короленко подтверждает данную гипотезу. Это относится как к ранним рассказам и очеркам писателя, задуманным еще в сибирской ссылке («Сон Макара», «Черкес», «Груня», «Государевы ямщики», «Мороз» и др.), так и к произведениям среднего периода («Мултанские жертвоприношения», «американские» очерки и рассказы). Многие материалы дневника, представляющие собой замыслы будущих произведений, так и не получили своего завершения, потонув в «периодике» будничных записей писателя.
Если сопоставить творческие заготовки дневника Короленко с аналогичными материалами других писателей, то бросается в глаза высокая степень их художественной обработки у автора «Слепого музыканта». Многие отрывки кажутся цитатами из завершенных произведений – так эстетически полноценно они выглядят. Особенно удачными среди них представляются пейзажи, портретные характеристики и сценки. Встречаются в этом материале и своего рода жемчужины короленковской прозы, как, например, незавершенное произведение без названия, напоминающее по жанру стихотворение в прозе. Несмотря на большой объем отрывка, хочется привести его полностью как образец малого жанра, который к тому же, кроме дневника, нигде не публиковался с 1925 г.: «20 апреля 1888 года. Мы заблудились и, пробродив часа два по болотам, наконец вышли из леса на поляну. Вдали чуть виднелся горный берег при слиянии Оки и Волги, затянутый сизою, светлою, но тем не менее плотною мглою. Такая мгла стоит по временам над Волгой. Она суха и трудно проницаема. Не то туман, насыщенный дымом, не то дым из пароходных труб, отяжелевший от речной сырости и повисший низко над рекой. Из-за этой завесы неясно, какими-то намеками виднелись купола церквей, очертания больших домов. Все это чуть-чуть поблескивало кой-где и, казалось, плавало в этом море тумана.
Но над полями воздух был прозрачен, лужи синели глубокой синевой, кой-где пробивалась яркая молодая зелень. Мы прилегли над одной из таких лужиц, синевшей в ложбинке и отражавшей синеву неба и тихо двигавшиеся по ней белые облака. Откинувшись на спину, мы лежали на сыроватой прошлогодней мураве и смотрели вверх. Не хотелось вставать, не хотелось говорить, двигаться. Только глядеть туда, кверху, где продвигаются белые, легкие облачка, да дышать этими весенними веяниями, что проносятся свежими острыми струями. Да еще слушать… Что? Ничего в сущности… Какой-то звон, идущий будто из-под земли, яркие трели жаворонка, к которому уже прислушался, так что почти их не замечаешь, отдаленный крик вороны, накликающей дождь. Из лужи слышны еще два голоса. Один низкий, но звонкий, полный и мелодичный. Другой повыше, но такой же глубоко печальный Какие симпатичные, полные грусти голоса… И подумать, что издают их две лягушки. О чем это они грустят, на что жалуются?.. И невольно вспоминается старая нянина сказка. Да, только она, несчастная царевна, прекрасная, как сияние майского дня, может жаловаться на судьбу так мелодично, так трогательно и задушевно. Она, превращенная злым колдуном в самое отвратительное из животных, с холодной кожей, с зелеными глазами на выкате. Что может быть ужаснее – любящая душа и отвратительная оболочка?.. Мне вспомнилась она – с такой же прекрасной душой, как у несчастной царевны, и с безобразным лицом. Я задумался о ней под продолжавшиеся жалобы лягушки и забыл обо всем. Я только смотрел в синюю лужу… В одном месте на ней шли легкие круги. Что-то вздувалось там, вода вздрагивала, черный бугорок всплывал на поверхность, мелодичный стон проносился в воздухе, неизвестно откуда, неизвестно где замирал, – и круги на воде тоже замирали, а лягушка скрывалась, чтобы мы, слышавшие ее голос, не могли видеть ее безобразия.
И она также ушла в свою нерадостную темную кожу, и давно уже улеглись круги, которые она подняла когда-то в окружающей жизни» (т. 1, с. 131–132)
Функция дневника как места для творческих заготовок писателя пересекалась с социальной направленностью деятельности Короленко. Темперамент общественного деятеля, правозащитника, публициста не всегда находил выход в открытых выступлениях в силу цензурных запретов и статуса поднадзорного и неблагонадежного литератора. Далеко не все замыслы автора «Бытового явления» могли осуществиться в обычной для человека его профессии форме. И дневник оказался «запасным» объектом их реализации. В нем мы найдем как законченные публицистические высказывания, так и короткие записи-наброски задуманных, но так и не написанных статей («Несколько слов о казанской цензуре», «Характерная полемика», «Обновленный уезд»).
В отличие от умеренного, сдержанного тона газетно-журнальных выступлений Короленко страницы тематически близких записей дневника пронизаны едкими инвективами в адрес власть предержащих – от мелких чиновников до царствующих величеств. Писатель высмеивает как частные явления, так и пороки всей государственной системы. По смелости выражения все они не могли претендовать на публикацию в современной периодике: «<…> Россия застонала под дубовым, мстительным режимом Александра III <…> Это был второй Николай I по отсутствию чутья действительности и по непониманию обстоятельств. Он знал одно: против всякого положения «либеральной эпохи» он выдвигал противоположение, где только мог <…> Он уже не видел, не слышал ничего, что делается в России, – отупевший слух не улавливал голоса измученной земли. Он умер – к великому счастию России» (т. 2, с. 319); «Эта полицейская весна – истинный символ нашей русской жизни. Произвол и реакция всюду доходят до естественного предела, покушаясь роковым образом остановить даже простейшие движения общественных отправлений «большинства обывателей», как было сказано в корреспонденции о перлюстрации писем в Нижнем» (т. 3, с. 145).
Таким образом, компенсаторно-заместительная функция дневника, обычная для данного жанра, приобретает у Короленко социально-политическую направленность, далеко отстоит от интимно-бытовой сферы и психологических детерминант.
Новые элементы видны и в пространственно-временной организации записей. «География» охваченных дневником явлений – самая обширная из всех образцов жанра у русских писателей. По масштабам она сопоставима разве что с дневниками В.А. Жуковского. Писательская наблюдательность и репортерская оперативность позволили Короленко включить в свою летопись все самое примечательное из виденного, слышанного и прочувствованного. Короленко самостоятельно развивает ту общежанровую тенденцию в области дневникового хронотопа, которая наметилась в последнее двадцатилетие века и нашла яркое выражение еще в дневнике И.С. Тургенева 1880-х годов. Сущность ее заключается в соотнесенности близких по времени событий, происходящих в пространственно далеких точках. Такую разновидность хронотопа мы назвали континуальной.
Однако при наличии черт типологического родства хронотопа дневника Короленко и ряда дневников конца XIX в. между ними имеются и признаки отличия. К примеру, в сохранившихся отрывках дневника Тургенева 1882–1883 гг. событийный ряд может воспроизводить факты, имевшие место одновременно в Париже, Петербурге и Спасском-Лутовинове. Все они не имеют между собой логической связи и группируются в одной записи в силу одновременно поступившей информации о них автору дневника. Все они значимы для Тургенева, но могли бы быть разнесены по разным дням, поступи о них сообщение с опозданием на сутки.
В дневнике Короленко мы сталкиваемся с принципиально иным пространственно-временным континуумом. Связь между одновременно происходящими событиями здесь носит не случайный, а причинно-следственный характер. Они могут соотноситься также и по смыслу. Причем отдельное (локальное) явление связано с общим порядком вещей как часть с целым. В данном случае Короленко, используя чисто художественный метод, указывает на типичность события, устанавливает его общезначимый смысл: «Даже дважды процензурированная книжка <…> все еще несет в себе зародыш гибели «вековечных» русских начал. Хороши, однако, начала. Есть ли еще где-нибудь в Европе такой трусливый, такой всего опасающийся «порядок»?» (т. 3, с. 155); «На толпу, не знавшую, чего от нее хотят и куда их гонят, почему ее «не пущают» в одну сторону и куда именно ей идти дозволено (Прообраз русской жизни), – кинулись конные городовые и начали крошить нагайками кого попало» (т. 4, с. 125); «10 ноября 1898 г. В Полтаве разыгралась целая «политическая история». Жил там некто Налимов, бывший офицер, бросивший службу и занявшийся садоводством <…> (далее следует История). Сам налимов объясняет свой поступок тем, что, если бы он не донес, то донесли бы на него! Оправдание плохое, но система шпионства среди педагогов очевидно хороша» (т. 4, с. 66, 68).
Сочетание конкретного с общим отражается и в такой детали, как набросок плана части города, в котором происходила демонстрация студентов в декабре 1900 г.; а еще через полтора года в дневнике появляется следующая запись: «<…> я уже более десяти лет замечаю и заношу в свои книжечки особую извозчичью легенду о студенческих движениях» (т. 4, с. 285). Хронотоп начинает пониматься Короленко не как одновременность пространственно удаленных событий, а как процесс, как движение «типического» явления со всеми его закономерностями.
Процессуальный характер многих фактов хорошо прослеживается на ряде записей, посвященных детям Короленко. Сделанные в разное время, они отражают процесс освоения девочками окружающего мира с одновременным усвоением языка, слова, понятия. Языковое творчество ребенка показано не как единичный факт, а как стадия в его физическом и интеллектуальном развитии.
Расширенное понимание времени нередко приводило к тому, что сообщение о каком-то событии дробилось на несколько подневных записей в зависимости от сроков его завершения (например, история некоего Клопова). Такая организация хронотопа отражала качественно новую, более высокую ступень в освоении континуального времени – пространства.
Наиболее динамичной частью дневника является его образная система. Параллельно совершенствованию художественного метода писателя претерпевает серьезное изменение и образ человека. В целом этот путь можно охарактеризовать как движение в сторону обобщения, типизации.
В дневнике периода сибирской ссылки перед читателем проходит вереница случайных встречных, попутчиков, знакомых ссыльного студента Короленко. Все они описываются с характеристическими особенностями выговора, костюма, манер. В изображении характеров начинающий писатель идет от внешнего к внутреннему. Но так как внутреннее чаще всего скрыто под маской недоверия к чужаку или просто очень бедно своим содержанием, то до него Короленко не доходит. Он ограничивается внешним впечатлением и на его основании описывает данный характер: «<…> наружная дверь отворилась. В черном квадрате резко выделилась высокая фигура, в чекмене, папахе и оленьих высоких камосах. За поясом виднелся чеченский кинжал в узорных ножнах» (т. 1, с. 43); «<…> Глаза девочки потускнели, подвелись синевой, пухлое круглое личико посинело и осунулось; на нем виднеется страдание, – но она крепится, топчется, пошатываясь по избе, в своих неуклюжих «чириках», напоминая большую бабу, только в миниатюре» (т. 1, с. 57).
Однако уже в этот период намечается тенденция к типизации отдельных характеров и групп. Правда, по своему уровню она ограничивается внешними, этнографическими признаками и напоминает типы «физиологического очерка» 1840-х годов: типы поселенца, аборигена-туземца (остяка); отчаянного (спиртоноса); ямщика, писаря, якутского крестьянина. Но уже ранний нижегородский дневник дает образчики полноценных, почти художественных типов, в которых чисто внешние признаки служат выразителями общезначимых свойств: «<…> Я выхожу в переднюю. Там снимает калоши старик довольно высокого роста, с серо-желтой бородой; он в штатском сюртуке, но на гвозде висит его пальто со светлыми пуговицами и генеральской выпушкой. Под мышкой портфель, который мне сразу объясняет цель его прихода» (т. 1, с. 104) – тип неудачного литератора из отставных военных.
Приобретенный в «большой» литературе опыт позволил Короленко в дневнике 1890-х годов проникать глубже в сущность человеческих типов. Внешние признаки в характеристиках постепенно утрачивают ведущую роль, и типическое просматривается уже в характере деятельности человека. Особенно это относится к людям просвещенной среды. Громадный прогресс, которого достиг Короленко в области типизации, можно увидеть из сопоставления двух записей, сделанных с интервалом в 5 лет: «25 января <1888 г> Молодой человек с землистым цветом лица, с глазами, которые глядят из каких-то черных кругов <…> Лицо нервно подергивается, и вместе с тем видно что-то экстатическое. От него пахнет водкой и сильно отзывается достоевщиной. Видно, что с ним происходит действительно нечто ужасное, что этот ужас распознается во всех мелочах его жизни, глядит из каждого пустяка <…> Человеческий характер есть нечто в высшей степени сложное <…> переложит природа одной какой-нибудь добродетели и не доложит чего-нибудь другого <…> смотришь, готов психопат или сумасшедший» (т. 1, с. 109, 114); «12 апреля <1893 г.> <…> я невольно увлекся в сторону типической фигуры молодого профессора <3верева>, потому именно, что эта фигура в высокой степени характерная. Вырастая на рубеже двух хотяинцевских настроений – между красными и белыми хотяинцевскими словами, – он приобрел удивительную способность этой двуцветности» (т. 1, с. 253).
Овладев методом типизации, представляющим собой сочетание особенного и всеобщего, Короленко создает в дневнике 90-х годов ряд блестящих социально-психологических типов русской провинции. Своеобразие этой литературной галереи заключается в том, что в ней представлены типические явления, не известные столице и сохранившиеся в более или менее первобытном их виде. Такие явления были открытием Короленко даже с точки зрения «большой» литературы, куда они, к сожалению, так и не попали по тем или иным причинам. Застойная провинциальная среда сумела сохранить, законсервировать на какое-то время только ей свойственные нравы и характеры, а Короленко запечатлел их с присущей ему долей иронии или сарказма.
К подобным типам относятся «золоторотец» (Макаров), «человек из времени лорис-меликовской «диктатуры сердца» («гасконец» Бильбасов), «гражданин в «чисто русском стиле» (Зарубин), «протестант» (Жарков) и ряд других ярких образов провинциальных оригиналов. Наряду с образом местного помпадура – нижегородского губернатора Баранова – все они составляют своего рода протосюжеты из жизни российской глубинки конца века («повесть из нашего русского и специально областного «Конца XIX века», по выражению писателя).
Идя по пути широкого обобщения явлений и характеров, Короленко использует в дневнике и другие приемы типизации. К ним можно отнести такой повторяющийся способ, как изображение судьбы самобытного человека, сломанного обстоятельствами и вовлеченного в избитую жизненную колею. В этом случае тип формируется не путем естественного срастания природных задатков личности и условий среды, а, напротив, методом вынужденного изменения, ломки первоначальных идеалов и потенций характера. О таких людях Короленко часто пишет не в одной-единственной записи, а пытается проследить их судьбу на протяжении длительного отрезка времени, периодически возвращаясь к их жизненным обстоятельствам. Так подробно он интересовался судьбой девушки Г-рини в записях под 7 и 19 октября 1888 года. Подводя черту под ее несостоявшейся жизнью, Короленко писал: «Прошло три года – и бедная девушка вынесла на себе весь этот печальный, избитый силлогизм русской жизни, показывающий с такой осязательностью, почему у нас невозможна широкая, полная, увлекательная деятельность» (т. 3, с. 137). Гнет обстоятельств, заедающей «среды» над стремлениями личности и вызванная этим гнетом гибель надежд как типическая русская история изображается Короленко на примере судьбы Федоровского: «Таких примеров можно насчитать сотни. Я не знаю, что сталось с этим Федоровским, но впоследствии, скитаясь по разным отдаленным местам, встречал много таких Федоровских» (т. 4, с. 119–120).
Нередко на страницах дневника проходят тени минувших исторических эпох. Эти типы принадлежат к разряду «уже отцветших цветиков» (по терминологии А.Ф. Писемского). В одних случаях они служат зловещим напоминанием о порядках недавнего прошлого, в других свидетельствуют об исчерпанности типа, его вырождении в новых условиях. Такая архаизирующая тенденция на первый взгляд необычна в рамках жанра, оперативные свойства которого усиливаются нацеленностью авторского пера на все самое современное, животрепещущее. Однако более внимательное прочтение убеждает в том, что появление подобных типов вызвано не чисто эстетическим интересом автора. Изображенная в дневнике Короленко действительность порой кажется настолько фантастичной, что появление в ней «современных призраков» (Щедрин) по контрасту усиливает реалистический эффект. Фигуры из прошлого в таких случаях напоминают гротескный прием Щедрина – перенесение в настоящее литературных героев прошлого: «17 декабря 1898 г. Старый радикал Грибоедов <…> когда-то это был человек деятельный, энергичный и замечательно остроумный <…> Но служба в частном банке, с одной стороны, и частые «либации» <возлияния> в честь 60-х годов – с другой, постепенно оказали свое влияние <…> Да, люди выветриваются, как и горные породы» (т. 4, с. 94–95); «19 ноября 1898 г. <…> Сей дореформенный городничий бил в самый центр вопроса, ныне опять стоящего перед нами – спустя 30 лет после реформы» (т. 4, с. 81). В этой связи характерен замысел Короленко, к сожалению, неосуществленный, написать рассказ «Последний Мымрецов», упоминание о котором встречается в дневнике середины 90-х годов.
Тенденция к типизации и художественной выразительности образа развивалась параллельно публицистической заостренности в изображении характеров. Здесь, с одной стороны, сказывалось влияние газетной полемики, ее стиля и приемов идейной борьбы с противником («Для публицистических работ я лучше приспособляюсь к газетам», – признавался Короленко в дневнике, т. 4, с. 186), с другой – проступало одно из ведущих свойств характера автора «Голодного года» – бескомпромиссность и прямолинейность в оценке политически одиозных фигур («М.А. Протопопов, грубый и прямой в своих антипатиях, к которым принадлежу и я», т. 4, с. 90). В характеристиках врагов прогресса, ретроградов и мракобесов Короленко в своем дневнике остается непревзойденным по желчи памфлетистом и порой доходит до грубой карикатурности: «Некто Стечкин, продажная тварь ежедневной печати, редактор газеты «Народ» (т. 4, с. 179); «<…> уличенный вор и негодяй Грингмут» (т. 4, с. 260); «<М.П. Соловьев, начальник Главного управления печати > озлобленный подлец и прислужник» (т. 4, с. 301); «<Кн. Мещерский> старый шут, заведомый развратник <…> уличенный хищник <…> посмешище всей печати и всей читающей России» (т. 4, с. 311).
Однако подобные тенденции в создании образов выглядят противоречивыми лишь на первый взгляд. Еще в начале своего творческого пути начинающий, но уже умудренный жизненным опытом литератор сформулировал нравственно-эстетические принципы оценки человеческого характера, которых придерживался как в художественных, так и в дневниково-публицистических жанрах: «Человеческий характер есть нечто в высшей степени сложное, и его нормальность состоит в гармонии: переложит природа какой-нибудь добродетели и не доложит чего-нибудь другого, – смотришь, готов психопат или сумасшедший».
Функциональное своеобразие дневника и широта охвата жизненных явлений, в сочетании с особенностями психологического склада Короленко, обусловили и его типологию. Неиссякаемый интерес к познанию окружающего мира, питаемый «общественным» темпераментом автора, уже с первых страниц придали дневнику экстравертивный характер. Здесь мы не найдем разъедающего самоанализа и духа сомнения, подробностей душевных переживаний или отражения идейных поисков писателя. Цельность личности и стройность мировоззрения проявились в дневнике Короленко в четкой установке на изображение зримого и осязаемого мира, определив миру внутреннему узкие границы. Последний представлен в дневнике лишь несколькими записями, связанными со смертью дочери и воспоминаниями о ней.
Принадлежность Короленко к поколению «семидесятников», с их ярко выраженным социальным интересом, с хождением «в народ», проявилась в особенностях «сюжетной» динамики. События в дневнике развертываются по кривой, образующий круг, а ее направление совпадает с траекторией движения главных оппозиционных сил эпохи: Восточная Сибирь – верховья Волги – Петербург – Америка – Юго-Восточная Европа (Румыния) – Крым – Нижний – Полтава. Замкнутость географии сюжета, его циклический характер, совпадает как с завершенностью идейного развития Короленко на этапе ведения дневника, так и цикличностью жанрового содержания летописи. Открыв повествование изображением природы, нравов и быта отдаленных сибирских поселков, дневник Короленко далее проходит длительный этап хроники общественной жизни и завершается (в начале XX в.) содержательно однородным, – но на более высоком уровне осмысления – описанием повседневной жизни украинской глубинки, с ее типами, нравами и проблемами.
Образная, типологическая и сюжетная определенность дневника сродни его жанровому содержанию. Хроника Короленко носит публицистический характер. В ней субъективно-оценочное слово имеет политическую направленность. Эта идейная позиция автора, свойственная всем этапам ведения дневника, в концентрированной форме была выражена в записи-письме, адресованном начинающему автору, в полтавском дневнике 1903 г.: «Мой совет – оставить эту форму – чисто субъективных настроений, трудно уловимых и неопределенных. Нужно больше внимания к жизни, в ее разнородных проявлениях. Собственное настроение и описание – только соус. Настоящее блюдо – изображение жизни <…>» (т. 4, с. 330).
Первое место на страницах дневника всегда занимают злободневные политические события, столичные и провинциальные. Будучи долгие годы лишенным свободы передвижения, писатель тем не менее всегда в курсе происходящего, пульс которого бьется на кончике его пера. Порой писатель уподобляется вездесущим и неутомимым в поисках новостей репортерам, заносящим в блокнот сообщение о еще не завершенном событии: «Я пишу эти строки, а мимо моих окон идут казаки, поют песню и свищут» (т. 4, с. 287).
Нередко публицистическая заостренность и желание поспеть за стремительным ходом событий заставляли Короленко делать в своем дневнике пророческие прогнозы: «25 февраля 1901 г. <…> Медленно, но неуклонно нарастают понемногу и собираются великие силы будущей борьбы. Нашим детям предстоит жить в очень драматическое, но и интересное время» (т. 4, с. 212).
Жанровая эволюция дневника в последней четверти века более всего затронула его метод и стиль. Происходит расширение творческих источников дневника, углубляется его взаимодействие с другими нехудожественными жанрами. Дневник обогащается новаторскими достижениями публицистики, исследовательскими приемами из области общественных наук. Все эти новации приводят к серьезным изменениям в характере субъекта повествования. Функция записи постепенно начинает утрачивать характер отчета-исповеди за прожитый день. Автор начинает играть роль обозревателя, пишущего с оглядкой на то, что его слово услышит кто-то другой. Разнородные источники информации, которые использует повествователь, разрушают единство стиля. Многообразие речевых форм создает сложную стилистическую структуру.
По принципам отбора жизненного материала и его источникам дневник Короленко занимает исключительное место в ряду образцов этого жанра конца XIX столетия. Он содержит такое информативное богатство, которого мы не встретим ни у одного из его современников, в такой же мере подверженных перечисленным тенденциям.
Пестрота источников информации и жанровых форм, бросающаяся в глаза уже в ранних дневниках, поначалу наводит на мысль о творческой незрелости начинающего писателя. Однако последовательность проведения этого принципа и в дальнейшем убеждает в том, что он имеет фундаментальное методологическое значение.
Ранний дневник, помимо мыслей и наблюдений автора, содержит отрывки из переписки людей 40–60-х годов, французские стихи, цитаты из книг, переводы, отрывки из собственных писем разным адресатам.
Описания увиденного и услышанного включают в себя пространные диалоги, подслушанные в дороге, на временном ночлеге или вынужденной остановке. В таких случаях Короленко стремится передать материал зрительно, дословно и почти без комментариев, т. е. по своему признанию, «относит все явления к их изображению» (т. 1, с. 65).
В дальнейшем живые картины событий все чаще и интенсивнее дополняются аналитическими материалами. Но одновременно происходит и расширение источниковедческой базы. Дневник обогащается вырезками из газет, вклеенными между записями, выписками из сочинений писателей (Щедрин), философов, публицистов (Берне), политиков, из писем, адресованных не Короленко (анонимное письмо к Николаю I).
В поздних дневниках весь этот материал подвергается творческому синтезу и уже не выступает в «сыром» виде. Писатель, ссылаясь на источник, ставит своей задачей не передать его дословно, а подвергнуть анализу с определенных идейных позиций. Источниками подобных аналитических отчетов становятся газетные материалы, письма разных корреспондентов, слухи, изустная информация лиц, пользующихся доверием автора: «Из Варшавы получил следующее анонимное письмо» (т. 4, с. 191); «Очень характерный анекдот <…>» (т. 4, с. 170); «Сегодня баронесса рассказывала Н.К. Михайловскому анекдот, или действительное происшествие, прекрасно характеризующее настроение и государственную мудрость настоящей минуты» (т. 2, с. 36); «Во всех этих толках и слухах нельзя не заметить двух основных нот <…>» (т. 2, с. 300); «Сегодня в «Волгаре» (№ 50) напечатано <…>» (т. 3, с. 113); «Из источника случайного, но совершенно достоверного узнал <…>» (т. 3, с. 27).
Порой даже характеристика какого-то лица строится из сочетания собственных суждений о нем Короленко и газетных источников: «Одна из фигур, несколько загадочных, но во всяком случае интересных, – это фигура С. И. Мальцева» (т. 2, с. 192). И далее следует выписка из журнала «Гражданин».
В группе поздних дневников нижегородского и полтавского периодов набирает силу тенденция строить проблемно-тематическую запись по методу газетной публицистической статьи с обязательным логическим выводом. Такой вывод имеет обобщающий характер и как бы раскрывает философско-исторический смысл эпохи: «Нет единого производящего в истории <…> В ней всякое явление, всякий двигатель, являясь следствием предыдущих, в то же время служит причиной множества последующих явлений» (т. 4, с. 85); «Итак, опять начало того же. Русская история новейших времен совершила круговорот и пришла опять к исходной точке» (т. 4, с. 199–200); «До сих пор религиозный вопрос дремал на заднем фоне общественного сознания. Теперь его выдвигают вперед. Горизонт действительно заволакивается тучами. Изуверство политическое явно связывается с изуверством религиозным» (т. 4, с. 262–263).
Отказ от свободного расположения материала в записи, являющегося характеристической особенностью жанра дневника, в пользу тематического структурирования находит свое продолжение в драматизации и типизации частного случая. Эта тенденция действовала как противовес хроникальной организации материала. Выбирая из массы обыденных явлений одно, на его взгляд наиболее типичное, Короленко строит рассказ о нем как драматическое повествование, заключающее в себе обобщающий смысл. При этом автор нередко ссылается на историю, находит аналогии в публицистике, общественных науках, современной жизни других стран: «Некоторые черты этой драмы глубоко характерны и интересны» (т. 3, с. 123); «Повторяется русская история, сильно повторяется <…> Старушка мать Герда – в слезах… Совершенно так, как была моя мать около 20 лет назад. Да, повторяется русская история» (т. 4, с. 92); «Роковое «самоотрицание» существующего порядка в этом эпизоде высказывается ясно <…> «Пусть только случится, – писал Л. Берне в «Менцеле – французоеде», – что между испанскими якобинцами найдется какой-нибудь математик – и союзный сейм тотчас же запретит у нас логарифмы». У нас достаточно найти несколько раз при обысках свод законов, чтобы объявить эту книгу «изъятой из библиотек» (т. 4, с. 36–37).
Приток многообразного жизненного материала обусловил и проникновение в стиль дневника различных лексических пластов. Долгие годы живя в провинции, Короленко запечатлел в своей летописи не только особенности быта и нравов российской глубинки, но и свойства языка местного населения. Здесь подразумеваются не столько национальные наречия, диалектные словечки и выражения, сколько специфически областные понятия, характеризующие местные типы.
Помимо языковых групп, свойственных различным литературным стилям, в дневнике Короленко встречаются слова и понятия, почерпнутые из жаргонного, иностранного и профессионального лексикона. Они придают описываемым сценам и характерам особый колорит и выразительность. Достаточно вспомнить такое слово-понятие, как «стрелок», заимствованное из тюремно-воровской «блатной музыки» и весьма ярко характеризующее выведенный в образе студента Минаева тип (т. 2, с. 216–217). Нередко целенаправленное использование слов ненормативной лексики, для которых находятся лексические параллели в литературном языке, придает повествованию дополнительный, эстетический эффект: «<…> первые рассказы об этом Клопове были приняты как простая бляга» (т. 4, с. 50).
Охвативший различные жанровые уровни дневника Короленко процесс типизации сказался в области стиля введением понятий, отражавших такие социальные явления, у которых не существовало соответствий на литературном языке. Поэтому, помимо эстетической, они несли на себе еще и смысловую нагрузку: «Наступила пора не только для фамильярности, но и для амикошонства» (т. 4, с. 70).
Впитавший в себя основные закономерности жанровой динамики, дневник Короленко практически на всех структурных и содержательных уровнях отразил главную тенденцию в развитии писательского дневника (как и дневника вообще) – ослабление камерных основ и сближение с социальной сферой функционирования. Вместе с тем эволюция дневника Короленко подтвердила другую истину, свойственную литературному сознанию XIX столетия. Более поздний дневник (1910–начало 1920-х годов), не внесший ничего принципиально нового с точки зрения элементов жанровой структуры, символизировал исчерпанность возможностей жанра, указывал на его пределы в отражении внешних событий. Он уже не вмещал в себя того бесконечно многообразного и сложного материала, для которого требовались иные жанровые формы. Короленко принадлежал к поколению, которое еще не могло подозревать, какие возможности открывал для дневника наступивший XX в. Слишком сильны были старые представления о дневнике как об истории личной жизни его автора.
Примечания
1
Дневники И.С. Тургенева и И.С. Аксакова были предметом самостоятельного исследования автора. См.: «Романы И.С. Тургенева. Проблемы культуры» – М., 2000 (в соавторстве с Т.А. Савоськиной и H.H. Халфиной); «Жанр дневника в письмах (С.П. Жихарев, И.С. Аксаков, П.С. Игнатьев)» – готовится к печати.
(обратно)2
Дневник В.А. Жуковского. – СПб., 1903. – С. 182.
(обратно)3
Веселовский А.Н. В.А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения». – Пг., 1918. – С. 245.
(обратно)4
Там же. – С. 293.
(обратно)5
Жуковский В.А. Собр. соч.: В 4 т. – М.; Л., 1959–1960. Т. 4. – С. 484–487.
(обратно)6
Там же. – С. 668.
(обратно)7
Дневник… – С. 204.
(обратно)8
Собр. соч. Т. 4. – С. 465.
(обратно)9
Там же. – С. 455.
(обратно)10
Новалис. Генрих фон Офтердинген. Фрагменты. – СПб., 1995. – С. 19.
(обратно)11
Дневник… – С. 10.
(обратно)12
Там же. – С. 21.
(обратно)13
Там же. – С. 44.
(обратно)14
Там же. – С. 50.
(обратно)15
Русская старина. 1883. T. XXXVII. – С. 210–211.
(обратно)16
Там же. – С. 212.
(обратно)17
Дневник… – С. 60.
(обратно)18
Там же. – С. 45.
(обратно)19
Там же. – С. 49.
(обратно)20
Там же. – С. 54.
(обратно)21
Собр. соч. Т. 4. – С. 588.
(обратно)22
Дневник… – С. 274.
(обратно)23
Там же. – С. 277.
(обратно)24
Там же. – С. 98.
(обратно)25
Там же. – С. 204.
(обратно)26
Там же. – С. 90.
(обратно)27
Вяземский П.А. Записные книжки (1813–1848). – М., 1963.
(обратно)28
Вяземский П.А. Записные книжки. – М., 1992.
(обратно)29
Вяземский П.А. Записные книжки. – М., 1992.
(обратно)30
Дневник Пушкина. – М.; Пг., 1923. – C. III.
(обратно)31
Фомичев С. А. «Несколько раз принимался я за ежедневные записки» – A.C. Пушкин. «Дневники. Автобиографическая проза». – М., 1989. – С. 7.
(обратно)32
Анненков П.В. «А.С. Пушкин в Александровскую эпоху». – СПб., 1874. —С. 308–309.
(обратно)33
Пушкин A.C. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 6. – С. 49. – М., 1954.
(обратно)34
Пушкин A.C. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 6. – С. 41. Далее все цитаты из «Дневника» приводятся по данному изданию с указанием страницы в тексте.
(обратно)35
Щеголев П.Е. «Из комментариев к Дневнику Пушкина. Пушкин о Николае I» – «Дневник Пушкина». – М.; Пг., 1923. – C. XXIV.
(обратно)36
Эфрос А.М. «Рисунки поэта» Б.М., 1923. – С. 5.
(обратно)37
Погодин М.П. Год в чужих краях. Дорожный дневник: В 4 частях. – М., 1839.
(обратно)38
Одоевский В.Ф. Хроника и особые происшествия. Дневник. 1859–1869. – Литературное наследство. Т. 22. – М., 1936.
(обратно)39
Никитенко A.B. Дневник: В 3 т. – М., 1955–1956.
(обратно)40
Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. T. II. – М., 1954.
(обратно)41
Шевченко Т.Г. Собр. соч.: В 5 т. Т. 5. – М., 1964.
(обратно)42
A.B. Дружинин. «Повести. Дневник». – М., 1986.
(обратно)43
Чернышевский Н.Г. ПСС: В 15 т. Т. 1. – М., 1935.
(обратно)44
Лакшин В.Я. К «духовному солнцу» (Дневник Льва Толстого) – В.Я. Лакшин. Пять великих имен. – М., 1988. С. 320.
(обратно)45
Эйхенбаум Б. Молодой Толстой – Б. Эйхенбаум.
(обратно)46
Лакшин В.Я. Указ. соч. – С. 313.
(обратно)47
Все цитаты из дневника Л.Н. Толстого приводятся по изданию: Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. и писем: В 90 т. – М.; Л., 1928–1958 с указанием позиции в тексте.
(обратно)48
Маковицкий Д.П. У Толстого. Яснополянские записки: В 4 т. – М., 1979–1981. T. 1.-С. 118.
(обратно)49
Маковицкий Д.П. У Толстого. Яснополянские записки: В 4 т. – М., 1979–1981. T. 1.-С. 118.
(обратно)50
Там же. Т. 3. – С. 209.
(обратно)51
Толстая С.А. Дневники: В 2 т. – М., 1978.
(обратно)52
Маковицкий Д.П. У Толстого. Яснополянские записки: В 4 т. – М., 1979–1981.
(обратно)53
Сухотина T.Л. Дневник. – М., 1987.
(обратно)54
Маковицкий Д.П. У Толстого. Яснополянские записки: В 4 т. – М., 1979–1981.
(обратно)55
Булгаков В.Ф. Толстой в последний год его жизни. – М., 1960.
(обратно)56
Добролюбов Н.А. Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. – М.; Л., 1964.
(обратно)57
Суворин A.C. Дневник. – М., 1992.
(обратно)58
Гарин-Михайловский Н.Г. Собр. соч.: В 5 т. Т. 5. – М., 1957–1958.
(обратно)59
Короленко В.Г. Дневники: В 4 т. – Полтава, 1925.
(обратно)


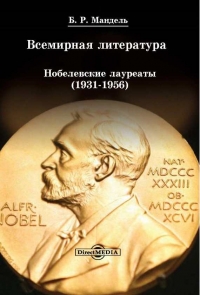


Комментарии к книге «Дневники русских писателей XIX века: исследование», Олег Георгиевич Егоров
Всего 0 комментариев