От автора
Эта книга представляет собой переработанную версию диссертации «О функции немецкой тематики в творчестве О. Мандельштама», защищенной в Университете Регенсбурга (Германия) в 2007 году. Работа была подготовлена при поддержке фондов DAAD (Германская служба академических обменов) и Studienstiftung des Deutschen Volkes. Мне хотелось бы выразить особую благодарность Вальтеру Кошмалю, научно и организационно курировавшему становление этой работы. Я также признателен Дирку Уффельманну и Александру Вёллю, взявшим на себя труд рецензентов. В ходе работы над книгой мне посчастливилось общаться с М. Л. Гаспаровым, который, несмотря на болезнь, щедро помогал мне своими профессиональными советами. Особая благодарность — О. А. Лекманову, всячески поддержавшему мои московские разыскания. Многим я обязан Мандельштамовскому обществу и компетентным советам П. М. Нерлера и Ю. Л. Фрейдина. Не имея возможности назвать каждого поименно, я хотел бы выразить благодарность всем друзьям и коллегам, с которыми мне довелось обсуждать положения данной работы. Без их критических замечаний и дополнений эта книга была бы неполной. Я сердечно признателен А. Л. Осповату, Р. Г. Лейбову и Л. Н. Киселевой, которые помогли мне окунуться в водовороты московской и тартуской филологической жизни, а также Р. Г. Запесоцкой и С. В. Киршбаум, просмотревшим рукопись книги. Я благодарен И. Д. Прохоровой, включившей книгу в число изданий «Нового литературного обозрения».
0. Введение
0.1. Постановка вопроса
Центральную тему творчества О. Мандельштама можно обозначить как «слово и культура». Именно так называлась переломная статья 1922 года, которая открыла сборник литературно-критических работ «О поэзии» (1928). В сходных культурно-филологических категориях Мандельштам определял и то литературное течение, в котором он сформировался как самостоятельный поэт: акмеизм, по Мандельштаму, — это, с одной стороны, «тоска по мировой культуре», с другой — «совесть поэзии», «суд над поэзией» (IV, 33)[1].
Уже стало традицией начинать разговор о творчестве Мандельштама с этой цитаты о «тоске по мировой культуре». Ориентация на чужую культуру (в Древней Руси — на Византию, с XVIII века — на Западную Европу) — один из константных императивов русского культурного самосознания. Поэтому на первый взгляд в мандельштамовском определении нет ничего, что бы отличало акмеизм от многих других явлений русской культуры. Более того, в объеме знаний о мировой культуре акмеисты значительно уступают своим учителям, так что «тоской по мировой культуре» скорее можно было бы назвать символизм.
Исследователи нередко перенимали мандельштамовскую формулу, не останавливаясь ни на ее лексическом оформлении, ни на контексте ее произнесения. Составляющие мандельштамовской формулы восходят к идейно-художественному миру немецкой литературы конца XVIII — начала XIX века. «Тоска» представляет собой русский перевод-эквивалент тоски-томления («Sehnsucht») немецких преромантиков по блаженному Югу, а понятие «мировой культуры» («Weltkultur») отсылает к Гете. Этот немецкий подтекст в определении акмеизма не случаен — в 1930-е годы Мандельштам интенсивно занимался Гете; образ немецкого поэта стал ключевым в поэтическом обращении «К немецкой речи» (1932), которое начиналось с реминисценции из стихотворения Гете «Selige Sehnsucht» («Блаженная тоска»). Говоря именно об этом стихотворении, вдова поэта отметила, что немецкая поэзия была для Мандельштама «самая близкая» (Н. Мандельштам 1990а: 226). Стихотворение «К немецкой речи» поэт читал на одном из своих поэтических вечеров весной 1933 года — вероятно, тогда им и были произнесены слова о тоске по мировой культуре[2]. При этом Мандельштаму пришлось объяснять публике, что его стихотворение было написано в 1932 году, то есть во время проведения официальных торжеств по поводу столетия со дня смерти Гете, а не в 1933-м, когда пронемецкая позиция могла быть понята неправильно.
Все это говорит о значимости образов немецкой культуры в творчестве Мандельштама и косвенно подтверждает процитированные слова вдовы поэта. Вместе с тем данный пример показывает, что адекватное понимание как отдельных поэтических и критических высказываний Мандельштама, так и его культурософских[3] и поэтологических позиций возможно лишь в том случае, если их рассматривать в контексте развития всего поэтического мира поэта в его взаимосвязи с конкретными внелитературными событиями.
Мандельштам был выходцем из провинциальной еврейской семьи и поэтому изначально не ощущал себя прямым наследником русской и европейской культур. «Выбор культуры», как и выбор русской поэзии, был для него «актом личной воли» (Гаспаров 2001b: 195). Первую попытку выхода из «иудейского хаоса» сделали уже родители Мандельштама: отец бежал из «талмудических дебрей» (II, 356) в мир немецкого Просвещения, мать сознательно прививала себе и детям русскую культуру. В Тенишевском училище Мандельштам усовершенствовал свой немецкий, а в 1909–1910 годах провел два семестра в Гейдельберге.
Прогерманские вкусы отца, уроки немецкого в Тенишевском, а также пребывание в Германии подготовили интерес Мандельштама к немецкой культуре. В дальнейшем этот интерес определялся культурософскими и поэтологическими установками поэта. Русская культура осознавалась им как своя, родная стихия, которую еще нужно освоить и усвоить. В то же время Мандельштам понимал, что русская поэтическая культура сформировалась, синтезируя и адаптируя культурно-эстетические достижения Европы, прежде всего Германии и Франции. Перенимая принцип синтеза, Мандельштам тем самым не просто избрал плодотворный путь освоения русской культуры, но и уловил саму синтетическую установку русской культуры. Немецкий и французский элементы привлекали его тем, что они изначально присутствовали в русской поэтической культуре. Это побудило Мандельштама сознательно тематизировать русско-европейские культурные и литературные связи.
Отдельной самостоятельной темой поэзии Мандельштама оказывается синтетическая установка русской поэтической культуры. Так, уже в раннем стихотворении «В непринужденности творящего обмена…» Мандельштам поставил перед собой конкретную поэтическую задачу:
В непринужденности творящего обмена Суровость Тютчева — с ребячеством Верлена — Скажите — кто бы мог искусно сочетать, Соединению придав свою печать? («В непринужденности творящего обмена…», I, 33)В этом программном стихотворении обозначен как сам поэтический принцип синтеза-соединения, так и его объекты: «немецкая» тютчевская суровость и французская верленовская самоирония. Этот краткий четкий манифест — самое раннее свидетельство метапоэтичности мышления Мандельштама. За поэтическим высказыванием у него часто стоят историко-литературные размышления, и если в ранней лирике поэта они существуют скорее имплицитно, то в 1930-е годы они эксплицируются в «Стихах о русской поэзии» и поэтических обращениях к немецкой, армянской и итальянской литературе. Метапоэтичность отличает даже те произведения Мандельштама, которые реагировали на самые актуальные события и запросы современности. Изучая его поэтический мир, исследователь обязан помнить, что поэтическими средствами поэт часто передает информацию историко-литературного и поэтологического характера. С одной стороны, перед исследователем — поэзия рефлексивная, с другой стороны, Мандельштам не только метапоэтизировал свои высказывания, но и тематизировал саму метапоэтичность поэтической речи.
Уже современники поэта отмечали свойственную Мандельштаму поэтику синтеза и культурософско-филологическую направленность его лирики. Так, В. М. Жирмунский, используя шлегелевское выражение, утверждал, что стихотворения поэта являются «не поэзией жизни, а „поэзией поэзии“ („die Poesie der Poesie“)» (1977: 123). По мнению Н. Я. Берковского, Мандельштам — «историограф, мыслящий исторический процесс сжатою символикой словесных образов» (1989: 296); его стихи представляют собой «„художественную критику“ (там же: 297) на темы театра, архитектуры и поэзии»: Мандельштам «неустанно» стремится вложить реалии, попавшие в его поэтическое поле зрения, «в их культурно-исторические „гнезда“» (там же: 299). Б. М. Эйхенбаум в своей речи, предварявшей последнее официальное выступление поэта с чтением стихов (на котором и были произнесены слова о тоске по мировой культуре), говорил о «филологизме» Мандельштама; по мнению исследователя, лирика Мандельштама является своего рода поэтологической «лабораторией» стиха, где ставятся «химические опыты» над словом (1987:448, прим.1). Естественно-научными метафорами исследователь косвенно подчеркнул научность мандельштамовской поэтики.
Таким образом, мандельштамовскую «тоску по мировой культуре» точнее будет назвать тематизацией восприятия европейского наследия в русской культуре и литературе. При этом мировая (читай — европейская) культура для поэта не бесформенная абстракция. Европа Мандельштама имеет конкретные культурно-исторические контуры: это прежде всего античность (Греция, Рим и входящие в средиземноморскую культуру Черноморье и Кавказ), культура французская (от «Песни о Роланде» до Верлена и импрессионистов), а также итальянская поэзия Возрождения (от Данте до Тассо). Неотъемлемой частью мировой культуры, одним из важнейших для Мандельштама «культурно-исторических гнезд» являлась и культура немецкая.
Стихи Мандельштама писались в конкретном эстетическом и историко-культурном контексте и отвечали не только на поэтические вопрошания самого поэта, но и на насущные проблемы и события современности. Они были частью динамически развивающегося литературного процесса эпохи и возникали в рамках конкретной полемики с символистами (1910-е годы) или в контексте изменений литературного быта 1920–1930-х годов. Немецкая тема, наряду с другими «национальными» темами, была одним из конструктивных элементов мандельштамовской поэтики, существовавшей и развивавшейся в конкретных исторических условиях. Поэтому задача исследователя состоит не в том, чтобы механически отбирать из произведений Мандельштама те метапоэтические или культурософские высказывания, которые касаются немецкой культуры, а в том, чтобы попытаться очертить и осмыслить место немецкой темы во всем ее сложном взаимодействии в контексте поэтики Мандельштама.
По ходу работы мы оперировали словосочетанием «немецкая тема»[4], помня о его употреблении у самого Мандельштама[5]; кроме того, в мандельштамоведении принято говорить об античной, романской и других «национальных» темах в произведениях Мандельштама. В своей статье «The Jewish Theme in the poetry of Osip Mandelštam» (Taranovsky 1974)[6], положившей начало интертекстуальным исследованиям Мандельштама, К. Ф. Тарановский говорил о «еврейской теме», специально не останавливаясь на определении этого понятия. Конечно, из-за своей многозначности, а также смежного употребления в таких различных дисциплинах, как лингвистика, риторика, музыковедение, «тема» может использоваться только как рабочий термин. Кратко очерчивая возможности и границы работоспособности термина «тема» для настоящего исследования, хотелось бы отметить, что понятие темы, соприкасаясь с понятием «семантического поля» (обладающего своими «метафорическими» достоинствами и недостатками), имеет не только аспект собирательности — по отношению к «сырому» образному материалу, но и содержит, в отличие от статического «комплекса мотивов», процессуальный момент их взаимосвязанности и взаимомотивированности. Кроме того, смысловая нагруженность понятия «темы» в музыковедении и при «переносе» в область литературы оставляет за ним потенциал вариативности[7]. Таким образом, уже в самом названии нашей работы заложен один из ее основных тезисов: принадлежность к «немецкому» — не просто случайный критерий набора отдельных разрозненных мотивов, а опорный общий знаменатель мандельштамовской поэтики, один из ее важнейших метонимических двигателей.
0.2. Обзор исследовательской литературы
Важность изучения отдельных национальных тем в творчестве Мандельштама была отмечена уже на заре мандельштамоведения. Еврейской теме была посвящена обстоятельная статья К. Ф. Тарановского (Taranovsky 1974)[8]. Античной темой у Мандельштама занимаются давно — в процессе этих исследований были выработаны многие плодотворные методы изучения его поэтики[9]. Лишь частично обследована итальянская тема, напрямую связанная с античной[10]. Отдельные статьи, биографические и библиографические комментарии были посвящены армянской и грузинской темам[11]. Р. Дутли написал диссертацию о месте Франции в жизни и творчестве поэта (Dutli 1985) и краткий, но емкий очерк об отношении Мандельштама к Швейцарии (Dutli 1995: 157–175). Готической и египетской тематике в творчестве Мандельштама было посвящено специальное исследование М. Л. Гаспарова (2001b: 260–295)[12].
Накоплено огромное количество фактов, сделано множество открытий, которые, однако, не собраны воедино. Так, античная и еврейская темы были не столько объектом изучения, сколько экспериментальным полем для апробации новых методик (например, подтекстуальной школы Тарановского и его учеников). Кроме того, до сих пор не написаны работы, показывающие развитие отдельных национальных тем в творчестве Мандельштама. Единственным исключением можно считать уже упомянутое и пока не нашедшее продолжения исследование Р. Дутли по французской теме[13].
Немецкая тема наряду с французской и итальянской играет важнейшую роль в творчестве поэта, однако до сих пор эта роль остается недостаточно исследованной. Это тем более удивительно, что ее значимость для поэтического мира Мандельштама была отмечена еще при его жизни. Впервые о немецких мотивах в лирике Мандельштама заговорил В. М. Жирмунский, исследователь-германист, изучавший восприятие немецкой литературы в русской культуре. В своей статье «На путях к классицизму» (1977: 138–141) из десяти приведенных им мандельштамовских цитат пять (!) взяты из стихотворений, содержащих немецкую образность.
К. Ф. Тарановский в работе, посвященной еврейской теме, упомянул некоторые немецкие мотивы в лирике Мандельштама, при этом он указал на три стихотворения: «Декабрист», «Зверинец» и «К немецкой речи» (в расширенном виде: Taranovsky 1976: 66)[14]. Дж. Бэйнс в своем исследовании поэтики позднего Мандельштама мельком коснулся стихотворения «К немецкой речи» (Baines 1976: 68–72). X. Роте, рассуждавший о месте «Декабриста» в корпусе «Tristia», также отметил присутствие в этом стихотворении немецких реалий, несколько расширив замечание В. М. Жирмунского (Rothe 1975: 105–106). После появления статьи X. Роте в разговор о немецких мотивах в лирике Мандельштама включились немецкоязычные исследователи.
Краткое предварительное описание «немецких» стихотворений в корпусе текстов Мандельштама составил В. Шлотт. В последней главе своей книги о функции античных мифов в поэзии Мандельштама он кратко проанализировал стихотворение «К немецкой речи» и сказал несколько слов о значении немецкой темы в более ранних стихах поэта (Schlott 1981: 254–274). Опираясь на стихотворения «Лютеранин», «Бах» и «К немецкой речи», Шлотт поставил вопрос об эволюции немецкой темы в творчестве Мандельштама (Schlott 1988: 287–293). Но его анализ был чересчур беглым — исследователь учел лишь три текста: два ранних, 1912 и 1913 годов, и один 1932 года. Между тем создание большинства стихотворений, содержащих немецкую образность, пришлось на период с 1914 по 1932 год.
Сравнительно недавно П. М. Нерлер (1995 и Nerler 1993) и Р. Дутли (Dutli 1999) существенно расширили представление о корпусе «немецких» произведений Мандельштама. Причем, подобно В. Шлотту, П. М. Нерлер посчитал нужным перед разговором о стихотворении «К немецкой речи», которое он справедливо назвал «бесспорной кульминацией немецкой темы у Мандельштама» (1995: 181), составить краткую генеалогию немецкой тематики в творчестве поэта[15]. Вслед за Нерлером Ш. Симонек затронул некоторые интертекстуальные связи стихотворений «К немецкой речи» и «Батюшков» (Simonek 1994а)[16]. Тот же исследователь рассмотрел высказывания Мандельштама о Моцарте в статье «О природе слова» (1993а), один «гетевский» пассаж в «Египетской марке» (1994b) и переводы из А. Шнитцлера (1993b). Н. Поллак (Pollak 1983: 119–125), Д. Майерс (1994, Myers 1992) и К. Трибл (1995 и 1999) в своих статьях коснулись темы «Мандельштам и Гете», Трибл — более обще и пространно, Майерс — на материале радиопьесы «Молодость Гете». Некоторые немецкие места «Путешествия в Армению» также становились предметом анализа (Nesbet 1988; Pollak 1983). Глубокое знание поэтом немецкой музыки и ее истории показал в своих незаменимых примечаниях к «музыкальным» стихам Мандельштама Б. А. Кац (1991а; 1991b). X. Майер посвятил специальную поэтико-текстологическую статью мандельштамовским переводам из Макса Бартеля (Меуег 1991), а П. М. Нерлер — несостоявшимся переводам из Гете (2004)[17].
Многие исследователи отметили важность немецкой темы в творчестве Мандельштама, а также указали на некоторые конкретные немецкие мотивы, но поскольку у каждого из них были свои цели, дальше констатации и беглого обзора немецкой образности в том или ином стихотворении дело не шло. Учеными, часто независимо друг от друга (и, к сожалению, в большинстве случаев без ссылок друг на друга), уже были обозначены линии развития немецкой темы у Мандельштама. Однако до сих пор речь шла лишь о самых очевидных случаях, при этом недостаточно учитывалась динамика развития немецкой темы у Мандельштама, связь его стихотворений с произведениями других авторов, внелитературные обстоятельства создания и бытования текстов. Уже давно назрела необходимость, собрав и перепроверив разрозненные находки исследователей и дополнив их разбором новых текстов, представить более полную картину развития немецкой темы в творчестве Мандельштама.
0.3. Цели и методы исследования
При погружении в исследовательскую литературу о Мандельштаме мы столкнулись с конкретными комментаторско-интерпретационными проблемами, сам объем и острота которых требовали их дальнейшего обсуждения. Это предопределило собственно историко-литературный и поэтологический характер настоящего исследования. Первоначально задуманный синтез филологической и культурологической перспектив привел бы к аналитическим и аргументативным сдвигам, которые бы нарушили риторическое и методическое единство работы.
Если бы мы поставили перед собой цель — реконструировать мандельштамовский образ Германии, тексты Мандельштама стали бы предметом собственно культурологического, а не филологического вопрошания. Это не значит, что к этому вопросу мы не обращались вовсе, но прежде всего нас интересовало, «как сделана» немецкая тема в произведениях Мандельштама.
Первоначальным критерием отбора текстов для анализа стало появление в них образов и мотивов немецкой поэзии и мифологии (Лорелеи, Валгаллы и т. п.), упоминание имен деятелей немецкоязычной культуры (Лютера, Баха, Шуберта и т. п.), а также названий немецких и австрийских городов и других географических реалий (Рейн, Кельн и т. п.). Заслуживающими внимания мы считали и те тексты, в которых появляются слова немецкий, германский, Германия. Исключительные случаи оговариваются нами по ходу работы. В процессе своего развития немецкая тема у Мандельштама обрастала определенными семантическими признаками и сигнальными словами. Поэтому в разбор были включены и стихотворения, содержащие немецкую тематику имплицитно.
В настоящей работе была предпринята попытка на материале конкретных текстов выяснить, чем мотивировано появление немецкой образности в том или ином стихотворении Мандельштама. Этот вопрос напрямую связан с изучением той роли, которую немецкая тема играет как в отдельных текстах, так и в творчестве Мандельштама в целом. Поэтому мы рассматривали эту тему не саму по себе, а во взаимосвязи с особенностями поэтики Мандельштама и идейно-образным и лексико-синтаксическим строем каждого конкретного текста.
Наша основная задача состояла в том, чтобы проследить эволюцию немецкой темы в поэзии Мандельштама. Поэтому тексты анализировались в хронологическом порядке (исключения оговариваются). Речь идет не просто о соблюдении элементарных принципов историзма — сам Мандельштам, в отличие, например, от Ахматовой, придавал хронологии большое значение, в своих сборниках он расставлял стихи хронологически и даже, согласно воспоминаниям современников (Эйхенбаум 1987: 532), читал их хронологически.
Адекватное решение вопроса о мотивации и функциональности немецкой тематики предполагает идентификацию тех русских «текстов-посредников» немецкой культуры и литературы, на которые Мандельштам опирается при разработке немецкой темы. В то же время наша работа была призвана не только показать, что именно из немецкой культуры было введено Мандельштамом в поле своего поэтического зрения и из каких источников, — мы стремились ответить на вопрос, что означал сам факт обращения к немецкой тематике в контексте литературной полемики 1910-х годов или же изменений литературного быта в 1920–1930-е годы.
Желание определить актуальность немецкой тематики для поэтики самого Мандельштама и читательского опыта его современников предопределило выбор методики. Установка на осторожное раскрытие чужих эстетических систем располагает исследователя к работе наиболее аутентичными средствами. В случае Мандельштама такой подход оказывается вдвойне оправданным и плодотворным, поскольку его филологическая культура и поэтика формировались в годы расцвета русской литературоведческой науки. Так называемый «серебряный век» русской поэзии был «золотым веком» русской филологии. Мандельштамовская поэтика напрямую связана с современными ей филологическими и историко-литературными концепциями. Поэтизацию и тематизацию историко-литературных фактов в творчестве Мандельштама следует рассматривать рядом с формалистской теорией и практикой исторического изучения «литературности». С 1910-х годов филолог становится имплицитным читателем литературы вообще и поэзии в особенности, читателем, с которым считается и на которого рассчитывает автор. Метапоэтичность модернизма является не просто авторефлексивностью, но еще и рефлексивностью филологической. Поэтому оправданным и закономерным нам показалось привлечение к исследованию немецкой темы в творчестве Мандельштама филологической мысли его современников[18].
Применительно к интересующей нас эпохе можно говорить о весьма проницаемой границе между художественной и научно-критической литературой. Это дало нам возможность рассматривать тексты опоязовцев и околоформалистских историков и теоретиков литературы одновременно и как источники, и как исследовательские работы. Идеи и опыт современных Мандельштаму филологов, для которых поэт был не только автором стихов, но и компетентным собеседником, легли в основу современного мандельштамоведения.
Каждый комментируемый текст Мандельштама требует к себе особого подхода. В одном случае для понимания требуется историко-литературный комментарий с элементами имманентного анализа, в другом — помогает привлечение знаний о закономерностях и особенностях поэтики автора, в третьем — необходимо учитывать отсылки к текстам других авторов. Порой ключевую для понимания информацию можно получить, лишь анализируя внелитературные ряды, так или иначе связанные с текстом. Поэтому содержащие немецкие мотивы стихотворения Мандельштама рассматривались в контексте эволюции поэтики автора и ее взаимосвязи с историко-литературными фактами, социально-идеологической средой и жизненной ситуацией поэта.
При выработке методики нашего исследования мы остановили свой выбор на тех концепциях и методиках, которые прошли проверку, а частично и были первоначально выработаны в ходе мандельштамоведческих штудий. Как правило, мы начинали анализ с имманентного разбора текстов, современная практика которого уходит корнями в формалистские опыты по изучению технологии текста; главным образом практиковалось сукцессивное чтение, позволяющее учитывать динамический фактор смыслообразования. В случае с Мандельштамом такой подход оказывается особенно продуктивным, потому что, как уже отмечалось Тыняновым, связь между мандельштамовскими образами «создается от стиха к стиху», «странные смыслы» оправданы ходом всего стихотворения, «от оттенка к оттенку, приводящим в конце концов к новому смыслу» (Тынянов 1977: 189). Сходную позицию, базирующуюся на отрицании смысла поэтического высказывания и на понимании сукцессивности стиховой речи, занимал и сам Мандельштам, который при этом опирался на положения тыняновского труда «Проблема стихотворного языка» (1924а)[19]. Именно на этом основании в настоящем исследовании, как правило, рассматривались не отдельные «немецкие» строки, а разбирались стихотворения целиком. Зачастую та или иная тема разрабатывается Мандельштамом на уровне тропов (ср. Левин 1972: 38), поэтому раскрытие функции немецких мотивов возможно лишь при учете всей тропики текста.
Выводы имманентного анализа должны быть откорректированы с учетом вовлеченности конкретного текста в литературный процесс эпохи и его взаимозависимости от факторов литературного быта. Если поэзия и сопутствующая ей критика 1910-х годов существовали пусть и в широком, но герметичном культурно-литературном пространстве, лишь изредка откликаясь на общественно-политические события, то в 1920-е годы статус литературы и литератора меняется коренным образом, — появляется социальный заказ, который, правда, еще не имеет характера диктата сверху, как в 1930-е годы, писатели следуют ему зачастую по собственной инициативе. Литература 1920-х годов больше не осознает себя в камерных рамках культуры и, наряду с другими явлениями, выходит на арену современности. Поэтологические вопросы получают идеологическую составляющую и представляются общественно значимыми. Понимание зависимости литературных фактов от условий своего бытования, которое было проблематизировано в работах Эйхенбаума («Литературный быт») и Тынянова («Литературная эволюция»), обязывает исследователя советской литературы 1920–1930-х годов, частью которой является и творчество Мандельштама, рассматривать общественно-политическую среду не просто как фон литературы, но и как ее материал и смыслообразующий фактор. В нашем случае внимание к этому историко-политическому фактору было особенно необходимо при анализе стихотворений 1917 года (1.4.1–1.4.2), переводов революционной поэзии М. Бартеля (2.3) и гражданской лирики 1930-х годов (3.3.4).
Оглядка на интертексты — не прихоть, а необходимость. Порой только другие тексты могут пролить свет на некоторые образно-семантические ходы мандельштамовской поэзии. На эту особенность его лирики (преемственность образности от текста к тексту, нахождение «ключа» от одного стихотворения в другом и т. д.) обратил внимание уже Тынянов (1977: 188–189). По словам другого современника поэта, В. М. Жирмунского, стихотворения Мандельштама имеют «своим предметом не жизнь, непосредственно воспринятую самим поэтом, а чужое художественное восприятие жизни» (1977: 123). Отсюда необходимость рассматривать эти «чужие» тексты одновременно с текстами Мандельштама. Тем более что сам поэт, начиная со стихотворений 1910-х годов («Я не слыхал рассказов Оссиана…») и вплоть до стихов и эссеистики 1930-х годов (интертекстуальные загадки в «Стихах о русской поэзии», высказывания о цитатной направленности поэзии в «Разговоре о Данте»), тематизировал интертекстуальную основу поэтической речи.
Наблюдения над смыслообразующей взаимосвязанностью текстов Мандельштама (Тынянов) и их связью с чужими текстами (Жирмунский) легли в основу «подтекстуального метода» К. Ф. Тарановского, развившегося в 1960-е годы; именно его терминологии мы следовали в нашей работе[20]. Вслед за Ю. Н. Тыняновым Тарановский исходил из того, что все элементы текстов Мандельштама мотивированы, причем мотивация эта обусловлена присутствием этих же элементов в других текстах — своих и чужих (Taranovsky 1976: 18). Вслед за К. Ф. Тарановским мы будем оперировать понятием контекста — так ученый называет тексты Мандельштама, которые идейно-образно, лексико-синтаксически и/или фоноритмически связаны с обсуждаемым текстом. Если же мы имеем дело с чужими текстами, стимулирующими образность или фоноритмический строй рассматриваемого стихотворения, то речь будет вестись о подтекстах. Мандельштамовским «контекстам свойственна известная регулярность отношений» (Левинтон, Тименчик 2000: 409), отдельные образы и мотивы, кочуя из стихотворения в стихотворение, «обрастают» смысловыми константами определенных образно-семантических полей и метонимически накладываются друг на друга. Поэтому, рассуждая о немецкой теме в творчестве Мандельштама, мы должны были учитывать интертекстуальную динамику метонимических ходов мандельштамовской образности.
Поскольку в задачу исследования входила историко-поэтологическая реконструкция эволюции немецкой темы в творчестве Мандельштама, в первую очередь разбирались контексты, а не подтексты. Как нам представляется, уже самим использованием понятия контекста Тарановский подчеркнул, что в анализе прежде всего нуждаются межтекстуальные связи стихотворений поэта. Смысловая и образная перекличка между различными произведениями Мандельштама со временем усиливалась. Поэтому вполне закономерно, что, анализируя тексты 1920-х и 1930-х годов, мы в большем объеме привлекали контексты, нежели при разговоре о его ранних стихах. Мандельштам ничего не бросает на полдороге, его поэтике свойственно использование ранее разработанных образов. Однако было бы неправомочно, нарушая принцип историзма, объяснять ранние тексты Мандельштама более поздними.
В то же самое время в ходе нашего исследования мы на конкретных примерах коснулись главных проблем интертекстуального метода. Таковыми мы считаем не только проблему функциональности, работоспособности интертекстов в исследуемом тексте, — прежде всего нас интересовал вопрос о критериях идентификации чужого текста как интертекста (лексический и ритмический повтор и т. д.); этот вопрос нередко опускался в самых разных теориях и практиках интертекстуального метода. Мы с особой осторожностью привлекали иноязычные тексты, потому что такие убедительные критерии интертекстуальности, как лексический или лексико-ритмический повтор, здесь еще более размыты[21]. Адекватное решение проблем идентификации интертекстов может быть найдено лишь при должном исследовании самой мотивации интертекстуальности, рассмотрение которой, в свою очередь, возможно лишь при учете особенностей поэтики исследуемого автора в контексте литературного процесса эпохи.
Подтекстуальный метод Тарановского — Ронена генетически восходит к штудиям формалистов. Что, как не проблему интертекстуальности как часть вопроса о литературной эволюции и литературном факте, выдвинули, каждый по-своему, Ю. Н. Тынянов в своих работах о пародии и Б. М. Эйхенбаум в своих лермонтовских штудиях? Одним из недоразумений в восприятии идей опоязовцев мы полагаем приписывание им предструктуралистских подходов к изучению текста. Между тем даже такие концепции формалистов, которые, казалось бы, предполагают синхронное изучение литературы («искусство как прием» и «остранение»), имеют диахронную историко-литературную направленность. Деавтоматизация эстетического восприятия и поэтических навыков предполагает знание того, что деавтоматизируется, а именно предшествующих текстов и приемов, от которых происходит отталкивание. В этом смысле все формалисты, начиная с В. Б. Шкловского, изначально работали с категориями, которые затем рассматривались в связи с проблемой «интертекстуальности»[22].
Интертекстуальная школа Тарановского-Ронена занялась — и роненовская «энциклопедия» (Ronen 1983) тому яркий пример — кропотливой интертекстологической работой по сбору подтекстов и контекстов, тем самым подготовив прочную базу для дальнейших исследований. В то же самое время само количество найденных подтекстов не всегда позволяло исследователям в полном объеме заняться их анализом. Указывались источники мандельштамовской образности, но при этом нередко смешивались (или не различались) понятия подтекстуального источника и собственно мотивации его появления в тексте. В нашей работе, дополняя и временами оспаривая интертекстуальные находки исследователей, мы старались задаваться вопросом о логике мандельштамовских реминисценций, о мотивации появления конкретного подтекста. Вместе с тем нужно учитывать всю сложность работы по расшифровке образно-тематических ходов Мандельштама, поэтому и нам порой приходилось ограничиваться лишь упоминанием возможных интертекстов; как правило, это происходило в тех случаях, которые прямо не касались предмета настоящей работы, но могли бы пригодиться последующим исследователям при изучении других аспектов творчества Мандельштама.
Любая теория, любой метод — лишь «рабочая гипотеза, подсказанная интересом к самим фактам» (Эйхенбаум 1987: 428), необходимая для первичной сортировки данных. Разные тексты ставят перед нами разные проблемы, связанные с внутри- и внетекстовыми особенностями данного произведения[23]. Одним из основных (анти)методологических заветов формализма можно считать осознание того, что методы и термины историко-литературных поэтологических исследований, к которым относится и настоящая работа, не являются универсальными и вырабатываются в ходе самого исследования. Суммируя методический арсенал данного исследования, можно отметить сознательную ориентацию на взаимодополняющие и взаимокорректирующие установки формализма и его последователей (технология текста, включающая вопрос о конструктивном принципе заимствований, литпроцесс, литературный быт, вплоть до опыта комментария в постопоязовских работах Эйхенбаума)[24].
0.4. Структура исследования
В первой части работы речь идет о немецкой тематике в произведениях Мандельштама 1912–1921 годов. При анализе акмеистических стихотворений 1912–1914 годов (главы 1.1.1–1.2.2) упор делался на функции немецкой (протестантской и музыкальной) тематики в контексте полемики с символистами. Отдельного разговора, во многом выходящего за рамки нашего исследования, заслуживает практика более или менее произвольного употребления понятия акмеизм. Его продолжают использовать без четкого поэтологического и историко-литературного разграничения (в отличие, например, от реализма). Между тем подобная практика не всегда оправданна. Нам представляется неверным применять это понятие как поэтологический термин и тем более легкомысленно переносить его на постакмеистические произведения поэтов гумилевского круга; не стоит также помещать поэзию Мандельштама в центр этого течения, хотя именно так поступают многие исследователи русской и советской поэзии начала XX века[25]. Нашим вкладом в дело «деакмеизации» Мандельштама является гипотеза о «рецидиве» символистской риторики в «Оде Бетховену» (1.2.2)[26].
Далее мы рассматриваем развитие немецкой темы в военных стихотворениях 1914–1916 годов: от газетной «Немецкой каски» до «миротворческой» оды «Зверинец» (1.3). В следующем разделе (1.4) анализируются мотивы немецкой мифологии и истории в стихотворениях, так или иначе затрагивающих революционные события.
Наше внимание было обращено прежде всего на стихотворения поэта; эссеистическая проза привлекалась лишь с целью уточнения некоторых темных мест в стихах (в известном смысле прозаические тексты Мандельштама представляют собой автокомментарий к его стихам). Исключение мы сделали во второй части исследования при разборе прозаических работ начала 1920-х годов (главы 2.2 и 2.4); в автобиографической и литературно-критической эссеистике этих лет поэт, пишущий в это время лишь единичные стихотворения, подводит итоги, нащупывает новые культурософские и поэтические ориентиры. Рассматривая суждения и высказывания Мандельштама, касающиеся немецких культурных реалий, мы старались не только подключить их к разбору главного объекта нашего исследования, но и на их примере продемонстрировать отдельные механизмы коренного перелома в его мировоззрении.
Труднее обстояло дело с переводами с немецкого: конечно, их нельзя приравнивать, например, к переводам из Петрарки, которые Мандельштам рассматривал как часть своего творчества. В то же время у нас нет никаких оснований списывать их в разряд безынтересной поденщины, как это было сделано большинством комментаторов и издателей Мандельштама в 1960–1980-е годы. Поэтому переводов мы касались, но не в той степени и не в том объеме, в каком анализировались оригинальные стихи. При разборе переводов с немецкого (глава 2.3) нас в первую очередь интересовала связь переводческих решений Мандельштама с той образностью, которая к тому моменту была наработана в рамках немецкой темы в собственном творчестве.
В третьей части работы рассматриваются произведения 1930-х годов: в главе 3.1 — стратегии использования немецкой тематики в «Путешествии в Армению» и в московских стихотворениях 1931–1932 годов. При разборе произведений 1933–1937 годов (3.2.1–3.3.6) мы в первую очередь старались показать двойную оксюморонную функцию немецкой темы: с одной стороны, она выполняет роль тематической «внутренней эмиграции» в идентификационных стратегиях «опального» Мандельштама (3.3.5, 3.3.6), с другой стороны, используется в интеграционной гражданской лирике (3.3.2 и 3.3.4). При этом особое внимание было уделено стихотворению «К немецкой речи» (3.2), представляющему образно-семантическую квинтэссенцию немецкой темы в творчестве Мандельштама. В заключительной части работы мы постарались обозначить отдельные проблемы изучения и перспективы дальнейших исследований немецкой темы в творчестве Мандельштама, а также в русской и советской литературе в целом.
Автор надеется, что данные, полученные в ходе проделанной работы, найдут свое применение как в деле историко-литературного комментария творчества Мандельштама и изучения его поэтики, так и в более широких исследованиях литературных связей между Россией и Германией, а спорные положения послужат материалом для обсуждения мандельштамоведами и специалистами по русско-немецким культурным отношениям.
1. Немецкая тема в произведениях 1910-х годов
1.1. «Лютеранская» тема в стихотворениях 1912–1913 годов
1.1.1. К вопросу о мотивах крещения Мандельштама
Разговор о стихотворениях Мандельштама «Лютеранин» и «Бах», в которых впервые появляются немецкие культурные реалии, хотелось бы предварить обзором дискуссий о мотивах крещения Мандельштама 14 мая 1911 года в протестантской (методистской) церкви Выборга. Единственное достоверное свидетельство о причинах крещения оставил брат поэта Евгений:
«…для поступления (в университет. — Г.К.) надо было преодолеть одно препятствие: аттестат зрелости у брата был неважный, и все ограничения для принятия евреев в высшие учебные заведения распространялись и на него. Это фактически лишало его возможности попасть в университет. Пришлось думать о крещении. Оно снимало все ограничения, так как в царской России евреи подвергались гонениям прежде всего как иноверцы… Процедура перемены веры… сводилась к перемене документов и уплате небольшой суммы» (Е. Мандельштам 1995: 136).
В своих воспоминаниях Евгений Мандельштам сделал упор на прагматичности мандельштамовского решения: крещение позволило ему поступить в университет в обход введенной в 1908 году квоты для лиц иудейского вероисповедания[27]. О других мотивах крещения вообще и выбора протестантизма в частности нам достоверно ничего не известно. Тем удивительнее, что они стали предметом споров между учеными. Одним из аргументов в пользу более интимных мотивов крещения было наличие в стихотворениях 1908–1910 годов религиозных образов. Исследователей заинтересовал и тот факт, что Мандельштам крестился в протестантизм, а не в православие или католичество.
Конец 1900-х — начало 1910-х годов — время религиозно-эстетических поисков молодого Мандельштама. В 1908 году в письме своему бывшему учителю В. В. Гиппиусу он пишет о том, что тянется к «религиозной культуре», хотя и не знает, какая эта культура — «христианская ли, но, во всяком случае, религиозная» (IV, 12)[28]. Будучи воспитан «в безрелигиозной среде», Мандельштам «издавна стремился к религии безнадежно и платонически — но все более и более сознательно» (IV, 12). Свои первые религиозные переживания поэт связывает с «детским увлечением марксистской догмой», Ибсеном, Л. Н. Толстым, Гауптманом и Гамсуном. Знаменательна литературность и аконфессиональность религиозных переживаний Мандельштама, хотя и здесь нужна оговорка: среди названных поэтом авторов явно доминируют протестанты.
В стихотворениях 1909–1911 годов, в которых описываются душевные смуты юности, присутствует туманная околорелигиозная образность; к 1910 году она приобретает христианские черты, хотя, за редкими исключениями, и лишена конфессиональной окраски[29]. Однако если допустить, что Мандельштам отдавал предпочтение православию или католичеству, остается не до конца понятным, почему он крестился именно у протестантов. С. С. Аверинцев полагает, что Мандельштаму
«…было важно считать себя христианином, при этом не посещая богослужений, не принадлежа ни к какой общине и не совершая выбора между этими общинами, — не православие и не католицизм, а только протестантизм мог обеспечить ему для этого более или менее легитимную возможность; прецеденты имелись. В немецком обиходе даже был создан особый термин — „культур-протестантизм“: он обозначает именно позицию интеллигента, являющегося христианином по крещению и, главное, в силу интеллектуального приятия так называемых „христианских ценностей“, но держащегося подальше от приходов. Для человека, дорожащего, как Мандельштам, своей удаленностью от всех сообществ, — позиция комфортабельная» (Аверинцев 1991: 291–292).
По мнению Аверинцева, Мандельштамом двигало не столько стремление выбрать «ни к чему не обязывающий» протестантизм, сколько желание не афишировать сам факт крещения: отсюда не столичный Петербург, а отдаленный Выборг, «нейтральные» «скромные» протестанты, а не «модные» и якобы близкие поэту католицизм или православие[30]. Тем не менее дальнейшие выводы С. С. Аверинцева требуют корректировки: «на деле же» Мандельштам «оказывается не внутри протестантизма, а между обоими другими вероисповеданиями, действительно задевающими его душу и вдохновляющими его поэзию» (1991: 292). Характерно желание православного Аверинцева, временами использовавшего пространство филологии для религиозно-просветительской деятельности и для которого православие и католицизм обладали большей культурной ценностью, чем протестантизм, приписать Мандельштаму определенные конфессиональные предпочтения[31]. Мандельштамовский выбор не нуждается в оправданиях. Учитывая то, что поэт отмечал собственную неискушенность в теологических тонкостях, правомернее видеть в его крещении чисто прагматическое решение, связанное с поступлением в университет; а выбор протестантизма для выросшего в германофильской среде Мандельштама не уникален[32].
1.1.2. «Протестантская» эстетика акмеизма в стихотворении «Лютеранин»
Год спустя после крещения Мандельштам пишет стихотворение «Лютеранин», в котором впервые эксплицитно присутствует немецкая тема:
1 Я на прогулке похороны встретил 2 Близ протестантской кирки, в воскресенье, 3 Рассеянный прохожий, я заметил 4 Тех прихожан суровое волненье. 5 Чужая речь не достигала слуха, 6 И только упряжь тонкая сияла, 7 Да мостовая праздничная глухо 8 Ленивые подковы отражала. 9 А в эластичном сумраке кареты, 10 Куда печаль забилась, лицемерка, 11 Без слов, без слез, скупая на приветы, 12 Осенних роз мелькнула бутоньерка. 13 Тянулись иностранцы лентой черной, 14 И шли пешком заплаканные дамы, 15 Румянец под вуалью, и упорно 16 Над ними кучер правил вдаль, упрямый. 17 Кто б ни был ты, покойный лютеранин, 18 Тебя легко и просто хоронили. 19 Был взор слезой приличной затуманен, 20 И сдержанно колокола звонили. 21 И думал я: витийствовать не надо. 22 Мы не пророки, даже не предтечи, 23 Не любим рая, не боимся ада, 24 И в полдень матовый горим, как свечи. («Лютеранин», 1995: 105–106)Герой стихотворения — «рассеянный прохожий» (ст. 3), наблюдающий лютеранскую похоронную процессию. Роль постороннего пешехода позволяет поэту взглянуть на происходящее с расстояния. Отстраненная позиция и перспектива, с которой смотрит его лирический герой, были отмечены уже современниками поэта: «перед… объективным миром… поэт (Мандельштам. — Г.К.) стоит неизменно как посторонний наблюдатель, из-за стекла смотрящий на занимательное зрелище» (Жирмунский 1977: 124). В «Лютеранине» отстраненная позиция получает дополнительное оправдание, потому что объектом наблюдения становятся «иностранцы» (ст. 13), то есть заведомо чужие. Утверждение В. Шлотта о том, что в основе стихотворения лежат впечатления Мандельштама от пребывания в Германии (Schlott 1988: 287), представляется спорным. Обозначение «иностранцы» может использоваться лишь внутри России. Причем наблюдатель сам подчеркивает свою отстраненность: «чужая речь не достигала слуха». Чужесть, «иностранность» лютеранского обряда подчеркивается и выбором слова «кирка» на месте ритмически возможного «церковь» (ст. 2).
Первое, на что мандельштамовский «прохожий» обращает свое рассеянное внимание, — это душевное состояние «иностранцев». Участники похорон не выставляют свои чувства напоказ. Мандельштам подчеркивает молчаливую скудость эмоций: «без слов, без слез, скупая на приветы» (ст. 11), «сдержанно» звонят колокола (ст. 20). Состояние сурового волнения (ст. 4) — взволнованности и одновременно самообладания привлекает к себе внимание лирического героя[33]. Сдержанность лютеран получает в стихотворении двоякую оценку. Наблюдатель поначалу разочарован: трагичность и торжественность, которые он ожидает от похорон, сведены до «приличного» (ст. 19) минимума. В сознание мандельштамовского героя закрадывается подозрение в духовно-эмоциональной поверхностности происходящего: «печаль» оказывается «лицемеркой» (ст. 10), забившейся в «эластичный сумрак кареты» (ст. 9), туда, где ее никто не видит и не может уличить в лицемерии. Выражение «заплаканные дамы» (ст. 14) звучит в данном контексте иронично[34]. На иронизацию работает не только деформация идиомы «заплаканное лицо», но и сама интонационная полисемия «дам». Взор участников процессии «слезой приличной затуманен» (ст. 19). Слово «приличный» может означать как «соответствующий приличиям», «пристойный», «подобающий», «уместный», так и «достаточно хороший», «удовлетворительный». Сам выбор этого столь неоднозначного эпитета задает возможность иронического прочтения стихотворения.
Образная структура стихотворения во многом строится на контрастах: «праздничная мостовая» (ст. 7) — «ленивые подковы» (ст. 8), которые, с одной стороны, являются конкретной деталью сцены, показанной крупным планом, с другой — олицетворяют лютеранскую сдержанность и эмоциональную приглушенность. Приглушены не только звуки, но и цвета: в «матовый» полдень (ст. 24) черной траурной лентой (ст. 13) тянется похоронная процессия. Тонкая «сияющая упряжь» (ст. 6), «бутоньерка осенних роз» (ст. 12) и невидимый «румянец под вуалью» (ст. 15) — единственные источники цвета и света, которые еще больше подчеркивают темно-серые цвета картины.
Как и в надгробной речи, лирический герой обращается к усопшему. Причем кто именно умер, не имеет значения: «кто б ни был ты, покойный лютеранин» (ст. 17). Для Мандельштама в этой ситуации важно, как лютеране «обходятся» со смертью — «легко и просто» (ст. 18). Бесцветная простота и легкость в обращении со смертью («Тебя легко и просто хоронили»), без надрыва, эстетически и этически импонирует постороннему наблюдателю.
Роль прохожего для лирического героя Мандельштама начала 1910-х годов не нова. За год до «Лютеранина» в стихотворении «Воздух пасмурный влажен и гулок…» герой «покорно» несет «легкий крест одиноких прогулок» (I, 66). В стихотворении «В спокойных пригородах снег…» (1912) речь идет от лица «прохожего человека»; в сонете с характерным названием «Пешеход», написанном, как и «Лютеранин», в 1912 году, герой — «старинный пешеход». Светский акмеистический «пешеход» приходит на смену символистскому «пилигриму» и путешественнику-скитальцу из ранней лирики поэта[35].
«Пророк» и «предтеча» — слова из вокабуляра символистов[36]. Среди русских модернистов начала века шли споры о том, должна ли поэзия отвечать на религиозные чаянья людей. Мандельштам полагал, что этот вопрос следует «целомудренно обходить молчанием» (Лекманов 2000: 388). Стихотворение «Лютеранин» он заканчивает образом свечей. Тихое горение свечи в «матовый» полдень прямо противопоставлено императиву безустанного горения, который проповедовали символисты.
В. М. Жирмунский отмечал, что у раннего Мандельштама «настоящий, хотя и очень сдержанный… свой особенный лиризм, сознательно затушеванный и неяркий, но все же с определенным эмоциональным содержанием» (1977: 122–123). Для характеристики лиризма Мандельштама исследователь пользуется теми эпитетами, которыми поэт сам снабдил в «Лютеранине» образно-семантическое поле «немецкого»: затушеванный матовый колорит, проблески цвета и света в образах тонкой упряжи, румянца под вуалью и свечей. Мнение исследователя-современника — лишнее подтверждение того, что отмеченные Мандельштамом черты протестантизма соответствовали идейно-эстетическим установкам его поэтики.
Перспектива ада и рая не должна заслонить здесь и сейчас происходящее предстояние перед смертью. Эстетическая скупость лютеранского обряда не замалчивает событие смерти, а, наоборот, погружает его участников в атмосферу молчания, которая говорит не меньше, чем крикливый «пожар» символистов. Для нас важно, что полемика с установками символистов ведется Мандельштамом на «немецком» материале.
Теперь, рассмотрев ближайшие контексты и литературно-полемические, антисимволистские подтексты «Лютеранина», скажем несколько слов и о других подтекстах, которые сообщают этому спору дополнительные нюансы. Словосочетание «суровое волненье», с помощью которого описывается настроение немецких прихожан, имеет у Мандельштама тютчевские корни. В программном стихотворении «В непринужденности творящего обмена…» (1908) Мандельштам поставил перед собой задачу соединить «суровость Тютчева с ребячеством Верлена» (I, 33). Под «суровостью Тютчева» понимается «серьезность и глубина поэтических тем» (Гаспаров 1995: 329).
Зачатки лютеранской темы у Мандельштама можно обнаружить в стихотворении 1910 года «В изголовье черное распятье…», выстроенном на реминисценциях из Тютчева. Несмотря на католический антураж, в стихотворении присутствует и протестантская тема:
И слова евангельской латыни Прозвучали, как морской прибой; И волной нахлынувшей святыни Поднят был корабль безумный мой: Нет, не парус, распятый и серый, С неизбежностью меня влечет — Страшен мне «подводный камень веры», Роковой ее круговорот! («В изголовье черное распятье…», I, 59–60)Мандельштам взял слова «подводный камень веры» в кавычки и указал в примечаниях к рукописи на тютчевский источник — случай в творчестве Мандельштама редчайший. Тем большего внимания заслуживает разбор этой цитаты. «Подводный камень веры» отсылает читателя к стихотворению Тютчева «Наполеон» (Осповат / Ронен 1999: 50):
Он был земной, не божий пламень, Он гордо плыл — презритель волн, — Но о подводный веры камень В щепы разбился утлый челн. (Тютчев 2002, I: 219)О «подводный веры камень» «утлый челн» Наполеона (в стихотворении Мандельштама ему соответствует «корабль безумный мой») разбивается не случайно. Как становится ясно из статьи Тютчева «Римский вопрос», под «подводным камнем веры» понимается инициированный Реформацией отказ «человеческого я» от вышестоящей власти (Тютчев 2003, III: 164). Катастрофические последствия Реформации и гибель «сына Революции» Наполеона имеют одну причину. По Тютчеву, личная совесть верующего, поставленная протестантами «превыше всего», заключает в себе саморазрушающее начало. Это и есть «тот подводный камень, о который разбилась реформа шестнадцатого века» (Тютчев 2003, III: 164)[37].
Если в стихотворении «В изголовье черное распятье…» протестантская тема присутствует лишь опосредованно, благодаря аллюзиям на тютчевские размышления о протестантизме и революции, то в более «чистом» виде она впервые появляется в стихотворении «Лютеранин». Стихотворения Тютчева «Я лютеран люблю богослуженье…» и «И гроб опущен уж в могилу…» (Тютчев 2002, I: 138, 156) оказываются подтекстами, от которых Мандельштам отталкивается и с которыми одновременно спорит.
Тютчевская интертекстуальность «Лютеранина» была установлена давно (ср., например, Тоддес 1974: 25), не исключено, что даже еще в рамках «устного» (или «домашнего») мандельштамоведения; определить авторство находки вряд ли возможно. Уже современники поэта отмечали тютчевские подтексты поэзии Мандельштама. Так, из сборника «Камень» И. Эренбургу вспоминались «голые стены молелен» (2002: 149). Никаких «голых стен молелен» у Мандельштама нет, они находятся в тютчевских подтекстах стихотворений «Бах» и «Лютеранин». Знаменательны в связи с «Лютеранином» характеристики Мандельштама, данные Ю. Н. Тыняновым: «Мандельштам — поэт удивительно скупой — две маленьких книжки, несколько стихотворений за год. И однако же поэт веский, а книжки живучие. Уже была у некоторых эта черта — скупость, скудность стихов; она встречалась в разное время. Образец ее, как известно, — Тютчев» (1977: 187). Нам представляется, что, проводя параллели между Мандельштамом и Тютчевым, Тынянов косвенно тематизирует топос лютеранской «скупости» из стихотворений обоих поэтов. Мандельштамовские и тютчевские характеристики эстетики протестантизма метонимически становятся поэтологическими характеристиками самих поэтов[38].
Тютчев характеризует протестантский обряд как «строгий, важный и простой» (2002, I: 156). Эта строгость и простота перекликается как с суровостью участников траурной процессии, так и с легкостью и простотой лютеранских похорон у Мандельштама. В «Лютеранине» Мандельштама к этой серьезной строгости добавляется новый нюанс, драматизирующий поэтическое действие и придающий ему новую динамику: «суровое волненье». У Тютчева на похоронах лютеранина («И гроб опущен уж в могилу…») волнуется только наблюдатель, участники же процессии испытывают равнодушие и скуку.
Мандельштам частично подхватывает и тютчевскую иронию. У Тютчева «толпа», собравшаяся у изголовья гроба, «различно занята» «умною пристойной речью» «ученого пастора». Двусмысленное прилагательное «пристойный», относящееся у Тютчева к надгробной речи протестантского пастора, и прилагательное «приличный», которым Мандельштам описывает «заплаканных дам», синонимичны. Перенос «приличности» на «слезы» произошел, по всей вероятности, при опоре на подтекст из Лермонтова: «На лицах праздничных чуть виден след забот,/ Слезы не встретишь неприличной» («Не верь себе», 1839) (1957:1, 28). У Лермонтова, как и у Мандельштама, праздничность соседствует с печалью; вряд ли является случайностью и сходство мандельштамовского «румянца под вуалью» с «разрумяненным актером» в тексте Лермонтова[39].
Тютчев в своих стихотворениях («Я лютеран люблю богослуженье…» и «И гроб опущен уж в могилу…») критикует обмирщение лютеранской обрядности, из которой уходит сакральный смысл, и пророчествует о предстоящем безверии лютеран. Сфера веры и религиозности становится, по Тютчеву, лицемерной привычкой. У Мандельштама — «печаль-лицемерка» и «приличные» слезы — тютчевские рудименты.
Тютчев в первой строфе стихотворения «Я лютеран люблю богослуженье…» говорит о «высоком учении» протестантизма, на эстетически-визуальном уровне воплощенном в простоте внутреннего убранства протестантских церквей:
Я лютеран люблю богослуженье, Обряд их строгий, важный и простой — Сих голых стен, сей храмины пустой Понятно мне высокое ученье. (Тютчев 2002, I: 156)Тютчев в своем стихотворении во второй и третьей строфах контрастивно переходит к исполненной пророческого пафоса критике протестантизма. Мандельштам же, получив и парафразировав из тютчевских рук протестантское «высокое ученье»[40], переосмысляет его по-своему, вписывая его в полемику с эстетизмом символизма.
Знаменательны и другие композиционные и сюжетные переклички и различия. Так, у Тютчева («И гроб опущен уж в могилу…») «ученый пастор сановитый» говорит «пристойную речь», в мандельштамовском же «Лютеранине» все происходит «без слов»; различие может быть мотивировано сюжетно: у Тютчева — надгробная речь на кладбище, у Мандельштама — процессия, во время которой говорение неуместно. Эта же сюжетная деталь (кладбище — процессия) наводит на мысль, что в сюжетной основе мандельштамовского стихотворения — личные впечатления, иначе Мандельштам мог бы точнее следовать тютчевскому сюжету. Одновременно мандельштамовская «процессия» сюжетно оказывается своего рода предысторией похорон у Тютчева.
У Мандельштама взгляд «рассеянного прохожего» переводится с «румянца под вуалью» на кучера, который «правил вдаль, упрямый» (ст. 15–16). У Тютчева взгляд наблюдателя отрывается от похоронной процессии, слушающей пристойную проповедь о «человечьей» бренности, и устремляется в небо («А небо так нетленно-чисто…»). Тютчевская четвертая строфа воздействует контрастивно и разряжающе: «тлетворному духу» похорон противопоставляется «нетленно» чистое небо. Мандельштамовская «даль» действует не противопоставительно, а расширительно. Она — лишь продолжение сцены похорон. Взгляд тютчевского героя «спасается», очищается в «нетленно-чистом», романтически религиозном «беспредельном» небе. Мандельштамовский — теряется, обрывается вдали и приводит героя к размышлениям не о беспредельном, а о горении перед лицом предельности, конечности[41].
Наблюдение лютеранских похорон приводит и тютчевского, и мандельштамовского героя к переживанию собственной смертности, но внутренние решения, связанные с этим переживанием, — у обоих поэтов различны. У Тютчева оно приводит к романтическому рывку в бесконечное, у Мандельштама — к протестантско-акмеистическому суровому предстоянию перед смертью[42]. Позиция Мандельштама оказывается, таким образом, более протестантской.
Мотивация тютчевских подтекстов кажется очевидной: протестантизм тематизировался в русской поэзии лишь Тютчевым. Открытым остается вопрос о том, что первично: подтолкнула ли протестантская тема Мандельштама к тютчевским реминисценциям или же тютчевский подтекст вывел Мандельштама на протестантскую тему? «Протестантская» интертекстуализация Тютчева может быть понята, с одной стороны, как попытка Мандельштама «отвоевать» его у символистов, которые записывали Тютчева в свои предтечи, и как работа с наиболее полемическим интертекстуальным материалом[43].
1.1.3. Оксюморонизация семантического поля «немецкого»: «музыка доказательства» и «рассудительнейшее» ликование («Бах»)
Поэтические размышления об эстетике немецкого протестантизма, начатые в навеянном Тютчевым «Лютеранине», продолжаются в стихотворении «Бах» (1913):
1 Здесь прихожане — дети праха 2 И доски вместо образов, 3 Где мелом, Себастьяна Баха, 4 Лишь цифры значатся псалмов. 5 Разноголосица какая 6 В трактирах буйных и в церквах, 7 А ты ликуешь, как Исайя, 8 О рассудительнейший Бах! 9 Высокий спорщик, неужели, 10 Играя внукам свой хорал, 11 Опору духа в самом деле 12 Ты в доказательстве искал? 13 Что звук? Шестнадцатые доли, 14 Органа многосложный крик — 15 Лишь воркотня твоя, не боле, 16 О несговорчивый старик! 17 И лютеранский проповедник 18 На черной кафедре своей 19 С твоими, гневный собеседник, 20 Мешает звук своих речей! («Бах»; 1995: 109–110)Первая строфа представляет собой экспозицию, в которой описываются прихожане и интерьер лютеранской кирки. В «архитектурных» стихах, посвященных православным и католическим церквям («Айя-София» и «Notre Dame»), у Мандельштама главенствует само пространство храма: подвешенный к небесам купол, апсиды и экседры, окна и темная позолота в «Айе-Софии»; крестовый легкий свод, сила подпружных арок и стен — в «Notre Dame». Мандельштамовский герой — «искусствовед», «культуровед», полемически пришедший на смену символистскому теургу, — любуясь, изучает эстетико-церемониальную сторону православных и католических храмов[44]. Напротив, первое, что замечается у протестантов, это община, прихожане, люди, для которых мелом пишутся цифры псалмов (ст. 1–4). В православно-католическом контексте прихожане у Мандельштама отсутствуют, в протестантском — вспоминаются тут же: в «Лютеранине» в первой строфе («тех прихожан суровое волненье»: ст. 4), в «Бахе» в первом стихе: «здесь прихожане».
Восприятие лютеранской церкви происходит опять же на фоне Тютчева. Но если Тютчев отмечает наготу «пустой храмины» протестантов («Я лютеран люблю богослуженье…»), то Мандельштам, также выделяя аскетическое «убранство» кирки, сопоставляет ее с православной церковью («и доски вместо образов» (ст. 2)), чего нет у Тютчева. «Католически-православно» настроенному Мандельштаму бросается в глаза простота и скромность протестантских церквей в сравнении с храмами других конфессий, где об аскезе не может быть и речи: зодчий мандельштамовской «Айя-Софии» — «строитель щедрый» (I, 79), простой мел лютеран (ст. 3) имплицитно противопоставляется золоту бывшего главного храма восточного христианства. Самоограничение и самообладание протестантизма контрастируют с щедростью и роскошью православия и католичества. Убранство и обрядную эстетику католических и православных церквей Мандельштам описывает обстоятельно, для изображения лютеранской церкви в «Бахе» ему хватает одной строфы.
Аскетичность протестантской церкви контрастирует с «буйными» трактирами (ст. 5–6). Разноголосица царит, с одной стороны, между трактирами и церквями, с другой стороны — как в «трактирах», так и в «церквах». В стихотворении несколько лексем, прямо или косвенно относящихся к смысловому полю «деформированного голоса»: «разноголосица» (ст. 5), «крик» (ст. 14), «воркотня» (ст. 15). Музыка Баха теряется, смешивается со словами проповеди (ст. 17–20). Мандельштам, для которого идея единства является организационным принципом творчества, слышит в лютеранском богослужении, в основе которого лежит соединение музыки и слова, — диссонансную «разноголосицу»[45]. Лютеранский проповедник (интертекстуальный рудимент, «потомок» тютчевского «ученого пастора») «мешает» звук своих речей с хоралами Баха, музыка и слово мешают друг другу. Изначальный конфликт между церковной сдержанностью и мирской безудержностью не столько переносится из мира в пространство церкви, сколько возникает как следствие отсутствия границы между церковью и миром и внутрицерковной разноголосицы музыки и слова. Так как речь в стихотворении идет о музыке Баха, возможно и другое толкование «разноголосицы» — как музыкального контрапункта, уместного в контексте Баха, за которым укрепилась репутация мастера контрапункта. Полифоническое движение самостоятельных голосов Мандельштам метонимически переносит на «контрапунктную» разноголосицу протестантского богослужения, состоящего из словесной и музыкальной линий.
Другая возможность интерпретации многозначной «разноголосицы» предполагает, что во второй строфе Мандельштам продолжает начатое ранее противопоставление протестантизма и других конфессий. В таком случае разноголосица — многоголосие православных песнопений (ср.: «В разноголосице девического хора…»: I, 120), которым противопоставляется органная монотонность Баха. За это толкование говорит и типично церковно-славянская форма «церквах» (ст. 6) в отличие от «церквях»: церква-церковь, имеющая явную русско-православную окраску. Однозначное утверждение этого противопоставления осложняется типичной для синтетической поэтики Мандельштама деталью: как было отмечено Н. Харджиевым (1973: 261), в подтексте стиха «А ты ликуешь, как Исайя…» (ст. 7) — хорал «Исайя, ликуй!», исполняемый при православном обряде бракосочетания. Таким образом, перед нами — сравнение и одновременно смешение музыкально-эстетической обрядности конфессий. Такой синтез для Мандельштама не редкость. В стихотворении «В разноголосице девического хора…» (I, 120) у московских соборов — русская и итальянская «душа» (намек на итальянских зодчих)[46]. Мандельштамовский Бах, по образцу библейского Исайи, ликует, ничего не замечая вокруг, ликует, несмотря на царящую разноголосицу, вопреки ей. Вся вторая строфа представляет собой единое восклицание — вокруг играющего и сочиняющего Баха — разноголосица. Что значат «а ты» и восклицательный знак в конце предложения (ст. 8)? Что это — упрек Баху за его нечувствительность или же хвала силе его воли?
Уже указывалось (Харджиев 1973: 261) на поясняющие параллели к стихотворению в программном манифесте Мандельштама «Утро акмеизма», в котором поэт сформулировал основные принципы своей поэтики: «Как убедительна музыка Баха! Какая мощь доказательства! Доказывать и доказывать до конца: принимать в искусстве что-нибудь на веру недостойно художника, легко и скучно» (I, 180). Отношение к Баху в статье однозначно позитивное. Мандельштам восторгается музыкой немецкого композитора. По его мнению, искусство должно убеждать и доказывать. Доказательство как аргументативный процесс противостоит аморфной псевдомистической чувствительности символистов. Смысловое ударение в третьей строфе «Баха» лежит на слове «доказательство» (ст. 12). В стихотворении, в отличие от процитированного манифеста, еще слышится скепсис по отношению к доказательству. Частица «неужели» (ст. 9) придает всему высказыванию оттенок удивления и иронического несогласия с чужим мнением. Рациональное контрастирует с иррациональным: иронически сниженное «воркотня» (ст. 15) относится к «органа многосложному крику» (ст. 14) и, как неотартикулированный звук, к иррациональному, эмоциональному полю. Однако крик органа у Мандельштама «многосложный» — эпитет, относящийся к области рационального. «Многосложный» может означать «имеющий много слогов» (отметим, что в предыдущем стихе речь — о шестнадцатых долях), а значит, крик органа представляется чем-то вычислимым, разложимым на ритмико-метрические единицы и тем самым упорядоченным. Одновременно проводится метафорическая параллель между музыкой и поэзией. С другой стороны, «многосложный» — это еще и очень сложный, многогранный, многосторонний. Импульсивный крик органа контрастирует со своей же рациональной многосложностью. Не стоит забывать и еще об одном возможно музыкальном смысле «многосложности» — о так называемом многосложном контрапункте (mehrfacher Kontrapunkt).
Противостояние между чувственным и рассудочным проявляется не только в лексике стихотворения, но и на уровне синтаксиса. Отношение к Баху выражается крайне эмоционально: два восклицательных и два вопросительных предложения занимают три строфы из пяти. Четыре раза Мандельштам обращается к Баху: «рассудительнейший Бах» (ст. 8), «высокий спорщик» (ст. 9), «несговорчивый старик» (ст. 16)[47], «гневный собеседник» (ст. 19). Местоимения «ты» (ст. 7, 12), «твой» (ст. 15, 19) усиливают диалогичность обращения мандельштамовского героя с Бахом. Если полемичность Баха и критикуется, то делается это средствами самого «Баха»: герой эмоционально спорит с ним. «Контрапунктная» метафорика усиливает образно-риторический потенциал «полифонической» полемики мандельштамовского героя с Бахом.
Мандельштам возрождает в русской поэзии «органную» тематику, тем самым продолжая традицию Тютчева, который, в свою очередь, усвоил ее от Державина с его немецкими корнями «органной» образности. При этом Мандельштам, подхватывая богатую органную образность, ставшую неотъемлемой частью барочной эстетики и метафорики, разрабатывает ее на конкретном материале жизни и музыкального творчества Баха. Таким образом, Мандельштам в своей «полемике с Бахом» пользуется риторическими и эстетическими средствами баховской эпохи (немецкое барокко) и ее русских адептов (Державин, Тютчев)[48].
Бах назван «рассудительнейшим» (ст. 8) — в своем программном стихотворении «Notre Dame» Мандельштам говорит о «рассудочной пропасти» готической души (I, 80). В статье «Утро акмеизма» поэт формулирует основные положения своей акмеистической поэтики в связи с «физиологически гениальным средневековьем»:
«Сознание своей правоты нам дороже всего в поэзии… мы вводим готику в отношения слов, подобно тому как Себастьян Бах утвердил ее в музыке… Средневековье дорого нам потому, что обладало в высокой степени чувством граней и перегородок. Оно никогда не смешивало различных планов и к потустороннему относилось с огромной сдержанностью. Благородная смесь рассудочности и мистики и ощущение мира как живого равновесия роднит нас с этой эпохой… Будем же доказывать свою правоту так, чтобы в ответ нам содрогалась вся цепь причин и следствий от альфы до омеги, научимся носить „легче и вольнее подвижные оковы бытия“» («Утро акмеизма», I, 178–181).
В свете «Утра акмеизма» ликование Баха оказывается не только или не столько свидетельством упрямства, сколько знаком верности себе, верой в свою правоту. Бах утверждает такую «готическую» поэтику в музыке.
В своих рассуждениях о готике Мандельштам опирался на недавно прочитанные философические письма Чаадаева (Гаспаров 2001b: 264), для которого готика — «высокое создание строгого и вдумчивого северного христианства, как бы целиком воплотившее в себе основной принцип христианства» (1991: 442); далее Чаадаев называет готику «могучей поэзией» (там же: 443). В этом высказывании важно не только сравнение готики и поэзии, которое Мандельштам использовал при определении принципов своей акмеистической поэтики, но и такие характеристики «северного христианства», как строгость и вдумчивость. Строгость готики перекликается с тютчевской немецкой «суровостью», вдумчивость — с рассудочной пропастью готики у Баха.
Музыка Баха выступает в стихотворении Мандельштама воплощением риторико-эстетических принципов протестантизма. В основе ее лежит парадоксальное соединение экстатического порыва и рационалистически строгой выстроенности форм. Протестантский принцип соединения слова и музыки воспринимается не как взаимодополняющий и конструктивный «диалог», а как диссонирующая разноголосица, когда собеседники заглушают друг друга.
1.1.4. Протестантско-музыкальные мотивы стихотворений «Лютеранин» и «Бах» в контексте полемики с символистами
Немецкая, протестантская тематика критиками и рецензентами была замечена. Так, И. Эренбург, оглядываясь в 1920 году на первый сборник Мандельштама, писал, что «„Камень“ грешит многодумностью, давит грузом, я сказал бы, германского ума» (2002: 82). Позднее, в 1922 году, Эренбург уточнил свои впечатления от «Камня»: «в былые тихие дни (до революции. — Г.К.) он (Мандельштам. — Г.К.) пел Баха, орган, голые стены молелен, суровую любовь» (2002: 149). Из приведенных цитат видно, что именно «немецкие» стихи с их органно-протестантской тематикой Эренбург считал репрезентативными для всей поэтики «Камня».
Но были и другие прочтения: так, Н. С. Гумилев в своей рецензии на «Камень» (1913) говорил о том, что Мандельштам
«…открыл двери в свою поэзию для всех явлений жизни, живущих во времени, а не только в вечности или мгновении: для казино на дюнах, царскосельского парада, ресторанного сброда, похорон лютеранина… С чисто южной страстностью полюбил он северную пристойность и даже просто суровость обыкновенной жизни… В похоронах лютеранина ему (Мандельштаму. — Г.К.) нравится более всего, что „был взор слезой приличной затуманен, и сдержанно колокола звонили“» (Гумилев 1990: 175).
Гумилевские характеристики следует рассматривать как часть литературной полемики. Поэтому Гумилев и отмечает лишь то, что знаменует переход Мандельштама «из символического лагеря в акмеистический», который глава акмеистов датирует 1912 годом, то есть как раз временем создания «Лютеранина» (Гумилев 1990: 174, 201). «Лютеранин» ставится в один ряд с другими «бытовыми» стихотворениями. Гумилев понимает, что тема «Лютеранина» — похороны — благодатный материал для символистских откровений, поэтому в списке мандельштамовских сюжетов он полемически смешивает «похороны лютеранина» и описания «ресторанного сброда» («В таверне воровская шайка…») (Гумилев 1990: 175). Гумилев косвенно отмечает, что эстетический спор с символистами Мандельштам ведет на материале, близком последним. Близком, но не до конца: протестантизм не входил в сферу культурософских интересов символистов, для которых главным объектом религиозных чаяний и раздумий были православие и католичество, протестантизм же или замалчивался или яро критиковался, как у Розанова. В этом смысле само обращение Мандельштама к протестантской тематике полемично[49].
Характерна гумилевская игра «на снижение» и при оценке «Баха». По мнению главы акмеистов, для Мандельштама «все предлог для стихотворения: и прочитанная книга, содержание которой он по-своему пересказывает („Домби и сын“), и лубочный романтизм кинематографических пьес („Кинематограф“), и концерт Баха, и газетная заметка об имябожцах, и дачный теннис и т. д., и т. д.» (Гумилев 1990: 202). «Бах» у Гумилева оказывается «встроен» в ряд конкретно-сюжетных стихотворений[50]. Такому прочтению способствовал и тот факт, что «Лютеранин» не был включен в программную подборку «Аполлона» № 3 за 1913 год, не попал в соседство с «Айя-Софией» и «Notre Dame» и был прочитан в совершенно ином контексте. В «Гиперборее» № 5 за 1913 год «Лютеранин» был опубликован третьим, рядом со стихотворениями «Петербургские строфы» и «В душном баре иностранец…», и выглядел очередной «бытовой» зарисовкой. То же касается и «Баха», напечатанного в № 9/10 «Гиперборея» вместе со стихотворениями «Анне Ахматовой» и «Мы напряженного молчанья не выносим…», то есть вне религиозно-эстетических высказываний «архитектурных» стихотворений. Видимо, в составлении этих подборок Мандельштаму помогал Гумилев.
При переиздании «Камня» в 1916 году Мандельштам поставил «Лютеранина» после стихотворения «Золотой» и перед «Айя-Софией», за которой, в свою очередь, следовало стихотворение «Notre Dame». Несколькими стихотворениями далее стоял «Бах». Таким образом, «Лютеранин», с одной стороны, завершал цикл бытовых зарисовок и металитературных размышлений, а с другой — открывал цикл стихотворений об эстетике христианских конфессий: католичества, православия и протестантизма[51]. К концу 1915 года, когда составлялся «Камень», полемика с символистами потеряла всякую актуальность. Война сплотила литературные ряды. Для Мандельштама оказалось важнее показать историко-культурное единство Европы со всем богатством ее конфессий. Своим композиционным решением сборника 1916 года Мандельштам, с одной стороны, выделил направленность «Лютеранина» как части литературной полемики с символизмом (акмеистическая сюжетность и выписка деталей и собственно идеологический, «богословский» спор[52]), с другой стороны, открыл им разговор о других конфессиях: получался своего рода экуменический триптих: «Лютеранин» — «Айя-София» — «Notre Dame»[53].
«Музыка Баха» как тема стихотворения являлась по-своему еретической и подавалась с акмеистических позиций. Прежде всего Бах — немец, а именно на противопоставлении романского германскому Гумилев выстраивал культурософско-поэтическую концепцию акмеизма. В своем программном манифесте «Наследие символизма и акмеизм», опубликованном в первом номере «Аполлона» за 1913 год, он, в частности, писал:
«Романский дух слишком любит стихию света, разделяющего предметы, четко вырисовывающего линию… символическая слиянность всех образов и вещей, изменчивость их облика, могла родиться только в туманной мгле германских лесов… Новое течение (акмеизм. — Г.К.)… отдает решительное предпочтение романскому духу перед германским… светлая ирония… которая не могла не проявляться хоть изредка у романских писателей, — стала теперь на место той безнадежной, немецкой серьезности, которую так взлелеяли наши символисты… Германский символизм в лице своих родоначальников Ницше и Ибсена выдвигал вопрос о роли человека в мироздании, индивидуума в обществе и разрешал его, находя какую-нибудь объективную цель или догмат, которым должно было служить. В этом сказывалось, что германский символизм не чувствует самоценности каждого явления, не нуждающейся ни в каком оправдании извне» (Гумилев 1990: 56).
Хотя Мандельштам и отмечал важность романского культурного наследия для новой поэтики акмеизма («Утро акмеизма»), он никогда не ставил его в явную оппозицию к германской культуре и, скорее, стремился к синтезу обоих элементов. В статье «Утро акмеизма», которая должна была стать манифестом нового течения, Мандельштам в качестве предтеч-образцов акмеистической эстетики называет не только романскую средневековую словесность, но и «рассудительнейшую» музыку Баха, и готику, объединяющую романское и германское начала.
Несоответствие «Баха» теории и практике акмеизма заключалось и в том, что представители нового течения накладывали табу на саму тему музыки. У символистов эта тема прошла развитие от верленовского девиза «музыка прежде всего» и ницшеанского «духа музыки» до «музыки революции» Блока. Медленно, но верно, из метафоры неведомого и невыразимого, которое было в цене у символистов, музыка превращалась в произвольный символ иррациональных стихий. Музыка с маленькой буквы для символистов переставала существовать, а то, что выражает «Музыка», — описанию не поддавалось. Понятие музыки теряло всякую конкретику и могло означать что угодно[54].
Процесс тотальной символизации слова означал, с акмеистических позиций, его полное обесценивание. Развивая замечания Каца (ср. Кац / Тименчик 1989: 23–24, 80–89), можно отметить, что в своем отталкивании от символистов сотоварищи и ученики Гумилева, с одной стороны, развенчивали символистский культ музыки, с другой — решали, каждый по-своему, проблему музыкальной темы вообще. Так, сам Гумилев из полемических соображений практически исключил музыкальную тему из своего творчества. Современники вспоминали антимузыкальный настрой Гумилева[55].
По проницательному замечанию Б. А. Каца, «Мандельштам, с едким сарказмом обрушиваясь на ценности символизма, тем не менее, упорно уводит из-под полемического удара одну из основ символистского мира — поклонение музыке» (1991b: 13). Понятие музыки, дорогое Мандельштаму и обесцененное символистами, в соответствии с собственными вкусами и принципами акмеизма, поэт решает наполнить конкретным культурно-историческим содержанием. Музыка перестала у него быть музыкой чего-нибудь (всего что угодно), как у символистов; ей было возвращено ее авторство, факт исполнения и т. д. Сходным путем «реабилитации» музыки шла Ахматова. Одновременно Мандельштам «выгораживает» музыку от нападок своих сотоварищей по Цеху, переставляя смысловые акценты. Если для символистов музыка была выражением иррационального, то у Мандельштама она становится воплощением высшего рационализма:
«Логика есть царство неожиданности. Мыслить логически — значит непрерывно удивляться. Мы полюбили музыку доказательства. Логическая связь — для нас не песенка о чижике, а симфония с органом и пением, такая трудная и вдохновенная, что дирижеру приходится напрягать все свои способности, чтобы сдержать исполнителей в повиновении.
Как убедительна музыка Баха! Какая мощь доказательства!» («Утро акмеизма», I, 180).
В этом смысле третья и четвертая строфы «Баха» представляют собой внутренний спор Мандельштама-акмеиста с Мандельштамом — поклонником музыки, а в четвертой строфе можно усмотреть косвенную речь обвинителя музыки, а все стихотворение рассматривать как речь в защиту музыки (Кац 1991: 13). Музыка Баха была наиболее благодатным материалом для такой борьбы на два идеолого-поэтологических фронта. Органная музыка Баха, несмотря на свой церковный, а значит, и сакральный контекст, имела репутацию рациональной, математически выверенной. В отличие от своих друзей по гумилевскому Цеху, Мандельштам ведет полемику на чужой (символистской) территории: в случае с «Notre Dame» и «Айя-Софией» он обращается к католическо-православной теме, а в случае «Баха» и «Лютеранина» — к немецкой и музыкальной.
1.1.5. Сюжетно-метафорическая амбивалентность образа Лютера в четверостишии «Здесь я стою — я не могу иначе…»
«Бах» и «Лютеранин» составляют своего рода цикл из двух стихотворений, в которых тематизируется протестантская эстетика. Особняком стоит четверостишие «Здесь я стою — я не могу иначе…»:
Hier stehe ich — ich капп nicht anders… «Здесь я стою — я не могу иначе», Не просветлеет темная гора — И кряжистого Лютера незрячий Витает дух над куполом Петра. («Здесь я стою — я не могу иначе…», I, 84)Если в стихотворении «Лютеранин» вырисовывается скорее позитивное отношение поэта к лютеранству, а в «Бахе» — критически-полемическое, то в четверостишии «Здесь я стою — я не могу иначе…» дело обстоит сложнее.
Первый стих представляет собой перевод концовки знаменитой защитной речи Лютера в Вормсе, вынесенной в эпиграф. Второй стих уже туманен: скорее всего, образ темной горы, которая не просветлеет, — иносказательный образ римско-католической церкви, которая не смогла или не захотела услышать и понять Лютера. Если это так, то второй стих как бы продолжает речь Лютера или является авторской ремаркой. Все карты путает характеристика реформатора в третьем и четвертом стихах. Образ Лютера подан как неоднозначный. Эпитет «кряжистый» относится к внешности Лютера: его физической коренастости, грузности. В переносном смысле «кряжистость» означает укорененность, стабильность, мощь — и тем самым свидетельствует о том, как стойко держался Лютер в Вормсе. Бескомпромиссное лютеровское «Здесь я стою — я не могу иначе» перекликается с «несговорчивостью» старика Баха из стихотворения «Бах».
С другой стороны, дух кряжистого Лютера «незрячий». Чего же не видит дух Лютера? Значение культурно-исторической миссии Рима? Собственную неправоту и упертость? «Подводный камень веры» — опасный «апофеоз человеческого я», о котором, критикуя Реформацию, говорил постоянный интертекстуальный «собеседник» Мандельштама Тютчев? В то же время лютеровская слепота находится в одном метонимическом ряду с непросветленной темнотой Рима. Или же «незрячий» — рифменная ослышка, приведшая к двусмысленности, а подразумевался незримый дух?
Дух Лютера витает над куполом Петра. Не знак ли это некоторого превосходства Лютера над католицизмом, превосходства в смысле все той же кряжистости-мощи? Духовный строй лютеранства утверждает себя над архитектоническим строем собора? Еще один из возможных вариантов прочтения: дух Лютера витает над куполом Петра, дух протестантизма витает в пространстве католичества, католичество созрело для Реформации. Такое толкование происхождения протестантизма Мандельштам мог почерпнуть из статьи Тютчева «Римский вопрос» (Мец 1995: 537), согласно которой между «зарождением Протестантизма и захватами Рима» существует «страшная, но неоспоримая связь», «ибо захват имеет ту особенность, что не только возбуждает бунт, но и создает еще для своей корысти видимость права» (Тютчев 2003, III: 162).
Но существует еще одна возможность интерпретации: собор Петра не впускает в себя дух Лютера из-за его чуждости Риму. «Темная гора» — это не только Рим, но и незрячий Лютер. Если подбирать доводы в пользу антилютеранской направленности четверостишия, то убедительнее искать привязку «темной горы» к Лютеру в образно-смысловой смежности кряжистости и горы. Прилагательное «кряжистый» происходит от существительного кряж, больше известного в словосочетании «горный кряж».
Возможно и то, что Лютер здесь показан с точки зрения католической церкви. В таком случае все негативное в его образе обусловлено не отношением Мандельштама, а позицией Рима. Такая интерпретация ни в коей мере не снимает остроту вопроса об отношении Мандельштама к Лютеру, вместе с тем вполне возможно, что характеристика Лютера в третьем и четвертом стихах исходит от его оппонентов — такое прочтение диктуется самой ситуацией, которая подразумевается в стихотворении: теологическим диспутом Лютера и представителей Рима на вормском рейхстаге. Полемическую ситуацию Мандельштам передает полемическими средствами.
Труднодатируемое четверостишие «Здесь я стою — я не могу иначе…», скорее всего, является одним из переходных стихотворений от «протестантских» стихов («Лютеранин», «Бах») к римскому циклу (1913–1914). Интерпретационные сложности напрямую связаны с проблемой датировки стихотворения. В автографе, являющемся источником текста в «Стихотворениях» 1928 года, текст датирован 1913 годом (Мандельштам 1990а: 311), в каблуковском экземпляре «Камня» под названием «Лютер в Вормсе» — 1915-м. Датировка по принципу метрического соседства с другими стихотворениями осложнена здесь тем обстоятельством, что первый стих, задавший ритмическую схему четверостишия, представляет собой дословный перевод эпиграфа. Мандельштамовскую, а не каблуковскую датировку (1913) косвенно подтверждает М. Л. Гаспаров, считая стихотворение своего рода «эпиграфом… к римскому циклу 1913–1914 гг.» (Гаспаров 2001а: 624). В поддержку мнения исследователя добавим, что открывающее римский цикл стихотворение «Поговорим о Риме — дивный град…» начинается «победой купола» собора Св. Петра. Значимо и подтекстуальное тютчевское обрамление всего римского цикла: мандельштамовская «Encyclica» (1914) прямо отсылала к одноименному стихотворению Тютчева, в котором как раз обсуждается папская булла против протестантизма. Напомним также, что именно в 1912–1913 годах Мандельштам занимался протестантской темой.
Стихотворение представляет собой темную культурно-историческую медитацию поэта о выступлении Лютера в Вормсе. Двусмысленность образа Лютера вызывается расплывчатостью позиции самого поэта по отношению к конфликту Лютера с Римом. Оба участника спора описываются аффективно: сначала цитируются слова Лютера, а затем косвенно передается реакция католической церкви на бескомпромиссную позицию Лютера. Само богословское содержание спора оказывается за пределами высказывания. Открытым остается вопрос, солидаризируется ли Мандельштам с римским взглядом на немецкого реформатора.
Мнения исследователей касательно симпатий или антипатий Мандельштама к протестантизму в разобранных стихотворениях разошлись. Г. Левинтон считал, что «Лютеранин» — «резко антипротестантские стихи», а «Бах» — «более амбивалентный текст» (Левинтон 1994: 32, 40). С. Аверинцев, напротив, полагал, что в «Бахе» протестантизм являет «мрачный облик», в «Здесь я стою — я не могу иначе…» — «безблагодатный», а вот в «Лютеранине» «скудость протестантского обихода сочувственно описывается как честность и правдивость, исключающая патетику и недостоверные духовные притязания» (1996: 224). Наши выводы близки впечатлениям Аверинцева, с той лишь оговоркой, что уловить однозначное отношение Мандельштама к Лютеру в четверостишии «Здесь я стою — я не могу иначе…» представляется едва ли возможным.
Откуда же такая двусмысленность и неопределенность? Возможно, противоречивость Мандельштама в оценке протестантизма и в самой подаче этой оценки унаследована им от Тютчева: от инвективной полемичности тютчевской риторики вообще и «лютеранских» стихотворений 1830-х годов — как ее яркого выражения — в частности. В любом случае, разногласия исследователей косвенно подтверждают изначальную авторскую установку на полемичность. В «Лютеранине» и «Бахе» она раскрывалась на уровне подтекстуального «диалога» с Тютчевым, причем в «Бахе» открыто тематизировалась (спор с «великим спорщиком» Бахом), а в четверостишии «Здесь я стою — я не могу иначе…» полемичность предполагал сам сюжет: диспут в Вормсе.
1.2. Музыкальная тема: образы Вагнера и Бетховена в стихотворениях 1913–1914 годов
1.2.1. Фарс «Валкирий»: конец символизма
Встреча Мандельштама с миром немецкой музыки тесно связана с его религиозно-философскими и поэтическими поисками начала 1910-х годов. Различными путями Мандельштам приходит к музыке как поэтической теме. Когда он был занят выработкой своих поэтических установок в духе акмеизма, его привлекла эстетика протестантской музыки Баха. Следующим немецким композитором, творчество которого попало в поле зрения Мандельштама, стал Вагнер. Перед разбором «вагнеровского» стихотворения «Валкирии» хотелось бы коротко остановиться на стихотворении «Американка», в котором описывается путешествие американки по Старому Свету: в перечне европейских достопримечательностей, наряду с Лувром и афинским Акрополем, оказывается и «Фауст» Гете:
Не понимая ничего, Читает «Фауста» в вагоне И сожалеет, отчего Людовик больше не на троне. («Американка», I, 92)«Фауст» представляет часть устаревшего и идеализированного образа Европы, над которым иронизирует Мандельштам. Но за высмеиванием американки, как и в большинстве стихотворений 1912–1913 годов, читается полемика с символистами. «Фауст» Гете был объявлен идеологической предтечей символизма[56], упоминание предсимволистского «Фауста» «всуе», в контексте юмористического сюжетного стихотворения о туристическом паломничестве американки к европейским «святыням», было своего рода акмеистическим «святотатством» (ср. выпад в «Утре акмеизма»: «символисты были плохими домоседами, они любили путешествия» (I, 179)). В нашем стихотворении Мандельштам гротескно сравнивает гетеанство символистов с наивным европеизмом путешествующей американки[57].
В стихотворении «Валкирии» Мандельштам также иронически полемизирует с пристрастиями символистов. И если в «Американке» объектом полемики становится Гете, то в «Валкириях» — Вагнер. Русская культура познакомилась с Вагнером в 1860–1870-е годы. В начале XX века Ницше породил новую волну интереса к музыке немецкого композитора[58]. В 1910-е годы в Москве и Петербурге часто ставили Вагнера. В 1913 году в Мариинском театре шла вторая часть «Кольца нибелунгов» — «Валькирия», впечатления от которой и легли в основу мандельштамовского стихотворения «Летают Валькирии, поют смычки…».
Прежде чем приступить к разбору, хотелось бы коснуться важной текстологически-библиографической проблемы, связанной с этим стихотворением. В архиве Мандельштама, собранном Ю. Л. Фрейдиным, беловой автограф стихотворения имеет подзаголовок «Валкирии» (Мец 1995: 534). В данном случае нас интересует не столько факт присутствия и (или) снятия подзаголовка, сколько само написание слова Валкирии, с или без мягкого знака после л. Архаичное написание без мягкого знака имеет, по нашему предположению, интертекстуальное значение, не замеченное редактором: тем самым Мандельштам подтекстуально вписывал себя в традицию русской валкирианы вообще и ее батюшковской линии в частности. Батюшков писал слово «Валкирии» без мягкого знака после л, например в «Мечте» (Батюшков 1978: 254)[59]. Поэтому при выборе текста, приводимого ниже, мы остановились на решении редакторов издания «Камня» в «Литературных памятниках» (Мандельштам 1990а):
Летают Валкирии, поют смычки. Громоздкая опера к концу идет. С тяжелыми шубами гайдуки На мраморных лестницах ждут господ. Уж занавес наглухо упасть готов; Еще рукоплещет в райке глупец, Извозчики пляшут вокруг костров. Карету такого-то! Разъезд. Конец. («Валкирии»; 1990а: 54)С самого начала стихотворения появляется сатирическая интонация: происходящее за кулисами никак не сочетается с высоким духом оперной музыки Вагнера — Валкирии летают, а гайдуки «с тяжелыми шубами… ждут господ». На сцене играют и поют, а на улице мерзнущие извозчики «пляшут вокруг костров». В их пляске нет ничего дионисийского: они просто хотят согреться. Напротив, рукоплещущие по окончании представления зрители галерки названы «глупцами».
Читательские ожидания, которые вызывают заглавие и первая строка, не оправдываются. Речь не идет о мифических Валкириях, опера Вагнера не описывается. Все либретто и музыкальное содержание оперы Мандельштам умещает в первую строку, описывающую оркестровый пассаж «Полет Валькирий». Вероятно, этим обманом читательских ожиданий Мандельштам выражает свое собственное разочарование оперой Вагнера. Разочарован он потому, что музыка Вагнера кажется ему слишком тяжелой. «Тяжелые шубы» усиливают ощущение громоздкости происходящего. «Мраморные лестницы» также создают эффект монументализации. Все слишком тяжело и помпезно. Тяжелая тягучесть оперы растягивается на все стихотворение, и лишь телеграфный стиль последней строки приносит долгожданное избавление.
Как обычно, Мандельштам работает не только с «сырым» биографическим, но и с литературным материалом. Если в «Лютеранине» и «Бахе» полемическим подспорьем поэту служили «протестантские» стихи Тютчева, то в «Валкириях» он воспроизводит театральные сцены из начала «Евгения Онегина» (Эпштейн 2006: 250): «в райке нетерпеливо плещут», занавес, «волшебные смычки» (1957: V, 18), затем: «Еще амуры, черти, змеи / На сцене скачут и шумят; / Еще усталые лакеи / На шубах у подъезда спят» — и далее у Пушкина «кучера вокруг огней» (1957: V, 19)[60]. Сходство с Пушкиным в первую очередь сюжетное: заканчивается представление (балет у Пушкина и опера у Мандельштама), галерка аплодирует, лакеи-гайдуки ждут своих господ, а кучера греются вокруг костров — с другой стороны, повторяются и конкретные образно-словесные формулы. Мандельштам будит читательскую память и переживает «узнаванья миг»: читатель оказывается в знакомой сюжетно-образной среде.
Возможно, еще одним подтекстом является стихотворение Гейне «Sie erlischt»:
Der Vorhang fällt, das Stück ist aus, Und Herrn und Damen gehn nach Haus. Ob ihnen auch das Stück gefallen? Ich glaub, ich hörte Beifali schallen. (Heine 1913: III, 129)[61]Далее у Гейне упоминаются скрипка и партер. Мандельштам мог выйти на гейневские ассоциации интонационно (ирония), сюжетно (окончание представления) и тематически: стихотворение Гейне «Sie erlischt» помещено в сборнике «Romanzero», в котором находится и стихотворение «Valkyren». Вагнеровские «Валькирии» могли напомнить Мандельштаму и гейневские, которые с вагнеровскими напрямую не связаны[62].
Почему же Мандельштаму не понравилась опера Вагнера и зачем для передачи своего разочарования он воспользовался пушкинскими образами и гейневским шаржем? Согласно эстетическим убеждениям Мандельштама, произведение искусства не имеет права быть тяжелым. Тяжесть художественного материала должна быть преодолена. Эта установка поэта нашла свое выражение в «архитектурных» стихах:
Но чем внимательней, твердыня Notre Dame, Я изучал твои чудовищные ребра, — Тем чаще думал я: из тяжести недоброй И я когда-нибудь прекрасное создам… («Notre Dame», I, 80)В манифесте «Утро акмеизма» поэт заявил, что «акмеизм — для тех, кто, обуянный духом строительства, не отказывается малодушно от своей тяжести, а радостно принимает ее, чтобы разбудить и использовать архитектурно спящие в ней силы» (I, 178). Для Мандельштама это не столько поэтический прием, сколько категорический императив искусства. Поэтому Вагнер, создавая из тяжелого полубесформенного материала германской мифологии снова нечто громоздкое, в глазах Мандельштама грешит против самой сущности творчества.
«Валкирии» являются частью споров акмеистов с символистами[63]. По мнению М. Эпштейна, «полемика с вагнерианством… — составная часть акмеистской программы возвращения искусства к самому себе» (Эпштейн 2006: 255). Как было указано О. А. Лекмановым, в своем стихотворении Мандельштам применяет мотив конца театрального представления, который Городецкий в своей статье «Некоторые течения современной русской поэзии» использовал при описании «последнего акта» символизма, «при поднятом занавесе» (Городецкий 2002: 15): «В стихотворении „Валкирии“ Мандельштам противопоставил символизму акмеизм, литургической серьезности „веселость едкую литературной шутки“, „громоздкому“ Вагнеру — „полувоздушного“ Пушкина» (Лекманов 2000: 507)[64]. Подобно тому как Гумилев использовал пушкинский авторитет, противопоставляя романскую ясность «сумрачному германскому гению» символизма, Мандельштам с помощью подтекстуальных отсылок к Пушкину борется с символистским Вагнером. Если у Гумилева — своего рода теория использования Пушкина в полемике с символистами, то у Мандельштама «Валкирий» — практика такого применения. Существенна и вероятна подтекстуальная опора на критика и пересмешника немецкого романтизма Г. Гейне. Пушкинская ирония смешивается с гейневской.
Иронизируя над Вагнером, Мандельштам борется с одним из главных авторитетов символизма. Вслед за Ницше Вячеслав Иванов причислил Вагнера к «зачинателям нового дионисийского творчества» и назвал «первым предтечей вселенского мифотворчества» (Иванов 1994: 35). В 1912–1913 годах Мандельштам в стихах и статьях оспаривает установки своего бывшего учителя. В отличие от других акмеистов, Мандельштам расшатывает устои символистов не только «со стороны», выдвигая акмеистические альтернативы, но и «изнутри» — пародируя их идеологические установки и вкусы. При этом, как и в лютеранском цикле, немецкая тема (Вагнер) становится удобным поводом для идейно-эстетических стычек с символизмом. Причем если в «Лютеранине» и «Бахе» Мандельштам пытался «отвоевать» у символистов музыку (Баха), то в «Валкириях» борьбы за Вагнера нет. Поэт показывает, что Вагнер — это не просто автор, которого символисты, выстраивая свою генеалогию, записали в свои ряды, но он и на самом деле был их предшественником. Скорее всего, этим и объясняется тот факт, что чуткий к музыке Мандельштам на протяжении всей жизни не изменил своего скептического отношения к этому немецкому композитору.
1.2.2. «Рецидив» символистской риторики в «Оде Бетховену»
1.2.2.1. Композиция и подтексты
В декабре 1914 года Мандельштам пишет «Оду Бетховену», которая уже неоднократно становилась предметом комментариев. Учитывая результаты проведенных исследований, мы остановимся лишь на тех аспектах оды, которые имеют непосредственное отношение к теме нашего исследования.
В мандельштамовской оде дается образ Бетховена, в первой части (ст. 1–32) — биографический, во второй (ст. 33–48) — культурософский:
1 Бывает сердце так сурово, 2 Что и любя его не тронь! 3 И в темной комнате глухого 4 Бетховена горит огонь. 5 И я не мог твоей, мучитель, 6 Чрезмерной радости понять — 7 Уже бросает исполнитель 8 Испепеленную тетрадь. 9 [Когда земля гудит от грома 10 И речка бурная ревет 11 Сильней грозы и бурелома,] 12 Кто этот дивный пешеход? 13 Он так стремительно ступает 14 С зеленой шляпою в руке, 15 [И ветер полы развевает 16 На неуклюжем сюртуке.] 17 С кем можно глубже и полнее 18 Всю чашу нежности испить; 19 Кто может, ярче пламенея, 20 Усилье воли освятить; 21 Кто по-крестьянски, сын фламандца, 22 Мир пригласил на ритурнель 23 И до тех пор не кончил танца, 24 Пока не вышел буйный хмель? 25 О Дионис, как муж, наивный 26 И благодарный, как дитя, 27 Ты перенес свой жребий дивный 28 То негодуя, то шутя! 29 С каким глухим негодованьем 30 Ты собирал с князей оброк 31 Или с рассеянным вниманьем 32 На фортепьянный шел урок! 33 Тебе монашеские кельи — 34 Всемирной радости приют, 35 Тебе в пророческом весельи 36 Огнепоклонники поют; 37 Огонь пылает в человеке, 38 Его унять никто не мог. 39 Тебя назвать не смели греки, 40 Но чтили, неизвестный бог! 41 О, величавой жертвы пламя! 42 Полнеба охватил костер — 43 И царской скинии над нами 44 Разодран шелковый шатер. 45 И в промежутке воспаленном, 46 Где мы не видим ничего, — 47 Ты указал в чертоге тронном 48 На белой славы торжество! («Ода Бетховену», 1995: 121–123, 450)Многие строки первой части отсылают к событиям жизни композитора, привычкам и чертам характера. При этом Мандельштам, с одной стороны, опирается на иконографические подтексты: на известную по гравюрам картину Р. Эйштедта «Бетховен за работой», где композитор изображен в темной комнате, озаренной огнем лампы, и на полотно Ю. Шмида «Бетховен на прогулке» (Кац 1991а: 70). С другой стороны, знание фактов биографии немецкого композитора Мандельштам мог почерпнуть из книги В. Д. Корганова о Бетховене (1909). Как пишет Б. А. Кац, Мандельштам «обманчиво и кратковременно присоединяется к непонимающим Бетховена… ссылаясь в подтверждение такого непонимания на реальный факт из книги Корганова» (Кац 1991а: 70). В книге Корганова писалось: «В 1812 году, при исполнении квартета № 1 у графа Салтыкова в Москве, один из партнеров, знаменитый виолончелист Бернгард Ромберг, бросил свою партию на пол и стал топтать ногами „навязываемую ему чепуху“» (Корганов 1909а: 200)[65]. Возможно, этот эпизод совместился у Мандельштама с впечатлениями от картины Эйштедта. Именно такое предположение делает Кац:
«…слово „тетрадь“ предполагает нотный альбом горизонтального формата (такой и лежит на коленях у Бетховена), а партии квартетистов записывались на листах вертикального формата. Возможно, тетрадь оказывается „испепеленной“ не только метафорическим огнем… (точнее: огнем символическим. — Г.К.), но и живописным — тем, что горит в темной комнате глухого Бетховена: на картине Эйштедта… это сама тетрадь и отдельные ее листы, брошенные на пол» (Кац 1991а: 70).
Мандельштам из риторических соображений присоединяется к критикам Бетховена, а затем вступает с ними в полемику. Сходный спор на два фронта мы наблюдали и в «Бахе». Сам полемический тон, то есть некоторые риторические ходы «Баха» метонимически перенеслись на другого немецкого композитора.
Вторая строфа представляет собой описание Бетховена на прогулке, иконографическим источником для которого могла послужить картина Ю. Шмида. Однако сходство с картиной лишь частичное. У Шмида нет ни грозы, ни грома. У Мандельштама эти детали проходят определенную трансформацию, связанную с жанровой спецификой текста. Образы грома и грозы характерны для «громоподобной» метафорики оды. «Гром» (ст. 9), «буйный» (ст. 24), «гроза» (ст. 11) — образы-сигналы русско-немецкого барочного классицизма и романтизма — здесь корреспондируют с героически-романтическим обликом Бетховена.
В третьей строфе Мандельштам говорит о фламандском происхождении композитора (ст. 21). Д. М. Сегал пишет, что «сын фламандца — это и немец и не немец» — «собиратель разрозненных немецких земель», «„отец немецкой нации“ (ибо кто же иной может собирать „оброк“ у „князей“)» (Сегал 1998: 337). По мнению Сегала, мандельштамовский Бетховен оказывается собирателем Германии, но это утверждение труднодоказуемо. Гораздо более обоснованной представляется позиция М. Л. Гаспарова (2001а: 622), согласно которой упоминание фламандского происхождения Бетховена имеет более прозаическое объяснение: осень — зима 1914 года — время расцвета антинемецкой пропаганды, поэтому Мандельштам и сглаживает немецкость Бетховена.
Во второй части стихотворения, имеющей характер культурософской медитации о дионисийстве Бетховена, используются жанровые ресурсы оды. «Ода Бетховену» — первая ода Мандельштама. В данном случае выбор оды был подсказан темой стихотворения: лексико-синтаксические особенности оды могли наиболее адекватно передать безудержно нарастающий дионисийский восторг Бетховена. Риторика и законы жанра обязывают и вдохновляют: доминирующие восклицательные предложения и риторические вопрошания усиливают эмоциональное воздействие. Именно смена интонаций была определяющим принципом строя оды (Тынянов 1977: 233). Создавая оду, Мандельштам вписывается в русскую одическую традицию, уходящую корнями к Ломоносову и Державину, которые разрабатывали русскую оду по европейским образцам, и не в последнюю очередь, по немецким. Романтический восторженно-трагический порыв Бетховена косвенно связывается с одическими завоеваниями немецкой поэзии XVIII века — таким образом Мандельштам поэтическими средствами выражает мысль о жанрово-интонационной связи романтики с одической традицией барокко.
Полярность семантических оппозиций в одах Мандельштама — оксюморонна (Ronen 1983: 20). В «Оде Бетховену» мы находим тому многочисленные примеры: «бывает сердце так сурово, что и любя его не тронь» (ст. 1–2), Бетховен — мучитель (ст. 5), излучающий радость (ст. 6), Дионис-Бетховен то муж (ст. 25) — то дитя (ст. 26). На смешении идиом «счастливый жребий» и «переносить страдание, муки» строится выражение «Ты перенес свой жребий дивный, то негодуя — то шутя» (ст. 27–28); на урок Бетховен идет с рассеянным вниманьем (ст. 31–32), в маленькой келье (ст. 33) переживается всемирная радость (ст. 34). Образность стихотворения строится на оксюморонном сталкивании смысловых оппозиций. Образ огня контрастирует с образам темноты: «в темной комнате глухого Бетховена горит огонь» (ст. 3–4). Этот внешний свет-огонь превращается к концу стихотворения в огонь внутренний: «огонь пылает в человеке» (ст. 37). Тем самым метафоризируется и темная комната-келья Бетховена (ст. 33), оказывающаяся своего рода «душевным интерьером» композитора. Образ огня — лейтмотивный: «Кто может, ярче пламенея, / Усилье воли освятить?» (ст. 19–20). Мандельштам играет с этимологически мотивированной омофонией слов осветить и освятить.
С одной стороны — зрительная оппозиция света и темноты, с другой — «слуховое» противопоставление глухоты и звука. Глухой Бетховен оказывается создателем дионисийской музыки. В пророческом веселье огнепоклонники «поют» (ст. 36). Келейная статика созревания «дионисийского» духа (ст. 33) сталкивается с динамикой буйного танца (ст. 23–24). Из слепоты прорывается прозрение, из глухоты — музыка, из отшельничества — буйная вселенская радость. Сталкивая смысловые оппозиции, Мандельштам передает двоякость, динамическую оксюморонность дионисийства, соединившего трагику и восторг.
Главными чертами дионисийства Бетховена оказываются радость и веселье, которые отсылают читателя к «Оде к радости» Шиллера. Интенсивность восприятия шиллеровской оды в русском культурном пространстве XIX века, от первых переводов до Достоевского, заслуживает отдельного разговора и имеет для нашей работы лишь косвенное значение. В любом случае Мандельштам в своей «Оде Бетховену» оживляет шиллеровский текст, занявший столь важное место в самосознании русской культуры и литературы. От Бетховена Мандельштам перенимает композиционное решение: вслед за Девятой симфонией он помещает шиллеровскую радость в конец своего стихотворения — самую подходящую для патетики часть оды.
«Шиллеровскую» концовку своей оды («белой славы торжество», ст. 48) Мандельштам автоцитировал в своем докладе «Скрябин и христианство», в котором он поднял многие вопросы, прозвучавшие в «Оде Бетховену»:
«До чего сильна в новой музыке эта уверенность в окончательном торжестве личности, цельной и невредимой: она, эта уверенность в личном спасении, сказал бы я, входит в христианскую музыку своего рода обертоном, окрашивая звучность Бетховена в белый мажор синайской славы» (<Скрябин и христианство>, I, 203–204).
Как и в рассматриваемом стихотворении, в своем докладе Мандельштам помещает Бетховена в религиозный, иудейско-христианско-дионисийский контекст («белой славы торжество» — «белый мажор синайской славы» и «торжество личности»). Доклад «Скрябин и христианство» проливает свет и на одну из проблем, которую поэт поднимает в «Бахе» и «Оде Бетховену»; речь об искомом Мандельштамом синтезе музыки и слова: Бетховен его достигает, Скрябин — нет: «Разрыв Скрябина с голосом, его великое увлечение сиреной пианизма знаменует утрату христианского ощущения личности <…>. Эта радость Бетховена, синтез Девятой симфонии, сей „белой славы торжество“ недоступно Скрябину» (I, 204). По мнению Д. М. Сегала, в «Оде Бетховену» подхватывается «мотив одинокой суровости» из «Баха»: «Эта одинокая суровость — как бы общий немецкий… корень обоих великих композиторов… семантический сюжет „Оды Бетховену“ — это путь от одинокой суровости к соборному торжеству» (1998: 327). В музыке Бетховена соединяются христианская готовность к самопожертвованию и буйная дионисийская творческая свобода.
В «Оде Бетховену» обнаруживаются и другие параллели со стихами поэта, важные для понимания развития немецкой темы у Мандельштама: дионисийское веселье Бетховена корреспондирует с ликованием Баха. Но если ликование Баха имеет библейские корни («как Исайя»), то Бетховен, напротив, связан с Античностью; Бах назван «рассудительнейшим», Бетховен же находится в трансе. Бетховен у Мандельштама — «дивный пешеход» (ст. 12), с рассеянным вниманьем идущий на фортепьянный урок, — напоминает рассеянного прохожего, наблюдающего за траурной процессией в «Лютеранине». И тут и там внешняя рассеянность сочетается с состоянием высокой внутренней концентрации, предшествующим приходу вдохновения.
Смыслодополняющими являются и многие другие подтекстуальные ходы «Оды». У нас нет указаний на то, что поэт читал работу Р. Вагнера «Бетховен» и «Рождение трагедии из духа музыки» Ницше. Скорее всего, идеи этих работ, в особенности положения Ницше, Мандельштам получал из вторых рук. Исследователи уже многократно показывали, что в «Оде» обнаруживаются следы чтения работ Вячеслава Иванова[66], который в России начала XX века был одним из самых главных реципиентов и проводников концепций раннего Ницше. Теоретическим и подтекстуальным основанием «Оды Бетховену» можно считать статьи Иванова «Ницше и Дионис» и «Вагнер и дионисово действо». Наряду с Вагнером Иванов называет Бетховена «зачинателем нового дионисийского творчества» (1994: 35). Характеристику Бетховена как художника теургического Мандельштам с подачи Иванова перенимает для создания своего образа немецкого композитора.
Местами мы имеем дело едва ли не с дословным цитированием Мандельштамом статей Иванова. По Иванову, «в… священном хмеле и оригийном (sic. — Г.К.) самозабвении мы различаем состояние блаженного до муки переполнения, ощущение чудесного могущества и преизбытка силы… не исчерпывая всем этим бесчисленных радуг, которыми опоясывает и опламеняет душу преломление в ней дионисийского луча» (1994: 29). У Мандельштама — в «буйном хмеле» (ст. 24) Бетховен танцует с миром. Согласно Иванову, «посланничество и пророческое безумие» Ницше состояло в том, что он «возвратил миру Диониса» (1994: 27). То, что Иванов говорит о Ницше, Мандельштам переносит на Бетховена. Делает он это потому, что сам Иванов сконструировал в своих эссе цепочку Дионис — Прометей — Сократ — Бетховен — Вагнер — Ницше:
«Ницше был оргиастом музыкальных упоений… Незадолго до смерти Сократу снилось, будто божественный голос увещевал его заниматься музыкой: Ницше — философ исполнил дивный завет. Должно было ему стать участником Вагнерова сонма, посвященного служению Муз и Диониса, и музыкально усвоить воспринятое Вагнером наследие Бетховена, его пророческую милость, его Прометеев огненосный полый торс: его героический и трагический пафос» (Иванов 1994: 28).
«Дивный завет» Сократа из ивановского отрывка преломляется у Мандельштама в «жребий дивный» (ст. 27), «пророческую милость» и «огненосный торс» — в образ огнепоклонников, поющих в пророческом веселье (ст. 35–40). Образ огня оказывается для «Оды Бетховену» центральным[67]! Образ огнепоклонников отсылает и к ницшевскому Заратустре. Но Иванов в своем эссе говорит о том, что «Дионис раньше, чем в слове, раньше, чем в „восторге и исступлении“ великого мистагога будущего Заратустры-Достоевского, — открылся в музыке, немом искусстве глухого Бетховена» (Иванов 1994: 28).
Было бы натяжкой усматривать в словосочетании «усилье воли» (ст. 20), которую способен освятить мандельштамовский герой, отсыл к «воле к власти» Ницше. Понятие это, возможно, и было известно Мандельштаму, но никакого отношения к концепции дионисийства, изложенной в «Рождении трагедии», оно не имело, — впервые это выражение употреблено лишь в поздних работах философа. Тем не менее появление «воли» у Мандельштама в связи с Бетховеном и Ницше симптоматично для восприятия Ницше в русском культурном пространстве начала XX века: ключевые формулы поздней философии Ницше упрощенно прочитывались на фоне культурософских концепций «Рождения трагедии». Недаром в «Оде Бетховену» неожиданно появляются огнепоклонники, призванные вызвать ассоциации с Заратустрой[68]. Синтетический образ дионисийствующего Бетховена создается из синтетического Ницше.
Отдельные стихи «Оды» ритмически и лексически перекликаются с некоторыми строками Тютчева. У Мандельштама — «полнеба охватил костер» (ст. 42), у Тютчева — «полнеба обхватила тень» («Последняя любовь»; 2003: II, 59). Согласно Е. А. Тоддесу (1974: 85), Мандельштам вызывает в памяти читателя один из любимых тютчевских образов радуги, молнии, зари, охватывающей полнеба (тютчевские стихотворения «Как неожиданно и ярко…», «Прекрасный день его на западе исчез…» и др.). Активизация тютчевских реминисценций произошла у Мандельштама, скорее всего, при посредничестве того же Иванова. В статье «Ницше и Дионис» Иванов говорит о бесчисленных радугах, «которыми опоясывает и опламеняет душу преломление в ней дионисийского луча» (Иванов 1994: 29).
В то же время Мандельштам не удовлетворился подачей Бетховена через Вячеслава Иванова. Он вставляет бытовые детали и другие нюансы биографии Бетховена, то есть проделывает своего рода «акмеизацию» символистского объекта. Сходная детализация и привязка к конкретно-исторической ситуации прослеживалась и в «Бахе». Конкретные детали вызывают у Мандельштама исторические ассоциации (раздробленность Германии), которые с символистской точки зрения неуместны и действуют принижающе, «заземляя» творческий экстаз Бетховена.
1.2.2.2. «Серьезная пародия» на дискурс «дионисийства»
Возникает вопрос, почему после явно акмеистических стихотворений 1912–1913 годов в «Оде Бетховену» произошел такой ярко выраженный взрыв символистской риторики. Дело, по-видимому, в том, что уже во второй половине 1913-го — начале 1914 года поэтологические споры между участниками Цеха поэтов и их бывшими учителями стихают. Полемический тон, который использовался на стадии утверждения нового литературного течения, себя уже оправдал и исчерпал. Перемирие с символистами (и другими литературными группировками) было связано и с началом войны, которая консолидировала враждующие литературные лагеря: «мелкие» эстетические разногласия меркли перед лицом великих исторических событий[69]. Глава Цеха, Н. Гумилев, заботившийся об «акмеистической морали» своих соратников и учеников, ушел добровольцем на фронт. В 1914 году Мандельштам слушает курс лекций Вячеслава Иванова «От Канта к Круппу» (Лекманов 2004: 54) и, судя по всему, вновь попадает под обаяние своего бывшего учителя. Как показывают почти дословные ивановские реминисценции в «Оде Бетховену», Мандельштам перечитывал его статьи и стихотворения. В то же самое время Мандельштам был охвачен патриотической эйфорией: в декабре 1914 года, то есть в момент создания оды, он уехал в Варшаву с намерением получить место военного санитара, однако эта попытка не удалась. Отголоски этого патриотического энтузиазма ощущаются и в «Оде Бетховену».
И все-таки, даже если считать римский цикл 1914 года своего рода подготовкой к гимнической монументальности «Оды Бетховену», рывок от герметичных акмеистических зарисовок 1913 года к построенной на символистских реминисценциях «Оде Бетховену» кажется достаточно резким. «Ода Бетховену» является «рецидивом» символистской риторики. Для нас особенно важно, что этот «рецидив» происходит на «немецком», бетховенском материале.
В заключение разговора об «Оде» хотелось бы предложить еще одну осторожную гипотезу. Русская ода традиционно была не только жанровым пространством для славословий и превозношений, но и подспудной критики. У Мандельштама прямой критики не обнаруживается. Но, может быть, поэт критиковал не прямо, не в лоб, а по-другому? По нашему предположению, «Ода Бетховену» обладает определенным пародийным потенциалом, который, может быть, явился следствием столь резкого перехода от акмеистических позиций к символистской риторике. «Ода Бетховену» написана в декабре 1914 года, то есть в то же самое время, когда и стихотворение «В белом раю лежит богатырь…», которое С. С. Аверинцев, памятуя о выражении Тынянова, назвал «серьезной пародией» (1996: 235)[70]. В «Богатыре» Мандельштам дал клишированный образ русского богатыря-мужика, который пропагандировали неорусофилы. В данной связи хочется задаться вопросом: не является ли и «Ода Бетховену» своего рода пародией?
Пародия предполагает знакомый читателю объект пародии и создается обычно по следам тех произведений, которые у современников получают статус классики. Объектом пародии может быть не только конкретное художественное произведение, но и определенный круг мыслей и концепций. В случае стихотворения «В белом раю лежит богатырь…» таковым является актуализированный в начале Первой мировой войны пафос русофилов, в «Оде Бетховену» — сам «дискурс» дионисийства, ставший к 1914 году классическим, даже догматическим. Напомним, что с оппозицией дионисийского и аполлонического (или аполлинийского) начал, разработанных в теоретических работах 1900-х годов, работало большинство эстетической общественности того времени, в том числе и поэты мандельштамовского круга: дионисийской стихии символистов вожди акмеизма противопоставляли аполлоническую гармонию своих стихов.
Пародийный момент пародии нарастает по мере ее сходства с объектом пародии. В «Оде Бетховену» поражает почти буквальное следование Мандельштамом клише дионисийской топики вообще и ивановских статей в частности[71]. Пародия Мандельштама содержит в себе элементы подвида пародии — непроизвольной имитации. «Оду» можно прочитать и как пародию в тыняновском смысле, когда «цитация, даже вне пародийной направленности, может при некоторых условиях играть своеобразно пародийную роль — и, во всяком случае, она характеризует не столько поэта, сколько отношение к нему» (Тынянов 1977: 308).
Но что же в дионисийстве пародирует Мандельштам? Пародия чаще всего направлена или против каких бы то ни было форм конвенциональной сентиментальности, или же против чрезмерного пафоса героического. В нашем случае следует рассматривать второй вариант. Отсюда и выбор жанра «напыщенной оды», говоря словами поэта из стихотворения «Мне жалко, что теперь зима…» (I, 151). Одическая риторика Мандельштама скрыто пародирует одиозность пародируемого, в нашем случае не столько даже дионисийствующего Бетховена, сколько само пристрастие современников Мандельштама (в первую очередь Вячеслава Иванова, Бальмонта и других символистов) к дискурсу и пафосу дионисийства. В связи с этим стоит вспомнить и об общем критическо-полемическом отношении Мандельштама к ивановским идеям: так, в статье «Утро акмеизма» оспаривались положения ивановских «Мыслей о символизме».
И все-таки проявляется ли в «Оде Бетховену» критическое отношение Мандельштама? В первой строфе лирический герой уподобляется тому музыканту (Б. Ромбергу), который отказался играть Бетховена: «И я не мог твоей, мучитель, / Чрезмерной радости понять» (ст. 5–6). Автор словно говорит: и я, Мандельштам, тоже не могу ее понять. В полемике с не понимающим «чрезмерную радость» Бетховена (то есть и с собой) Мандельштам выстраивает свое высказывание. Полемичность сюжетной ситуации — параллельная «спору» с Бахом в «Бахе» и диспутной сюжетно-риторической коллизии четверостишия «Здесь я стою — я не могу иначе…» — придает всей оде оттенок полемичности, спора как с самой «чрезмерной радостью» Бетховена, так и с ее непониманием. Чрезмерность эта напрямую связана с ницшеанствующе-ивановским ликом Диониса, буйствующей, бьющей через край экстатикой. С другой стороны, слово «чрезмерный» содержит и эстетическую оценку: чрезмерная радость — радость излишняя. Именно в «чрезмерности» («отсутствии чувства меры») Мандельштам впоследствии упрекнет символистов вообще и Вячеслава Иванова в частности в своей статье «Буря и натиск» (II, 290).
Вместо эпитета «чрезмерный», содержащего определенную негативную окраску, Мандельштам мог, не повредив ритмике и фонике стиха, вставить скорее позитивно коннотированный эпитет «безмерный», тем самым устранив смысловую двоякость «чрезмерности»[72]. Но Мандельштам этого не делает; вполне возможно, что он не замечает двусмысленности «чрезмерности» и проговаривается нечаянно. Дионисийская радость Бетховена не просто огромна — она не знает меры и границ.
«Я не поклонник радости предвзятой…» — писал Мандельштам в стихотворении «Казино» в 1912 году, за два года до создания «Оды Бетховену» (I, 75). Может быть, и в чрезмерной радости Бетховена он увидел некую предвзятость, опасное допущение, что творческое вдохновение не имеет и не должно иметь границ, что оно ни с кем и ни с чем не должно считаться? «Радость» самого Мандельштама не предвзятая и не чрезмерная, это радость «тихая», как сказано в стихотворении «Дано мне тело — что мне делать с ним…»: «За радость тихую дышать и жить,/ Кого, скажите, мне благодарить?» (I, 37). В этом раннем признании поэта знаменательно обращение — «скажите». Поэт никогда не забывает о своем собеседнике-советнике, по отношению к которому он должен быть «предусмотрителен и заботлив» (I, 183), в то время как в дионисийском разгуле художник забывает не только себя, но и все вокруг, не говоря уж о провиденциальном собеседнике. Согласно статье «О собеседнике», возведенная в принцип непредусмотрительность доводит художника до слепоты и безумия. Если читать оду как пародию, то получается, что не столько Дионис переходит все границы и меры и не может совладать со своим творческим экстазом, сколько художники-поэты не могут совладать со своим восторгом по поводу дионисийства. В этом смысле чрезмерность «бетховеанствующей» и «ницшеанствующей» радости символистов сродни громоздкости Вагнера. Творческий жар доводит до исступления и горячки. И если Вагнер не мог совладать с «недоброй тяжестью» художественного материала, не мог придать ему удобоваримую форму, то Бетховен и охваченные теургическим действом символисты не способны совладать со своим художественно-религиозным экстазом. В сладостном упоении дионисийской оргией художник забывает о своей творческой задаче.
Сама возможность прочитывания оды как пародии задает ее пародийность. На это можно возразить, что с таким же успехом можно прочитать любой текст Мандельштама (и не только Мандельштама) как пародию. Но мы помним, что в программу Мандельштама входило сочетание «суровости Тютчева с ребячеством Верлена». Установка на синтез серьезности тем и игровой комичности на протяжении жизни поэта не изменится[73]. Игровой элемент лирики Мандельштама нисколько не умаляет «суровости» поднимаемых тем, а скорее наоборот, не дает им стать смертельно серьезными[74].
В «Утре акмеизма» поэт писал: «Благородная смесь рассудочности и мистики и ощущения мира как живого равновесия роднит» акмеистов с готическим Средневековьем (I, 180). Мандельштам всегда находится в поисках этого «живого равновесия» между рациональным и стихийным, или, говоря языком той эпохи, между аполлоническим и дионисийским началами. И если музыка Баха в одноименном стихотворении могла показаться поэту чересчур рассудочной, то символистский Бетховен впадает в другую крайность: художественное произведение, которое «не прихоть полубога, а хищный глазомер простого столяра» (I, 83), выходит из-под контроля мастера, впадающего в чрезмерную экстатику. Сама по себе экстатика еще не дискредитирует художника (акмеист тоже — «обуянный духом строительства»: I, 178), но когда буйный хмель вдохновения становится самоцелью, то он уже не в состоянии, опираясь на одно лишь наитие, создать архитектурное целое.
«Ода Бетховену» — «рецидив» символистской риторики в творчестве Мандельштама. Перед лицом войны противостояние противоборствующих литературных течений, в том числе акмеизма и символизма, было частично снято или вытеснено. Пародийный потенциал «Оды Бетховену» — побочный эффект этого вытеснения. «Ода Бетховену» — не просто дразнилка, ядовитая или дружественная: в мандельштамовской игре-пародии обнаруживают себя критические и полемические намерения автора, выходящие за пределы эстетических поединков между символистами и акмеистами. Мандельштам косвенно критикует сам «дионисийский дух» эпохи, ту безмерную и безответственную одержимость, с которой интеллектуалы и художники 1900–1910-х годов, и временно сам Мандельштам, увидели в Первой мировой войне залог грядущего освобождения истомившейся по великому действу мировой души. Поэтому «Ода Бетховену» если и не является прямым предостережением и призывом одуматься, то по крайней мере косвенно намекает на необходимость осознать всю трагическую серьезность положения «у бездны на краю», с которой так опасно заигрывает дух эпохи.
В заключение разговора о «Валкириях» и «Оде Бетховену» хотелось бы заметить, что в стихотворении «Валкирии» впервые появляются мотивы германской мифологии, к которым Мандельштам будет обращаться и далее; в «Оде Бетховену» поэт вводит мотив буйного хмеля, который впоследствии займет свое место в мандельштамовской концепции немецкой культуры. До стихотворений об опере Вагнера и дионисийском разгуле Бетховена «немецкое» было коннотировано главным образом суровой рассудочностью. Теперь оно усложняется за счет компоненты, ей противоположной. Если в эстетике немецкого протестантизма Мандельштам находил соединение чистой рациональности с эстетической аскезой, то с музыкой Бетховена в поле «немецкого» попадает элемент иррациональности. Оксюморонные оппозиции — рациональность — иррациональность, сдержанность — буйство — отныне образуют в поэзии Мандельштама противоречивое единство немецкой культуры. Причем всякая попытка обуздать дионисийскую стихию приводит к еще большему взрыву этой необузданности и бешенства.
1.3. Образ Германии в «военных» стихах 1914–1916 годов
1.3.1. Эстетизация войны в стихотворении «Немецкая каска»
Во второй половине 1914 года Мандельштам пишет ряд стихотворений, в которых касается событий Первой мировой войны. Это стихотворения «Европа», «Немецкая каска», «Polacy!», «Реймс и Кельн», «Перед войной» и уже упомянутое «В белом раю лежит богатырь…». Начало мировой войны Мандельштам встретил стихотворением «Европа»:
Европа цезарей! С тех пор, как в Бонапарта Гусиное перо направил Меттерних, — Впервые за сто лет и на глазах моих Меняется твоя таинственная карта! («Европа», I, 106)Актуальные события у Мандельштама предстают в свете событий столетней давности — в 1815 году карта Европы перекраивалась усилиями Священного союза России, Пруссии и Австрии, созданного не в последнюю очередь благодаря интригам князя фон Меттерниха. Если в «Европе» Мандельштам представил начало мировой войны концом посленаполеоновской эпохи, то в стихотворении «Polacy!» уже звучат патриотически-пропагандистские нотки: поэт упрекает Польшу в том, что она опирается на «Габсбургов костыль» (I, 108), намекая на создание стрелковых дружин Пилсудского под покровительством Австрии.
Из военных стихов 1914 года два — «Немецкая каска» и «Реймс и Кельн» — имеют прямое отношение к теме нашего исследования. В стихотворении «Немецкая каска» нашли отражение сводки с полей военных действий. Во второй половине 1914 года главные бои проходили на территории, поделенной между тремя империями Польши, в том числе и под Познанью:
1 Немецкая каска, священный трофей, 2 Лежит на камине в гостиной твоей. 3 Дотронься, она как игрушка легка; 4 Пронизана воздухом медь шишака… 5 В Познани и в Польше не всем воевать, — 6 Своими глазами врага увидать — 7 И, слушая ядер губительный хор, 8 Сорвать с неприятеля гордый убор! 9 Нам только взглянуть на блестящую медь 10 И вспомнить о тех, кто готов умереть! («Немецкая каска»; 1995: 341)Военный трофей, который рассматривает герой стихотворения[75], наводит его на размышления о том, что «не всем» дано «воевать» (ст.5): герою стихотворения хотелось бы участвовать в войне, но он не может и поэтому завидует тем, кто на фронте. Зависть пробуждает фантазию. Мандельштам не столько воспевает войну, сколько играет в нее, эстетизируя свое гипотетическое геройство. Немецкая каска метонимически олицетворяет немецкую армию: каска, как «игрушка», «легка» (ст. 3–4), и победа над врагом легка и осязаема, она у нас в руках. При этом поэт допускает двоякое прочтение образа пронизанного воздухом шишака: каска или легка сама по себе и потому «пронизана воздухом», или имеется в виду отверстие от снаряда или пули, которые убили носившего каску солдата.
Артиллерийский обстрел назван «хором» («ядер губительный хор» — ст. 7), что вызывает ассоциации с театральным и церковным хорами. Героизм войны заключается в том, чтобы сорвать «с неприятеля» «гордый убор» (ст. 8). Характерно для мандельштамовской «игры в войну» старомодное и освященное военной лирикой XIX века слово «неприятель» (ст. 8), сменяющее слово «враг» (ст. 6). Каске дается архаическое название «гордый убор» (ст. 8). Линия фронта превращается в театральную сцену, при этом реализуется устоявшаяся метафора «театра военных действий». Трагедия войны театрализуется.
Вероятно, среди подтекстов стихотворения — пушкинское переложение из Мицкевича «Сто лет минуло, как тевтон…», в котором описывается противостояние литовских и немецких войск на Немане; «шишак» у Пушкина — атрибут «недругов» немцев (Пушкин 1957: III, 54). По нашему предположению, цепочка мандельштамовских интертекстуальных ассоциаций была такова: война с немцами — литовцы-немцы — певец Литвы, поляк Мицкевич — военные действия в Польше. За счет пушкинского подтекста «Немецкая каска» получает еще более литературно-эстетский характер, дополнительно работающий на театрализацию.
Образ трофейной каски в стихотворении Мандельштама одновременно и пропагандистский. Религиозно окрашенный газетный пафос проявляется уже в первом стихе: немецкая каска — трофей «священный» (ст. 1), перекликающийся с общенародным пафосом «священной войны». Как пропагандистский прием воспринимается и концовка стихотворения с призывом «вспомнить о тех, кто готов умереть» (ст. 10). Не случайно стихотворение было опубликовано в газете «Биржевые новости» (5.10.1914).
В 1914 году вместе со многими представителями творческой интеллигенции Мандельштам переживает восторг по поводу разразившейся войны. По свидетельству друга поэта С. Каблукова (цит. по Мандельштам 1990а: 249), в декабре 1914 года Мандельштам поехал в Варшаву в надежде попасть на фронт санитаром. Стихотворение «Немецкая каска» документирует эту первую, эйфорическую, фазу восприятия Мандельштамом событий мировой войны — или, перефразируя самого поэта в «Шуме времени» (II, 349), вспышку «ребяческого милитаризма».
Мандельштам, оправдываясь, говорил И. Одоевцевой, что написал это стихотворение «для денег» (1988: 270). Мы не знаем, насколько сведения Одоевцевой достоверны — само стихотворение она процитировала по памяти с большими ошибками. В любом случае, из ее слов можно заключить, что Мандельштам непосредственно после публикации дистанцировался от «Немецкой каски», скорее всего будучи недоволен как поэтическими достоинствами стихотворения, так и его идеологичностью.
1.3.2. Оппозиция «немецкая культура — германская военщина» в стихотворении «Реймс и Кельн»
Если в «Немецкой каске» нашли свое отражение фронтовые сводки из Польши, то в основу стихотворения «Реймс и Кельн» легло полученное в сентябре 1914 года известие о том, что при взятии Реймса немецкие войска в результате планомерных бомбардировок разрушили знаменитый Реймсский собор[76]:
1 [Шатались башни, колокол звучал 2 Друг горожан, окрестностей отрада 3 Епископ все молитвы прочитал — 4 И рухнула священная громада. 5 Здесь нужен Роланд, чтоб трубить из рога, 6 Пока не разорвется Олифан. 7 Нельзя судить бессмысленный таран, — 8 Или германцев, позабывших бога.] 9 Но в старом Кёльне тоже есть собор, 10 Неконченный и все-таки прекрасный, 11 И хоть один священник беспристрастный, 12 И в дивной целости стрельчатый бор; 13 Он потрясен чудовищным набатом, 14 И в грозный час, когда густеет мгла, 15 Немецкие поют колокола: 16 «Что сотворили вы над реймсским братом?» («Реймс и Кельн», 1995: 340, 510)В первой строфе чернового варианта (1995: 510), впоследствии сокращенного автором, описываются последние минуты перед разрушением Реймсского собора: шатаются башни, звонит колокол (ст. 1), реймсский епископ читает молитвы (ст. 2–3). Во второй строфе упоминаются персонажи из старофранцузского эпоса. Песнь о Роланде, как и Реймсский собор, в котором короновались французские короли, — символы французской культуры. В первом стихе звонил колокол, теперь что есть мочи трубит рог Роланда (ст. 5–6). Это не только крик отчаяния, но и боевой клич (Олифан). Культура в опасности и нуждается в безотлагательной помощи. Разрушительная сила войны бессмысленна, поэтому «нельзя судить бессмысленный таран, — / Или германцев, позабывших бога» (ст. 7–8). «Бессмысленному тарану» войны противостоит «дивная цельность» «прекрасного» собора — горизонтальное, плоское, бессмысленное разрушает смысловую вертикаль собора.
Германцев «нельзя судить», потому что они сотворили свое преступление в состоянии аффекта, временного помешательства[77]. Разрушение собора — покушение на святое: германцы позабыли Бога (ст. 8). По мнению Левинтона (2001: 207), эту фразу «можно понять и так, что германцы и в самом деле забыли Бога (ср. девиз Gott mit uns), но не подлежат суду как тупое орудие, и так, что это косвенная или не собственно прямая речь, опровергаемая в тексте». Мандельштам полемизирует с обвинителями немецкого милитаризма, используя при этом штампы антигерманской пропаганды. По логике обвинения, весь гнев должен теперь обрушиться на «германцев» как на врагов культуры. Тем неожиданнее смысловой поворот в начале третьей строфы, обозначенный противительным союзом «но»: две последние строфы противопоставляются двум первым.
Древность Кельнского собора указывает на его принадлежность единому культурному прошлому Европы: Реймс и Кельн связываются («тоже есть собор»: ст. 9). Кельнский собор до конца построен не был и на протяжении веков достраивался, поэтому он «неконченный» (ст. 10). Но и в своей незаконченности он «прекрасен» (ст. 10). Красота собора заставляет предположить, что в Германии есть люди, помнящие о единстве романо-германской культуры и потому способные на беспристрастное толкование произошедшей в Реймсе трагедии («священник беспристрастный»: ст. 11). Целостность Кельнского собора (ст. 12) напоминает о разрушении Реймсского.
В четвертой строфе показан размах совершившейся трагедии. Кельнский собор и его колокола персонифицируются: собор, как человек, оказывается «потрясен» (ст. 13). Речь не только о физическом сотрясении здания от звона колоколов, заставляющего вспомнить сотрясение Реймсского собора во время обстрела, но и душевное потрясение. Сотрясена может быть постройка, потрясен — только человек. Произошло нечто чудовищное («чудовищный набат»: ст. 13)[78], над Европой «густеет мгла» (ст. 14) (перефразированное выражение «тучи сгустились»).
В последнем стихе звучит голос немецких колоколов Кельнского собора, который называет Реймсский собор своим братом. В заданном колоколами риторическом вопросе не случайно употреблено местоимение «вы» (ст. 16): не «мы», а «вы» сотворили. Тем самым Кельнский собор, представляющий немецкую культуру, демонстрирует свою невиновность в убийстве реймсского брата. Параллелизм фигур реймсского епископа и беспристрастного кельнского священника подчеркивает родство обоих соборов.
Для обозначения национальной принадлежности тех, кто разрушил Реймс, и для колоколов Кельна Мандельштам применяет два различных слова (Нерлер 1995:180): «германцам», позабывшим Бога, противопоставляются «немецкие» колокола. Реймсский собор разрушают именно «германцы»: в 1914 году говорили о германской войне, о войне с германцем, о германском фронте. Более или менее нейтральное прилагательное «немецкий» стоит в контексте этого стихотворения в оппозиции к идеологически нагруженному «германцы». Таким образом, посредством лексического размежевания Мандельштам отделяет немецкую культуру от германской «военщины».
По ходу стихотворения религиозно-церковный элемент в стихотворении нарастает: реймсский «епископ» читает последнюю «молитву» (ст. 3), громада собора — «священная» (ст. 4), германцы позабыли «Бога» (ст. 8), в Кельне тоже есть «священник» (ст. 11). Образ церковных колоколов появляется в начале стихотворения и затем предваряет высказывание-вопрошание последнего стиха. В нем религиозная окрашенность мандельштамовского пафоса достигает своей кульминации уже не благодаря тому, что здесь больше религиозно-церковной лексики, а через прямые библейские реминисценции, например, к словам Христа: «они не ведают, что творят» (Лк. 23: 34). Как и палачи Христа, «германцы» творят зло в неведении. Для лирического героя это служит дополнительным аргументом в пользу того, что их «нельзя судить».
Но еще более существенной для понимания стихотворения оказывается ветхозаветная история братоубийства: «И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю, разве я сторож брату моему? И сказал: что ты сотворил? Голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли» (Быт. 4, 9–10). Лексическо-семантическая перекличка мандельштамовского текста с библейским очевидна, но важны и различия: Бог гневается на Каина за убийство брата, а в стихотворении Мандельштама Кельнский собор сам спрашивает о происшедшем. Кельнский собор, таким образом, оказывается не Каином, а «голосом крови» своего брата — Реймса; Кельн не отождествляется с разрушителями-германцами, а противопоставляется им, выполняя сакральную функцию спроса за грех[79]. Примечательно различие в применении эпитета «священный» в «Немецкой каске» и в «Реймсе и Кельне». Если в первом случае метонимически сакрализуется сама война (немецкая каска названа «священным трофеем»), то во втором — «священной» оказывается «громада» Реймсского собора, то есть культура, которую разрушает война.
Чтобы понять, почему Мандельштам воспринял весть о разрушении Реймсского собора не просто как акт вандализма, а как личную трагедию, кратко скажем о его концепции готики. В предвоенные годы поэт интенсивно занимался эстетикой готики и частично на основе «готических» штудий формировал свою поэтику[80]. Впервые готика попала в поэтическое поле зрения Мандельштама в 1912 году, в стихотворении «Я ненавижу свет…». «Башня стрельчатая» из этого стихотворения (I, 71) стала прообразом «стрельчатого бора» в «Реймсе и Кельне». Как уже говорилось, с эстетикой готики Мандельштам в «Утре акмеизма» связывал музыку Баха. В «Notre Dame», самом «готическом» стихотворении Мандельштама, впервые появляется сравнение собора с лесом: «непостижимый лес» (I, 80). В «Реймсе и Кельне» использован синоним слова «лес» — «бор» (ст. 12). В программном «Notre Dame» готика выступает поэтологическим императивом: как некогда средневековые мастера при создании прекрасного готического собора, так «и я когда-нибудь прекрасное создам…» (I, 80). В «Реймсе и Кельне» красота, прекрасное — как раз то, что объединяет два собора («в Кельне… тоже есть собор… прекрасный»). Соборы для Мандельштама не привязаны к определенной национальности и конфессии. В «Notre Dame» описанию собора предшествует рассказ об истории его возникновения на месте бывшего римского судилища. Собор объединяет «три культуры: кельтскую („чужой народ“), римскую… и христианскую» (Гаспаров 2001b: 266)[81]. Для нас важно, что собор для Мандельштама, с одной стороны, явление не только духовное, но и социальное, с другой — имеющее супернациональное и супер-конфессиональное значение.
Для Мандельштама готические соборы, будучи достоянием всего человечества, не только вбирают в себя культурную память Европы, но одновременно служат поэтическим посланием. В этом свете становится яснее, почему так болезненно Мандельштам воспринял весть о разрушении Реймсского собора, и тем очевиднее проявляется контраст в восприятии войны в «Немецкой каске» и «Реймсе и Кельне». Пока Мандельштам просто заигрывал с патриотическим воодушевлением, получалась эстетизация войны, «игра в войну». Но как только война в виде разрушенного готического собора в Реймсе эмоционально затронула его культурософские и поэтологические устои, всякая театральность тона исчезла. Играющего юношу, мечтающего о боевых подвигах («Немецкая каска»), сменил поэт культуры, до глубины души потрясенный разрушительным действием войны.
Позиция Мандельштама не антинемецкая, а антивоенная, поэт не противопоставляет Реймс Кельну, французскую культуру — немецкой. Союз и в заглавии стихотворения («Реймс и Кельн») играет роль соединительного союза, а не разъединяет эти понятия. Таким образом, позиция Мандельштама принципиально отличается от выступлений в печати по поводу разрушения Реймса. Так, В. И. Немирович-Данченко, чья позиция репрезентативна для авторов 40-го номера «Нивы», проклинает Германию, которая когда-то была «великой страной», и, пристыживая немцев, говорит, что «мы пощадим Кельнский собор» (цит. по: Мандельштам 1990b: I, 580). Режиссер косвенно причисляет Кельнский собор и всю немецкую культуру к соучастникам злодеяния в Реймсе. Напротив, для Мандельштама немецкая культура и германская военная машина выступают антиподами. Лексическое разделение «немецкого» и «германского» обнажает оксюморонность семантического поля «немецкого».
При публикации стихотворения «Реймс и Кельн» были отброшены две первые строфы, в которых идет речь о разрушении собора и звучит призыв не судить преступников. Перед союзом но, таким образом, появлялось многоточие, указывающее на то, что высказыванию уже что-то предшествовало. Это многоточие, как и косвенная ссылка на разрушенный во Франции собор («Но в старом Кельне тоже есть собор»), должно было еще больше актуализировать в сознании читателя первую реакцию ужаса при получении известия о разрушении Реймса, нежели присутствовавшая в отброшенной первой строфе ретроспектива случившегося. Поэт начинал не с того, что читателю и так известно, а с изложения своей неоднозначной позиции по отношению к случившемуся.
Исчезновение первых двух строф привело к утрате оппозиции германцы — немецкие колокола. Но противопоставление немецкой культуры германской военщине, выраженное отстраненным местоимением «вы», осталось. Если в первом варианте разрушение Реймса было трагедией французской или, если шире, романской культуры («Песнь о Роланде»), то в сокращенной версии случившаяся трагедия получала не узконациональный, а общеевропейский характер. Призыв «не судить» выглядел слишком морализирующим, а последняя строка второй строфы (про «германцев, позабывших Бога») — идеологизированной. Драматизация деталей (как в первой строфе отброшенного черновика) только стушевывала, а отсылка к образу Роландова олифана слишком литературизировала всю трагедию произошедшего.
1.3.3. Формула германо-славянского единства в оде миру «Зверинец»
Зимой 1915/16 года Мандельштам много общается с М. Цветаевой. В январе 1916 года он присутствовал на поэтическом вечере в Петрограде, на котором Цветаева, впоследствии описавшая атмосферу этого вечера в эссе «Нездешний вечер», прочитала свои стихи «Германии» («Ты миру отдана на травлю…») и «Я знаю правду! Все прежние правды — прочь…». Судя по всему, Мандельштама впечатлили откровенно вызывающая германофильская позиция Цветаевой («Германии») и ее призыв к поэтам вспомнить и понять, что «не надо людям с людьми на земле бороться» («Я знаю правду…»). Антивоенный пафос, нашедший свое отражение в стихотворении «Реймс и Кельн», указывает на внутреннюю готовность Мандельштама последовать призыву Цветаевой. Через несколько дней Мандельштам, под впечатлением цветаевского чтения, написал «миротворческую» оду «Зверинец»:
1 Отверженное слово «мир» 2 В начале оскорбленной эры; 3 Светильник в глубине пещеры 4 И воздух горных стран — эфир; 5 Эфир, которым не сумели, 6 Не захотели мы дышать. 7 Козлиным голосом, опять, 8 Поют косматые свирели. 9 Пока ягнята и волы 10 На тучных пастбищах водились 11 И дружелюбные садились 12 На плечи сонных скал орлы, — 13 Германец выкормил орла, 14 И лев британцу покорился, 15 И галльский гребень появился 16 Из петушиного хохла. 17 А ныне завладел дикарь 18 Священной палицей Геракла, 19 И черная земля иссякла, 20 Неблагодарная, как встарь. 21 Я палочку возьму сухую, 22 Огонь добуду из нее, 23 Пускай уходит в ночь глухую 24 Мной всполошенное зверье! 25 Петух и лев, широкохмурый 26 Орел и ласковый медведь — 27 Мы для войны построим клеть, 28 Звериные пригреем шкуры. 29 А я пою вино времен — 30 Источник речи италийской — 31 И, в колыбели праарийской, 32 Славянский и германский лён! 33 Италия, тебе не лень 34 Тревожить Рима колесницы, 35 С кудахтаньем домашней птицы 36 Перелетев через плетень? 37 И ты, соседка, не взыщи, — 38 Орел топорщится и злится: 39 Что, если для твоей пращи 40 Холодный камень не годится? 41 В зверинце заперев зверей, 42 Мы успокоимся надолго, 43 И станет полноводней Волга, 44 И рейнская струя светлей — 45 И умудренный человек 46 Почтит невольно чужестранца, 47 Как полубога, буйством танца 48 На берегах великих рек. («Зверинец»; 1995: 132–133)Опубликовать оду поэт смог лишь в июне 1917 года, то есть после того, как прекратила свое действие военная цензура. Сходная судьба постигла антивоенную поэму Маяковского «Война и мир», также написанную в 1916 году, но напечатанную, и то фрагментарно, только после Февральской революции.
«Зверинец» неоднократно становился предметом довольно подробных разысканий в мандельштамоведческой литературе[82], поэтому мы сделаем лишь кое-какие дополнения к уже высказанным идеям и сфокусируем внимание на немецкой тематике в этом стихотворении. «Зверинец» — окончательное название, ему предшествовали другие заголовки и подзаголовки, так или иначе связанные с жанровой принадлежностью текста: «Ода миру во время войны», «Ода миру», «Ода воюющим державам», «Мир» (ода), «Дифирамб миру» (Мандельштам 1990b: I, 473). В 1916 году отмечалось столетие со дня смерти Г. Державина — возможно, это обстоятельство также повлияло на выбор жанра оды (Мец 1995: 542). Актуальность державинских интересов и самосравнений для Мандельштама периода создания «Зверинца» косвенно подтверждается и тем, что в стихах Цветаевой 1916 года, обращенных к Мандельштаму, поэт назван «молодым Державиным» (1994:1, 252)[83]. По всей вероятности, Мандельштам посвятил Цветаеву в свои державинские увлечения.
Поэт призывает воюющие стороны к миру. Жанр оды идеально соответствовал характеру призыва-воззвания. Он же обязывал к торжественной интонации и высокой лексике. Одический опыт у Мандельштама уже был: в «Оде Бетховену» поэт воспел упоительно-разгульный восторг дионисийства. В «Зверинце» ему предстояло, осудив упоение войной, воспеть мир.
Лирическое действие происходит в измерении аллегорически-мифологическом. Поэт живописует предвоенную идиллию (ст. 9–12). Источников идиллической образности у Мандельштама было предостаточно. В связи с нашей темой укажем лишь на некоторое сходство зачина «Зверинца» с берлиозовским описанием Шестой Пасторальной симфонии Бетховена в книге Корганова, которая стимулировала многочисленные сюжетно-образные ходы «Оды Бетховену». Берлиоз так представляет зрительный ряд Пасторальной симфонии: беспечно бродящие пастухи со своими стадами, веяние утреннего зефира, «глубокий покой всего живущего», самолюбование природы (Корганов 1909а: 223). Одна ода («Зверинец») вызвала в поэтической памяти Мандельштама другую, бетховенскую, подтекстуальной подготовкой к которой было чтение биографии Бетховена. Теперь не израсходованный в «Оде Бетховену» запас метонимически — по жанру — выходит на поверхность.
Война разрушает предвоенную идиллию. Страны-участницы войны не сумели и не захотели дышать «эфиром» (ст. 4–6)[84]. Кажется, что Мандельштам поправляется: сначала «не сумели», потом «не захотели». Но эта поправка — скорее оксюморонная добавка: предвоенная Европа была обречена на войну (пассивная позиция) и в то же самое время сознательно не захотела оставаться в мире (активная позиция). Таким образом, начало войны — рок Европы, спровоцированный ее волей к роковому.
Вызывая воспоминания об идиллии первозданного мира, Мандельштам пользуется пасторальными образами, тем самым активируя память жанра — идиллии как поэтического произведения, рисующего безмятежную жизнь на лоне природы, и, в переносном смысле, как мирное счастливое состояние. Но возникают силы, призванные разрушить буколический рай (ст. 13–16). При аллегорическом описании разрушительных сил войны Мандельштам прибегает к традиционным геральдическим символам европейских стран (Мец 1995: 542): медведь олицетворяет Россию (ст. 26), лев — Англию (ст. 14, 25), петух — Францию (ст. 15, 25), орел — Германию (ст. 13, 26, 38): «германец выкормил орла» (ст. 13). При этом поэт избирает идеологизированное обозначение «германец». Звери, ставшие символами той или иной страны, получают у Мандельштама «оксюморонные» эпитеты (ср. Ronen 1983: 21): «дружелюбные орлы» (ст. 11–12), «ласковый медведь» (ст. 26), косвенно разрушая негативный ореол идеологизированных геральдических штампов. Таким образом, оксюморонизация работает не только на драматизацию высказывания, но и на его «разрядку». На идейном уровне текста драматизация призвана эмоционально усилить ощущение серьезности происходящей трагедии, а «оксюморонная разрядка» — «смягчить нравы» и подготовить само воззвание к миру: русский медведь по природе своей ласков, а орлы (германский, австрийский и русский) — дружелюбны; их вражда — роковое недоразумение. В своей «европософии» Мандельштам не исходит из отдельно взятой национальной перспективы: идея Европы как идея плюралистического единства является общим структурирующим знаменателем, доминантой, организующей отдельные европейские культуры в единое культурно-историческое целое. Причем именно эта императивная европейская целостность и подчеркивает особенности частного: отказ от идеи Европы оборачивается изменой самому себе, своему национальному своеобразию.
Образы геральдических зверей, с одной стороны, противостоят образам зверей буколических (ягнята и волы: ст. 9), а с другой стороны — смешиваются с ними. «Козлиным голосом» (ст. 7) трагедии поющие «косматые свирели» (ст. 8) еще больше мифологизируют «животный мир» стихотворения (козлы-сатиры из свиты Диониса). Обилие мифологических, а также геральдически-пасторальных животных мотивов, объявленное уже в названии оды («Зверинец»), придает стихотворению басенный характер. Одический пафос мира принимает дидактическую басенную окраску. Басенная улыбка, юмор должны сбить не торжественную важность произнесенного, а патетическую температуру оды.
Мандельштамовский «зоологический» юмор горек: антропоморфность зверей косвенно указывает на озверение человека. Необходимость примирения между одичавшими, «озверевшими» европейскими народами очевидна. Зверье должно уйти «в ночь глухую» (ст. 23) или быть заперто «в клеть» (ст. 27). В гимническом пассаже следующего четверостишия (ст. 29–32) Мандельштам формулирует свое поэтическое кредо и одновременно указывает на возможный источник мира. Союз а маркирует эту смену перспективы: «А я пою вино времен — / Источник речи италийской — / И, в колыбели праарийской, / Славянский и германский лен!» Вино времен, которое воспевает поэт (ст. 29), — протоисточник романской, германской и славянской культур. У стран-участниц войны — единое происхождение. Акцентируя внимание на культурно-языковом родстве европейских народов, Мандельштам косвенно обнажает метафору «братоубийственной войны». Поэт использует историко-культурные и лингвистические аргументы. В творчестве самого Мандельштама тема братоубийственности войны европейских культур присутствовала в стихотворении «Реймс и Кельн» с его библейским подтекстом истории о Каине и Авеле.
В оформлении своей культурно-лингвистической риторики Мандельштам пользуется, с одной стороны, славянскими этимологемами: воспевая «вино времен» (ст. 29), поэт актуализирует одну из самых «широко распространенных славянских парономазий — …сближение глаголов… пить и петь» (Якобсон 1987: 35): пою — пью «вино времен». А в сочетании «источник речи» (ст. 30) обыгрывается сходное звучание слов «река» и «речь». С другой стороны, поэт обращается к метафорическому потенциалу «колыбели» (ст. 31) — образу мира и детской невинности, а по мнению Бройда (Broyde 1975: 19), и к топосу прародины народов.
Образ «славянского и германского льна» М. Цветаева назвала «гениальной формулой нашего с Германией отродясь и навек союза» (1994: IV, 213). «Гениальной» могла показаться Цветаевой находка образа «льна». Лен произрастает главным образом в Северной Европе. Из семян льна делают масло, а из стеблей — прядильное волокно. Так же называется и ткань, из которой делали одежды народы Северной и Восточной Европы. Таким образом, в сознании читателя возникал не только «почвенный» образ льна как растительной культуры германцев и славян, но и образ самих носителей льняных одежд. Льняная ткань не такая изящная и мягкая, как шелк или хлопок; вполне возможно, что лен у Мандельштама олицетворяет суровую простоту, которая воспринималась как со-природная натуре германских и славянских культур.
Поэт в своем воспевании «вина времен» избегает обозначений конкретных наций. Тем самым преодолевается национальный характер войны и выделяется общее, донациональное происхождение и культурно-языковое единство Европы. Прилагательное «германский» в соседстве с другими этнолингвистическими обозначениями (италийский, праарийский, славянский) утрачивает негативную окраску и реабилитируется в своем культурно-языковом значении.
Теперь, после того как обоснование возможного мира найдено, можно и обратиться к воюющим сторонам с мирным призывом: «И ты, соседка, не взыщи, — / Орел топорщится и злится» (ст. 37–38). Геральдический символ Германии помещается в наглядный реалистический контекст: «орел топорщится и злится». Цель мандельштамовского приема — не десимволизация орла, а снижение связанной и привязанной к геральдике патетики при помощи конкретизации образа. Действия символического германского орла выглядят смешными. Игровое, почти фамильярное обращение «соседка» (ст. 37) также работает на понижение патетики и представляет военную ситуацию как склоку между соседями. Бройд считает, что «соседка» — не Германия, а Польша (Broyde 1975: 23–26). Аргументы в пользу «польской» версии таковы: не так давно было написано стихотворение «Polacy!» (1914), продолжающее традицию стихов «На взятие Варшавы» и «Как дочь родную на закланье…» Тютчева, где, в частности, есть: «Ты (Польша. — Г.К.) пал, орел одноплеменный» (Тютчев 2002:1, 146). Но «одноплеменность» означает родство, а не соседство. К тому же «немецкие» аргументы, как нам кажется, перевешивают: в одном из вариантов вместо «И ты, соседка, не взыщи» стоит «И ты, германец, не ропщи» (Мандельштам 1995: 455). Кроме того, Польша в 1914 году была не соседкой России, а ее частью.
Мандельштам показывает карикатурность ситуации, но движет им не желание создать злую сатиру на происходящее, а предположение, что, только вызвав у читателя улыбку, можно затем заговорить о серьезных проблемах, которые поднимаются в риторическом вопросе: «Что, если для твоей пращи / Тяжелый камень не годится?» (ст. 39–40). Камень, который берет Германия для своей пращи, — тяжелый. Нельзя забывать, какую важную роль играла семантика камня для автора «Камня». По Мандельштаму, в готической архитектуре камень, превращаясь под рукой мастера в часть архитектонического целого, теряет свою тяжесть и становится легким[85]. В этом преобразовании тяжести в легкость и состоит главная задача и трудность работы художника. И если в камне как строительном материале тяжесть преодолевается, то в камне как оружии именно это свойство камня преобладает. Камень готического собора (например, Кельнского) участвует в создании прекрасного («Реймс и Кельн»), камень в праще — убивает. Поэтому Мандельштам советует Германии отказаться от тяжести. На правомерность сравнения камня войны с камнем поэзии у Мандельштама указывают воспоминания Е. Тагер, согласно которым на вопрос: «Быть может, нам всем следует идти на войну?» — Мандельштам в 1916 году ответил парафразой из «Зверинца»: «Я не вижу, кому это следует. Мне — не следует! Мой камень не для этой пращи» (1995: 233).
В последней строфе «Зверинца» геральдическая символика, равно как и аллегорически-басенная составляющая, отступает на задний план. Юмористическая интонация не соответствует торжественной картине будущего — воззванию к миру больше соответствуют более монументальные образы и символы: Волга (ст. 43) олицетворяет Россию, Рейн (ст. 44) — Германию[86]. Когда наступит мир, Волга «станет полноводней» (ст. 43), а Рейн — «светлей» (ст. 44). Косвенно поэт намекает на темность «рейнской струи». Если страны-участницы войны последуют мандельштамовскому призыву, Германия избавится от ненужной разрушительной тяжести и просветлеет[87]. Бессмысленной деструктивной жестокости войны Мандельштам противопоставляет творческое начало («буйство танца» — ст. 47). Истинное величие Германии и России возможно только в том случае, если обе культуры «почтят» друг друга. Картина примирения вызывает в памяти читателя образ Золотого века и возвращает его к идиллии первых строф стихотворения.
«Зверинец» содержит параллели к текстам, уже разобранным нами в рамках немецкой темы. С «Одой Бетховену» ее связывает не только общность жанра, но и конкретные лексико-семантические переклички. Так «буйство танца», которым «почтят» друг друга бывшие враги (ст. 47), отсылает к «буйному хмелю» Бетховена, в котором он приглашает мир на танец (ст. 22–24 «Оды Бетховену»). И если в стихотворении «Бах» «буйство» (трактиров) было окрашено негативно и стояло в оппозиции ликованию Баха, подчеркивая диссонирующий разрыв между миром и культурой, то, возродившись в «дионисийском» контексте творческого упоения Бетховена, буйство преображается из агрессивно-хаотического элемента в творческий и миротворческий.
Возвращаясь к цветаевскому импульсу возникновения «Зверинца», хотелось бы отметить знаменательные различия между посланиями Мандельштама и Цветаевой. Мандельштам обращается ко всем воюющим странам, Цветаева — к Германии (косвенно взывая к совести и милости ее врагов). Цветаевский аргумент в пользу мира: человек человеку — брат: «Я знаю правду! Все прежние правды — прочь! / Не надо людям с людьми на земле бороться» (Цветаева 1994: I, 245). Мандельштам конкретизирует это родство, говоря о едином происхождении европейских народов. И если Цветаева в своем послании «Германии» апеллирует к вкладу Германии в мировую культуру (Гете, Кант) и подчеркивает свою личную связь с этой страной[88], то Мандельштам, напротив, избегая общих мест и личных мотивов, ищет объективное, а не субъективное обоснование искомого мира.
Цветаева вводит в свое высказывание не просто германизмы, а сами немецкие слова вплоть до «мой Vaterland», и это во времена повальной германофобии! Позиция Цветаевой заведомо провокативная — она признается в любви к Германии в тот момент, когда практически вся Россия, от официальной пропаганды до утопических концепций Вячеслава Иванова («Россия, Англия и Азия»), охвачена антигерманскими настроениями. Мандельштаму цветаевский метод от противного был чужд, он начинает сразу с конструктивного поиска реальных историко-лингвистических предпосылок для мира. И если Маяковский передает ужасы войны волнующими душу и воображение экспрессионистскими картинами, Мандельштаму кажутся методы Цветаевой и Маяковского недостаточно действенными в силу их чрезмерной эмоциональной зараженности. Мандельштам же хочет апеллировать не к чувствам участников войны, а к их разуму: «умудренный человек» сам поймет необходимость мира.
1.4. Мотивы немецкой мифологии и истории в стихотворениях 1917–1921 годов
1.4.1. «Декабрист»
1.4.1.1. Прототипы и подтексты образа декабриста
Летом 1917 года, в период между двумя революциями, когда на германском фронте крахом заканчивается очередное наступление русских войск, а в Петрограде проходят кровопролитные демонстрации против Временного правительства, Мандельштам пишет стихотворение «Декабрист», в котором поэтически переосмысляется революционная ситуация России:
1 — Тому свидетельство языческий сенат — 2 Сии дела не умирают! 3 Он раскурил чубук и запахнул халат, 4 А рядом в шахматы играют. 5 Честолюбивый сон он променял на сруб 6 В глухом урочище Сибири, 7 И вычурный чубук у ядовитых губ, 8 Сказавших правду в скорбном мире. 9 Шумели в первый раз германские дубы. 10 Европа плакала в тенетах. 11 Квадриги черные вставали на дыбы 12 На триумфальных поворотах. 13 Бывало, голубой в стаканах пунш горит. 14 С широким шумом самовара 15 Подруга рейнская тихонько говорит, 16 Вольнолюбивая гитара. 17 — Еще волнуются живые голоса 18 О сладкой вольности гражданства! 19 Но жертвы не хотят слепые небеса: 20 Вернее труд и постоянство. 21 Всё перепуталось, и некому сказать, 22 Что, постепенно холодея, 23 Всё перепуталось, и сладко повторять: 24 Россия, Лета, Лорелея. («Декабрист»; 1995: 138)Мандельштам не впервые обращается к событиям вековой давности, чтобы понять свое время. Происходящее на его глазах он видит в исторической перспективе. Вспомним, что начало Первой мировой войны поэт понимал как конец целой эпохи, начавшейся Священным союзом (стихотворение «Европа»).
Интерес к началу XIX века у поэта не только историко-политический, но и историко-литературный. Эпоха эта ключевая для Мандельштама, «после 1837 года» (смерть Пушкина) начинается «чужое», которое поэт от себя «сознательно отделял» (II, 357): в ней жили и писали Батюшков, Пушкин, Тютчев — поэты, которым Мандельштам обязан возникновением своего поэтического мышления, поэты, воображаемый «диалог» с которыми продолжался, делаясь все более интенсивным, на протяжении всей жизни поэта. Помимо этого, влекущая Мандельштама эпоха — время культурно-исторических раздумий Чаадаева, «Философические письма» которого оказали сильнейшее воздействие на формирование мандельштамовской концепции единства мировой культуры. Обращение к декабристской теме Мандельштама происходит в контексте возрождения декабристской темы в послереволюционной прессе[89].
По мысли Мандельштама, Германия и Россия, «германский и славянский лён» («Зверинец») происходят из одного культурно-языкового источника. Единство происхождения предопределяет родство и взаимозависимость исторических судеб. Поэтому неудивительно, что при оценке и в поисках путей дальнейшего развития России поэт в стихотворении «Декабрист» целенаправленно обращается к опыту немецко-русских культурно-исторических связей. Ключевое событие первой трети XIX века — восстание декабристов проецируется на актуальные исторические события. Предысторию и последствия восстания Мандельштам в своем стихотворении связывает с русско-немецким, так называемым Рейнским походом 1813 года и волнениями, охватившими посленаполеоновскую Германию (ст. 9–16). В новогоднюю ночь 1813/14 года русско-прусские войска под предводительством Блюхера победоносно перешли через Рейн. Переправа через Рейн явилась кульминацией русско-прусской освободительной войны против Наполеона. Наряду с Лейпцигом и Ватерлоо Рейн стал одним из главных символов антинаполеоновских войн. В 1912 году в России широко отмечалась столетняя годовщина Отечественной войны, при этом огромное внимание уделялось и заграничному походу.
Культурно-историческое мышление Мандельштама — обобщающее и синтезирующее, поэтому он конструирует архетип, метаобраз декабриста. Указаний на (личность) конкретного декабриста в тексте нет. Мандельштам сознательно избегает при описании своего декабриста какой-либо исторической конкретики. Многочисленными реминисценциями он создает иную конкретику — литературную, интертекстуальную.
Иконографический подтекст стихов 3–4 — акварель Н. Бестужева 1829 года, изображающая камеру декабристов в читинском остроге (Broyde 1975: 38). На первом плане картины, запахнув халат, с длинным чубуком стоит декабрист. Слева от него двое играют в шахматы. С этим рисунком Мандельштам мог познакомиться в книге П. М. Голобачева (1906)[90]. На картинке Бестужева изображен, предположительно, декабрист М. С. Лунин, который сидел в читинском остроге как раз с 1828 по 1830 год. Лунин был участником войны двенадцатого года и Рейнского похода. После восстания 1825 года он был сослан в Сибирь. К его «Письмам из Сибири», содержащим строгий исторический и социально-политический анализ событий первой трети XIX века, могут относиться и слова о губах, «сказавших правду в скорбном мире». Фигура Лунина была чрезвычайно популярна в конце XIX — начале XX века. К тому времени уже были напечатаны воспоминания о Лунине других декабристов, он был и одним из прототипов Ставрогина в «Бесах» Достоевского[91].
В мандельштамовском декабристе можно увидеть и Чаадаевские черты. По мнению X. Роте (Rothe 1975: 105), доказательством тому может послужить сходство между строками «Декабриста» «И вычурный чубук у ядовитых губ, / Сказавших правду в скорбном мире» (ст. 8) с высказыванием Мандельштама о Чаадаеве: «У него (у Чаадаева. — Г.К.) хватило мужества сказать России в глаза страшную правду» («Петр Чаадаев», I, 196). Со своей стороны, заметим, что суждение Мандельштама из статьи «Петр Чаадаев», на которую указывает X. Роте, само по себе представляет парафразу известных слов Чаадаева в конце первого «Философического письма»: «Я должен был показаться вам желчным в отзывах о родине: однако же я сказал только правду и даже еще не всю правду» (1991: 338).
Мандельштам активно изучал труды Чаадаева с 1914 года. Объектом размышлений Чаадаева была пред- и последекабристская Россия. Чаадаев участвовал в заграничном походе русской армии, о чем Мандельштам знал из книги М. Гершензона «П. Я. Чаадаев. Жизнь и мышление»[92]. Вполне возможно, что от Чаадаева Мандельштам перенял и убежденность в «привозном» характере декабристских идей:
«…великий монарх (Александр I. — Г.К.)… провел нас победителями от края до края Европы; вернувшись домой из этого триумфального шествия по самым просвещенным странам мира, мы принесли с собой одни только дурные идеи и гибельные заблуждения, последствием которых было неизмеримое бедствие, отбросившее нас назад на полвека» (Чаадаев 1991: 330).
Отмеченную Чаадаевым причинно-следственную связь между Рейнским походом и мятежом декабристов Мандельштам тематизирует в своем стихотворении[93].
Поэт также отчасти усваивает чаадаевский тезис о невосприимчивости России к истинно прогрессивным идеям, когда привозится только дурное, а благие западные идеи на российской почве изменяются до неузнаваемости. Для нас важно, что как в самом образе декабриста, так и в медитациях об историко-культурном смысле восстания, вербализованных в «Декабристе», незримо участвует Чаадаев. Философическое письмо является подтекстом мандельштамовского стихотворения, однако самого Чаадаева, в отличие от Лунина, нельзя считать прямым прототипом мандельштамовского героя: декабристом он не являлся и в Сибирь сослан не был.
Еще один возможный подтекст «Декабриста» — стихотворение Батюшкова «Переход через Рейн 1814». Батюшков участвовал в Рейнском походе и элегически вспоминал и воссоздавал в своих стихах охваченность героическим восторгом эпохи. Вполне возможно, что некоторые образы этого стихотворения затем перешли в произведение Мандельштама. Вот важный для нас отрывок из элегии Батюшкова:
Так, здесь, под тению смоковниц и дубов, При шуме сладостном нагорных водопадов, В тени цветущих сел и градов Восторг живет еще средь избранных сынов. Здесь все питает вдохновенье… (Батюшков 1978: 321)У Батюшкова в тени дубов рождается вдохновенный восторг, у Мандельштама — «Шумели в первый раз германские дубы» (ст. 9); батюшковский «шум сладостный» преломляется в мандельштамовском «Декабристе» в «широкий шум» (ст. 14) и «сладкую вольность» (ст. 18). Бытовые детали, такие как халат и чубук (ст. 3), вызывают в памяти сатирическое стихотворение Языкова «К халату» (1823), герой которого — ироничный студент-вольнодумец преддекабристской поры. На нем «халат» и «простой чубук в его устах» (Языков 1959: 46). Мандельштамовский декабрист тоже «раскурил чубук и запахнул халат» (ст. 3).
В образе мандельштамовского декабриста Е. Г. Эткинд увидел черты Вильгельма Кюхельбекера (Эткинд 1998: 307), но, к сожалению, он не представил серьезных подтверждений этого предположения. За версию Эткинда говорит тот факт, что Кюхельбекер, будучи немцем по национальности, предпринял в 1820–1821 годах путешествие в Германию, там он встречался с многочисленными деятелями немецкой культуры, вращался в революционно настроенных кругах. В Германии Кюхельбекер пережил охватившую страну эйфорию вольности; вместе с новыми немецкими друзьями он мечтал о всеевропейской свободе, о той «сладкой вольности гражданства», которую упоминает Мандельштам. К судьбе Кюхельбекера могут относиться и слова: «Честолюбивый сон он променял на сруб / В глухом урочище Сибири» (ст. 5–6). Помимо биографических можно было бы найти и интертекстуальные переклички с мандельштамовским текстом. Среди нескольких текстов Кюхельбекера, воспевающих «сладкую вольность», есть и стихотворение «На Рейне». С мандельштамовским «Декабристом» его объединяет не только историко-мифологическая «рейнская» тематика, но и идея самопожертвования.
Тем не менее аргументы против этой версии не менее весомы: в Рейнском походе Кюхельбекер не участвовал, «правду в скорбном мире», в отличие от Лунина и Чаадаева, не говорил, а в Сибири находилось и множество других декабристов, побывавших в 1820-е годы в Германии. Таким образом, Лунин остается на сегодняшний момент единственным прототипом «Декабриста», а тексты Чаадаева, стихотворения «К халату» Языкова и «Переход через Рейн 1814» Батюшкова — его подтекстами[94].
1.4.1.2. «Россия, Лета, Лорелея…»: образ искусительницы Германии
В третьей и четвертой строфах стихотворения «Декабрист», непосредственно касающихся темы нашего исследования, можно увидеть изображение предыстории декабристского восстания. В. М. Жирмунский указывает на то, что собирательный образ эпохи создается за счет описания или упоминания характерных деталей; по словам ученого, они «воссоздают настроение освободительной войны против Наполеона и зарождающегося русского либерализма: „черные“ квадриги нового Цезаря, дубовые рощи просыпающейся Германии, „голубой пунш“ в стаканах молодых мечтателей, „вольнолюбивая гитара“ — воспоминание рейнского похода» (Жирмунский 1977: 139).
Истоки восстания нужно искать в Германии. В стихе «Шумели в первый раз германские дубы» (ст. 9) метафорически описывается настроение перемен, охватившее Германию в 1810-е годы. Не случайно и привлечение Мандельштамом «древесной» символики: с XIX века дуб, конкурируя с липой, усилиями романтиков становится новым «немецким деревом». Дуб — священное древо германского бога Донара — олицетворяет мощь и постоянство, дубовый лист — знак победы. Безусловно, Мандельштам мог и не учитывать символическую силу «шумящих дубов», опираясь на чисто метафорический потенциал образа. Важно, что он обращается к образу, которым пользовались сами германские патриотические силы в начале XIX века[95].
Но и здесь, работая с пластами эпохи ее же производными, Мандельштам опирается на тексты, написанные примерно в то же время. В числе вероятных подтекстов — стихотворение Пушкина «Сто лет минуло, как тевтон…» (1828): «Шумели рощи вековые, / Духов пристанища святые. / Символ германца…» (1957: III, 53). Стихотворение Пушкина представляет собой вольное переложение из Мицкевича, напомним, что реминисценции из него присутствуют в стихотворении «Немецкая каска». Как и у Пушкина, действие в «Декабристе» заканчивается сценой у речной переправы: у Пушкина — на Немане (с недвусмысленными аллюзиями на Тильзитский мир), у Мандельштама, говорящего о последствиях Наполеоновских войн, в предысторию которых входит Тильзит, — на берегах мифической Леты (ст. 24). Пушкинское переложение Мицкевича и мандельштамовский «Декабрист» объединяет и то, что оба стихотворения написаны на историческую тему: исторический взгляд у Мандельштама проявляется хотя бы в замечании «Шумели в первый раз германские дубы». Существенны и различия: если у Пушкина перед нами историко-летописное повествование, нарратив (все глаголы — прошедшего времени, знающий автор-рассказчик), то у Мандельштама хронология нарушается: повествование начинается после прямой речи героя и ею же заканчивается, перед нами не летопись, а синтетический историософский метароман.
Мандельштам показывает, что речь идет не только о военном союзе, но и о культурном родстве-породнении. «Подруга рейнская тихонько говорит» (ст. 15), то есть речь о дружеской беседе, разговоре в атмосфере доверительности. Подняты стаканы за всеобщую свободу — русская и немецкая культуры пьют на брудершафт. Пунш (ст. 13) олицетворяет «немецкое», «широкий шум самовара» (ст. 14) — «русское». Уже отмечалось (Гаспаров 2001b: 335), что в картинах пира-веселья Мандельштам подтекстуально синтезирует зрительные и слуховые образы из «Медного всадника»:
И блеск, и шум, и говор балов, А в час пирушки холостой Шипенье пенистых бокалов И пунша пламень голубой. (Пушкин 1957: IV, 382)От Пушкина Мандельштам берет не только стаканы-бокалы и голубой пунш, но и само звукоподражательное сгущение шипящих звуков: «пунш», «с широким шумом самовара» (ст. 13–14). Реминисцирование из «Медного всадника» глубоко мотивировано: пушкинская поэма написана в ту эпоху, которая и является объектом мандельштамовской рефлексии, при этом в центре историософской топики «Медного всадника» находятся «сенатские» события 14 декабря. Мандельштам перенимает от Пушкина и саму схему обращения к событиям столетней давности: у Пушкина — наводнение 1824 года и основание города Петром, у Мандельштама — революционная Россия 1917 года и Декабристское восстание[96]. С другой стороны, «Медный всадник» представляет собой пушкинские историософские раздумья о судьбах России, которые перекликаются с мандельштамовскими медитациями о причинах и последствиях Декабристского восстания: что это — насильственное изменение хода истории или воля истории? И придет ли возмездие, «мстительный хаос»?
Возможно, существуют подтекстуальные ходы «Декабриста» к «рейнским» стихам Языкова «Здесь горы с двух сторон стоят, как две стены…» и «Иоганнисберг», хотя нельзя утверждать этого наверняка. Скорее в мандельштамовской образно-подтекстуальной игре участвует батюшковский «Переход через Рейн» (знакомство с которым Мандельштама не подлежит сомнению), где описывается радость встречи на Рейне: «Какой чудесный пир для слуха и очей!.. / Костры над Рейном дымятся и пылают! / И чаши радости сверкают!» (Батюшков 1978: 323)[97]. Батюшков пишет свои элегические воспоминания о Рейнском походе в 1817 году, то есть до восстания. Мандельштам же переносит своего героя в ситуацию после восстания, он обращается к своим воспоминаниям из другой историко-временной перспективы: глагол «бывало» (ст. 13) не только указывает на то, что событие произошло в прошлом, но и акцентирует внимание на том, что это воспоминание. Сама же встреча на Рейне дается в историческом презенсе («горит»: ст. 13, «говорит»: ст. 15). Но уже характер этого воспоминания свидетельствует о том, что в будущем произойдет трагедия: мечты и надежды героя погибнут 14 декабря 1825 года.
«Подругой рейнской» называет Мандельштам «вольнолюбивую гитару» (ст. 15–16). Гитара в данном случае не столько модифицированная лира, сколько конкретная деталь. При первой публикации («Новая жизнь», 24 декабря 1917 года) на месте «вольнолюбивой гитары» была «сентиментальная гитара» (Мандельштам 1995: 459). Замена «сентиментальной гитары» на «вольнолюбивую», видимо, продиктована не только желанием лексически связать «вольнолюбивость» со «сладкой вольностью гражданства», но и устранить ненужные аллюзии с гитарой Ап. Григорьева, образ которого не подходит для декабристского сюжета[98]. Примечательно, что в своей книге Гершензон говорит о «вольнолюбивых надеждах» как «главном предмете разговоров и совместных чтений» Чаадаева и Пушкина и цитирует для иллюстрации пушкинские послания Чаадаеву, где ожидание вольности сравнивается с ожиданием «минуты сладкого свиданья» (Гершензон 1989:115). Конечно, прославление «сладкой вольности» — общее место всей декабристской лирики, но в случае с пушкинскими посланиями Чаадаеву мы можем быть уверены, что они стали отдаленными подтекстами Мандельштама, потому что Гершензона Мандельштам читал точно, Гершензон же связывает их с настроениями 1818–1820 годов.
«Вольнолюбивый» — ключевое слово декабристской и около-декабристской лирики. Из употреблений эпитета в «немецком» контексте стоит отметить начало второй главы «Евгения Онегина», пушкинское описание «немца» Ленского:
По имени Владимир Ленский, С душою прямо геттингенской, Красавец, в полном цвете лет, Поклонник Канта и поэт. Он из Германии туманной Привез учености плоды: Вольнолюбивые мечты. (Пушкин 1957: V, 38–39)В образе офицера, играющего на гитаре, уместнее увидеть участника войн 1812–1814 годов Дениса Давыдова, этот образ также отсылает ко всей гитарной атрибутике гусарства, которая больше соответствует контексту Наполеоновских войн. Под гитарное сопровождение пели друг другу песни немецкие и русские офицеры, отдыхая и готовясь к очередной битве.
В одном из черновиков стихотворения немецкая тема звучит еще сильнее:
«С глубокомысленной и нежною страной Нас обручило постоянство». Мерцает, как кольцо на дне реки чужой, Обетованное гражданство. (1995: 458)Постоянство связывает в этом наброске Россию с «глубокомысленной и нежною» Германией. Эпитет «глубокомысленный» применял по отношению к Германии Лермонтов: «Немцы хотя в просвещении общественном и отстали от французов… но зато глубокомысленнее французов» (1958: III, 254)[99].
Германия — невеста России. На дне Рейна будущий декабрист видит мерцание обещанного освобождения. Чужая, но духовно родственная страна — охваченная освободительной эйфорией Германия — представляется мандельштамовскому декабристу идеалом, образцом и одновременно гарантом искомого освобождения.
Образ кольца «на дне реки чужой», на дне Рейна, отсылает и к золоту Рейна из древнегерманских сказаний о Нибелунгах (ср. Ronen 1983: 89), актуализированных в культурной памяти эпохи Вагнером[100]. На золоте Рейна лежит проклятие: искомое кольцо становится источником раздора между теми, кто стремится его захватить, и приносит гибель своему обладателю. Миф о золоте Рейна Мандельштаму был очень хорошо известен. В 1909 году он послал брату открытку из Берлина, на которой была изображена терраса винного ресторана «Rheingold» в Берлине. Свою открытку Мандельштам в прилагаемом письме характеризует как «вещественное доказательство своих (Мандельштама. — Г.К.) губительных наклонностей» (IV, 14). Под «губительными наклонностями» мы понимаем не только само посещение «винного дома», но и, метафорически, вагнеровское «Золото Рейна». Уже тогда, по-видимому, Мандельштам связывал золото Рейна с мотивом гибели.
Почему Мандельштам отбросил этот вариант строфы? Может быть, ему показалось, что он повторяется, так как уже раньше он выразил идею единства России и Германии в образах шумящей Германии и русско-прусского похода, тем более что в «Зверинце» поэт уже сказал о союзе обеих культур[101]? В любом случае в окончательной редакции пятой строфы Мандельштам и его лирический герой задаются не вопросом культурно-исторического подтекста Декабристского восстания (как это было в проанализированном черновике), а вопросом его исторического смысла.
Различные интерпретации пятой строфы стали предметом дискуссии между Ст. Бройдом и М. Л. Гаспаровым. Интерпретация Бройда такова: декабристы жертвуют собой, но дело их живет дальше (Broyde 1975: 43). Бройд, однако, не учитывает, что это слова декабриста, а не рассказчика. Гаспаров (1995: 223) настаивает на противоположном толковании: жертва декабристов была тщетной, ибо вернее «труд и постоянство». К убедительной интерпретации Гаспарова хотелось бы сделать одно добавление. По нашему мнению, Мандельштам сознательно оставляет возможность разных толкований, точнее говоря, он не хочет быть однозначным: «— Еще волнуются живые голоса / О сладкой вольности гражданства! / Но жертвы не хотят слепые небеса: / Вернее труд и постоянство» (ст. 17–20). Союз «но» выражает определенное дистанцирование, отмежевание от предыдущего высказывания и усиливает следующее высказывание, получающее характер исторического приговора (наподобие тютчевского в стихотворении «14-е декабря 1825-го года»). Да, поэт говорит об отказе от декабристской жертвы, но здесь есть одно маленькое «но». Небеса, отклоняющие жертву, оказываются «слепыми». Небеса так ослеплены, что не видят и не понимают величия принесенной жертвы.
Смена перспектив, на которой построен весь «Декабрист», и пунктуация Мандельштама еще больше затемняют смысл высказывания. 19-й стих произносится лирическим героем, но после двоеточия 19-го стиха 20-й стих звучит скорее как речь «неба». «Но» и «слепые небеса» взаимоисключают друг друга. Мандельштам осознает эту свою двусмысленность, свою нерешимость высказать однозначный приговор и в следующей строфе (где вновь появляется немецкая тема) излагает это свое двусмысленное мнение.
«Все перепуталось» (ст. 21, 23): путаница, смута царит во всеобщем восприятии культурно-исторических событий — и здесь Мандельштам говорит уже и о своем времени, о 1917 годе: все перепуталось тогда, сто лет назад, и сейчас. Мандельштамовское «перепуталось» паронимически отсылает и к тому перепутью, на котором оказалась страна[102]. Опыт такого наложения-смешения в лирике поэта имелся: в стихотворении «Петербургские строфы» (1913) синтезируются исторические приметы 1820–1830-х годов (Сенатская площадь, вызывающая ассоциации с восстанием декабристов), литературный фон эпохи («Евгений Онегин» и Евгений «Медного всадника») и современность. Поэт гадает, пытаясь спрогнозировать дальнейший ход событий. Говоря о декабристском заговоре, поэт заклинает, заговаривает будущие события.
Все перепутывается у Мандельштама и на синтаксическом, и на лексико-семантическом уровне. Трудно поддается расшифровке, кто и что именно говорит. Слова «все перепуталось» — по всей вероятности, часть авторской речи, в 23-м стихе те же самые слова повисают в воздухе, ведь их «некому сказать» (ст. 21). И без того непростой синтаксис усложняется, а точнее, еще больше запутывается из-за двусмысленности инфинитивной конструкции «некому сказать». Она может означать, во-первых, что нет того, кому можно бы было сказать, что «все перепуталось», и, во-вторых, нет того, кто бы мог сказать. Синтаксически параллельны полустишия «и некому сказать» (ст. 21) и «и сладко повторять» (ст. 23), но союз «и», инициирующий этот параллелизм, ни в коей мере не облегчает понимание строфы. При первой публикации в «Новой жизни» за 24 декабря 1917 года перед «некому сказать» стоял союз «а» — «а некому сказать». Этот союз выполнял адверсативную функцию. Но в итоге Мандельштам избрал многозначный союз «и» не с намерением запутать читателя или создать иллюзию связности, а потому, что, согласно его историософской концепции мира, однозначность умалила бы всю сложность культурно-исторических судеб России и Европы. Судя по всему, тематизация «предчувствия» роковой спутанности событий 1825 и 1917 годов, а также «предчувствия» надвигающейся смуты, нашедшие свое отражение во всем логико-синтаксическом строе шестой строфы, и мотивировала отказ от вынесения однозначного приговора декабристам в предыдущей строфе.
Мандельштамовский герой и/или декабрист скрываются от нарастающего безумия в заклинании-причитании («и сладко повторять»: ст. 23). Сладость эта подхватывает ту «сладкую вольность гражданства» (ст. 18), которой опьянила Россию «вольнолюбивая» Германия (ст. 16). Немецким культурно-историческим реалиям в «Декабристе» отведена роль носителя той искомой свободы, опьянение которой на берегах Рейна соблазняет декабристов последовать своему роковому «честолюбивому» порыву. «Сладкое повторение», произнесение имен оказывается единственным действенным противоядием против наступающего хаоса и забвенья[103]. То, что будет повторено и запомнится, уже не может кануть в Лету.
В последнем стихе, который, казалось бы, должен был избавить нас от охватившей героя тревоги из-за всеобщей спутанности, перечисляются три имени собственных, которые на первый взгляд не имеют друг к другу никакого отношения: «Россия, Лета, Лорелея» (ст. 24). После синтаксических «перепутий» 21–23 стихов поэтическое высказывание смешивается, растворяется в «сладкой» фонике последнего стиха[104]. Появление этой сладости мотивировано сладким пением Лорелеи. «Лета» появилась, возможно, по ассоциации с «Летой» и «зимой дряхлеющего мира» — лейтмотивами «Сумерек» Баратынского (Баратынский 1982: 272, 274)[105]. В мотиве похолодания участвуют мотивы зимы из тютчевского стихотворения о декабристах. Еще более правдоподобен и подтекст из Гейне — строчка из стихотворения «Загробный мир» («Unterwelt») — «мне хочется напиться пуншем и Летой» («Punsch mit Lethe will ich saufen») (Heine 1912: II, 114). Мотивация гейневского подтекста — принадлежность Гейне к Германии вообще и интересующей Мандельштама эпохе в частности. Видимо, этот гейневский подтекст интертекстуально «санкционировал» появление в последнем стихе образа Лорелеи.
Стихотворение заканчивается образом Лорелеи. Лорелея — эльфическое существо, волшебная красавица, сидящая на утесе на берегах Рейна, расчесывает волосы и своим волшебным пением заманивает и топит корабли — такой предстает Лорелея в творениях Брентано, Эйхендорфа, Гейбеля и Гейне. Образ Лорелеи разрабатывался немецкими романтиками в ту же самую эпоху, на которую приходится Рейнский поход и восстание декабристов (1800–1820-е годы). И здесь, как и в образе шумящих германских дубов, Мандельштам работает с культурными пластами эпохи ее же средствами, ее же производными[106]. Сходную установку на «работу с источниками» мы уже наблюдали на примере стихотворения «Бах», где «беседа» с немецким композитором происходила частично на языке барочной «органной» образности.
В образе Лорелеи для Мандельштама важен прежде всего мотив губительного, искусительного зова, зазывания, заманивания[107]. У Гейне из-за пения Лорелеи, ее чарующе мощной мелодии рыбака-лодочника пронзает страшная боль, и волны проглатывают его вместе с кораблем. В мандельштамовском стихотворении «Сумерки свободы», написанном через несколько месяцев после «Декабриста», лирический герой оказывается в роли такого шкипера.
Корабль времени готов каждую минуту пойти ко дну, в это решающее мгновенье нужно набраться мужества, взять себя в руки, иначе — гибель, кораблекрушение, Лета.
Характерно различие между Лорелеей Мандельштама и Цветаевой в послании «Германии», процитированном нами в контексте разбора оды «Зверинец». Цветаева украшает стилизованным мотивом Лорелеи свой образ Германии. Декоративная Лорелея Цветаевой расчесывает свои кудри, как на лубочных картинках или на вкладышах немецких альманахов. Трагическо-демоническое содержание мифа остается у нее нераскрытым. Мандельштам внедряет образ Лорелеи в свое повествование как раз из-за его трагичности, вплетая его не только в мифологический, но и исторический рейнский контекст. Выстраивается метонимическая ассоциативная цепочка: декабристы — участник Рейнского похода — русско-немецкая встреча на Рейне — рейнский утес Лорелеи — Лорелея-Германия, заманивающая Россию. Роковая встреча на Рейне вызывает ассоциации с Лорелеей. Лорелея метонимически и метафорически связывается с Германией, соблазняющей, завлекающей Россию на губительный для нее путь. Рейн оборачивается Летой: обольщенная Германией-Лорелеей Россия погружается в Лету[108].
1.4.2. Оссианическая традиция и культурософская оппозиция «Север — Юг» («Когда на площадях и в тишине келейной…»)
Размышления о судьбах истории, тематизированные в «Декабристе», продолжаются в стихотворении «Когда на площадях и в тишине келейной…», написанном уже после октябрьских событий. Нарастающая историческая катастрофа принимает новые измерения: в конце 1917 года, когда написано стихотворение, последствия произошедшего сдвига становятся еще более необозримыми и фатальными, приводящими в безумное замешательство:
1 Когда на площадях и в тишине келейной 2 Мы сходим медленно с ума, 3 Холодного и чистого рейнвейна 4 Предложит нам жестокая зима. 5 В серебряном ведре нам предлагает стужа 6 Валгаллы белое вино, 7 И светлый образ северного мужа 8 Напоминает нам оно. 9 Но северные скальды грубы, 10 Не знают радостей игры, 11 И северным дружинам любы 12 Янтарь, пожары и пиры. 13 Им только снится воздух юга — 14 Чужого неба волшебство, — 15 И все-таки упрямая подруга 16 Откажется попробовать его. («Когда на площадях и в тишине келейной…»; 1995: 142–143)Мандельштам не пытается идти против течения истории. Когда-то в стихотворении 1910 года «Слух чуткий парус напрягает…» поэт уже сделал не менее значащий и решающий экзистенциально-поэтический выбор: «Твой мир, болезненный и странный, / Я принимаю, пустота!» (I, 51). В 1917 году мандельштамовское «да» по отношению к жизни и миру подвергается первому испытанию и требует подтверждения, и поэт делает свой следующий шаг — он находит в себе мужество принять кровного врага своей концепции мирового единства и культуры — полюбить безумие:
Но если эта жизнь — необходимость бреда И корабельный лес — высокие дома, — Я полюбил тебя, безрукая победа И зачумленная зима. («Кассандре», 1995: 143, 459)В стихотворении «Кассандре» Мандельштам говорит чуть ли не об исторической «необходимости бреда». И это тот Мандельштам, для которого бессмыслица и безумие противостоят не только всей его концепции мировой культуры, но и самим законам его поэтического мышления. О том, какой высокой ценой досталась поэту эта любовь, рассказывают многие стихотворения 1916–1918 годов: петропольский цикл, «Когда октябрьский нам готовил временщик…», «Сумерки свободы», посвященное Ахматовой стихотворение «Кассандре» и «Когда на площадях и в тишине келейной…».
Если в «Декабристе» «все перепуталось», то в стихотворении «Когда на площадях и в тишине келейной…» все и вся охвачены нарастающим безумием (ст. 1–2). В начале стихотворения констатируется состояние сумасшествия, охватившее как массы, так и каждого отдельного человека. В «Оде Бетховену» «монашеские кельи» еще давали «приют» «всемирной радости» (ст. 33–34). В разбираемом же стихотворении безумие — везде, на шумных «площадях и в тишине келейной» (ст. 1).
«Мы» Мандельштама (ст. 2), вбирающее в себя все поколение, вступающее в эпоху революционных смут, — на перепутье, но пора принимать решение, сделать свой исторический и поэтический выбор. В стихотворении 1916 года «Зверинец» поэт уже искал пути выхода из войны, разрушающей основы единства европейской культуры. Теперь на карту поставлена судьба самой России. В поисках оптимального и адекватного решения Мандельштам пробует, примеряет к России различные культурно-исторические возможности выхода из создавшегося тупика. Стихотворение «Когда на площадях и в тишине келейной…» и является одной из таких проб.
Развитие темы происходит в пространстве германской мифологии. Оправдание выбора «немецкого» мы находим как в упомянутом «Зверинце» (формула германо-славянского союза), так и в черновике «Декабриста»: «нас (Германию и Россию. — Г.К.) обручило постоянство». В тот критический момент, когда грозят безумие, «жестокая зима» (ст. 4) и предлагает «нам» «холодного и чистого рейнвейна» (ст. 3) — «Валгаллы белое вино» (ст. 6). Мотив предложения, завлечения, искушения, имплицитно присутствующий в сгущенной образной ткани «Декабриста», явственно обнаруживает себя в стихотворении «Когда на площадях и в тишине келейной…»: «предложит нам жестокая зима» (ст. 4), «нам предлагает стужа» (ст. 5). Дважды Мандельштам говорит о предложении вина, подчеркивая повторением настойчивость самого предложения.
Конфликт, который затем станет определяющим в стихотворении, заложен уже в оксюмороне: именно вино должно принести долгожданное отрезвление. Тот факт, что стихотворение при перво-публикации называлось «Рейнвейн» (Мец 1995: 550), подчеркивает ключевой характер образа вина. Вино в стихотворении «Когда на площадях и в тишине келейной…» имеет отчетливую германскую историко-мифологическую окраску (Рейн, Валгалла: ст. 3, 6). «Холодный и чистый рейнвейн» (ст. 3) перекликается с «влагой чистой и златой» из стихотворения Кюхельбекера «На Рейне» (1967: 147), стоящего в непосредственном подтекстуальном окружении «Декабриста». Буйный хмель дионисийского веселья имплицитно содержал мотив вина в «Оде Бетховену». В стихотворении «Когда на площадях и в тишине келейной…» у него появляется дополнительная мифологическая окраска: «рейнвейн» — это «Валгаллы белое вино» (ст.6), «старинное вино» североевропейских сказаний[109]. И если в оде «Зверинец» лирический герой «поет» «вино времен» (ст. 29), то в 1917 году ему предлагают это вино «попробовать».
По тонкому замечанию Д. Майерс (1994: 87), у Мандельштама два вина: вино как культура виноделия, «наука Эллады» — в средиземноморском контексте — и вино как «пьянящий напиток», вино германское, варварское. То же происходит и в мире культурно-литературных аллюзий Мандельштама: здесь два загробных мира — античный Элизиум и германская Валгалла, миры эти смежные, но и стоящие друг к другу в оппозиции как трагически нежное и блаженное (по связи с Островами Блаженных) и воинственно-сумасшедшее, твердое.
В связи с зимней германской твердостью обращает на себя внимание жесткая «варварская» фоника Валгаллы, наслоения лглл в сочетании с ы. При чрезмерной чувствительности к фоносемантическим нюансам в Валгалле можно расслышать паронимическую подкладку — лгать, особенно после предлагать (ст. 5): то есть в предложении Валгаллы заведомо содержится подвох. Дальнейшая возможная ослышка — спекулятивная, но оправданная германским контекстом: предлагать — немецкое vor-lügen — лгать, рассказывать заведомую ложь, диалектально омофоничное с vorliegen (ср. произношение немецкого ü как i в восточнопрусско-силезских диалектах и в польско-балтийском идише, который Мандельштам слышал и, возможно, сам использовал в детстве). Кроме того, по нашему мнению, существует связь между мотивом предложения вина у Мандельштама и немецким фразеологизмом «jemandem reinen Wein einschenken/anbieten» в значении «высказать всю правду в глаза, пусть и нелицеприятную, но проясняющую ситуацию», дословно: предлагать-наливать вино. Мандельштамовская реализация метафоры немецкого фразеологизма базируется и на омонимии rein (чистый) и Rhein (Рейн).
«Валгаллы белое вино» напоминает лирическому «мы» «светлый образ северного мужа» (ст. 7). Тот же самый эпитет «светлый» присутствует в сравнительной форме в идиллии «Зверинца»: если наступит мир, Россия-Волга станет «полноводней», а рейнская струя-Германия — «светлей» («Зверинец», ст. 43–44). Архаическое «муж» звучит у Мандельштама торжественно и возвышенно: то же самое существительное поэт использовал при характеристике греков: «ахейские мужи» в стихотворениях «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» (I, 115) и для Диониса в «Оде Бетховену» («О Дионис, как муж»: ст. 25). Усвоенный символистами немецкий, ницшеанский дискурс дионисийства работал на сближение культуро-поэтологем германского и греческого мужа[110].
С другой стороны, вино, напоминающее «светлый образ северного мужа», предлагает не кто иной, как «зима», «стужа»; ее эпитет — «жестокая» (ст. 4–5). Образ жестокой зимы пронизывает многие стихотворения Мандельштама времен революции и гражданской войны, произведения, в которых поэт формулирует свою поэтическую и гражданскую позицию по отношению к происходящему. Образ зимы становится у Мандельштама главным символом революционных и гражданских бурь. Теплый, домашний уют европейской культуры — нарушен. Наступает время холодного жесткого отрицания культуры[111].
Вполне возможно, что мотивы похолодания в сочетании с сумерками пришли в стихотворения 1917–1918 годов из «Лорелеи» Г. Гейне. В «Декабристе», где появляется гейневская Лорелея, надвигающаяся историческая катастрофа дана в образе нарастающего похолодания (ст. 22). Ближайшее контекстуальное родство — «зачумленная гиперборейская зима» из стихотворения «Кассандре»[112]. В «Сумерках свободы», хронологически и тематически прилегающих к нашему стихотворению, поэт говорит о «летейской стуже»:
Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий, Скрипучий поворот руля. Земля плывет. Мужайтесь, мужи. Как плугом, океан деля, Мы будем помнить и в летейской стуже, Что десяти небес нам стоила земля. («Сумерки свободы», I, 136)И снова, как и в «Когда на площадях и в тишине келейной…», в «Сумерках свободы» повторяется архаически-героическое «муж», на этот раз в этимологической фигуре: «Мужайтесь, мужи». Строка примечательна и с точки зрения подтекста — тютчевского стихотворения «Два голоса», с зачинами обеих частей стихотворения: «Мужайтесь, о други…» и «Мужайтесь, боритесь…» (Тютчев 2003: II, 25). В том же стихотворении Тютчева присутствуют темы «труда и тревоги», перекликающиеся с внутренней полемикой мандельштамовского «Декабриста» («труд и постоянство» vs. жертвы декабристов). Интересно и то, что словосочетание «Мужайтесь, о други…» впервые встречается у Тютчева в его переводе гердеровской «Утренней военной песни» (из книги «Нордических песен»: «Песнь скандинавских воинов»; 2002:1, 50)[113]. Вряд ли стоит приписывать Мандельштаму в данном случае столь целенаправленную интертекстуальную стратегию. Тютчевско-гердеровский подтекст — не рабочий для данного стихотворения, не смыслообразующий. Но даже такой подтекст оказывается литературно-исторически оправдан: тема мужества и мужания приходит в русскую поэзию через Гердера с его оссианическими тематизациями, которые Мандельштам также затрагивает в стихах революционных лет[114].
И вот после того, как оксюморонным образом, соблазнительно и в то же самое время настораживающе, описано предложение «зимы», поэтическое высказывание разворачивается в третьей строфе на 180 градусов. Этот поворотный момент выделяется, как и в «Декабристе», адверсативным союзом «но»: «но северные скальды грубы» (ст. 9). У северной, нордической мужественности есть своя оборотная сторона, червоточина: грубость. Свобода и грубость — составляющие образа северного мужа в оссианической поэзии. Так, в батюшковском «Переходе через Рейн» тевтонские певцы — «свободны, горды, полудики» (1978: 321), а в наполненном оссианическими мотивами стихотворении «На развалинах замка в Швеции», описывающем северную «Валкалу», северные певцы и воины — «дикие сыны и брани и свободы» (Батюшков 1978: 205). Мандельштам работает с теми же атрибутами германства, но противопоставляет их друг другу. У него грубые скальды не «знают радостей игры» (ст. 10)[115].
Д. М. Магомедова (2001:139) полагает, что истоком связи между мотивами пира и зимы в лирике Мандельштама стал монолог Вальсингама из пушкинского «Пира во время чумы». Исследовательница отмечает лексические переклички «жестокой зимы», «дружин», «пожаров» и «пиров» у Мандельштама с пушкинскими образами «могучей зимы», «дружин» и «зимнего жара пиров». В дополнение хотелось бы указать на лексико-ритмическое сходство пушкинской строки «На нас косматые дружины» (Пушкин 1957: V, 418) с мандельштамовским «Опять косматые свирели» из «Зверинца», это совпадение еще раз доказывает интертекстуальность «Пира во время чумы» для германской темы у Мандельштама. Появление мандельштамовских образов зимнего пира в пушкинском обрамлении, которое Магомедова датирует 1917 годом, оказывается, таким образом, контекстуально подготовленным одой 1916 года «Зверинец»[116].
Кроме оссианических подтекстов северной грубости можно выделить описание горцев в «Кавказском пленнике» Пушкина:
Но скучен мир однообразный Сердцам, рожденным для войны, И часто игры воли праздной Игрой жестокой смущены. (1957: IV, 117)Сходство мандельштамовских «скальдов» с пушкинскими «горцами» не только идейное (искомая вольность и мужество), но и риторико-синтаксическое (противопоставление, выделенное адверсативным «но») и лексическое (топика игры). Опора на пушкинский подтекст не случайна и историко-литературно корректна: в своей поэме «Кавказский пленник» (1820–1821) экзотику романтической поэмы Пушкин переместил со скандинавского Севера на «дикий» Кавказ[117].
Помимо пушкинско-батюшковских подтекстов, Мандельштам контекстуально опирается на свою концепцию игры, сформулированную в докладе «Скрябин и христианство»:
«…свободное и радостное подражание Христу — вот краеугольный камень христианской эстетики. Искусство не может быть жертвой, ибо она уже совершилась, не может быть искуплением, ибо мир вместе с художником уже искуплен, — что же остается? Радостное богообщение, как бы игра отца с детьми, жмурки и прятки духа!» (<Скрябин и христианство>, I, 202).
Игра для поэта — не только творческое действо, но и одна из основ христианской эстетики, радость игры — божий дар. Северным скальдам и дружинам она не знакома, поэтому они в этом смысле еще язычники. Их радость — деструктивно-гедонистической природы, поэтому она и груба. В связи с этим уместно вспомнить и о «чрезмерной радости» буйствующего Бетховена в «Оде Бетховену», и о диком «зверье» «Зверинца».
Мандельштам настойчиво подчеркивает пропасть, отделяющую Европейский Север, и в первую очередь Германию, от Юга, а Юг Мандельштама — средиземноморский мир, олицетворяющий и воплощающий в себе культуру и цивилизацию. И здесь поэт пользуется традиционной оппозицией между Севером и Югом и косвенно опирается на концепции де Сталь, ставшие столь значимыми для русского поэтического сознания начала XIX века: в том числе для Батюшкова и Тютчева[118]. В мандельштамовском разделении Севера и Юга можно усмотреть и перенос на германский мир чаадаевской идеи отлученности России от всемирной истории. В соответствии со своими эстетико-религиозными пристрастиями, дихотомию Север — Юг подхватили и переработали символисты. Так, в своих работах, опубликованных в «Золотом руне» и «Весах» за 1907–1908 годы (то есть в период мандельштамовского заочного ученичества у Вяч. Иванова), Вяч. Иванов противопоставляет эллинско-латинскому миру «чуждый» ему «по крови и языку» варварский мир германства и славянства: «Великая стихия не-эллинства, варварства, живет отдельной жизнью рядом с миром стихии эллинской» («О веселом ремесле и умном веселии»; 1994: 66). С германством и славянством Иванов связывает свои культурософско-религиозные надежды на «варварское возрождение» (1994: 66–70)[119].
Акмеисты искали и пропагандировали не только кларизм, но и адамистскую первозданную мощь мировосприятия и его поэтической реализации. Для Мандельштама была актуальна не столько культурософская трактовка адамизма, принадлежащая С. Городецкому — учение о «новой земле» и о «новом Адаме» («Некоторые течения в современной русской поэзии»; 2002: 17–20), сколько поэтологическая концепция адамизма Н. Гумилева — «мужественно твердый и ясный взгляд на жизнь» («Наследие символизма и акмеизм»; 2002: 21). В разбираемом стихотворении Мандельштам претворяет заветы адамизма в жизнь, актуализируя в памяти читателя опыт использования русской поэзией начала XIX века германо-скандинавской и оссианической темы[120]. Северные скальды — воины, но в первую очередь рапсоды, певцы Севера. Культурософская медитация Мандельштама происходит не только в историко-мифологическом измерении; появление «скальдов» намекает на то, что в стихотворении присутствует и поэтологическое вопрошание.
Знаменательно исчезновение в третьей и четвертой строфах лирического «мы», доминировавшего в первой половине стихотворения, где Мандельштам четыре раза (!) употребляет местоимения первого лица множественного числа (ср. ст. 2, 4, 5, 8). Судя по всему, к сказанному в третьей и четвертой строфах поэт не решается присоединиться. Эта позиция по-своему корреспондирует с нерешительностью при вынесении поэтом приговора декабристам в концовке «Декабриста».
Что же это за анонимный противоголос, отказывающийся от заманчивого «северного» предложения? Скорее всего, здесь мы имеем дело с так называемым advocatus diaboli, речь которого начинается с адверсативного союза «но» (ст. 9): во второй половине стихотворения Мандельштам приводит аргументы противной стороны (отлученность от Юга), сам при этом не являясь ее сторонником. «Упрямая подруга» (ст. 15), на этот раз обозначающая Россию, отсылает к «подруге рейнской» из «Декабриста». Символический образ Рейна, в котором воплощена Германия, связывает оба стихотворения. «Рейнвейн» протягивает метонимическую ниточку к мифологической сфере немецкой культуры (рейнвейн — Рейн — Валгалла), «рейнская подруга» — к исторической: рейнвейн — Рейн (или вино пиров во время русско-немецкого военного братства) — Рейнский поход — эйфория освободительного движения — восстание декабристов.
Россия отказывается от рейнвейна (ст. 16). Об этом мы, правда, узнаем лишь в последних двух стихах. Логико-синтаксически отказ должен был стоять до аргументации отказа, на что указывает частица «все-таки» (ст. 15), выражающая скрытое противопоставление. У Мандельштама же отказ «уходит» в конец стихотворения. Причиной тому может быть перепутанность, запутанность, о которой мы говорили в связи с последней строфой «Декабриста». Здесь она получает дополнительную мотивировку. Предложение «стужи» заманчиво, лирическое «мы», уже отказывающееся от рейнвейна, все-таки обдумывает сделанное ей предложение.
Упрямство подруги сродни тем свойствам и признакам, которыми Мандельштам уже наделял поле «немецкого»: упрям бескомпромиссный Лютер в четверостишии «Здесь я стою — я не могу иначе…», упрям в своем ликовании Бах, и даже кучер похоронной процессии в «Лютеранине» правит в даль «упрямо». Упрямство «подруги» двояко: в нем присутствуют и тупое упорство, и такое важное для Мандельштама понятие, как «сознание своей правоты» («Утро акмеизма», I, 178).
Позиция упрямой подруги напоминает рефрен оссианической «Песни Гаральда Смелого» в переложении Батюшкова: «А дева русская Гаральда презирает» (1978: 287) — несмотря на все доблести северного витязя, добивающегося любви «русской девы». В «Когда на площадях и в тишине келейной…» это «немецкое» упрямство теперь перенимает и делает своим Россия: парадокс состоит в том, что «немецкое» упрямство и должно помочь России отказаться от «германского» предложения[121].
1.4.3. Мотив скифско-германского пира в стихотворении «Кассандре»
Непосредственно после стихотворения «Когда на площадях…» Мандельштам пишет стихотворение «Кассандре». Образы скифского праздника в «Кассандре» представляют собой дальнейшую разработку мотивов пира-праздника в стихотворениях «Декабрист» и «Когда на площадях и в тишине келейной…»: роковая офицерская пирушка («Декабрист»), «янтарь, пожары и пиры» («Когда на площадях и в тишине келейной…») — грабежный праздник, «омерзительный бал» в «Кассандре»:
Когда-нибудь в столице шалой, На скифском празднике, на берегу Невы, При звуках омерзительного бала Сорвут платок с прекрасной головы… («Кассандре»; 2001: 69)Характеристики «скифства» корреспондируют с вышеразобранными характеристиками германства. Знаменательна описка-ослышка А. Ахматовой при цитировании одного из стихов «Кассандре» в мемуарах: «на диком празднике» вместо «на скифском празднике» (2001: 34). Дикость — одно из свойств, объединяющих скифство и германство в концепции Мандельштама. Такое наложение «германства» на «скифство» может показаться неудивительным в свете вышеуказанных символистских концепций германо-славянского варварства. Тем более что «славянский и германский лён» Мандельштам сам объединил в «Зверинце».
«Скифский праздник» — это еще и отсыл-выпад в сторону писательской группировки «Скифы» (А. Белый, Р. Иванов-Разумник, Н. Клюев, П. Орешин, с конца 1917 — начала 1918 А. Блоке одноименной поэмой). Близкие клевым эсерам «Скифы» на страницах газеты «Знамя труда», с которой сам Мандельштам начнет сотрудничать позже, в 1918 году, пропагандируют «духовный максимализм», «вечную революционность», «святое безумие» (ср. у Мандельштама «Но если эта жизнь — необходимость бреда»; Мандельштам 2001: 68), сдобренные эсхатологическим пафосом катастрофизма и русским мессианизмом[122]. Мандельштам в конце 1917-го — начале 1918 года еще не был готов полемизировать как со «Скифами», так и с их противниками, и только в статьях 1920-х, о которых речь впереди, он отчетливо сформулирует свое отношение к происходящим радикальным переменам. А пока Мандельштам вписывает новый старый топос «грядущего варварства» в систему своих культурософских и историко-поэтических координат. «Дружественный» пир превращается у Мандельштама в «омерзительный бал», в бесшабашный разбойничий пир варваров — своего рода осквернителей и мародеров культуры. Мандельштам сталкивает «скифский праздник» (варварское) с «берегом Невы» (Петербург, культура, цивилизация). На скифском празднике произойдет поругание культуры: «сорвут платок с прекрасной головы»[123].
Выбор «скифского» мифа вместо «германского» сделан не столько с целью русификации мифологического колорита высказывания — мы видели, как в стихотворении «Когда на площадях и в тишине келейной…» Мандельштам медитировал о судьбах страны в рамках германо-средиземноморской дихотомии. Он продиктован, с одной стороны, литературно-полемическими соображениями: выпад в сторону «Скифов», с другой стороны, вкусами адресата стихотворения. А. Ахматовой был гораздо ближе топос скифства, чем германства; вслед за Н. Гумилевым Ахматова не проявляла особого интереса к немецкой культуре. Есть и третий фактор выбора «скифства»: скифский миф символистов, «Скифов» и даже некоторых участников Цеха поэтов не был чужд для Мандельштама (ср. скифские мотивы в стихотворении «О временах простых и грубых…»). В связи с этим Е. А. Тоддес обратил внимание на «Скифские черепки» Е. Кузьминой-Караваевой (1912), отрецензированные Гумилевым (1990: 143–144) и реминисцированные у Мандельштама «чаадаевского» периода (Тоддес 1991: 33, прим. 13). Впоследствии стихотворения 1916–1921 годов будут объединены в сборник «Tristia», название которого отсылает к Овидию. Наложение «германства» на скифство обогащает историко-литературную сквозную линию «Тристий»: Овидий в Скифии (варварство) — прощание с Римом (культура)[124].
1.4.4. Синтетический сюжет немецкого романтизма в стихотворении «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа…»
1 В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа, 2 Нам пели Шуберта — родная колыбель! 3 Шумела мельница, и в песнях урагана 4 Смеялся музыки голубоглазый хмель. 5 Старинной песни мир — коричневый, зеленый, 6 Но только вечно-молодой, 7 Где соловьиных лип рокочущие кроны 8 С безумной яростью качает царь лесной. 9 И сила страшная ночного возвращенья 10 Та песня дикая, как черное вино: 11 Это двойник — пустое привиденье — 12 Бессмысленно глядит в холодное окно! (Мандельштам 1995: 144)Разбор этого стихотворения хотелось бы предварить отрывком из «Листков из дневника» А. Ахматовой:
«Особенно часто я встречалась с Мандельштамом в 1917–1918 гг… Мандельштам часто заходил за мной, и мы ехали… по ухабам революционной зимы, среди знаменитых костров… Так мы ездили на выступления в Академию Художеств, где происходили вечера в пользу раненых и где мы оба несколько раз выступали. Был со мной Осип Эмильевич на концерте Бутомо-Названовой в Консерватории, где она пела Шуберта (см. „Нам пели Шуберта“)» (Ахматова 1995: 26).
Мы приводим эти воспоминания не только для углубления биографического контекста разбираемого стихотворения, но и чтобы напомнить, что А. Ахматова, которой посвящено стихотворение «Кассандре», — незримая героиня разбираемых стихотворений 1917–1918 годов.
Первые два стиха представляют своего рода экспозицию. «В тот вечер» (ст. 1) — в отличие от другого — Мандельштам был не на органном концерте Баха[125]. «Стрельчатый лес органа» (ст.1) отсылает к «готическому», «стрельчатому» Баху. С одной стороны, Мандельштам отграничивается от своего музыкального переживания Баха, с другой — создает связь между ним и Шубертом. Стихотворение в черновиках носит название «Шуберт», по имени композитора, как и «Бах». В отличие от рационалистически-ликующего Баха, с которым Мандельштам вступает в поэтологический спор («Бах»), Шуберт вдохновляет поэта на синтетическую импровизацию по поводу мотивов его песен. И если в «Бахе» смешение речи (проповедника) и музыки (Баха) вызывало ощущение кричащей разноголосицы, то в случае Шуберта гармоничное соединение слова и музыки возвращает поэтическое слово в родную, пусть и дикую, песенную стихию, в «старинной песни мир» (ст. 5).
Шуберт, по мнению В. М. Жирмунского, метонимически представляет для Мандельштама «музыкальную стихию немецкого романтизма» (1977: 139). Мандельштам «вживается» в романтическую стихию, синтезируя мотивы и образы шубертовских песен в один метасюжет. Синтетическая работа происходит на уже частично знакомом нам интертекстуальном материале. Песни Шуберта характеризуются как «родная колыбель». В связи с этим вспоминается «праарийская колыбель» из стихотворения «Зверинец» (ст. 31). «Колыбель» рифмуется в «Шуберте» с «хмелем», ключевым словом «Оды Бетховену».
Образ шумящей мельницы заимствован из цикла В. Мюллера «Прекрасная мельничиха», переложенного на музыку Шубертом. «Ураган» — синоним бури, образ которой для романтиков ключевой. В образе урагана имплицитно присутствует метафорика поэтического вдохновения — мотив необузданной силы, неожиданно приходящей в движение. На синтаксическом уровне этот идейный образ урагана песенно-поэтического вдохновения передается с помощью трех восклицательных знаков, усиливающих эмоциональное воздействие высказывания.
«Голубоглазый хмель» (ст. 4) отсылает к «голубому пуншу» из «Декабриста» (ст. 13). Персонифицированный (смеющийся) хмель романтического вдохновения оказывается связан с пуншем из топики русско-немецкого культурно-исторического брудершафта. Лексическая перекличка «голубоглазого хмеля» с «голубым пуншем» обусловлена их принадлежностью к полю «немецкого».
Частично словосочетание «старинной песни мир» встречается у Мандельштама уже в одном из самых ранних стихотворений «О, красавица Сайма, ты лодку мою колыхала…»:
В водном плеске душа колыбельную негу слыхала, И поодаль стояли пустынные скалы, как сестры. Отовсюду звучала старинная песнь — Калевала… («О, красавица Сайма, ты лодку мою колыхала…», I, 32)Это стихотворение 1908 года также создает фольклорный романтический метасюжет северных сказаний — в данном случае финских[126]. Знаменательно не только сочетание «старинная песнь», но и родственный нашему стихотворению образ «колыбельной неги». При желании в шуме шубертовско-мюллеровской мельницы можно расслышать образное продолжение «водного плеска» мандельштамовской Калевалы, в котором «душа» слышит «колыбельную негу» старинной песни: ведь недаром образ шумящей мельницы взят из стихотворения В. Мюллера «Колыбельная песня ручья» («Des Baches Wiegenlied»). Колыбельную негу Калевалы слышит и слушает у Мандельштама «душа», главное свойство-содержание которой согласно метапоэтическому стихотворению «Отчего душа так певуча…» — «певучесть» (I, 68). В «шубертовском» стихотворении 1918 года смысловое ударение во втором стихе легко ставится над словом «петь»: «нам пели Шуберта — родная колыбель» (ст. 2). Семантическое поле «песни» — центральное для разбираемого стихотворения. Слово «песня/песнь» повторяется в каждой строфе: «песни урагана» в первой (ст. 3), «старинной песни мир» (ст. 5) во второй и «дикая песнь» (ст. 10) в третьей. То, что образ «песни» прочно связан у Мандельштама с романтизмом, подтверждает и стихотворение «Я не слыхал рассказов Оссиана…», где метаобраз макферсоновских кельтских сказаний, пропущенный через русскую скандинаво-оссианическую традицию (в первую очередь, через Батюшкова), включает в себя тему преемственности поэтического слова:
И не одно сокровище, быть может, Минуя внуков, к правнукам уйдет, И снова скальд чужую песню сложит И как свою ее произнесет. («Я не слыхал рассказов Оссиана…», I, 103)В «песне» изначально воплощено искомое романтиками соединение музыки и слова, песенная природа поэтического слова. Чужая дикая песнь возвращается через века и слагается как своя. В нашем стихотворении сила этого «ночного возвращения» характеризуется как «страшная» (ст. 9). Речь уже идет не о прямом наследии, не о преемственности от отца к сыну, а о принципе «вечного возвращения» поэтического слова. Романтическое наитие возвращает поэтическое слово в его «родную колыбель» (ст. 2).
Мир старинной песни — «коричневый», «зеленый» (ст. 5), цвета леса, деревьев. Это уже не метафорический «лес органа», а лес, который раскачивает «лесной царь» (ст. 8). Здесь мы имеем дело с (метонимическими) переходами образов. С одной стороны, в придаточном предложении, обозначенном пространственно-временным местоименным наречием «где» (ст. 7), описывается интерьер, ландшафт мира «старинной песни», с другой стороны, коричнево-зеленый цвет лип, которые раскачивает лесной царь, переходит и на сам «старинной песни мир».
Мир песни — «вечно молодой» (ст. 6). Этот эпитет отсылает как к идее вечного обращения-возвращения поэтического образа, так и к романтическому культу вечной молодости. Тему «вечной молодости» Мандельштам усиливает, используя исключительно глаголы несовершенного вида: все, о чем повествуется, длится вечно, вечно молодо. Четыре имперфекта настраивают на это временное чувство длительности происходящего в первой строфе: «гудел» (ст. 1), «пели» (ст. 2), «шумела» (ст. 3), «смеялся» (ст. 4). Два глагола в историческом презенсе придают описываемому действию-событию характер длительности: «качает» (ст. 8), «глядит» (ст. 12). На грамматическом уровне текста поэт реализует подхваченную у романтиков идиллическую идею вечной молодости.
Образ «соловьиных лип» (ст. 7) усиливает немецко-романтический колорит стихотворения. Если в «Декабристе» поэт воспользовался символикой «дубов» с их метафорическим потенциалом мощи, то в «Шуберте» Мандельштам обращается к другому «немецкому» дереву — липе, имеющему, в отличие от дуба, более лирическую окраску. В образе «соловьиных лип» синтезируется романтическая символика. Липа — самое любимое и многократно воспетое дерево немецких народных песен. Соловей — излюбленная птица лириков, символ лирического вдохновения. Немецкие романтики с их чутьем к фольклору переняли и образ певца-соловья, и образ липы, поместив их в свой «старинной песни мир».
«Лесной царь» (ст. 8) — герой гетевской баллады. У Гете лесной царь не раскачивает соловьиных лип. Но Мандельштаму при создании метасюжета не столь важно быть достоверным. Синтез предполагает сокращения и сгущения. Разрозненные мотивы переплетаются и соединяются в единый метасюжет. Безумная ярость, с которой лесной царь (не только Шуберта и Гете, но и Жуковского) раскачивает «рокочущие кроны» «соловьиных лип», заставляет вспомнить яростное исступление дионисийствующего Бетховена («Ода Бетховену»). Также образ лесного царя функционально созвучен образу Лорелеи. В обоих образах присутствует мотив губительного искусительного зова. Лесной царь, подобно Лорелее, зазывает, заманивает и убивает. У Жуковского лесной царь заманивает «золотом», «перлами», «радостями» (1980: II, 125), которые отдаленно напоминают «янтарь, пожары и пиры», которыми соблазняла мандельштамовского героя стужа Валгаллы в стихотворении «Когда на площадях и в тишине келейной…». Существенна и разница между лесным царем и Лорелеей. Если в случае Лорелеи заманиваемый кормчий борется с искушением, то от предложений лесного царя дитя испытывает страх. В своем сравнительном разборе оригинала Гете и перевода Жуковского М. Цветаева говорит о страхе гетевского ребенка перед «неопределенным — неопределимым» (1994: V, 430); если в «Декабристе» была возможность бороться с искусительным зовом, а в «Когда на площадях и в тишине келейной…» — отказаться от белого вина Валгаллы, то в образе лесного царя присутствует неотвратимость будущей гибели. Уже не сладостное искушение, а страх движет чувствами героя. Тайный и явный страх ведет к раздвоению, поэтому неслучайно в третьей строфе появляется тема двойника.
«Песня дикая» сравнивается с «черным вином» (ст. 10). Мотив вина контекстуально подключает к мандельштамовскому повествованию всю образно-смысловую нагруженность этого мотива — от вина Валгаллы («Когда на площадях и в тишине келейной…») и заговорщицкого вина-пунша декабристов и Тугендбунда («Декабрист») до «вина времен» (предваряющего формулу праарийской колыбели германского и славянского льна), которое поэт воспевает в оде «Зверинец». В разбираемом стихотворении Мандельштам «сгущает краски»: черное вино продолжает тему ночного возвращения.
Ночная чернота оттеняет лицо двойника из отброшенного эпиграфа (I, 133): оно бледнеет от ужаса («bleicher Geselle»). Романтический «двойник» имеет в нашем стихотворении отчетливо гейневские корни, тем более что, записывая это стихотворение в альбом В. Кривича, Мандельштам предпослал ему эпиграфом строчку из гейневского стихотворения «Still ist die Nacht…»: «Du, Doppelganger! du bleicher Geselle!» (Heine 1911: I, 117). При составлении мандельштамовских собраний сочинений П. М. Нерлер публикует стихотворение с эпиграфом (Мандельштам 1990b: I, 119 и 1993: I, 133), А. Г. Мец — без эпиграфа. Текстологическо-эдиционное решение Меца представляется нам более корректным. Сам Мандельштам и при первой публикации в «Ипокрене» (1918, № 2/3), и в «Tristia», и в «Стихотворениях» 1928 года печатает это стихотворение без эпиграфа. Почему же в автографе в альбоме Кривича поэт предпослал этому тексту эпиграф? В. Кривич — сын И. Анненского, автора перевода гейневского «Двойника». Таким образом, этот эпиграф — своего рода поклон Мандельштама И. Анненскому.
Мы не знаем, на каком языке «пели Шуберта», — на немецком или в русском переводе. В пользу последнего говорит тот факт, что в переводе И. Анненского присутствует мотив окна, в которое глядит мандельштамовский герой. Этот мотив отсутствует в оригинале Гейне:
Бледный товарищ, зачем обезьянить? Или со мной и тогда заодно Сердце себе приходил ты тиранить Лунною ночью под это окно? (Анненский 1923: 89) Du Doppelgänger! du bleicher Geselle! Was äffst du nach mein Liebesleid, Das mich gequält auf dieser Stelle So manche Nacht, in alter Zeit? (Heine 1911: I, 117)Конечно, Мандельштам, подтекстуально опираясь на конкретный текст Гейне, затрагивает тематику и проблематику двойничества, актуальную не только для немецкой романтики (Шамиссо, Гофман, Пауль), но и для русской литературы (Гоголь, Достоевский), в том числе и литературы, современной поэту. Гейневский текст задал тему для многочисленных импровизаций среди поэтов начала XX века: достаточно вспомнить «Книги отражений» И. Анненского (в первую очередь, «Виньетку на серой бумаге» к «Двойнику» Достоевского и «Гейне прикованный», «Двойник» и перевод из Гейне «Ночь, и давно спит закоулок…»)[127].
Последняя строка мандельштамовского стихотворения содержит реминисценцию из Е. Баратынского: «оно бессмысленно глядит» в стихотворении «На что вы, дни! Юдольный мир явленья…» (1982: 288). «Оно» — у Баратынского то ли двойник души — тело, то ли просто таинственное «Оно». Стихотворение Баратынского входит в сборник «Сумерки», на который Мандельштам подтекстуально опирается в «Сумерках свободы». Само стихотворение «На что вы, дни…» Баратынского, по-видимому, находилось среди подтекстов стихотворения «Я не слыхал рассказов Оссиана…» с его темой вечного повторения: у Баратынского «и только повторенья / Грядущее сулит» (1982: 288)[128]. Воспоминание о строках Баратынского возникло, по-видимому, по ассоциативной цепочке: Баратынский — певец Финляндии — Калевала — колыбельная песнь — романтизм.
Разбор плотной под- и контекстуальной ткани стихотворения был призван не только продемонстрировать, как тесно связаны у Мандельштама все образы и мотивы, но и показать, насколько филологическим оказывается сам принцип поэтико-ассоциативных ходов-переходов в лирике поэта. Так, метаобраз немецкого романтизма возникает не на пустом месте, а приобщается к уже созданным метасюжетам романтически-фольклорных сказаний Калевалы и Оссиана. Сам метаобраз романтизма подается при подтекстуальной опоре на переводы и вольные импровизации от Жуковского до Анненского и Блока. В. Жирмунский, иллюстрируя свою мысль о том, что у Мандельштама «старые и давно знакомые сюжеты появляются в новой и неожиданно острой синтетической обработке», говорит на примере анализируемого нами стихотворения о том, что Мандельштам, синтезируя образы песен Шуберта, создает «характерный для позднего романтизма национальный ландшафт — шум отдаленной мельницы на ручье, запах цветущих лип и песни соловья» (Жирмунский 1977: 139). Таким синтетически-контекстуальным путем Мандельштам создает свою «историю литературы», где немецкая романтическая поэзия и ее восприятие в русском поэтическом пространстве XIX–XX веков оказываются во взаимосвязи с романтической традицией других литератур Северной Европы. Сходный синтез германской, скандинавской и оссианической тем, характерный для предромантической поэзии, от Державина до Батюшкова, мы наблюдали при разборе стихотворения «Когда на площадях и в тишине келейной…». Здесь к собирательному образу преромантизма интертекстуально прибавляется мир финских сказаний.
Стихотворение «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа…» — с одной стороны, в контексте революционных стихотворений 1917–1918 годов, может быть воспринято как возврат к метасюжетным стихотворениям раннего Мандельштама (наподобие «Домби и сына»), с другой — оно открывает путь к поэтике 1930-х годов, когда поэт будет писать «метастихотворения» о русской, немецкой и итальянской поэзии[129].
1.4.5. Немецкая тема в стихотворениях 1918–1921 годов
В 1918–1922 годах присутствие немецкой темы в стихах Мандельштама ослабевает. Поэт пишет скорбные элегии о прощании со старой культурой, Петрополем и т. д.: отсюда и преобладание античных тем. Немецкие мотивы присутствуют в них маргинально. Мы ограничимся лишь несколькими случаями, теми, в которых связь с немецкой тематикой скорее имплицитна, чем эксплицитна, но не подлежит сомнению.
В июне 1918 года Мандельштам пишет «таинственное», по определению Ахматовой (1995: 27), стихотворение «Телефон», наиболее вероятно, что поводом к его написанию послужило самоубийство комиссара по перевозке войск P. Л. Чиркунова (Лекманов 2004: 76). В этом стихотворении по-новому переплетаются уже знакомые нам немецкие мотивы:
1 На этом диком страшном свете 2 Ты, друг полночных похорон, 3 В высоком строгом кабинете 4 Самоубийцы — телефон! 5 Асфальта черные озера 6 Изрыты яростью копыт, 7 И скоро будет солнце: скоро 8 Безумный петел прокричит. 9 А там дубовая Валгалла 10 И старый пиршественный сон; 11 Судьба велела, ночь решала, 12 Когда проснулся телефон. 13 Весь воздух выпили тяжелые портьеры, 14 На театральной площади темно. 15 Звонок — и закружились сферы: 16 Самоубийство решено. 17 Куда бежать от жизни гулкой, 18 От этой каменной уйти? 19 Молчи, проклятая шкатулка! 20 На дне морском цветет: прости! 21 И только голос, голос-птица 22 Летит на пиршественный сон. 23 Ты — избавленье и зарница 24 Самоубийства, телефон! («Телефон», 1995: 349)В образе «пиршественного сна» в «дубовой Валгалле» (ст. 9–10) слились мотивы из «Декабриста» и «Когда на площадях и в тишине келейной…». Сам «старый пиршественный сон» заставляет вспомнить не только демонический мир «старинной песни» из стихотворения «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа…», но и «янтарь, пожары и пиры» северных скальдов («Когда на площадях и в тишине келейной…»), пиры, отсылающие к провидческому «скифскому празднику», «омерзительному балу» в «шалой» столице, на котором будет поругана культура-Кассандра[130]. Портьеры «новой постановки» в «Телефоне» — «тяжелые» (ст. 13), потому что, как мы помним, Вагнер — тяжел и громоздок («громоздкая опера» в «Валкириях»), а в 1918 году в Большом театре ставили Вагнера (Лекманов 2004: 76). Валгалла — «дубовая» (ст. 9), потому что дуб — германское дерево («Декабрист»), «Дикий страшный свет» (ст. 1) перекликается с «шубертовским» стихотворением «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа…» («дикая песня» — «сила страшная»), «высокий строгий кабинет» (ст. 3) напоминает о тютчевской суровости-строгости.
Но что мотивировало появление именно немецкой образности в стихотворении, которое напрямую немецких тем не касается? Только лишь соседство с разобранными нами стихотворениями 1917–1918 годов? Скорее всего, само оксюморонное сочетание эпитетов дикости и строгости, которым наделено поле «немецкого», стимулировало появление образа пиршественного сна в Валгалле. Образная перекличка имеет и тематические корни: тема роковой судьбы («судьба велела»: ст. 11) получает отчасти немецкий образный антураж. Ночь («ночь решала»: ст. 11) — страшная ночь возвращения «дикой песни», та ночь, которая легла над современностью, сумерки свободы, которые сгустились над Россией и Европой, — эти образы имеют для Мандельштама отчетливую «немецкую» окраску[131].
Следующим после Шуберта музыкальным потрясением революционных лет стала для Мандельштама опера Глюка «Орфей и Эвридика», которая шла на сцене Мариинского театра в 1919–1920 годах (см. Мец 1995: 559). «Немецкая» образность присутствует в «глюковских» стихах («В Петербурге мы сойдемся снова…», «Чуть мерцает призрачная сцена…») не эксплицитно, вяло, без однозначной «немецкой» маркировки. Исключения немногочисленны: «Кучера измаялись от крика, / И храпит и дышит тьма. / Ничего, голубка Эвридика, / Что у нас студеная зима» («Чуть мерцает призрачная сцена…», I, 148). Далее в «глюковских» стихотворениях Мандельштам разрабатывает образ студеной зимы, впервые появившийся в «Декабристе» и «Когда на площадях и в тишине келейной…». В проникнутых театрально-музыкальными ассоциациями стихотворениях 1919–1920 годов вновь появляются образы кучеров в ночной зимней тьме и мотивы концовки представления, знакомые нам по «Валкириям»: «Понемногу челядь разбирает / Шуб медвежьих вороха. / В суматохе бабочка летает, / Розу кутают в меха» (I, 148). Однако в целом можно говорить об отсутствии в глюковском цикле немецких реалий. Это связано, по всей видимости, с тем, что Глюк, проведший огромную часть жизни в Париже, не воспринимался в России как немецкий (австрийский) композитор. Этому способствовало и то обстоятельство, что оперы Глюка были написаны на античные темы во вкусе французского классицизма.
В августе-сентябре 1921 года до Мандельштама, находящегося на Кавказе, доходят вести о смерти Блока и расстреле Гумилева. Мандельштам пишет стихотворения «Умывался ночью на дворе…» и «Кому зима арак и пунш голубоглазый…», в которых осмысляет случившееся. Стихотворение «Умывался ночью на дворе…», как переломное в поэтике Мандельштама, неоднократно разбиралось исследователями (Левин 1998: 9–17; Гаспаров 2001b: 333–349), поэтому мы только укажем, как наработанные в процессе развития «немецкой» темы семантические константы работают в данном стихотворении:
1 Умывался ночью на дворе — 2 Твердь сияла грубыми звездами. 3 Звездный луч — как соль на топоре, 4 Стынет бочка с полными краями. 5 На замок закрыты ворота, 6 И земля по совести сурова, — 7 Чище правды свежего холста 8 Вряд ли где отыщется основа. 9 Тает в бочке, словно соль, звезда, 10 И вода студеная чернее, 11 Чище смерть, соленее беда, 12 И земля правдивей и страшнее. («Умывался ночью на дворе…», 1995: 164)«Грубые звезды» (ст. 2) косвенно отсылают к «грубым» «северным скальдам» валгалло-оссианического цикла 1917–1918 годов. Грубость в семантическом поле немецкой темы соприкасается с суровостью, отсюда «И земля по совести сурова» (ст. 6) — то есть сейчас не до «ребячества Верлена», само время требует «лютеранской» «суровости Тютчева». Слово «правда», ключевое для данного стихотворения (ст. 7, 12), до этого было употреблено Мандельштамом только в «Декабристе», где прототип-архетип декабриста (Лунин с интертекстуальными чертами Чаадаева, Батюшкова и др.), опьяненный восторгом германского национального движения, тоже говорил «правду в скорбном мире» (среди чаадаевских подтекстов — «страшную правду»). Приговор «Декабриста» — «вернее труд и постоянство», жертва декабристов не принимается, «правда» декабристов слишком замешана на «честолюбивом» романтическом сне. Таким образом, заговор («таганцевское дело»), из-за которого был расстрелян Гумилев, связывается с декабристами[132].
Поиски «другого пути» закончены. «Холодный и чистый рейнвейн» оказался не просто соблазнительным предложением Валгаллы (где теперь находится воин Гумилев), а исторической правдой. Основа нового миропонимания (суровость земли) — «страшная» (ст. 12) и чистая правда свежего «холста» (ст. 7); характерно и родство топики холста сольном («славяно-германским льном» в «Зверинце»). То, чему Мандельштам отказывался верить и от чего он, гадая, предостерегал в стихотворениях 1917–1918 годов, свершилось, и правде надо смотреть в глаза.
В стихотворении «Кому зима — арак и пунш голубоглазый…», более эксплицитно тематизирующем казнь таганцевских «заговорщиков», вновь появляется немецкая образность:
1 Кому зима — арак и пунш голубоглазый, 2 Кому — душистое с корицею вино, 3 Кому — жестоких звезд соленые приказы 4 В избушку дымную перенести дано. 5 Немного теплого куриного помета 6 И бестолкового овечьего тепла; 7 Я всё отдам за жизнь — мне так нужна забота, — 8 И спичка серная меня б согреть могла. 9 Взгляни: в моей руке лишь глиняная крынка, 10 И верещанье звезд щекочет слабый слух, 11 Но желтизну травы и теплоту суглинка 12 Нельзя не полюбить сквозь этот жалкий пух. 13 Тихонько гладить шерсть и ворошить солому, 14 Как яблоня зимой, в рогоже голодать, 15 Тянуться с нежностью бессмысленно к чужому, 16 И шарить в пустоте, и терпеливо ждать. 17 Пусть заговорщики торопятся по снегу 18 Отарою овец и хрупкий наст скрипит, [Отарою овец, и кто-то говорит:] 19 Кому зима — полынь и горький дым к ночлегу, [Есть соль на топоре, но где достать телегу,] 20 Кому — крутая соль торжественных обид. [И где рогожу взять, когда деревня спит?] 21 О, если бы поднять фонарь на длинной палке, 22 С собакой впереди идти под солью звезд, 23 И с петухом в горшке прийти на двор к гадалке. 24 А белый, белый снег до боли очи ест. («Кому зима — арак и пунш голубоглазый…», 1995: 164–165, 463)«Пунш голубоглазый» (ст. 1) возник из соединения «голубого пунша» из «Декабриста» (Гаспаров 2001b: 335) с «голубоглазым хмелем» из метаобраза немецкого романтизма в стихотворении «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа…». «Заговорщики»
1921 года контекстуально связываются с декабристами. Здесь перечень опьяняющих напитков расширяется: к ним прибавляется «немецкий» глинтвейн и арак (ст. 1–2). Арак связывается с образом Дениса Давыдова (Гаспаров 2001b: 335). В «Декабристе» к Д. Давыдову, также участнику Рейнского похода, возможно, отсылал образ гусарской гитары во время офицерской пирушки на рейнском биваке.
«Жестоких звезд соленые приказы» (ст. 3) — дальнейшее разворачивание образа «жестокой зимы» из «Когда на площадях и в тишине келейной…». Зима, как уже отмечалось выше, — константный образ революционных смут («Декабрист», «Когда на площадях и в тишине келейной…»): снег (ст. 17) — метонимия зимы — олицетворяет смерть (здесь напрашиваются ассоциации с «глюковскими» стихами с их образом смерти на снегу). Мотив езды по снегу на собственную казнь заставляет вспомнить не только декабристов, но и метаобраз «заговорщиков» Смуты в стихотворении 1916 года «На розвальнях, уложенных соломой…» с его образами народного «гульбища» — прообраза скифско-германского праздника[133].
Один из возможных подтекстов стихотворения — «Карл I» Г. Гейне в пересказе И. Анненского (Ronen 1983: 119, прим. 59)[134]:
«Случайно забрел в хижину заблудившийся на охоте король Карл I, и он баюкает своего будущего палача. Шуршит солома, по стойлам блеют овцы; все было бы так мирно, не поблескивай из черного угла топор» (Анненский 1969: 61).
Мотивировка ассоциации со стихотворением Гейне, возможно, такова: «Карл I» входит в сборник «Романсеро», к которому относятся и гейневские «Валькирии». «Карл I» у Гейне образует маленький цикл стихотворений о казни монарха. За «Карлом I» следует стихотворение «Мария-Антуанетта», в котором речь идет о «последствиях революции» («Folgen der Revolution»), ее (революции) «фатальной доктрине» («ihre fatale Doktrine») и постоянно присутствует мотив обезглавливания (Heine 1913: III, 25). Возможно, в образе «приказов звезд» в звездной метафорике «Кому зима — арак и пунш голубоглазый…» (ст. 3) и других стихотворений начала 1920-х годов реминисцируется кантовская сентенция о «звездном небе над нами и моральном законе в нас» (Ronen 1983: 278–279), двусмысленно смешиваясь с советской звездной геральдикой.
Суммируя полученные данные, можно отметить, что в 1917–1918 годах, во времена «гражданских бурь», в поисках путей дальнейшего развития России Мандельштам, исходящий из родства германской и русской культур, целенаправленно обращается к опыту немецко-русских культурно-исторических связей. Он рассматривает актуальные революционные события в их исторической связи с событиями начала XIX века. Многочисленными реминисценциями и аллюзиями (рисунки декабристов, Батюшков, Языков, лирика декабристов, мир германских сказаний в поэзии немецкого романтизма) поэт создает в стихотворении «Декабрист» синтетический метаобраз эпохи, при помощи которого он тематизирует и исследует поэтико-исторические связи между посленаполеоновской Россией и Германией. Непосредственной предысторией восстания декабристов, которое проецируется на революционные события 1917 года, оказываются русско-прусский Рейнский поход и эйфория освободительного движения, охватившая посленаполеоновскую Германию. Будущие декабристы, исполненные западным героическим духом вольности и дружества, возвращаются в Россию с надеждой на ее преобразование. Германия обольщает, невольно уводит Россию на роковой для нее революционный путь.
Мандельштам продолжает развивать тему обольщения России, внедряя в ткань своих поэтико-исторических медитаций романтический мифообраз Лорелеи. Разрабатывая мотив завораживающего и губительного зова, поэт анализирует трагические блуждания и тупики русской истории. Историко-мифологический Рейн оборачивается Летой. Как приговор-заклинание звучит завершающая стихотворение формула: «Россия, Лета, Лорелея…».
В стихотворении «Когда на площадях и в тишине келейной…» Мандельштам вновь размышляет и гадает о судьбах русской истории. Культура и общество охвачены исторической «необходимостью бреда» («Кассандре»). «Смысловик» Мандельштам старается найти выход из этого, разрушающего сам смысл культуры, положения. Мерилом, меркой, потенциальным образцом для подражания становится мифологический мир германских сказаний. Мандельштамовское отношение к «северному», «германскому» в стихотворении «Когда на площадях и в тишине келейной…» амбивалентно. С одной стороны, поэт восхищается «северными», «германскими» качествами: мужеством, силой, храбростью, упорством, холодным и чистым разумом, самообладанием. Как раз этих качеств и не хватает сходящим с ума «на площадях и в тишине келейной». С другой стороны, мужественно-воинственный потенциал, имманентный германству, настораживает поэта, в северных «доблестях» содержится опасность, и всего лишь один шаг от мужества к высокомерию, от мужественности к деспотичности, от силы к жестокости, от смелости к буйству. Опасность этого шага велика постольку, поскольку «северный муж» недостаточно вдохнул в свою грудь воздух блаженного Юга.
В стихотворении «Кассандре» образно-семантические константы «германской темы» соприкасаются со скифским мифом. Однако напрямую заимствованный у символистов скифский миф претерпевает в стихотворении Мандельштама существенные изменения. У символистов скифский миф является гремучей смесью перенесенного на Россию германского мифа (актуализированного в сознании современников ранними работами Ницше) и русской религиозной мысли конца XIX — начала XX века. Мандельштам также поэтически размышляет об актуальных исторических проблемах при помощи топики культурософских категорий, но скифско-германская стихия означает конец классицистской европейской культуры. Культурософская перспектива, культурософский источник «немецких» оппозиций приобретают в стихотворении «Кассандре», пусть еще маргинально, эстетико-филологическую направленность, которая впоследствии, в работах 1920-х годов, будет дальше поэтологизироваться и решаться в рамках оппозиции «классицизм — романтизм».
Знаменательным отходом от поэтической культурософии является стихотворение «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа…». Динамика развития темы в нем — типично романтическая: от наивно-игрового и идиллического (мотив мельничихи) через таинственно-фаталическое (лесной царь) к трагически-демоническому (мотив гейневского двойника). Хмельной смех музыки демонизируется, перерастая в безумную ярость смертоносно-соблазнительного (образ лесного царя, перекликающийся с Лорелеей). Пустое привидение двойника рассматривает себя в холодное окно современности. Холод окна контекстуально-метонимически связан с образами похолодания и гиперборейской летейской зимы, которая надвинулась на Россию. Обращение к сюжетам именно немецкой романтики не случайно, уже в «Декабристе» поэт связал злой рок декабристов с германскими историческими и мифологическими реалиями. Поэтому неудивительно, что, описывая свое видение-привидение становящейся все более яростной и жестокой революционной зимы, Мандельштам обращается к топике немецкой поэзии первой трети XIX века. При этом он пользуется не только самим синтетическим принципом поэтики романтиков, но одновременно обращается и к их визионерскому потенциалу ужасного и рокового. Немецкие мотивы со всей своей образно-смысловой нагрузкой пронизывают апокалиптические картины гибели старого мира. Образы «жестокой зимы» подхватываются в стихотворениях, навеянных впечатлениями от «Орфея и Эвридики» Глюка. В образе конца представления дублируется, но уже по ту сторону пародического, сюжетная ситуация «Валкирий». Театральное представление старого мира подошло к концу. Вопрос о путях развития, адекватных русской культуре, остается трагически открытым.
В стихотворении «Телефон» «немецкая» образность появляется не в качестве доминирующей (или же, как в случае «Декабриста», пусть и не главенствующей, но историко-контекстуально мотивированной), а как одна из составляющих, наряду с другими, сюжетно-метафорическими ходами стихотворения. Это знак того, что к 1917–1918 годам «немецкое» уже оформилось у Мандельштама в стабильный тематический комплекс, из которого отныне и будут черпаться, по мере надобности, соответствующие образы и мотивы. Так, прежде чем начать употреблять «немецкую» образность в произведениях, не имеющих эксплицитной тематизации «немецкого», Мандельштам в 1912–1918 годах интенсивно нарабатывал определенный семантико-метафорический потенциал немецкой темы, к которому и прибегал впоследствии.
2. Немецкая тема в произведениях 1920-х годов
2.1. Промежуток. Мандельштам в 1920-е годы: Предварительные замечания
За 1920-ми годами утвердилась репутация «промежутка» — по названию одноименной статьи Ю. Тынянова (1924b), посвященной поэтической ситуации начала 1920-х годов, и в частности — поэзии Мандельштама. Опираясь на статью Тынянова, Н. Я. Мандельштам назвала «Промежутком» главу своей «Второй книги», посвященную зиме 1923/24 года (1990b: 168–173). Тыняновское определение, сделанное в новой литературной и общественной ситуации, чутко передает настроение той переходной фазы, в которой ощущала себя послереволюционная литература[135].
1920-е годы были для Мандельштама «промежутком» во многих отношениях. Дореволюционные поэтологические споры литературных группировок окончательно улеглись. Смерть Блока и гибель Гумилева обозначили границу в самоопределении русской литературы. Вопрошание о соответствии литературы произошедшим историческим изменениям, назревавшее с 1914 года, становится в 1920-е годы основополагающим в самоопределении писателя: поэт ощущает «новые революционные обязанности стихового слова» (Тынянов 1977: 196)[136]. Пропасть между «чистой» лирикой и гражданской поэзией, когда-то тематизированная Некрасовым и только обострившаяся в русском символизме, должна была быть преодолена: футуристы, которых Мандельштам в начале 1920-х годов интенсивно читает и усваивает, сделали в деле этого преодоления решительные шаги. Теперь каждому поэту, сказавшему «да» новой действительности, предстояло сделать личный выбор и пережить сходную эволюцию: соединить интимное и социальное, поэтическое и гражданское в единое целое. В случае Мандельштама этот рывок усложнялся тем, что собственно интимного в его поэзии не было; если главная тема поэзии Блока — «Блок» (Тынянов 1977: 118), а Маяковского — «Маяковский», то Мандельштам меньше всего стремился к «самотематизации»; на месте интимного у него стояла осознанная тематизация культурной и поэтической традиций. Поэтому усвоение новых запросов современности требовало от него не столько перестройки собственно поэтики, сколько кардинального изменения своих основных культурософско-поэтологических принципов, а точнее, отказа от них.
Характерно, что, именно наблюдая изменение функционального статуса литературы в послереволюционные годы, Б. М. Эйхенбаум ввел понятие литературного быта. Литературный быт перестал быть в глазах исследователя социально-биографическим фоном литературы, вторичным для понимания литературы в раннем ОПОЯЗе. Ранний формализм делал упор на «технологию» художественного произведения, развивая положения, высказанные в ходе поэтологических прений между литературными группировками 1910-х годов. Отвергая мысль о грубой каузальности связей между литературой и фактами внелитературного ряда, пришедшую из «социального» литературоведения, Эйхенбаум указал на то, что «отношения между фактами литературного ряда и фактами, лежащими вне его, не могут быть просто причинными, а могут быть только отношениями соответствия, взаимодействия, зависимости или обусловленности» (1987: 433).
Наше исследование немецкой темы у Мандельштама призвано при разборе текстов 1920-х годов учитывать конкретные факты и общую обстановку литературного быта эпохи в гораздо большей степени, чем это требовалось при наблюдении за идейно-образным и поэтическим развитием у раннего Мандельштама. Проблема новой революционной поэзии, вставшая теоретически перед критиками-литературоведами и практически перед самими поэтами, — трудная «не потому, что идет вопрос о ямбе или не о ямбе», а потому, что встает вопрос о «новом Я, о новой индивидуальности поэта», а «к этому вопросу присоединяется вопрос о роли поэзии, об ее положении» (Эйхенбаум 1969: 305).
Революция выдвигает литературе новые эстетические требования: проза начинает жить смешением художественного и документального элементов, литературный и соседний ряды взаимодействуют и взаимообогащаются. Другое дело в поэзии: возможности вовлечения документальности в поэзию ограничены, если так можно сказать, интертекстуальной традиционностью поэтического ряда, более герметичного и менее гибкого, нежели ряд прозы. Программная открытость футуристов по отношению к художественной экспериментальное™ делает их открытыми и для экспериментов в области «внешней» функциональности литературы. Им легче дается рывок в прикладную поэзию, чем бывшим акмеистам. Мандельштам как поэт метапоэтичности (и, таким образом, поэт определенной самодостаточности и замкнутости поэзии) усиленно переживает и пытается преодолеть (или, все-таки, переждать?) кризис поэзии: с помощью немногочисленных поэтических экспериментов, статей, полудокументальной прозы и революционно-культуртрегерской переводческой деятельности. 1920-е годы Мандельштам использует для артикуляции своих жизненных и поэтологических истоков и поисков. С 1921 по 1925 год поэт написал всего 22 стихотворения, с 1925 по 1930-й — вообще ни одного. Поэтическое «промежуточное» молчание сопровождается интенсивной эссеистическо-филологической и автобиографической рефлексией, заказными и полудобровольными переводами и рецензиями.
Если ранние эссе Мандельштама являются частью культурософской и критико-литературной полемики 1910-х годов, то в 1920-е годы оппонентами и коллегами Мандельштама становятся не только соратники и/или противники по литературе, но и сами литературоведы. Мандельштам интенсивно общается с опоязовцами[137]. Произошел знаменательный обратный процесс: если сама формалистская школа риторически окрепла в поэтологической полемике 1910-х годов, черпая идеи для своих историко-литературных и теоретических построений из литературных дебатов и деклараций символистов, акмеистов и в первую очередь футуристов, то в 1920-е годы литература в поисках новых форм выражения и их адекватной рефлексии обращается к литературоведческой мысли современности[138]. У Мандельштама на смену культурософской перспективе медленно, но верно приходит перспектива филологическая. Язык и поэзия становятся мерилом и центром рефлексии. Если ранний Мандельштам через поэзию (например, Ф. Вийона) подбирается к волнующим его вопросам культуры и определенные филологические навыки оказываются лишь частью его культурософских поисков, то у послереволюционного Мандельштама культурно-исторические знания становятся фоновыми для собственно филологических размышлений, своего рода эрудицией, необходимой для филологической работы[139].
На 1920-е годы приходится фундаментальный перелом в поэтике и убеждениях поэта; перелом в первую очередь жанровый: Мандельштам переходит от критико-филологических заметок к более или менее художественной прозе. «Промежуток» — это и переход к переводам, поэтическим и прозаическим, которых Мандельштам до сих пор избегал. В его критических и прозаических работах, а также в переводах и немногих оригинальных стихотворениях ощущается перелом, ведущий к формированию новой поэтики. Мы говорим перелом, не только памятуя об опоязовском понимании перехода систем как скачка и перелома (Шкловский 1970: 171), но и потому, что обозначением переход мы бы умалили всю болезненность и решительность произошедшего сдвига в поэтике и мировоззрении Мандельштама.
Перелом жанровый сопровождается переломом идейным: происходит окончательный отказ от идеи Рима, разрыв с Элладой и концепцией эллинистической природы русского языка. Мандельштам берет курс на «обмирщение» поэтической речи. Этот отказ декларируется в статьях «Буря и натиск», «Вульгата» и «Заметках о поэзии» — последних статьях поэта, за которыми последовала автобиографическая проза «Шум времени».
Работа поэта с немецкими культурными и литературными реалиями в 1920-е годы не прерывалась. Присутствие немецкой тематики ощутимо как в стихах, так и в литературно-критических эссе этих лет. Во многих разножанровых работах рассыпаны как «немецкие» образы, так и высказывания Мандельштама о Германии и деятелях ее культуры. Рассматривая эти суждения и высказывания Мандельштама, касающиеся немецкой темы, мы постараемся не только подключить их к разбору главной темы нашего исследования, но и на их примере продемонстрировать механизмы коренного перелома в мировоззренческой и поэтической позиции поэта.
2.2. Немецкие культурные реалии в эссеистике 1920-х годов
2.2.1. Германия, Европа и «Закат Европы»
В критической прозе Мандельштама 1921–1923 годов происходит интенсивное переосмысление опыта русской поэзии последних двадцати лет и ставятся новые поэтические задачи, связанные с коренным изменением культурно-политической ситуации в России и в Европе. Так, согласно статье «Пшеница человеческая», «остановка политической жизни Европы как самостоятельного, катастрофического процесса, завершившегося империалистической войной, совпала с прекращением органического роста национальных идей» (II, 250). Мандельштам выдвигает утопический проект нового европейского сознания; при этом старые «символистские» формулы «вселенского единства» соседствуют у него с идеалами «всемирного интернационала». Европа должна обрести себя «как целое», ощутить себя «нравственной личностью»: «Выход из национального распада… к вселенскому единству, к интернационалу лежит… через возрождение европейского сознания, через восстановление европеизма как нашей большой народности» (II, 250).
Но сами европейские нации «чувство Европы» в себе заглушили, подавили «войнами и гражданскими распрями»: Мандельштам критикует всякий национальный мессионизм и тут же подчеркивает роль России как хранительницы идеи Европы (II, 250–251), неотъемлемой частью которой является немецкая культура, так глубоко воспринятая в России. Примером усвоения европейского (и как его части — немецкого) культурного наследия является для Мандельштама опыт Карамзина, постоянным «проводником» немецкой темы у Мандельштама оказывается Тютчев:
«Альпам посвящены лучшие стихи Тютчева. Совершенно своеобразное, насквозь одухотворенное отношение русского поэта к геологическому буйству альпийского кряжа объясняется именно тем, что здесь буйной геологической катастрофой вздыблена в мощные кряжи своя родная, историческая земля… носившая Канта и Гете» («Пшеница человеческая», II, 251).
Мандельштам сравнивает произошедшие исторические изменения с землетрясениями и геологическими сдвигами[140]: европейские горы — Альпы — у Мандельштама ассоциируются с европейским опытом Карамзина и Тютчева. Интересно в приведенном отрывке не только то, что Тютчев локализуется в альпийском пейзаже (отсыл к альпийским стихам Тютчева), но и то, что в контексте высказывания появляются эпитеты и понятия, так или иначе связанные с семантическим полем немецкого: «буйный» и «буйство», уводящие к «Оде Бетховену» и «Баху», «мощный кряж», заставляющий вспомнить «кряжистого» Лютера.
Гете олицетворяет немецкую поэзию и упомянут здесь не только по ассоциации с его геологическими штудиями. В той же самой статье Мандельштам вспоминает бюргеров из второй сцены «Фауста», рассуждающих о турецких делах: «Землетрясение приятно издалека, когда оно не страшно» (II, 249). Выстраивается «немецкая» ассоциативная цепочка: Альпы — Тютчев — буйство — Гете; причем порядок звеньев этой метонимически устроенной семантической цепочки может варьироваться.
В приведенном отрывке Гете репрезентирует европейскую поэзию, Кант — философию. О положениях философской системы Канта Мандельштам мог получить некоторое представление в Гейдельберге, посещая лекции и семинары Г. В. Виндельбанда и Э. Ласка[141], другой источник знаний о Канте — работы символистов. В эссеистике Мандельштама имя Канта появляется именно в символистском контексте. Акмеистическая критика символистов предполагала и критику их авторитетов, в том числе и Канта, поэтому, согласно статье «Утро акмеизма», символистам было «плохо, не по себе в клети своего организма и в той мировой клети, которую с помощью своих категорий построил Кант» (I, 179). Однако в докладе «Скрябин и христианство», представляющем собой «рецидив» символистской культурософии, категории Канта гармонично вписываются в культурософскую медитацию: «христианская вечность — это кантовская категория, рассеченная мечом серафима» (I, 205).
Об актуализации интереса Мандельштама к Канту в начале 1920-х годов говорит учащение кантовских реминисценций и аллюзий в его стихотворениях и прозе. В 1922 году Мандельштам воспользовался знаменитой формулой Канта наряду с другими подтекстами, насыщая «звездную» метафорику стихотворения «Кому зима — арак и пунш голубоглазый…» (см. главу 1.4.5)[142]. Перечисляя заслуги А. Белого перед русской поэзией, Мандельштам отметил, что «Белый в „Урне“ обогатил русскую лирику острыми прозаизмами германского метафизического словаря, выявляя иронический звук философских терминов» («Буря и натиск», II, 291). В «философических» стихах «Урны» А. Белый пародийно описывает философские увлечения своей недавней молодости (Коген, Кант), противопоставляя умозрительную терминологию неокантианства и бытовую ситуацию знакомства с ней лирического героя, конкретное — абстрактному, «низкое», приземленное — высокому, «метафизическому», элегическое — гротескному. Мандельштам подразумевает цикл стихов «Философическая грусть», составивший самый большой раздел книги Белого «Урна» (1909)[143]. «Урну» Мандельштам, скорее всего, читал в берлинском сборнике 1923 года (Белый 1923): «Философическую грусть» предваряло предисловие А. Белого, описывающее его разочарование неокантианской философией. Избегавшему философии Мандельштаму могло прийтись по душе ироничное пародирование Белым кантовских и неокантианских понятий[144].
Внешний импульс возобновившегося интереса Мандельштама к Канту и Гете в начале 1920-х годов остается не до конца ясен. Не исключено, что им стало издание «Заката Европы» О. Шпенглера[145]. Труд Шпенглера выходил в Германии частями на протяжении 1918–1922 годов. Первая волна русской рецепции Шпенглера приходится на 1921–1922 годы: от философских до политических кругов (статья Ленина в «Правде» от 5 мая 1922 года). Не исключено, что Мандельштам был знаком со сборником эссе «Освальд Шпенглер и Закат Европы» (1922), в котором участвовали Н. Бердяев, Я. Букшпан, Ф. Степун, С. Франк. В 1922 году в Москве выходит работа В. Лазарева «Освальд Шпенглер и его взгляды на искусство» (1922) и «Эстетические фрагменты» Г. Шпета, в которых русский философ полемизирует со Шпенглером на «фаустовском» материале (1922: 76–80)[146]. В начале 1920-х годов выходят переводы «Заката Европы» на русский язык. Однако нельзя их расценивать только как попытку познакомить русского читателя с книгой Шпенглера. В большей мере они ознаменовали собой завершение первого этапа восприятия Шпенглера в России[147].
Мандельштам читал «Закат Европы», скорее всего, по-русски (Герштейн 2001: 585–586)[148]; однако не исключено, что скандальный труд Шпенглера он мог прочитать, если учитывать популярность книги, и раньше, на немецком. Может быть, косвенным свидетельством того, что Мандельштам читал русских интерпретаторов Шпенглера, является «лютеровский» пассаж статьи «О природе слова»: Мандельштам в поисках нового «филологизма» называет Лютера «плохим филологом», «потому что, вместо аргумента, он запустил в черта чернильницей» (I, 224). Не исключено, что известную легенду из жизни Лютера освежил в сознании Мандельштама Ф. Степун в своей рецензии на труд Шпенглера: «Лютер запустил в него (дьявола. — Г.К.) своею чернильницей» (Степун 2002: 330).
Главный объект рефлексии Шпенглера — Гете, эпиграф из которого предваряет «Закат Европы». Идейную эволюцию Гете немецкий культурософ тематизирует на протяжении всей своей книги. Причем абсолютное большинство цитат и отсылок к Гете приходится у Шпенглера на первый том «Заката Европы». Из философов одну из центральных позиций в «Закате Европы» занимают Кант и кантианцы.
Может быть, косвенным свидетельством прочтения Мандельштамом Шпенглера уже в 1922 году являются некоторые параллели между положениями статей 1922 года и «Закатом Европы». Так, в статье «Девятнадцатый век» Мандельштам критикует «буддизм» европейского мировосприятия и познания XIX века (II, 269). Не исключено, что на «буддийские» характеристики поэт вышел не только через статью Герцена «Буддизм в науке», но и через Шпенглера: пятая глава первого тома «Заката Европы» (вышедшего в начале 1918 года), в которой Шпенглер обсуждает и критикует категорический императив Канта, посвящена «буддизму» современного сознания. Шпенглер уравнял буддизм и социализм как арелигиозные мировоззрения жителей крупных городов (Spengler 1924: 455–456). Критику «буддизма» отметил у Шпенглера и Степун в нашумевшем сборнике «Освальд Шпенглер и „Закат Европы“» (Степун 2002: 321)[149]. В мандельштамовской характеристике Европы как «самого молодого, самого нежного… материка» («Пшеница человеческая», II, 249) Р. Дутли видит скрытую полемику с концепциями Шпенглера (1995: 19)[150]. Вдова поэта в «Воспоминаниях» заметила, что Мандельштам
«…теорией Шпенглера не обольстился ни на миг. Прочтя „Закат Европы“, он почти мельком сказал мне, что аналогии Шпенглера, по всей вероятности, к христианской культуре не применимы. У него никогда не было чувства конца, в котором один из главных источников блоковского пессимизма» (Н. Мандельштам 1999: 299).
Во «Второй книге» Надежда Яковлевна повторила свои воспоминания, чуть сместив акценты:
«В начале двадцатых годов шумела книжка Шпенглера о закате Европы, построенная по аналогии и напоминавшая Данилевского. Мы прочли с Мандельштамом „Закат Европы“, и он не согласился с выводами Шпенглера, считая, что они не приложимы к христианскому миру. Он был гораздо пессимистичнее Шпенглера, грозившего всего-навсего тем, что культура перейдет в цивилизацию и всем станет скучно. События показали, что ничего похожего на цивилизацию и на скуку не будет» (Н. Мандельштам 1990b: 407).
Трудно определить, что в воспоминаниях вдовы поэта — косвенная речь Мандельштама, а что — ее восприятие. Свою мысль Н. Я. Мандельштам облекла в форму, которая слишком соответствует культурософским вкусам некоторых диссидентских кругов 1960-х годов, отмахивавшихся от Шпенглера, Ницше, Фрейда[151]. Нередко Надежда Яковлевна вчитывала в Мандельштама и свой собственный читательский опыт, начавший формироваться в послереволюционные годы[152].
Более аутентичным в воспоминаниях Н. Мандельштам кажется нам блоковский контекст восприятия Шпенглера. Кажется, что вдова поэта отчасти противоречит самой себе: если в «Воспоминаниях» Мандельштам предстает не таким пессимистом, как Шпенглер и Блок, то во «Второй книге» — гораздо большим пессимистом. Судя по всему, Надежда Яковлевна хотела сказать, что у Мандельштама, в отличие от Шпенглера и Блока, восприятие конца определенного периода европейской культуры не приняло апокалиптических черт и избежало не лишенного эстетизма декадентского пафоса Шпенглера. Мандельштаму могли быть сродни идеи и предчувствия конца старой культуры (у Шпенглера или в пересказе Ф. Степуна)[153], но болезненно-тревожному наслаждению трагическим концом Европы Мандельштам предпочел мужественный скорбный плач по уходящей в небытие старой культуре, без символистско-экспрессионистского демонизма и надрыва, умаляющего память о бесценной утрате[154].
2.2.2. «Немецкий» Блок Мандельштама
В статье «О природе слова» Мандельштам задается вопросом о принципе единства русской литературы в свете «ускорения темпа исторического процесса» (I, 217). При этом у Мандельштама соседствуют и взаимодействуют две перспективы: «культурософская» и «филологическая». Причем если в работах 1910-х годов культурософские вопрошания доминируют, то в 1920-е годы они превращаются во все менее обязательный фон собственно филологических и поэтологических рассуждений. Проблематика единства русской литературы сменяет ранее занимавшую Мандельштама тему единства мировой культуры, воплощением которой для него долгое время был Рим: «критерием единства литературы данного народа… может быть признан только язык народа, ибо все остальные критерии сами условны, преходящи и производны» (1, 219). Русский язык объявляется «эллинистическим». После того как Рим в глазах поэта оказался «безблагодатным», заветным словом-концептом всего позитивного стала для Мандельштама Эллада и эллинизм:
«В силу целого ряда исторических условий, живые силы эллинской культуры… устремились в лоно русской речи, сообщив ей самоуверенную тайну эллинистического мировоззрения, тайну свободного воплощения, и поэтому русский язык стал именно звучащей и говорящей плотью» («О природе слова», I, 220).
Западу достались не «живые силы эллинской культуры», а «эллинские влияния». Характерно, что в одной из немногих рецензий на статью Мандельштама А. Бем, корреспондент пражского журнала «Воля России», суммируя сказанное Мандельштамом, говорит о том, что, «начав с уничтожения теории прогресса, автор (Мандельштам. — Г.К.) пришел к отлучению Запада от эллинистического наследия» (цит. по: Мандельштам 1990b: II, 441). Замеченное современником «отлучение Запада» от средиземноморской культуры представляет собой развитие концепции, знакомой нам по стихотворению «Когда на площадях и в тишине келейной…»: там от волшебного Юга были отлучены «грубые» северные скальды (читай: германский мир), теперь — вся современная Европа.
Новые культурософские концепции ложатся в основу собственно филологических размышлений[155]: язык как принцип единства при всей своей изменчивости и динамичности («ослепительно ясной в сознании филологов» (I, 219–220)) остается постоянной величиной, «константой». В свою очередь, сам «русский язык так же точно, как и русская народность, сложился из бесконечных примесей, скрещиваний, прививок и чужеродных влияний» (I, 220). Вся русская литература предстает в глазах Мандельштама литературой заимствований. Но заимствование заимствованию рознь: так, согласно Мандельштаму, символисты, за исключением И. Анненского и А. Блока, прививали русской литературе заведомо чуждое и экзотическое. В своей критике символизма Мандельштам переадресовывает блоковские упреки акмеистам в иностранности, сформулированные в статье «Без божества, без вдохновенья», — самим символистам.
Русский символизм характеризуется как «запоздалый вид наивного западничества, перенесенного в область художественных воззрений и поэтических приемов» («Письмо о русской поэзии», II, 237). Таков «нещадный и бесцеремонный» в обращении со словом Андрей Белый — «болезненное и отрицательное явление в жизни русского языка»: все служит у Белого на потребу его «спекулятивного мышления» («О природе слова», I, 221)[156].
Хищническому «конквистадорству», «утилитаризму» символистов, обращавшихся к европейской культуре и поэзии лишь для удовлетворения своих религиозных претензий, противопоставляется «спокойное обладание сокровищами западной мысли» («Письмо о русской поэзии», II, 237). Мандельштам призывает измерять европеизм символизма «градусами поэзии» А. Блока (там же: 238). Блок — «сложнейшее явление литературного эклектизма», «собиратель русского стиха» (там же: 295); не нарушая «домашности» русской литературы, он освоил опыт европейской поэзии и суммировал «европейский опыт» русской литературы XIX века. Часть этого русского «европейского» опыта — усвоение культуры немецкой.
По Мандельштаму, исследователь обязан говорить не о том, «что хотел сказать поэт», а о том, «откуда он пришел» («А. Блок», II, 252), потому что нет «ни одного поэта без роду и племени, все пришли издалека и идут далеко» («Письмо о русской поэзии», II, 239)[157]. Поэтому в своем эскизном портрете Блока он в первую очередь выстраивает его «литературный генезис»[158]. Блок, по мысли Мандельштама, оказывается глубоко связан как с поэзией немецкого романтизма, так и с традицией его восприятия в русской литературе середины XIX века:
«Он (Блок. — Г.К.) стал русским романтиком, умудренным германскими и английскими братьями, и, наконец, русским поэтом, который осуществил заветную мечту Пушкина — в просвещении стать с веком наравне. Блоком мы измеряли прошлое… Через Блока мы видели и Пушкина, и Гете, и Боратынского, и Новалиса, но в новом порядке, ибо все они предстали нам как притоки несущейся вдаль русской поэзии, единой и неоскудевающей в вечном движении… он пришел из дебрей германской натурфилософии, из студенческой комнатки Аполлона Григорьева» («Письмо о русской поэзии», II, 238).
Лексическое оформление характеристики Блока, «умудренного германскими и английскими братьями», уводит к концовке панъевропейской оды «Зверинец», в которой «и умудренный человек почтит невольно чужестранца» (I, 120): так и Блок, «умудренный» открытыми и чуткими романтиками, в своем творчестве «почтил» и освоил чужесть европейской культуры[159].
В своих характеристиках Блока Мандельштам во многом опирается не только на свои стихи, но и на положения статьи самого Блока об Ап. Григорьеве. Вот только некоторые из них, касающиеся немецкой темы[160]: «Григорьев петербургского периода — …мечтательный романтик, начитавшийся немецкой философии» (1989: 286–287). Описывая генеалогию Ап. Григорьева, Блок говорит об «„умственных сатурналиях“ шеллингианства» (Блок 1989: 286), «шеллинговском хмеле» и о «гегелевском чаде», сквозь которые звучит «сотрясающий» Ап. Григорьева «адский вальс» из оперы немецкого романтика Д. Мейербера «Роберт-Дьявол» (Блок 1989: 282)[161]. Мандельштам в своих характеристиках Блока частично переносит блоковские характеристики Ап. Григорьева на самого Блока. Конечно, это не произвольный перенос — сам Блок по ходу статьи многократно отождествляет себя с Ап. Григорьевым[162].
Пушкин, Гете, Баратынский, Новалис видятся мандельштамовскому поколению через призму Блока. Блок выступает посредником: благодаря Блоку Гете и Новалис заговорили на языке эпохи, актуализировались в сознании нового читательского поколения. Блок просветил, приобщил русскую поэзию 1900-х годов к поэтической культуре 1820–1850-х годов, неотъемлемой частью которой было усвоение опыта немецкой поэзии рубежа XVIII–XIX веков. Характерно, что Мандельштам говорит здесь о пушкинском императиве просвещения как актуализирующей адаптации[163].
Главные положения своих рассуждений, касающиеся литературных связей Блока с немецкой романтической традицией и ее восприятием в русской поэзии XIX века, Мандельштам, по нашему предположению, почерпнул не только из работ Блока, но и из статьи Жирмунского «Поэтика Александра Блока», опубликованной в 1921 году в сборнике «Об Александре Блоке». Эту статью Жирмунского Мандельштам читал и выделил, вместе со статьей Эйхенбаума, «именно как работу» из общего потока реакций на смерть Блока — «болотных испарений лирической критики» («А. Блок», II, 252). По мнению Жирмунского, в песнях Блока «романтическая стихия русской поэзии и русской жизни достигла вершины своего развития, и „дух музыки“, о котором говорил поэт, явился в самом совершенном своем обнаружении» (1977: 237). В числе «предшественников» Блока Жирмунский (а за ним и Мандельштам) называет Ап. Григорьева, в частности его переводы из Гейне (1977: 229)[164].
Мандельштам чувствовал и тематизировал ученическое родство своего синтетического подхода к поэзии XIX века с блоковским подходом. Поэтому неудивительно, что продолжателями Блока и антиподами символистов выступают в глазах Мандельштама акмеисты, которых Мандельштам вписывает в традицию «гениального чтения в сердце западной литературы»:
«Так Пушкин, и с ним все его поколение, прочитал Шенье. Так следующее поколение, поколение Одоевского, прочитало Шеллинга, Гофмана и Новалиса… Акмеистический ветер перевернул страницы классиков и романтиков, и они раскрылись на том самом месте, какое всего нужнее было для эпохи. Расин раскрылся на „Федре“, Гофман на „Серапионовых братьях“. Раскрылись ямбы Шенье и гомеровская „Илиада“» («О природе слова», I, 230).
Мандельштам дает не «канонический» акмеистический список заимствованной литературы, а свой, во многом отличный от программного списка Гумилева (1990: 58), в котором не было Гофмана по причинам антисимволистской «германофобии» главы акмеистов. Знаменательно и то, что «акмеистический ветер» раскрыл книги не просто новых авторов, а новых «старых», тех, которых когда-то впервые прочитало и открыло для себя литературное поколение начала XIX века. Прямо повторяются имена Шенье и Гофмана, ставшие фактом русской словесности в интересующую Мандельштама эпоху. Акмеистические (мандельштамовские) вкусы соотносятся со вкусами зачинателей русской поэзии. Такая секундарность поэтического мышления — не показатель творческой несамостоятельности, а свидетельство понимания литературной преемственности как осознанной рефлексивной работы с традицией. Аналог этой установке мы находим в поэтике реминисценций Мандельштама (а Мандельштам — в поэтике Блока): не чужой иностранный текст, а его преломление в русской поэтической традиции становится объектом цитации и стилизации[165].
В статье «Барсучья нора» («А. Блок») Мандельштам вновь коснулся «барсучьего инстинкта» расширения поэтических «владений»:
«Блок углублял свое поэтическое знание девятнадцатого века. Английский и германский романтизм, голубой цветок Новалиса, ирония Гейне, почти пушкинская жажда прикоснуться горячими устами к утоляющим в своей чистоте и разобщенности… ключам европейского народного творчества: английского, французского, германского — издавна мучили Блока. Среди созданий Блока есть внушенные непосредственно англо-саксонским, романским, германским гением, и эта непосредственность внушения еще раз заставляет вспомнить „Пир во время чумы“ и то место, где „ночь лимоном и лавром пахнет“, и песенку „Пью за здравие Мэри“» («А. Блок», II, 254).
Блок выступает продолжателем пушкинской традиции синтетического освоения европейского «тематического материала» «поэтики девятнадцатого века» (II, 254). Характерно и то, что Мандельштам дважды (в «Письме о русской поэзии» (II, 238) и в «Барсучьей норе» (II, 253)) приводит в качестве кредо Блока один и тот же отрывок из «Скифов»:
— Мы любим все — парижских улиц ад И венецьянские прохлады, Лимонных рощ далекий аромат И Кельна мощные громады. (Блок 1960: III, 361)Характерна и цитатная вариация Мандельштама «Мы любим все» (253) — «Мы помним все» (238). Блоковское признание в любви европейскому наследию вписывается в мандельштамовскую тему культурной памяти. Из Блока Мандельштам цитирует строфу, где встречается та сигнальная топика европейской культуры, которая привлекала внимание и самого Мандельштама: вспоминаются высказывания о «подвижнике» Бодлере, жившем в парижском «аду» (I, 191, 214), а в связи с Венецией — стихотворение «Венецийская жизнь»: «Венецийской жизни, мрачной и бесплодной, / Для меня значение светло» (I, 145) — уже здесь, в стихотворении 1920 года, Мандельштам идет по следам Блока: то, что «памятно» Блоку, и для Мандельштама приобретает «светлое значение»[166].
Для темы нашего исследования важны «немецкие» аллюзии: «лимонных рощ далекий аромат» и «Кельна мощные громады». В связи с «мощными громадами» Кельна вспоминаются не только «готические» интересы юного Мандельштама, но и прямые лексические совпадения со стихотворением «Реймс и Кельн»: «мощные громады» у Блока и «священная громада» у Мандельштама. Одним из звеньев ассоциативной цепочки был тот факт, что «чудовищный набат» Кельна у Мандельштама перекликался с «гулом набата» в блоковском стихотворении «Рожденные в года глухие…» (Блок 1960: III, 278), которое Мандельштам реминисцировал в «Реймсе и Кельне». Из этого же стихотворения Блока Мандельштам также перенял формулу «глухих годов», с которых начинается автобиографическая проза «Шума времени» (II, 347).
Блоковский «лимонных рощ далекий аромат» — знаковый образ «блаженной тоски» Севера по Югу, взятый из первой строчки гетевской «Миньоны» («Kennst du das Land, wo die Citronen blühn», Goethe 1887:1, 161). Традиция переводов и перепевов «Миньоны» Гете в русской литературе восходит к В. Жуковскому («Ты знаешь край: там негой дышит лес…»). Из значимых для Мандельштама переводов назовем лишь тютчевский («Ты знаешь край, где мирт и лавр растет…»)[167]. В отличие от венецианских и парижских аллюзий Блока, немецкая, миньоновская, с одной стороны, метонимически представляет искомую Европу, с другой — содержит в себе мотив тоски по Европе. Мандельштам, заручившись авторитетом «европейца» Блока, косвенно вписывает европейский императив русской культуры в топику тоски по блаженному Югу немецкого романтизма.
2.2.3. Романтизм, символизм и «Немецкий романтизм» В. М. Жирмунского
В процессе критики символизма Мандельштам прибегает и к привычным для акмеистов выпадам против центрального понятия символизма — символа:
«Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. Всё преходящее только подобие. Возьмем, к примеру, розу и солнце, голубку и девушку. <Для символиста> ни один из этих образов сам по себе не интересен… роза — подобие солнца, солнце — подобие розы, <голубка — подобие девушки, а девушка — подобие голубки>. Образы выпотрошены, как чучела, и набиты чужим содержанием» («О природе слова»; 2001: 455).
Цитата из концовки 2-й части «Фауста» не случайна: символисты, выстраивая свою генеалогию, объявили себя первыми, кто понял «завет» «Фауста» (Иванов 1994: 268). Еще одним «рецидивом» поэтологической полемики 1910-х годов является концовка статьи «О природе слова»:
«На место романтика, идеалиста, аристократического мечтателя о чистом символе, об отвлеченной эстетике слова, на место символизма, футуризма и имажинизма пришла живая поэзия слова-предмета, и ее творец не идеалист-мечтатель Моцарт, а суровый и строгий ремесленник мастер Сальери» («О природе слова», I, 231).
Своего поэтического образа Моцарта у Мандельштама к моменту написания статьи еще не было — в стихах и прозе 1910-х годов этот образ не появляется, поэтому берется готовый, пушкинский («Моцарт и Сальери»). Гению Моцарта противопоставляется, согласно поэтическим установкам акмеизма, «ремесленник» Сальери. Пушкинское противопоставление перенимается, но оценка его составляющих меняется.
Как видно из высказываний 1920-х годов, в том числе и из процитированной концовки статьи «О природе слова», проблемы поэтики, адекватной как требованиям времени, так и «общему делу» русской поэзии, так или иначе упирались в фундаментальную д ля понимания Мандельштама оппозицию классицизма и романтизма. Сделанные в рамках апологии неоклассицизма выпады против романтизма и смежной ему поэтики оказываются ретроградскими. Однозначность в оценках классицизма и романтизма подтачивается как изнутри постоянно меняющимися мандельштамовскими культурософскими концепциями[168], так и извне: революционный пафос современности, участником которой Мандельштам пытается себя осознать, немыслим без романтического порыва. Поэтому пересмотра требуют устаревшие акмеистические установки и вкусы, у Мандельштама возрастает интерес к романтизму, «Буре и натиску» и предромантизму. Этот интерес возник уже в 1910-е годы, но заглушался или переосмыслялся, исходя из общеакмеистических взглядов[169].
Возрожденный в 1920–1921 годах неоклассицистский императив акмеизма после внезапного расстрела Гумилева потребовал уже не просто корректировки, а кардинального переосмысления, практического и теоретического. Такое переосмысление и произошло в статьях Мандельштама 1922 и 1923 годов. Выработка собственных установок и положений происходила в ходе полемики Мандельштама с литературно-критической и филологической мыслью современников. Мандельштам дистанцируется от (символистского и футуристического) романтизма и ищет свой, третий, путь[170].
В начале 1920-х годов Мандельштам сближается с формалистскими и околоформалистскими кругами. Поэтому более чем вероятно, что особое влияние на классицистско-романтическую дилемму Мандельштама оказали связанные между собой статьи В. М. Жирмунского «О поэзии классической и романтической» (1920) и его рецензия на «Tristia» — «На путях классицизма» (1921). В своей статье Жирмунский противопоставляет «два типа творчества»: классицистский и романтический. При описании архетипического «классического поэта» он — порой почти дословно — пользуется «строительной» метафорикой акмеистских статей и стихотворений Мандельштама[171]. Ее же он повторяет в своей рецензии на новую книгу Мандельштама. С одной стороны, Жирмунский указывает на то, что Мандельштам периода «Tristia» соответствует образу классического поэта, с другой — сам этот образ (прообраз-архетип) конструируется у Жирмунского на основе собственных и мандельштамовских высказываний периода «Камня», а не «Tristia»[172].
В то же самое время Жирмунский, который во многом противоречит собственному тезису о классицизме Мандельштама, говорит о синтетическом методе поэта, «метафорических полетах» (1977: 141) и «проникновении в музыкальную стихию романтизма» (139), а также сравнивает Мандельштама с Гофманом и Гоголем (141). Завершая рецензию, Жирмунский говорит о парадоксальном классицистско-романтическом типе творчества Мандельштама: «Мандельштам выражает свои фантастические сочетания разнороднейших художественных представлений в классически строгой и точной эпиграмматической формуле» (1977: 141).
Возвращаясь в связи с этим к мандельштамовской генеалогии Блока, важно отметить тот факт, что сам Блок во многом выстраивал свою концепцию немецкого романтизма, которая его особенно занимала в последние годы жизни («Крушение гуманизма» и «О романтизме»), на материале штудий Жирмунского, в частности его работы «Немецкий романтизм и современная мистика». Знаменательно и то, что сам Жирмунский в своем исследовании задался вопросом о связи поэтики модернизма с романтиками. Рефлексивный круг замыкается: Мандельштам реконструирует историкопоэтический образ Блока и при этом пользуется положениями Жирмунского. Жирмунский задается вопросом о связи Блока с романтизмом, отталкиваясь от заявлений самого Блока и других символистов, и рассуждает о классицизме и романтизме по следам Мандельштама; а Блок и Мандельштам, в свою очередь, читают Жирмунского. Факты такого «взаимочтения» проливают свет не только на вопрос о филологизации саморефлексии у поэтов начала XX века под воздействием актуальных литературоведческих штудий, но и на вопрос о воздействии на филологическую мысль формалистских и околоформалистских кругов опыта идейно-поэтологических и историко-литературных вкусов современной им поэзии.
Новой фигурой самоидентификации, наряду с Блоком, становится для Мандельштама фигура А. Шенье, на которую проецируются поэтологические вопрошания самого Мандельштама[173]. Привлечение в наш разбор француза Шенье — не отступление от темы исследования: чтобы адекватно оценить мандельштамовское понимание дихотомии классицизм — романтизм, последняя часть которой репрезентирована у Мандельштама большей частью немецкими образцами, необходим учет более широкого контекста. Шенье, по Мандельштаму, — поэт поры динамического взаимодействия исторических классицизма и романтизма. «Синтез» классицизма и романтизма является, по Мандельштаму, решением вопроса об «абсолютной полноте поэтической свободы»:
«Перед Шенье стояла задача осуществить абсолютную полноту поэтической свободы в пределах самого узкого канона, и он разрешил эту задачу… романтическая поэтика предполагает взрыв, неожиданность, ищет эффекта, непредусмотренной акустики и никогда не знает, во что ей самой обходится песня… романтическая поэзия утверждает поэтику неожиданности. Законы поэзии спят в гортани, и вся романтическая поэзия, как ожерелье из мертвых соловьев, не предаст, не выдаст своих тайн, не знает завещания. Мертвый соловей никого не научит петь. Шенье искусно нашел середину между классической и романтической манерой» («Заметки о Шенье», II, 278).
Характеризуя романтизм, Мандельштам частично следует определениям Жирмунского, но частично их и модифицирует. Если Жирмунский говорит о романтическом «стремлении к абсолютно выразительной форме», «абсолютном и свободном от всяких условностей выражении переживания» (1977: 136), то Мандельштам — об «абсолютной полноте поэтической свободы». Мандельштамовская романтическая «поэтика взрыва» — дальнейшая метафоризация термина «разрушения сложившихся форм» у Жирмунского (1977: 136). Уже в 1921 году, по-видимому, не без влияния Жирмунского, бывший «строитель» «Камня» Мандельштам заявил о том, что «в последнее время разрушение сделалось чисто формальной предпосылкой искусства» («Слово и культура», I, 214). Существенны не только сходства-заимствования, но и различия в оценках и формулировках Мандельштама и Жирмунского: если Жирмунский, следуя выводам своей работы «Немецкий романтизм и современная мистика», говорит о внелитературном характере романтизма (1977: 135–136), то Мандельштам рассматривает оппозицию классицизм — романтизм в рамках чисто поэтологических[174].
Сама постановка вопроса о соотношении классицизма и романтизма делается Мандельштамом с классицистских поэтологических позиций. Мандельштам не замалчивает идеологическую подоплеку романтизма, но пытается направить ее в контекст историософских размышлений о судьбах европейской культуры XVIII–XIX веков. Здесь обнаруживается фундаментальное отличие культурософии Мандельштама от культурософии символистов и Блока. Для последних культурософия — метаязык, на котором они говорят о «невыразимом», для Мандельштама идейно-религиозный аспект — часть культуры.
«Заметки о Шенье» — очередная веха «секуляризации» мандельштамовского языка «разговора о поэзии». Инерция 1910-х годов здесь еще явно присутствует. Так, Мандельштам говорит об «абстрактной, внешне холодной и рассудочной, но полной античного беснования поэзии Шенье» (II, 279). В облике Шенье сплелись черты, которыми Мандельштам наделял в своих стихах и статьях Баха (рассудочность, абстрактность и ликование) и Бетховена-Диониса (античное беснование). В этой характеристике Мандельштам использовал язык акмеистических манифестов десятилетней давности, при этом аргументация поэтологических положений еще ведется на языке символизма.
Филологическая интуиция и историзм Мандельштама заставляют его задуматься над истоками классицистско-романтической проблемы. При этом, как всегда, ему недостаточно опоры на чужой, инокультурный опыт (опыт Шенье); русоцентричная установка Мандельштама ищет прецеденты осмысления чужого опыта в русской культуре (литературе); в контексте Шенье им становится Пушкин. Пушкин осмыслил и «преодолел» Шенье[175]: «пушкинская формула — союз ума и фурий — две стихии в поэзии Шенье» (II, 279). Именно этого пушкинско-шеньевского «союза ума и фурий» — гармоничного сочетания классической выверенности и романтической неожиданности — и ищет Мандельштам[176].
Рефлексия романтизма продолжается в статье «Девятнадцатый век». По Мандельштаму, «из союза ума и фурий родился ублюдок, одинаково чуждый и высокому рационализму энциклопедий, и античному воинству революционной бури, — романтизм» (II, 268). Но тут же следует корректировка: «Но романтизм все-таки прямой потомок. В дальнейшем своем течении девятнадцатый век ушел от своего предшественника гораздо дальше, чем романтизм… В жилах каждого столетия течет чужая, не его кровь, и чем сильнее, исторически интенсивнее век, тем тяжелее вес этой чужой крови» (II, 268–270). Культурософский и историко-литературный взгляд Мандельштама, вопрошающий о судьбах современной культуры и литературы, все глубже погружается в век восемнадцатый:
«Синтетический роман Ромена Роллана резко порвал с традицией французского аналитического романа и примыкает к синтетическому роману восемнадцатого века, главным образом к „Вильгельму Мейстеру“ Гете, с которым его связывает основной художественный прием» («Девятнадцатый век», II, 270).
Роман Гете является для Мандельштама примером синтетического романа. Если еще недавно Мандельштам критиковал эксплуатируемую символистами концовку второй части «Фауста», то здесь он приводит роман Гете (правда, роман «другого» Гете, Гете-не-«Фауста») в пример современной прозе.
2.2.4. Немецкая историко-литературная традиция в статье «Буря и натиск»
Размышления о путях развития современной поэзии продолжаются в статьях «Буря и натиск» и «Заметки о поэзии». В них, в отличие от предыдущих статей, в центре внимания Мандельштама оказывается не символизм, а футуризм. Статья «Буря и натиск» готовилась, судя по всему, как предисловие к так и не вышедшей антологии русской поэзии начала XX века (Лекманов 2004: 97) — «самой приятной» и «единственной по-настоящему осмысленной» из всех заказных работ этого периода (Н. Мандельштам 1999: 286). Уже само название статьи — «Буря и натиск» — отсылает к немецкому литературному течению «Sturm und Drang». Мандельштам мерит развитие современной русской поэзии, используя понятия из истории немецкой литературы:
«Русский читатель, за четверть века испытавший не одну, а несколько поэтических революций, приучился более или менее сразу схватывать объективно-ценное в окружающем его многообразии поэтического творчества. Всякая новая литературная школа, будь то романтизм, символизм или футуризм, приходит как бы искусственно раздутой, преувеличивая свое исключительное значение, не сознавая своих внешних исторических границ. Она неизбежно проходит через период „бури и натиска“. Только впоследствии, обычно уже тогда, когда главные представители школ теряют свежесть и работоспособность, выясняется их настоящее место в литературе и объективная ценность ими созданного. При этом после половодья „бури и натиска“ литературное течение невольно сжимается до естественного русла, и запоминаются навсегда именно эти, несравненно более скромные, границы и очертания» («Буря и натиск», II, 288–289).
Для Гете, Шиллера и Гердера «Штурм унд Дранг» был школой вдохновения, первой инспиративной пробой сил (пусть и с неизбежной при этом юношеской завышенной самооценкой). Мы говорим о Гете, Шиллере и Гердере не только потому, что они репрезентативны для «Бури и натиска», но и потому, что эти авторы получили наибольший отклик, хотя и с опозданием, в русской культуре конца XVIII — начала XIX века, а именно этот период находится в центре мандельштамовских историко-литературных раздумий и поэтических реминисценций[177]. Для Мандельштама история немецкой поэзии второй половины XVIII — первой трети XIX века — цельное явление. В этой истории — сгущенный ход развития любых последующих литератур[178].
Поздние немецкие романтики окрестили «Бурей и натиском» предромантическую эпоху по названию одноименной пьесы Клингера. При этом в содержание «Бури и натиска» вкладывался опыт «бурной», «ураганной» образности, накопленной самими постштюрмерскими романтиками. Мандельштам мог этого не знать; возможно, он просто опирался на метафорический потенциал образно-символического понятия «Бури и натиска»: сходным образом поэт работал с метафорикой символа в «Декабристе» («шумящие дубы» посленаполеоновской Германии). В разбираемой статье «Буря и натиск» приравниваются к «половодью»: здесь Мандельштам реализует метафору литературного «течения». На нее накладывается метафора творческого (и национального) «подъема» — подъема воды, вызванного «бурей» («Бурей и натиском»)[179].
Развивая метафору вызванного бурей половодья, Мандельштам детализирует и свою схему развития литературных течений:
«Русская поэзия первой четверти века переживала два раза резко выраженный период „бури и натиска“. Один раз — символизм, другой раз — футуризм. Оба главных течения обнаружили желание застыть на гребне и в этом желании потерпели неудачу, так как история, подготовляя гребни новых волн, в назначенное время властно повелела им пойти на убыль, возвратиться в лоно общей материнской стихии языка и поэзии» («Буря и натиск», II, 289).
Откуда у Мандельштама возник интерес к эпохе «Бури и натиска»? Мандельштам уже раньше читал Гете, Шиллера и Гердера (ср.: II, 354–357, 362). В 1920–1922 годы он читает (или перечитывает) Гете, о чем говорят многие «гетевские» реминисценции в статьях и стихотворениях этого периода[180].
Мандельштамовские сравнения футуризма (и других течений) с «Бурей и натиском» и другими литературными движениями Германии вписываются в парадигму самосравнений и самопроекций русских литераторов с их ориентацией на западные образцы, в том числе — немецкие. Характерно, что, по свидетельству одного из современников, в «интимных беседах Гумилев охотно сравнивал свою роль и роль Блока в русской поэзии с ролью Гете и Шиллера в немецкой поэзии» (Аллен 1994: 244, прим. 35). Современники по «критериям» гениальности и «богоподобности» сравнивали Блока с Гете[181]. Не подлежит сомнению и то, что Вяч. Иванов сравнивал себя с Гете: так, свои разговоры с М. С. Альтманом он сознательно выстраивал так, чтобы они напоминали беседы Гете с Эккерманом (ср. Лаппо-Данилевский (1995: 111–112)). С Гете сравнивал себя и Брюсов. Так, уже в названии своей автобиографической прозы («Из моей жизни. Автобиографическая поэзия и правда», 1919, опубликовано в 1927-м) он обыгрывает название книги Гете «Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit»[182]. Об отношении Брюсова к Гете лаконично говорит высказывание Брюсова, адресованное С. Шервинскому: «Пушкин перед Гете — мальчик» (Шервинский 1964: 498)[183].
История немецкой литературы XVIII–XIX веков давно стала одной из тех историко-литературных моделей, с оглядкой на которые проходила поэтико-идеологическая борьба литературных группировок начала XX века. Само мандельштамовское сравнение «Бури и натиска» с литературными течениями начала XX века имеет богатую предысторию. В 1910-е годы немецкий романтизм (и «Буря и натиск» как его исток и предвестник) становится частью самосознания уже потерявшего свою цельность символизма, причем как со стороны литераторов, так и со стороны филологов. Интерес к немецкому романтизму пробудил выход в 1912 году «Истории западной литературы (1800–1910)» под редакцией Ф. Д. Батюшкова. В первый том издания вошла и статья Вяч. Иванова «Гете на рубеже двух столетий» (1912), в которой автор, неутомимый искатель идеологических предтеч символизма, заговорил о «насущной» необходимости современной литературы и «призвании исторических наук перед лицом жизни» «подвергнуть пересмотру идейное наследие протекшего столетия и его осознать — в его исторических корнях», и подобно тому, как в музыке Бетховен «обусловил собою появление Рихарда Вагнера», поэтика Гете, «бессознательно» утвердившая «принцип символизма», «оказывается, в общем, нашею поэтикою последних лет» (Иванов 1994: 236–237). Третья глава статьи Вяч. Иванова посвящена «Буре и натиску», и это литературное течение подается автором как подготовительный этап к «той решительной и явственной перемене» в Гете, которая в конце концов и привела немецкого поэта к символистскому миропониманию.
Год спустя, в 1913 году, выходит исследование В. М. Жирмунского «Немецкий романтизм и современная мистика» (на обложке: 1914), которое получило большой резонанс в поэтических и литературоведческих кругах и затянуло агонию символизма. В последней главе своей диссертации Жирмунский поднимает вопрос о преемственности романтических идей (религиозных и литературных) в современной литературе:
«Если бы мы имели возможность войти подробнее в историю… символизма, мы нашли бы в его развитии черты, интимным образом напоминающие развитие романтического движения. Так, мы отметили бы у истоков символизма явление, похожее на эпоху „бури и натиска“» (Жирмунский 1996: 202).
Книгу Жирмунского рецензировал С. А. Венгеров, семинары которого посещал Мандельштам; на книгу откликнулись Б. М. Эйхенбаум, Э. Д. Философов, Л. Я. Гуревич, Ф. А. Степун и другие (Тоддес / Чудакова / Чудаков 1987: 480–482). Характерно мнение Эйхенбаума: «Глубоко взволнованный устремлениями нашей современной культуры, автор (Жирмунский. — Г.К.) ищет в прошлом опоры для этих устремлений и хочет углубить их смысл путем установления непрерывной традиции» (1987: 293). Мандельштамовский подход отличен от подходов и выводов Вяч. Иванова и Жирмунского: его не волнует осознание и распределение «идейного наследства» романтизма; в своей статье Мандельштам не обращается к «Буре и натиску» с целью «установления непрерывной традиции». Из истории немецкой литературы XVIII–XIX веков он «компаративистски» перенимает саму схему развития литературных течений. Но вполне возможно, что от Вяч. Иванова Мандельштам перенял, пусть и в измененном виде, идею несамоценности «Бури и натиска».
В революционные годы проблемами романтизма продолжает заниматься А. Блок. Его исследовательская позиция, в отличие от ивановской, не сводится к поискам прецедентов символизма. Безусловно, в перипетиях развития немецкого романтизма (от «Бури и натиска» до Гейне) Блок также ищет ответы на вопросы о дальнейшем развитии современной литературы, но рассматривает романтизм, стараясь соблюсти этикет историзма (меньше — в «Крушении гуманизма», больше — в заметках «О романтизме»), В статье «Крушение гуманизма», многие положения которой получили отклик в статьях Мандельштама 1920-х годов, начало кризиса гуманизма связывается с Реформацией. Но сам кризис, по Блоку, «разразился… накануне XIX века», в период «Бури и натиска»:
«Германские буря и натиск (курсив[184] Блока. — Г.К.) отмечены двумя необычайными фигурами. Если б я был художником, я никогда не представил бы Шиллера и Гете — братски пожимающими друг другу руки. Я представил бы Шиллера в виде юноши, наклонившегося вперед и бестрепетно смотрящего в открывающуюся перед ним туманную бездну. Этот юноша стоит под сенью другой, громадной и загадочной фигуры — Гете, как бы отшатнувшейся в тени прошлого перед ослепительным видением будущего, которое он зоркими глазами провидит в туманной бездне.
Оба одинаково дороги и близки нам сейчас… Гете — столько же коней, сколько начало. В его застывшем образе умирающий гуманизм (индивидуализм, античность, связь науки с искусством) как бы пронизан той музыкой, которая поднимается из туманной бездны будущего, — музыкой масс — (II часть „Фауста“)» (Блок 1962: VI, 95).
Творения «Бури и натиска» являются для Блока барометром революционных бурь и визионерским откровением о грядущих катаклизмах европейской истории. Блок, в частности, цитирует слова немецкого исследователя XIX века И. Гонеггера о том, что «можно считать всю историю XIX века повторением в более обширных размерах краткого кровавого эпизода 1789–1794 годов» (1962: VI, 98)[185]. Здесь для нас важна не только привязка к Французской революции, предвестником которой, по Блоку, стало движение «Бури и натиска», но и сама идея метонимического переноса особенностей одной эпохи на другую.
При этом Блок все так же опирается на многие положения и выводы книги Жирмунского «Немецкий романтизм и современная мистика», которую поэт перечитывал в период создания статьи «Крушение гуманизма» и одобрительно отозвался о ней в статье «О романтизме». Важно и то, что, говоря о связях русского символизма с немецким романтизмом и «Бурей и натиском», Жирмунский дает Блоку самую лестную характеристику: «глубоко и подлинно мистический характер носит замечательная лирика Александра Блока» (Жирмунский 1996: 206). Такая похвала не забывается. Позже Блок разовьет идеи Жирмунского в своей последней, исполненной скорбной желчи статье «Без божества, без вдохновенья», направленной против Гумилева и Городецкого. Сравнивая русский футуризм с акмеизмом, Блок замечает: «Русский футуризм бесконечно значительнее, глубже, органичнее, жизненнее, чем „акмеизм“; последний… не носил в себе никаких родимых „бурь и натисков“, а был привозной „заграничной штучкой“» (1962: VI, 181). Блок перенимает от Жирмунского идею родства символизма с «Бурей и натиском», но проецирует ее на футуризм, при этом изменяя характеристики, данные Жирмунским немецкому литературному течению. Жирмунский обращает внимание на «обожествление безраздельной жизни, напряженности жизненных переживаний… эстетический индивидуализм» (1996: 202); Блок же концентрируется на других особенностях «Бури и натиска», противопоставляя это движение как исконное, родимое (домашнее, в понятии Мандельштама) привозному, чужому. Именно эту идейную нагруженность понятия «Бури и натиска» (свое, родное, обращенное к корням) перенимает Мандельштам. Но если у Блока чуждость, иностранность — свойство акмеистов, то Мандельштам переставляет акценты, переадресовывая этот упрек самим символистам.
Мандельштам существенно расширяет блоковское понимание «Бури и натиска». Если Блока волнуют проблемы идейного развития и связей романтизма с современностью, то Мандельштама — вопросы поэтологические. У Мандельштама, который как раз в это время увлеченно читал насыщенный «ураганной» и «грозовой» образностью сборник стихов Пастернака «Сестра моя — жизнь», «Буря и натиск» становится метафорой вдохновения, творческого порыва юности, пробы поэтических сил. По Мандельштаму, каждое литературное течение проходит через период «бури и натиска». Это период гипертрофированного самоутверждения, начальный период, за которым неминуемо следует остепенение. И если у Блока исторические «Буря и натиск» получают однозначно положительную оценку, у Мандельштама они — только начало, своего рода аванс вдохновения; оценка станет возможна, когда после «половодья» бури и натиска литературное течение вернется в «естественное русло» (II, 289).
2.2.5. Переоценка образа Лютера в концепции обмирщения поэзии («Заметки о поэзии»/«Вульгата»)
Размышления Мандельштама о судьбах русской литературы продолжаются в «Заметках о поэзии», главные герои которых — Пастернак и Хлебников:
«Когда я читаю „Сестру мою — жизнь“ Пастернака — я испытываю ту самую чистую радость вульгатности, освобожденной от внешних влияний мирской речи, черной поденной речи Лютера… Так радовались немцы в своих черепичных домах, впервые открывая свеженькие, типографской краской пахнущие, свои готические библии. Чтение же Хлебникова может сравниться с еще более величественным… зрелищем, как мог бы и должен был бы развиваться язык-праведник…» («Vulgata (Заметки о поэзии)», II, 300).
В 1910-е годы Мандельштама привлекала готика в архитектуре. Готика была поэтологическим стержнем его исканий в акмеистический период. Теперь готика уже не архитектурный замысел, не поэтологический императив, а письмо, шрифт, «готика букв», на которых еще не обсохла типографская краска, чувственная радость чтения: глаза немцев радуются готическим библиям, нюх — осязанию невысохшей краски, ум — черной (опять зрительный образ) поденной речи Лютера, мирской речи. Впервые понятие «обмирщения» появляется в статье «Слово и культура» 1921 года, а затем в статье «Девятнадцатый век»: «Восемнадцатый век был веком секуляризации, то есть обмирщения человеческой мысли и деятельности. Ненависть к жречеству, гиератическому культу, ненависть к литургии глубоко заложена в его крови… Литургия была занозой в теле восемнадцатого века» (II, 267). Очевидно сходство мандельштамовских характеристик XVIII века с антицерковными выпадами самого Лютера.
Метонимическая привязка Пастернака к «немецкому» обусловлена неоромантической образностью пастернаковских стихов. Один из сюжетно-композиционных разделов книги «Сестра моя — жизнь» — цикл «Елене» с прямым упоминанием Фауста. Сборник стихов Пастернака открывается «грозовым» эпиграфом из Ленау на немецком языке. Помимо «грозовой» тематики, которой в русской поэзии не было со времен Тютчева[186], само немецкое название стихотворения «Mein Liebchen, was willst du noch mehr…», уводящее к немецким романтическим темам «развлечения любимой», придавало книге Пастернака осязаемый немецко-романтический ореол[187].
Мы помним, насколько критическим или же, в лучшем случае, амбивалентным был взгляд Мандельштама на Лютера в его раннем четверостишии «Здесь я стою — я не могу иначе…». Но это было время культурно-религиозных раздумий поэта, и Лютер рассматривался в аспекте культурно-теологическом. К началу 1920-х годов интерес Мандельштама все больше переносится из сферы религиозно-эстетической в сферы поэтико-филологическую и политическую. Поэтому неудивительно, что в статьях 1920-х годов имя Лютера связывается уже с переводческо-поэтической стороной деятельности реформатора. И если в статье «О природе слова» (1920–1922) Мандельштам еще говорит о том, что Лютер был плохим филологом, потому что, не найдя аргумента, бросил в черта чернильницей (I, 224), то в «Заметках о поэзии» Мандельштам косвенно выделяет именно литературно-филологические заслуги Лютера. Чтобы понять причины этого изменения в отношении к Лютеру, которое так контрастирует с оценкой реформатора в стихотворении «Здесь я стою — я не могу иначе…», нужно подробнее рассмотреть контекст, на фоне которого эволюционировала оценка Мандельштама.
В своих «Заметках о поэзии» Мандельштам уподобляет мирскую поэзию Пастернака и корнесловие Хлебникова переводческому подвигу Лютера, противопоставляя его кирилло-мефодиевой традиции. В этой же статье поэт предает забвению свой культ эллинизма. По мнению М. Л. Гаспарова, «из четырех пунктов программы „Слово и культура“ и смежных статей — культура как советник государства, эллинистическое обживание мира, слово-Психея и классицизм — первый и последний раньше всего показали свою несостоятельность, а два других приобрели существенно иной вид» (1995: 348). Но и второй пункт своей программы — эллинизм, еще недавно поставленный во главу угла, — Мандельштам начинает яро оспаривать в «Заметках о поэзии». Конечно, можно было бы списать антивизантийские (то есть антицерковнославянские) выпады поэта на общий антирелигиозный настрой эпохи, на тогдашнюю научную неисследованность как самой Византии, так и ее влияния на становление славянского языка и напомнить о том, что статья «Вульгата» (первое название «Заметок о поэзии») содержит, помимо ошибочного названия[188], не типичные для Мандельштама повторения, граничащие с навязчивостью, и даже неожиданные по своей резкости уколы в сторону Ахматовой (II, 300), — статья, без сомнения, написана в запале, в припадке «литературной злости».
Но можно предположить и другое, а именно что «несправедливые перегибы», мандельштамовское объявление войны «славянщине» и «эллинизму», призыв к «борьбе мирской бесписьменной речи, домашнего корнесловья, языка мирян, с письменной речью монахов» (II, 298) и противопоставление работы русских поэтов XVIII–XIX веков «всякой интеллигентской словесности» всему, что «работает в русской поэзии на пользу чужой монашеской словесности» (II, 299), происходят не от незнания материала или риторической прихоти критически настроенного автора. Попытаемся обосновать это заключенное в столь резких выражениях мнение поэта. Это поможет нам разобраться и в неожиданном признании переводческих заслуг Лютера.
Наше предположение заключается в том, что «Вульгата» — как полемический выпад, как проявление «литературной злости» — должна иметь адресата. Мы полагаем, что статья стала ответом на свежепрочитанную Мандельштамом реакционную статью Вячеслава Иванова «Наш язык» из «сборника о русской революции» «Из глубины», составленного в 1918-м, но опубликованного только в 1921 году[189]. В своей статье Вяч. Иванов пишет:
«Велик и прекрасен дар, уготованный Провидением народу нашему в его языке. Достойны удивления богатство этого языка, его гибкость, величавость, благозвучие, его звуковая и ритмическая пластика, его прямая многовместительная, меткая, мощная краткость и художественная выразительность, его свобода в сочетании и расположении слов, его многострунность в ладе и строе речи, отражающей неуловимые оттенки душевности. Не менее, чем формы целостного организма, достойны удивления ткани, его образующие…» (Иванов 1994: 396).
Великоречивые славословия синтаксическим, фонетическим, морфологическим и семантическим достоинствам русского языка заканчиваются панегириком «энергии глагольного аориста», «неведомой другим языкам». Вяч. Иванов, полный «чрезмерной радости», по нарастающей превозносит русский язык:
«И как избыточно многообразен всеобъемлющий, „икуменический“, „кафолический“ язык эллинства, так же вселенским и всечеловеческим в духе становится и наш язык, так же приобретает он способность сочетать ясность с глубиной, предметную осязательность с тончайшею, выспреннейшею духовностью… Такому языку естественно было как бы выступать из своих широких, правда, но все же исторически замкнутых берегов в смутном искании всемирного простора. В нем заложена была распространительная и собирательная воля; он был знаменован знаком сверхнационального, синтетического, всеобъединяющего назначения. Ничто славянское ему не чуждо: он положен среди языков славянских, как некое средоточное вместилище, открытое всему, что составляет родовое наследие великого племени… С таким языком народ наш не мог не исполниться верою в ожидающее его религиозное вселенское дело» (Иванов 1994: 397).
Мандельштаму могла быть до глубины души чужда не столько даже «выспреннейшая духовность» ивановского многословия, сколько превозношение русского языка над другими. По Мандельштаму, подвиг Лютера и подвиг русских поэтов (здесь Мандельштам называет Тредиаковского, Ломоносова, Батюшкова, Языкова, среди современников — Хлебникова и Пастернака), то есть опыт обмирщения речи, обеспечивают языку, в данном случае немецкому и русскому, право «самостоятельного существования в семье других наречий» (II, 299). Мандельштамовский императив равноправного самостоятельного существования, семейного, домашнего родства европейских языков и литератур резко контрастирует со слащаво-самодовольным мессионерским пафосом Вяч. Иванова. В статье 1922 года «Пшеница человеческая» Мандельштам уже высказался о любом виде мессианизма: «Всякий мессианизм заранее недобросовестен, лжив и рассчитан на невозможный резонанс в сознании тех, к кому он обращается с подобным предложением. Ни один мессианствующий и витийствующий народ никогда не был услышан другим» (II, 248). Позиция Мандельштама оказалась идейно и риторически несовместима с ивановской. Вот еще один характерный пример ивановских превозношений русской речи из статьи «Наш язык»:
«Но всего этого мало! Язык, стяжавший столь благодатный удел при самом рождении, был вторично облагодатствован в своем младенчестве таинственным крещением в животворящих струях языка церковно-славянского. Они частично претворили его плоть и духотворно преобразили его душу, его „внутреннюю форму“… Церковно-славянская речь стала под перстами боговдохновенных ваятелей души славянской, свв. Кирилла и Мефодия, живым слепком „божественной эллинской речи“, образ и подобие которой внедрили в свое изваяние приснопамятные Просветители» (Иванов 1994: 396).
Мандельштам отвечает Вяч. Иванову в «Записках о поэзии»:
«Неверно, что в русской речи спит латынь, неверно, что спит в ней Эллада. С тем же правом можно расколдовать в музыке русской речи негритянские барабаны и односложные словоизъявления кафров. В русской речи спит она сама и только она сама» («Vulgata (Заметки о поэзии)», II, 300).
Многократно повторенный Мандельштамом лютеровский императив обмирщения речи — явный полемический отклик на концовку ивановской статьи: «Язык наш неразрывно сросся с глаголами церкви». Многие «хотели бы его обмирщить», и далее: «нет, не может быть обмирщен в глубинах своих русский язык!» (Иванов 1994: 399–400)[190].
Ругая Византию, Мандельштам развивает свои положения, изложенные в статье «Буря и натиск». Там он еще пытался оценить роль Вяч. Иванова беспристрастно, что связано с характером статьи — предисловие к антологии. Мандельштам даже присоединяется к мнению Иванова, который «относился к Византии и Элладе не как к чужой стране, предназначенной для завоевания, а справедливо видел в них культурные истоки русской поэзии» (II, 290). В «Вульгате» же Мандельштам откровенно набрасывается на положения ивановской статьи «Наш язык». Конечно, он сам не свободен от противоречий, причем в рамках двух статей, написанных в одном и том же году: эллинизм и византизм лежат, по мнению автора «Бури и натиска», в истоках русской поэзии, но, уже согласно «Вульгате», «глюковские тайны» русского языка заключаются «не в санскрите и не в эллинизме, а в последовательном обмирщении поэтической речи» (II, 300).
Латынь и «славянщина» чужды русскому языку не потому, что они непонятны. Мандельштам упорно повторяет мысль о понятности латыни: «Черная поденная речь Лютера» зазвучала после «напряженной, пусть понятной, всем, всем, конечно понятной, но ненужной латыни, заумной некогда, но давно переставшей быть заумной, к великому огорченью монахов» (II, 300). Здесь есть определенная двусмысленность: латынь и «славянщина» в русском контексте утратили свою силу, потеряв свою заумность. В отличие от латыни и славянщины, поэтическая речь не перестает быть заумной. Заумь — термин футуристов, таким образом, заумь будетлян (в первую очередь, в лице Хлебникова, упомянутого в статье: II, 299–301) противопоставляется утратившей заумь латыни. Огорчению монахов по поводу утраты латынью и «славянщиной» зауми противостоит радость Мандельштама при чтении Пастернака и радость немцев при чтении своих свежих готических библий. В латыни и «славянщине» этой свежести уже нет.
Разговор о секуляризации поэтической речи плавно переходит в разговор о классицизме и романтизме — их соотношении, противостоянии и взаимодействии. Смещается предмет размышления, но не меняется противоречивость суждений. В заключение нам бы хотелось дополнить разбор поэтологических и идеологических постреволюционных размышлений Мандельштама, так или иначе касающихся вопросов немецкого романтизма, примечательными высказываниями поэта из рецензий. В 1920-е годы поэт рецензировал многие произведения западной, в том числе и современной немецкой литературы. В них содержатся многочисленные высказывания историко-литературного и поэтико-идеологического характера, существенно дополняющие положения статей. «Научный» подход к рецензируемым книгам связан у поэта с особым пониманием задач рецензента: литературная критика, по Мандельштаму, должна вестись с филологических позиций:
«Настоящий критик прежде всего осведомитель… общественного мнения. Он обязан описать книгу, как ботаник описывает новый растительный вид, классифицировать ее, указать ее место в ряду других книг… Я не вижу существенной разницы между большим критическим очерком, развернутым в статью, и малой формой критики — рецензией» («Веер герцогини», II, 498).
В рецензии на «Goldmachergeschichten» Густава Мейринка Мандельштам замечает, что «три повести Густава Мейринка… окрашены вялым и непоследовательным романтизмом» (II, 599). Значит, в сознании Мандельштама существовал «динамичный и последовательный романтизм». Примером такого романтизма в современной литературе является для Мандельштама книга Карла Ганса Штробля «Призраки на болоте» (Karl Hans Strobl, «Gespenster im Sumpf»), на которую им была написана самая объемная и хвалебная рецензия. Штробль — последователь позднего романтизма в духе Э. Т. А. Гофмана и Э. По — авторов, близких Мандельштаму. В рецензии дается определение немецкого романтизма: «Поздний цвет германской романтики, воскресшей с изумительной силой, молодостью и буйством. Горькая любовь к Европе, исполненная дикой нежности, безрассудства и прелести отчаянья, выделяют ее из сотен внешне подобных ей книг» (II, 601). «Буйство», «дикость», «безрассудство» — знакомые атрибуты немецкого образно-семантического поля. Нова среди них «нежность». В Бахе, в Бетховене и северных скальдах нежности не было. Впервые что-то похожее на нежность в отношении к немецкому неявно, метонимически появляется в стихотворении «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа…» в связи с «Мельницей» Шуберта (1-я строфа). Свойство романтики «воскресать» перекликается у Мандельштама с германско-кельтской, оссианистской идеей возрождения-возвращения песни. «Горькая любовь к Европе» корреспондирует с тем, что Мандельштам позднее назовет акмеистической «тоской по мировой культуре». Таким образом, в концепции Мандельштама и акмеизм, и романтизм, а шире, Россия и Германия, обращены к искомой Европе.
Конечно, мандельштамовские характеристики романтизма имеют отношение к состоянию самого поэта. Говоря о других, Мандельштам часто говорит о себе (пусть даже пользуясь методом от противного). В приведенном отрывке эти самопроекции — горькая любовь к Европе, дикая нежность, безрассудство (которые Мандельштам вчитывает в Штробля) — тематизированы уже в стихах 1917–1918 годов, где отчаяние по-романтически становится источником вдохновения. «Gespenster im Sumpf» Штробля Мандельштам называет произведением «строго логичным и глубоко музыкальным». В своих определениях произведения Штробля Мандельштам прибегает к тем семантическим константам немецкого, которые знакомы нам в первую очередь по образу рассудительнейшего и одновременно ликующего Баха. Мандельштам различает в романе Штробля несколько тем. Во-первых, он говорит о «трагедии умирающего города» (II, 601) — тема, Мандельштаму близкая, перекликающаяся с мотивом умирающего Петрополя в стихах 1916–1918 годов. Во-вторых, Мандельштам говорит об иронии и гротеске, «значительном социально и политически (очень желательном)» (II, 601), в связи с чем вспоминается установка на иронию и гиперболичность, которой поэт сам пользовался в своей автобиографической прозе. Мандельштам выделяет в романе также тему «приключений молодой американки в развалинах и катакомбах Вены», которая, возможно, напомнила поэту его собственное стихотворение «Американка».
В своей рецензии Мандельштам замечает, что «в книге (Штробля. — Г.К.) настойчиво проводится мысль: мозг культуры (старой Вены) пережил ее распад и самостоятельно бредит (курсив Мандельштама. — Г.К.)» (II, 602). На этой образной характеристике сказалось состояние и самосознание самого Мандельштама: старая культура (Вена — Петербург) умерла, но ее мозг, а часть этого мозга — сам Мандельштам, совесть этой культуры «самостоятельно бредит»[191]: «„Призраки на болоте“ Ганса Штробля — один из опытов фантастического построения „гибели Европы“… Наказанный за вековое легкомыслие… город оцеплен военным кордоном, изолирован от всего мира» (II, 602). Здесь явно чувствуется перекличка оценки штроблевской Вены с мандельштамовским Петербургом, сдобренная аллюзиями на «Закат Европы» Шпенглера, прочитанный Мандельштамом в начале 1920-х годов. Мандельштам выделяет в романе Штробля «чистую тему музыки, вплетенной в рассказ, приблизительно в шубертовском ключе» (II, 602). О мотивации «шубертовского ключа» мы знаем из стихотворения «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа…» с его музыкальной и метамузыкальной темой. А в заявке на так и не написанную повесть «Фагот» Мандельштам пишет: «Второе действие — поиски утерянной неизвестной песенки Шуберта — позволяет дать в историческом плане музыкальную тему (Германия)» (II, 603). Таким образом, в своих рецензиях на современную немецкую фантастическую новеллу Мандельштам выявляет ее романтические константы; при этом поэт пользуется наработанными при обращении к немецкой теме формулами. «Музыкальная тема» оказывается метонимически и синонимически связана с Германией.
2.3. Мандельштам — переводчик немецкой революционной поэзии
2.3.1. Культурно-политический контекст переводов
По словам А. Ахматовой, Мандельштам в 1920-е годы был настроен очень «радикально» — этим впечатлением она поделилась с Л. Гинзбург (Гинзбург 2002: 74). Переводы с немецкого возникли в тот промежуточный период жизни и творчества Мандельштама, который может быть признан радикальным во многих отношениях. Выше уже говорилось о болезненных скачках и переломах в культурософско-филологических взглядах Мандельштама. Если в статьях 1922–1923 годов Мандельштам еще лелеет свои утопические идеи об эллинистической природе русской культуры и литературы, то в статье «Вульгата» он называет любые высказывания об эллинизме и византинизме русского языка реакционными и призывает к его секуляризации (II, 299). В данной связи показателен и самокритичный выпад Мандельштама против его собственных концепций эллинизма (II, 409), который пришелся как раз на время работы над переводами с немецкого. Знаменательна и концовка статьи «Выпад», в которой выражается надежда на то, что русская поэзия когда-нибудь дойдет до читательских масс, сохранивших «филологическое чутье» (II, 412).
Радикальность Мандельштама имела и конкретную политическую окраску. В 1922 году в статье «Кровавая мистерия 9-го января» поэт оправдывает казнь царя, а в 1923 году зло высмеивает марионеточное правительство грузинских меньшевиков[192]. По мнению И. Эренбурга, Мандельштам «постиг масштаб происходящего, величие истории, творимой после Баха и готики» (2002: 83). Упоминая Баха и готику — две темы дореволюционного «Камня», Эренбург хотел подчеркнуть, что Мандельштам не только осознал, но и предсказал монументальность грядущих исторических сдвигов.
Летом 1923 года Мандельштам начал работу над автобиографической книгой «Шум времени», в которой гневно-ностальгически начал сводить счеты со своим прошлым. Неслучайно поэт вспомнил в «Шуме времени» и о своей революционной юности[193]. А в стихотворении «Нет, никогда, ничей я не был современник…» Мандельштам дистанцируется от своего поэтического «соименника» из дореволюционных времен.
Мандельштамовские переводы с немецкого были сделаны в прогерманской культурно-политической атмосфере, характерной для периода после подписания Рапалльского договора в апреле 1922 года. И для России, и для Германии Рапалло означало выход из политической изоляции. Сначала в России, а затем в Германии — катастрофическая инфляция, голод. Новые советско-немецкие отношения нашли свое отражение в советской поэзии, которая все более обращается к актуальным политическим темам[194].
В 1920 году на конгрессе Интернационала советское правительство строит планы о грядущей мировой революции, центром которой должен стать Берлин. В 1922–1923 годах, в условиях накаляющейся послеверсальской военно-политической обстановки, в России ожидают новой германской революции. Маяковский, посетивший Германию в 1923 году, предчувствует и чествует «кануны нашего семнадцатого года» (1957: V, 97)[195].
Но не только ангажированный Маяковский, но и «новый» Мандельштам активно участвует в культурно-политической жизни страны. Так, он пишет репортажи с международной крестьянской конференции, проходившей осенью 1923 года в Москве. В рамках конференции Мандельштам взял также интервью и у будущего вождя вьетнамских коммунистов Хо Ши Мина (II, 342–345). Эти и многие другие факты «революционной» биографии Мандельштама давно известны: они стояли, с точными библиографическими указаниями, в печально знаменитом предисловии А. Дымшица к мандельштамовскому сборнику 1973 года. Но статья А. Дымшица была табуирована в мандельштамоведении, ее упоминание, а тем более цитирование, приравнивалось к предательству Мандельштама.
В своем репортаже для журнала «Огонек» Мандельштам со знанием дела уделил внимание и немецким делегатам — Кларе Цеткин и деятелям Пролетарской Ассоциации Искусств, «изгнанной фашистами из Баварии и перекочевавшей в город Иену» (II, 325–326). Этот пассаж в репортаже Мандельштама звучит как косвенная речь самих немецких делегатов. Не исключено, что на крестьянской конференции Мандельштам мог встретиться с йенцем Максом Бартелем[196].
Советско-германская солидарность тематизировалась не только в газетах. Так, в 1924 году, рецензируя рукописи красноармейцев, Мандельштам писал:
«Красноармеец 134-го полка рассказывает о полковом собрании. Его поразила сильная и твердая речь командира о германских событиях… На все лады в стихах повторяется мысль о необходимости братства с германским трудовым народом… Но прекрасная мысль выражена беспомощно» («Над красноармейскими рукописями», II, 404–405).
Важнейшей частью политики солидарности с Германией явились переводы и публикации немецких авторов. Огромную роль при этом сыграло германофильство наркомпроса А. Луначарского[197]. К переводческой работе — от неизданного Гейне и поэтов 1848 года до экспрессионистской и пролетарской лирики и драматургии — были подключены, наряду с Мандельштамом, который уже в 1918 году работал для Наркомпроса[198], известные поэты и переводчики: В. Брюсов, С. Городецкий, М. Зенкевич, В. Парнах, Б. Пастернак, А. Пиотровский, В. Пяст, А. Эфрос и многие другие. В 1922 году О. Мандельштам переводил пьесу Э. Толлера «Человек-масса» («Masse-Mensch»), а в 1923–1925 годах — лирику М. Бартеля.
В 1923 году Мандельштам недвусмысленно заметил, что «умение использовать злобу газетного дня для своего вдохновения ничуть не умаляет, а лишь увеличивает заслугу поэта» («Огюст Барбье», II, 304). Эти слова, сказанные в контексте разговора об О. Барбье, которого Мандельштам также переводил в 1923 году, — автобиографичны и автопоэтологичны. Произведения Э. Толлера и М. Бартеля, которые Мандельштам переводил в 1922–1925 годах, приобрели в свете германо-советского революционного братства «газетную злобу дня» и «современность», которые в тот момент искал Мандельштам.
2.3.2. «Варьяции Интернационала»: Мандельштам — переводчик Э. Толлера
В 1922 году Мандельштам перевел пьесу Э. Толлера «Человек-масса» (Толлер 1923а), которая затем была поставлена в «Театре революционной сатиры» А. Велижевым при участии В. Мейерхольда. О популярности пьесы в советской России свидетельствует тот факт, что практически параллельно с переводом Мандельштама вышел еще один перевод «Человека-массы» А. Пиотровского (Толлер 1923b).
В 1920-е годы в России происходит настоящий толлеровский бум: трибун и драматург Эрнст Толлер (1893–1939) в апреле 1919 года руководил Красной армией Баварской Советской республики, на которую большие надежды возлагал Ленин. Толлер был осужден и в тюрьме написал пьесу «Человек-масса» («Masse-Mensch»). В 1922–1923 годах в Москве в «Театре Революции» были поставлены «Разрушители машин» («Die Maschinenstürmer») и «Человек-масса». В 1925 году С. Городецкий переводит книгу Толлера «Тюремные песни» («Gedichte der Gefangenen», 1921), издание открывает предисловие Луначарского. В 1926 году Толлер приезжает в Москву, встречается с Мейерхольдом и Луначарским, в конце 1928 года в «Театре Революции» осуществляется постановка пьесы «Гоп-ля, мы живем» («Hoppla, wir leben!»). Таким образом, мандельштамовский перевод стоял у истоков краткой, но бурной толлерианы в советском театральном искусстве.
В нашем исследовании мы коснемся статьи Мандельштама о Толлере «Революционер в театре» и рассмотрим отдельные поэтические фрагменты «Человека-массы», причем в центре нашего внимания окажутся переклички этих переводов с немецкой темой в творчестве самого Мандельштама.
Название статьи «Революционер в театре» намеренно полисемично: Толлер выступает и как революционер в метафорическом значении, то есть как реформатор театра и как революционер в буквальном смысле — как участник революции. Именно эта полисемия оказывается ключевой для заметки Мандельштама, что косвенно свидетельствует об амбивалентном отношении Мандельштама к Толлеру:
«Пьеса Эрнста Толлера… несомненно пьеса с будущим, независимо от своих художественных и театральных достоинств. Она принадлежит к типу драматических произведений, вроде „Жизни человека“ Леонида Андреева, сильных и элементарных, понятных всем и каждому благодаря ясной схематичности действия и грубой, но яркой символике сценического воплощения» («Революционер в театре», II, 283).
Не совсем понятно, где Мандельштам критикует, а где хвалит Толлера. По мнению Мандельштама, драматургия Толлера сильна, но ярка и груба. Соединение грубости и искомой Мандельштамом художественной силы, адекватной революционным переменам, мы помним по стихотворениям 1917 года «Декабрист» и «Когда на площадях и в тишине келейной…», в которых Мандельштам, в мифологических медитациях, гадая о судьбах русской культуры в хаосе революций, примеривал к России «немецкий путь». Три года спустя, в статье «О природе слова», в контексте размышлений о том, кого должна воспитывать постреволюционная поэзия, Мандельштам вновь обратился к образам и культурологемам стихотворения «Когда на площадях и в тишине келейной…»:
«Общественный пафос русской поэзии до сих пор поднимался только до „гражданина“, но есть более высокое начало, чем „гражданин“, — понятие „мужа“. В отличие от старой гражданской поэзии, новая русская поэзия должна воспитывать не только гражданина, но и „мужа“. Идеал совершенной мужественности подготовлен стилем и практическими требованиями нашей эпохи. Все стало тяжелее и громаднее, потому и человек должен быть тверже…» («О природе слова», I, 230).
Пусть «германское» начало в 1917 году полностью и не соответствовало «идеалу совершенной мужественности», но, своеобразно смешавшись с мандельштамовскими представлениями об «ахейских мужах» (эллинство), оно, согласно Мандельштаму, оказалось наиболее адекватным ответом на поэтологические, культурные и политические запросы эпохи[199]. Э. Толлер, «мужественный германский революционер-спартаковец» (II, 283), с его грубой, но сильной поэтикой, оказывается в глазах Мандельштама носителем свойств, выдвинутых революцией и новым искусством, требующим простоты, чтобы его могли понять широкие революционные массы. По мнению Мандельштама, «мужественная революционная воля германского пролетариата, одушевляющая Толлера, переплескивается через театр, смывая его, как таковой, ничего не созидая для театра, действуя через него, пользуясь им, как средством» (II, 283). С одной стороны, Мандельштам в своем хвалебном выпаде подчеркивает благородство революционной воли, в котором он отказывал «германству» в 1917 году, с другой — на примере Толлера Мандельштам видит опасность потери автономности, угрожающую современному искусству. Мандельштам, с одной стороны, погружен в актуальный дискурс об изменении статуса литературы, филологическая рефлексия которого начнется с опозданием, во второй половине 1920-х годов (в статьях Эйхенбаума «Литературный быт» и Тынянова «Литературная эволюция»); с другой — Мандельштам, привыкший разделять поэтологические и культурно-политические вопросы, четко разграничивает революционность искусства и инструментализацию искусства революцией. В этом разделении выдает себя дореволюционный Мандельштам, выросший в чисто поэтологических дискуссиях 1910-х годов: он противопоставлял филологизм акмеизма культурософским и религиозным амбициям символизма, игнорировавшего «самостояние» поэтического произведения. Характерно и отличие: если в случае символизма Мандельштам однозначно осуждал нарушения автономности литературного ряда, то при анализе революционного искусства, частью которого он хочет стать, поэт пользуется более тонкими дифференциациями.
Особая чувствительность Мандельштама к подобного рода проблемам связана с тем, что в юности он глубоко пережил и пору религиозных исканий, и, примкнув к эсерам, революцию 1905 года; причем на фазу религиозно-революционных поисков пришлись и первые поэтические опыты. Религия, революция и поэзия сплелись в один клубок, который Мандельштам распутывал, отдавая предпочтение поэзии: теоретически — в акмеистических диспутах, практически — в стихах «Камня». К тому же Мандельштам помнил время своего ученичества у символистов; в отличие от Гумилева, прошедшего техническую школу Брюсова, для которого религиозные вопрошания символизма были лишь предметом, тематическим поводом, Мандельштаму выпало ученичество у Вяч. Иванова, одного из самых последовательных теоретиков символизма как течения, выходящего за рамки литературы. В эссеистике начала 1920-х годов Мандельштам еще острее, чем в 1913 году, полемизирует со своим бывшим учителем, отталкиваясь и самоутверждаясь.
Выпады против символизма в статьях 1920-х годов не только «рецидив» дореволюционной полемики, вызванный краткосрочной иллюзией возрождения акмеизма в начале 1920-х годов. Критикуя символизм, Мандельштам косвенно критикует и современное революционное искусство. В отличие от 1910-х годов, когда у Мандельштама был выбор, в 1920-е он вынужден был искать свою нишу в новом обществе и в новом искусстве, которому сказал свое решительное «да». Именно это приятие революции и легитимировало в глазах Мандельштама его полноправное, критическое участие в культурно-политической и художественной жизни страны.
В свете критики символизма, которая красной нитью проходит через всю эссеистику Мандельштама 1920-х годов, от статьи «О природе слова» до рецензий на «Записки чудака» А. Белого и «Еретика из Соаны» Г. Гауптмана, вполне закономерными и последовательными выглядят мандельштамовские упреки Толлеру в символизме. Толлер пользуется «старыми средствами… германского модерн-символизма», которые напоминают приемы Леонида Андреева (II, 283). Отношение к немецкому модерн-символизму у Мандельштама было не менее критическим, чем к его русскому аналогу. Это неприятие — не от незнания: в предисловии к Толлеру, так же как и в критике Гауптмана (II, 323–324), Мандельштам предстает компетентным критиком немецкого декаданса. Какие же черты немецкого «модерн-символизма» не приемлет Мандельштам и почему? Вот его аргументы:
«Германский модернизм, колеблясь между легким чтением и так называемыми „символическими и мистическими запросами“, выработал особую разновидность повествования, уснащенного психологией и высокопарной символикой, но не лишенного внешней занимательности. С одной стороны, сомнительные глубины, но с другой — нельзя же пренебрегать и легкомысленными вкусами среднего читателя. В результате целый пантеон грошового символизма, где „глубины духа“ отлично приспособлены к вагонному чтению» (II, 323).
Мандельштам критикует как двунаправленность немецкого модернизма (мистика в беллетристической подаче), так и саму амбициозно-спекулятивную склонность к религиософским вопрошаниям. Книга Гауптмана как одна из типичных «тяжеловесных экстатических повестей» является для Мандельштама примером того, как «германская новелла-модерн окончательно отяжелела и заплыла жиром» (II, 323–324). Упрек в тяжеловесности знаком нам по стихотворению «Валкирии», в котором критиковалась «громоздкая» опера Вагнера — одного из родоначальников немецкого «модерн-символизма». Громоздкость и тяжеловесность в устах Мандельштама приобретают характер поэтологических терминов: автор программного «Камня» и «Notre Dame», поставивший перед собой задачу «из тяжести недоброй» прекрасное создать, упрекает символизм в неумении справиться с первичной тяжестью художественного материала. Характерен и мотив «вагонного чтения», реминисцирующий шарж антисимволистского стихотворения «Американка», в котором культурная туристка — американка — читает в вагоне предсимволистского «Фауста». Мандельштам пользуется образом, разработанным в рамках немецкой темы вообще и критики «немецкого» символизма в частности.
Немецкий символизм Мандельштам не принял целиком, в отличие от русского символизма, вклад которого в русскую поэзию он попытался оценить объективнее и дифференцированнее, делая оговорки и исключения. Ни один немецкий автор конца XIX — начала XX века не стал полнокровной частью читательского и поэтического мира Мандельштама. Новейшая немецкая поэзия заинтересовала его лишь в тот момент, когда перешла от символизма к экспрессионизму — этому немецкому аналогу русского футуризма, позитивный интерес к которому у Мандельштама возник как раз в 1922–1923 годах. В немецком символизме Мандельштам видел те черты русского символизма, которые он убежденно критиковал. Мандельштам был человеком уже другого поколения, поколения, «преодолевшего символизм». Он полагал, что Толлер преодолел символизм лишь частично: «Толлер, как драматург, всецело в плену у символики мюнхенского модерна и весь его трагический пафос беспомощно виснет на символических манекенах» (II, 284)[200].
Отношение Мандельштама к Толлеру сложное, неоднозначное: в сравнении с его русскими аналогами у Толлера «вместо бледной интеллигентской немочи (как у Л. Андреева и проч. — Г.К.) живая кровь, настоящий пафос, железная революционная воля» (II, 284). Показательно, как мандельштамовские оценки Толлера приобретают то поэтологический, то культурно-политический смысл: на этом смешении филологических характеристик и политизированных лозунгов культурной революции Мандельштам выстраивает свои концепции 1920-х годов о сотрудничестве государства и культуры и месте поэзии в этой новой культурно-политической ситуации.
По Мандельштаму, в массовых хорах Толлера «есть что-то прометеевское и исконно-германское», Толлер «сумел из варьяций Интернационала сделать настоящий гимн» (II, 284). В своих аллюзиях Мандельштам намекает на оду Гете «Прометей». Об актуальности гетевских ассоциаций говорит и то, что, как показывает Мандельштам, новый тип толлеровского «массовика» требует столь же четкой «драматической характеристики», как и индивидуалист, в качестве примера индивидуалиста Мандельштам приводит Фауста (II, 285). В своих отсылах к германскому Прометею Мандельштам следует и ницшеанским интерпретациям мифа, которые, в свою очередь, отсылают к Гете. У Вяч. Иванова в статье «Гете на рубеже двух столетий» (1912) и в публичной лекции «О границах искусства» (1913) Прометей выступает в гетевском обрамлении (1994: 217, 248–252), а в статье «Ницше и Дионис» (1904), которую Мандельштам реминисцировал в «Оде Бетховену», — в контексте музыкально-философского дионисийства Ницше, Вагнера и Бетховена, воплощая «героический и трагический пафос» (1994: 28). Соединение гимнического и хорового знакомо нам не только по бетховенскому, но и по баховскому контексту (полифоническое ликование Баха в стихотворении 1913 года). Немецкий знаменатель определяет прометеевские ассоциации Мандельштама. Сам Мандельштам в статье «Скрябин и христианство» противопоставил «Прометею» — «огненной поэме» Скрябина — «Прометея» Бетховена (I, 204). Привязка «прометеевского» и «хорового», в свою очередь, восходит у Мандельштама к интерпретациям из статьи В. Иванова 1905 года «Вагнер и Дионисово действо» (1994: 35)[201]. И если у мандельштамовского Скрябина хор «немотствовал», то в революционной поэзии Толлера хоровое и прометеевское вновь зазвучали в полный голос.
Однако мандельштамовские аллюзии имеют не только культурософский характер — риторика революции превратила Прометея, бывшего у Гете и Ницше символом трагического самостояния и богоборчества, в символ свободомыслящего пролетариата, поднявшегося на классовую борьбу. В мандельштамовской оценке Толлера ассоциации из культурософского мифотворчества (в духе статьи «Скрябин и христианство») переплетаются с новой, революционной семантикой. Восхваляя немецкого драматурга и революционера, Мандельштам, ищущий в 1922 году путей обновления своей поэтики, цитирует именно поэтические фрагменты пьесы «Человек-масса». Так, в качестве примера «исконно-германского» «пафоса высокой трагедии» выступают толлеровские вариации «Интернационала» (II, 284):
Völker hört die Signale, Reiht euch ein, der Würfel fällt. Die Internationale Erkämpft — befreit die Welt. (Toller 1978: 99) Мир разбужен сигналом — Жребий выпал! Грянь бой! С Интернационалом Воспрянет род людской. (IV, 342)Толлеровский текст представляет собой вариацию главного немецкого перевода «Интернационала» Эмиля Лукардта (Е. Luck-hardt) 1910 года: «Vöker, hört die Signale! / Auf zum letzten Gefecht! / Die Internationale / Erkämpft das Menschenrecht» (цит. no: Moßmann, Schleuning 1978: 174–175). У Э. Лукардта Толлер частично перенял и рифмовку рефрена, которую сохранил и Мандельштам: сигналом — интернационалом; во французском оригинале internationale рифмуется с finale. Автор прижившегося русского перевода А. Я. Коц отказался от рифмовки 1-го и 3-го стихов в пользу более точного лексического соответствия оригиналу Э. Потье: «Это есть наш последний / И решительный бой. / С Интернационалом / Воспрянет род людской» (Коц 1968: 160–161). Мандельштам, с одной стороны, следует рифмовке Толлера — Лукардта, с другой — дословно перенимает вторую часть рефрена Коца.
К тому моменту, когда Мандельштам взялся за этот перевод, «Интернационал» был гимном советской России. В связи с этим особое значение приобретают мандельштамовские проекты «выхода из национального распада» послевоенной Европы, с тем чтобы прийти к «вселенскому единству, интернационалу»; об этом поэт говорит в статье «Пшеница человеческая», написанной также в 1922 году (II, 250). Как и в случае с прометеевскими ассоциациями, новая революционная риторика гармонично сочетается с экуменическим пафосом культурософских концепций: так на идейно-лексическом уровне Мандельштам реализует свою утопию о сотрудничестве культуры и революции.
Вариации «Интернационала» типичны не только для немецкой, но и для русской революционной поэзии: достаточно вспомнить «Интернационал» Маяковского, который поют герои «Мистерии-Буфф» в конце второй версии пьесы (1956: II, 355)[202]. В этом смысле мандельштамовский перевод толлеровского «Интернационала» — своего рода полемическое продолжение традиции вариаций «Интернационала», начатой Маяковским. Не только Маяковский, но и Мандельштам благодаря своим переводам из Толлера хочет и может участвовать в политико-поэтическом Интернационале советско-германского революционного братства.
Мандельштам не может выбрать между взаимоисключающими оценками Толлера (метонимически представляющего все современное революционное искусство): с одной стороны, «весь его (Толлера. — Г.К.) трагический пафос беспомощно виснет на символических манекенах», с другой — «все, все прощается Толлеру за великий пафос подлинной, хотя и не воплощенной, трагедии» (II, 284–285). Эта неопределенность и двузначность в характеристиках Толлера — свидетельство трагической раздвоенности самого Мандельштама, ищущего свой путь между творческим индивидуализмом искусства и коллективистским требованием времени, между максимами революции и средствами ее адекватного поэтического воплощения. Актуальный императив понятности и элементарности искусства может умалить всю трагическую сложность произведенных революцией сдвигов в сознании современности вообще и в творческом сознании художника в частности:
«Он (Толлер. — Г.К.) с необычайной силой столкнул два начала: лучшее, что есть у старого мира, — гуманизм и, преодолевший гуманизм ради действия, новый коллективистический императив. Недаром слово действие звучит у него, как орган, и покрывает весь шум голосов» («Революционер в театре», II, 285–286).
Внутренний конфликт толлеровской героини, «погибающей от раздвоенности» между новой революционной действительностью и «гуманизмом» (II, 286), соприроден мандельштамовским раздумьям начала 1920-х годов, ставшим особенно напряженными после казни Гумилева. По мнению Мандельштама, Толлер вложил в уста героини «самые сильные, самые огненные слова, какие мог произнести старый мир в защиту гуманизма» (II, 286): скорее всего, Мандельштам имеет в виду реплики Женщины перед казнью в конце «Человека-массы», монолог Женщины, обращенный к Безымянному, Человеку-массе. Толлеровская героиня ставит старых «убийц во имя государства» и новых — во имя «грядущих», «ради человечества» в один ряд (IV, 355). Толлеровская героиня не желает более жить и сотрудничать с изжившим себя старым миром, но и оказывается не готова принять «волю масс», потому что для нее «человек выше массы» (IV, 334). Она отвергает любое насилие над человеком и не желает, подобно Безымянному, «приносить современников» «отвлеченному ученью в жертву» (IV, 356). Помимо этого монолога, Мандельштам имел в виду и речи героини в защиту заложников, которых готова казнить масса. Кредо героини — «Я сохраняю гордость ваших душ и человечность! Только человечность!» — корреспондирует с мыслями Мандельштама о теологическом тепле и гуманистическом оправдании современности, высказанными в статье «Гуманизм и современность», интертекстуальными нитями связанной со статьей «Революционер в театре». Говоря о Толлере, Мандельштам говорит о себе: в 1922 году выходит книга «скорбных плачей» «Tristia», в которой были собраны стихи 1916–1920 годов, — поэтическая летопись расставания Мандельштама со «старым миром».
В то же самое время Толлер «переболел в себе гуманизм во имя действия — вот почему так ценен его коллективистический порыв» (II, 286). Мандельштам 1922 года еще не может «переболеть» в себе гуманизм, но уже характеризует его как болезнь. Таким образом, Мандельштам при характеристике Толлера использует не только конкретные идейно-образные заготовки из арсенала немецкой темы, но и саму ее оксюморонность — поэт тематизирует «оксюморонность» собственного культурно-литературного положения. Перевод и комментарий пьесы Толлера стал для Мандельштама первым решительным и болезненным шагом навстречу «монументальности надвигающейся социальной архитектуры» («Гуманизм и современность», II, 287).
2.3.3. Немецкие мотивы в агитационно-апокалиптической образности стихотворения «Опять войны разноголосица…»
В прогерманской атмосфере 1922–1923 годов Мандельштам пишет оду «Опять войны разноголосица…», которая вошла в сборник «Лёт», посвященный созданию советской авиации. По нескольким причинам разбор этого стихотворения должен предварить разговор о переводах из Бартеля: стихотворение «Опять войны разноголосица» (далее — ОВР) посвящено актуальному советско-немецкому сотрудничеству, содержит образы и мотивы из арсенала немецкой темы в творчестве Мандельштама; в силу насыщенности немецкой образностью ОВР стало одним из главных интертекстов переводов из Бартеля:
1. Опять войны разноголосица 2. На древних плоскогорьях мира, 3. И лопастью пропеллер лоснится, 4. Как кость точеная тапира. 5. Крыла и смерти уравнение 6. С алгебраических пирушек, 7. Слетев, он помнит измерение 8. Других эбеновых игрушек, 9. Врагиню-ночь, рассадник вражеский 10. Существ коротких, ластоногих, 11. И молодую силу тяжести: 12. Так начиналась власть немногих… 13. Итак, готовьтесь жить во времени, 14. Где нет ни волка, ни тапира, 15. А небо будущим беременно — 16. Пшеницей сытого эфира. 17. А то сегодня победители 18. Кладбища лёта обходили, 19. Ломали крылья стрекозиные 20. И молоточками казнили. 21. Давайте слушать грома проповедь, 22. Как внуки Себастьяна Баха, 23. И на востоке и на западе 24. Органные поставим крылья! 25. Давайте бросим бури яблоко 26. На стол пирующим землянам 27. И на стеклянном блюде облако 28. Поставим яств посередине. 29. Давайте всё покроем заново 30. Камчатной скатертью пространства, 31. Переговариваясь, радуясь, 32. Друг другу подавая брашна. 33. На круговом, на мирном судьбище 34. Зарею кровь оледенится, 35. В беременном глубоком будущем 36. Жужжит большая медуница. 37. А вам, в безвременьи летающим 38. Под хлыст войны за власть немногих, — 39. Хотя бы честь млекопитающих, 40. Хотя бы совесть — ластоногих. 41. И тем печальнее, тем горше нам, 42. Что люди-птицы хуже зверя 43. И что стервятникам и коршунам 44. Мы поневоле больше верим. 45. Как шапка холода альпийского, 46. Из года в год, в жару и лето, 47. На лбу высоком человечества 48. Войны холодные ладони. 49. А ты, глубокое и сытое, 50. Забременевшее лазурью, 51. Как чешуя, многоочитое, 52. И альфа и омега бури, — 53. Тебе — чужое и безбровое — 54. Из поколенья в поколение 55. Всегда высокое и новое 56. Передается удивление. («Опять войны разноголосица…»; 1995: 353–354)Как мы помним, в 1923 году, то есть в период создания стихотворения, в контексте разговора о Барбье Мандельштам легитимировал использование «злобы газетного дня» в современной поэзии (II, 304). Одной из главных тем обсуждения в газетах в 1923 году было критическое политическое положение в Европе. Надвигается военная катастрофа, а, по Мандельштаму, «политическая жизнь катастрофична по существу» («Пшеница человеческая», II, 249)[203].
После Рапалльского договора (1922) учащаются обоюдные признания в солидарности между побежденной Германией и революционной Россией, усиливаются нападки на Францию и Великобританию как на источники военной угрозы в Европе, особенно после оккупации Рейнланда и Рура в начале 1923 года, строятся планы по созданию Красного воздушного флота. Политическая обстановка накаляется, советская Россия и весь мир оказываются на пороге новой мировой войны[204].
Неудивительно, что сложная политическая обстановка вызвала у Мандельштама воспоминания о Первой мировой войне и своих поэтических откликах на нее. Со «Зверинцем» ОВР связывает не только пафос обличения войны — налицо конкретные жанрово-тематические и образные переклички. В обеих одах сходен сюжетный зачин: «Опять войны разноголосица / На древних плоскогорьях мира» в ОВР (ст. 1–2) и «Отверженное слово „мир“ / В начале оскорбленной эры» в «Зверинце». Призыву к миру в «Зверинце» и визионерской утопии в ОВР предшествуют описания ужасов войны. Следуя метафорике «Зверинца», Мандельштам пользуется анималической образностью, в которой реализуется метафора «зверств» войны: ОВР «переполнено» образами зверей: тапир (ст. 4, 14), ластоногие (ст. 10, 40), волк (ст. 14)[205], стрекозы (ст. 19), медуницы (ст. 36), млекопитающие (ст. 39), «люди-птицы хуже зверя» (ст. 42); стервятники и коршуны (ст. 43), оторвавшись от своего геральдического образца, продолжают линию орлов «Зверинца». Существенно и различие: в «Зверинце» звери были «нормальными», а их появление мотивировалось идиллическим жанром (ягнята и волы) и геральдической образностью (орел, медведь, петух): желая показать смехотворность воюющего зверинца европейских народов и войну как недоразумение, Мандельштам играючи смешивал буколическую, басенную и геральдическую анималику (используя геральдические карикатуры военной прессы). Тем самым поэт хотел сначала вызвать у читателя улыбку, чтобы потом, в разреженной обстановке поговорить об искомом мире.
В ОВР нагромождения экзотических и диких животных преследуют иную цель. Мандельштам отказывается от аллюзий на конвенциональную геральдику и, напротив, активно наращивает непривычно мотивированную метафорику: так, «лопастью пропеллер лоснится, / Как кость точеная тапира» (ст. 3–4). Тот же самый пропеллер, метонимия грозящей войны, «помнит» «врагиню-ночь» (ст. 7–9), которая, в свою очередь, выступает как «рассадник вражеский существ коротких, ластоногих» (ст. 9–10). Сложный синтаксис затрудняет читательскую реконструкцию экспрессионистских видений автора, усиливая впечатление от пророческой риторики: частью грядущего ада и является апокалиптический зверинец бывшей (Первой мировой) и будущей войны. Первая строфа заканчивается многоточием: видение катастрофы можно было бы описывать и дальше, но Мандельштам многозначительно обрывает это описание — в следующих строфах он говорит уже не о видении войны, а о видении мира: «А небо будущим беременно — пшеницей сытого эфира» (ст. 15–16). Эфир (ст. 16) — слово из вокабуляра «Зверинца», рифменно подкрепленная мифологема мира (I, 118–119). Миру — эфиру угрожают страны Антанты — «победители» прошлой войны (ст. 17), уничтожающие немецкую авиацию (Гаспаров 2001а: 643).
Если в первой строфе самолеты воспринимались как угроза войны и носители смерти («крыла и смерти уравнение»: ст. 5), то во второй они — жертвы (мотив казни самолетов в ст. 18–20). Противоречие — кажущееся: Мандельштам 1923 года уже не пацифист-«миротворец» образца 1916-го, а человек, знакомый с реальной политикой: разрушая авиацию Германии, дружественной России, версальские победители не только «бьют лежачего», они нарушают баланс сил, гарантом которого было сохранение военного потенциала Германии. Оружие — не только орудие войны, но и орудие мира. Нельзя просто смотреть на то, как Антанта сегодня унижает и уничтожает Германию, а завтра сможет и захочет напасть на советскую Россию. Поэтому в следующей строфе Мандельштам обращается с призывом к действию, используя образность, наработанную в рамках немецкой темы:
21. Давайте слушать грома проповедь, 22. Как внуки Себастьяна Баха, 23. И на востоке и на западе 24. Органные поставим крылья!Образ органных крыльев (ст. 24) содержит не только метафору крыльев самолетов (то есть войны), но и культуры. Мотивация внедрения Мандельштамом баховских мотивов в идейно-образную ткань ОВР имеет внешний и внутренний, под- и контекстуальный характер. Уже в «Грифельной оде», написанной незадолго до ОВР, появился образ «иконоборческой доски», контекстуально отсылающий к описанию интерьера лютеранской кирки в «Бахе» (Ronen 1983: 145–146). В той же «Грифельной оде» появился мотив «проповедующего отвеса», корреспондирующий с «проповедью грома» в ОВР (ст. 21). В связи с «отвесом» вспоминается описание Айя-Софии (3-я строфа) и Notre Dame (12-й стих) в одноименных стихотворениях 1912 года. Но «проповедь» — слово не из «православно-католического», а из «лютеранского» словаря Мандельштама. Неслучайно мотив проповеди возникает у него в баховском контексте. В «проповеди отвеса» в единое эстетико-риторическое целое соединяются христианские конфессии. Мандельштамом выстраивается плотная интертекстуальная основа утопии о вселенском экуменическом интернационале.
Начало 1920-х годов — период бурных культурно-политических прений, развернувшихся в советской прессе (внимательным читателем которой был Мандельштам), о культурном наследии прошлого. На 1923 год приходится пик публичных диспутов о религиозном искусстве. Д. Сегал отметил тот факт (1998: 774), что в начале 1923 года по радио транслировали Баха, С. Фейнберг исполнил «Хорошо темперированный клавир», о чем писали «Известия В ЦИК» (27 февраля 1923 года), в прессе велись дискуссии по поводу религиозности и/или революционности Баха. Баховская тема была Мандельштаму близка, а ее новая оксюморонная, революционно-религиозная трактовка предоставляла дополнительные возможности для метафоризации утопий экуменического интернационала.
Мандельштам пользуется в ОВР контекстуальными заготовками из арсенала баховской темы в силу ее полемической полисемичности, охватывающей семантические поля немецкого, религиозного и революционного. Во-первых, баховская тема — часть немецкой темы, а ОВР описывает немецкие события; во-вторых — протестантской, то есть религиозной. Напомним лишь, что в статье «Вульгата», написанной примерно в то же время, что и ОВР, Мандельштам уже переписал портрет Лютера: из «безблагодатного» религиозного реформатора он превратился в Лютера-переводчика, революционера-реформатора немецкого языка. После Лютера настала и очередь Баха.
Стихотворение начинается с описания «войны разноголосицы», а «разноголосица» — ключевое слово стихотворения «Бах» (Broyde 1975: 131). В ОВР появляются и некоторые сюжетно-тематические ходы «Баха»: помимо «проповеди», с которой в «Бахе» смешивалась музыка композитора и которая теперь метонимически перешла на саму музыку Баха, в ОВР появляются и «внуки Себастьяна Баха» (ст. 22). Но если в стихотворении 1913 года образ «внуков» Баха использован в прямом значении и, указывая на конкретную деталь биографии немецкого композитора, имеет декоративно-детализирующую, описательную функцию, то в ОВР этот образ метафорически приобретает культурно-политический смысл. Современные художники и поэты, да и вообще все современники, оказываются «внуками Себастьяна Баха», его наследниками. Ключевой семантический признак ассоциативной привязки Баха к событиям современности — монументальность, величие. В связи с этим знаменательно уже цитированное нами высказывание И. Эренбурга о том, что Мандельштам постиг «величие истории, творимой после Баха и готики» (2002: 83)[206].
Прямой контекстуальный источник баховской органной образности в ОВР — уже цитированная нами концовка мандельштамовской статьи «Революционер в театре»: у Толлера, столкнувшего в своей пьесе гуманизм старого мира и коллективистический императив революционной современности, слово-действие звучит «как орган и покрывает весь шум голосов» (II, 286). Орган воплощает и одновременно «покрывает» «шум голосов» массы — ту кричащую разноголосицу, о которой шла речь в «Бахе». Органность связуется с хоровым началом, хоровое — с массовым и революционным. Примерно по такой метонимической цепочке могла двигаться поэтическая мысль Мандельштама в процессе написания ОВР.
Образно-идейная связь ОВР с положениями статьи «Пшеница человеческая» проливает свет и на образную перекличку органных крыльев потомков Баха с «широкими лапчатыми крыльями мельниц», где будет смолото зерно «человеческой пшеницы» (II, 249), из которого и будет испечен евхаристический хлеб для «пирующих землян» (ст. 26). Метафорический потенциал баховского органа, разработанный в стихотворении, которое было написано десятилетием ранее («Бах»), пришелся как нельзя кстати и гармонично наложился на «авиационную» образность. Свою роль сыграло и подмеченное Мандельштамом внешнее сходство между органом и самолетом[207].
Баховская, органная тема в ОВР контекстуально связана и со стихотворением «Ветер нам утешенье принес…», в котором, так же как в ОВР, «работает» образ стрекозиных крыльев. Библиографической мотивацией для сопоставления обоих стихотворений служит и их совместная публикация в сборнике «Лёт» 1923 года в рамках единого цикла. Вот первые две строфы этого стихотворения:
Ветер нам утешенье принес, И в лазури почуяли мы Ассирийские крылья стрекоз, Переборы коленчатой тьмы. И военной грозой потемнел Нижний слой помраченных небес, Шестируких летающих тел Слюдяной перепончатый лес. («Ветер нам утешенье принес…», II, 40)Среди подтекстов стиха «Ветер нам утешенье принес…» — строка Тютчева «Знакомый звук нам ветр принес…» из стихотворения «Из края в край, из града в град…», представляющего, в свою очередь, вольное переложение-вариацию на тему гейневского «Es treibt dich fort von Ort zu Ort…». Так присутствие немецких культурнополитических реалий в «авиационных» стихах заставило Мандельштама вспомнить о тютчевском переводе Гейне. Ассоциативный признак — принадлежность к семантическому полю немецкого[208].
Культурным аналогом и одновременно противовесом «военной грозе» (2-я строфа) выступает в ОВР «грома проповедь» (ст. 21), «ассирийским крыльям стрекоз» — «органные крылья» (ст. 24), «лесу шестируких летающих тел» — аллюзии в ОВР на готический «стрельчатый лес органа» из стихотворения «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа…». Так, на уровне контекстуального «диалога» Мандельштам реализует свои положения статей начала 1920-х годов: призыв поставить «и на востоке и на западе» «органные крылья» и вслушаться, подобно «внукам Себастьяна Баха», в «грома проповедь» соотносим с размышлениями об ассирийско-египетской «монументальности надвигающейся социальной архитектуры» и ее «гуманистическом оправдании» (II, 286).
Призыв поставить органные крылья «и на востоке и на западе» образно перекликается со стихотворением «Айя-София» (1912): «щедрый» строитель главного православного храма «расположил апсиды и экседры, / Им указав на запад и восток» (I, 79). Контекстуальные нити ОВР лексически и тематически тянутся к экуменическому циклу 1912 года. В ОВР Мандельштам предлагает новую версию экуменической идиллии. И если экуменические медитации 1912 года происходили на историческом материале и были обращены к прошлому, то в ОВР эта тема принимает футурологические черты будущего «вселенского интернационала», «пира землян»:
25. Давайте бросим бури яблоко 26. На стол пирующим землянам 27. И на стеклянном блюде облако 28. Поставим яств посередине.В образах «алгебраических пирушек» (ст. 6) и «пирующих землян» (ст. 26) в ОВР реанимируется мотив пира-пирушки, ставший одним из неотъемлемых атрибутов немецкого в стихотворениях «Когда на площадях и в тишине келейной…» и «Телефон». В ОВР пир коннотирован уже не амбивалентно: происходит евхаристия, на столе «пирующих землян» — хлеб, испеченный из «пшеницы человеческой», хлеб единой Европы. В связи с хлебно-евхаристической метафорикой Е. Тодцес отметил «черты сходства эпизода пира в ОВР и описания евхаристии в „Вот дароносица, как солнце золотое…“» (1988: 191). Косвенное присутствие эстетики протестантизма (через Баха) дополняет православно-католический «пир» в ОВР. До ОВР образ пира принадлежал мотивному комплексу «варварства» («янтарь, пожары и пиры» в «Когда на площадях и в тишине келейной…»), теперь — христианско-революционного братства. «Экуменическая» метаморфоза варварского пира в пир евхаристический — часть стратегии Мандельштама по гуманизации современности. По мнению Тоддеса, если «Блок — духовный максималист и в принципе отрицает возможность компромисса между гуманизмом и „варварскими массами“», то «Мандельштам видит в этом культурный императив и стремится отождествить гуманизм и революцию» (Тоддес 1988: 199). ОВР — пример синтетического воплощения этой утопии.
На «стол пирующим землянам» бросается «бури яблоко» (ст. 25) — замена мифологического «яблока раздора» (Гаспаров 2001а: 643). Вместо разрушительного раздора и междоусобиц — смежная, но отличная от семантики раздора «буря», которая в стихотворениях и статьях 1920-х годов становится символом нового революционного искусства и творческого обновления. Для образа яблока существенна его контекстуальная параллель с «Шумом времени», написанным, как и ОВР, в 1923 году. Вот как Мандельштам описывает свою революционную юность: «Да, я слышал с живостью настороженного далекой молотилкой в поле слуха, как набухает и тяжелеет не ячмень в колосьях, не северное яблоко, а мир, капиталистический мир набухает, чтобы упасть!» (II, 376)[209]. Капиталистический мир опосредованно сравнивается с яблоком. Переводя этот контекст на язык метафорики ОВР, можно сказать, что буря революции сорвала яблоко старого мира на стол «пирующим землянам». Благодаря интертекстуальной метафорике яблоко старого мира оказывается частью евхаристического пира будущего. Однако это не только «положительное» привлечение старого мира в мир новый. Библейский образ яблока, а библейские ассоциации в контексте евхаристической темы представляются нам легитимными, содержит в себе мотив искушения. Яблоко раздора — продолжение «искусительной» линии, знакомой нам в рамках немецкой темы по образам Лорелеи («Декабрист») и лесного царя («В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа…»)[210].
Во второй половине ОВР немецкие мотивы появляются уже не так эксплицитно, как в первой, на смену баховским контекстам приходят немецко-тютчевские подтексты. Речь не только о стрекозином мотиве, который ляжет в основу мандельштамовской загадки о Тютчеве 1932 года («Дайте Тютчеву стрекозу…»), но и о «шапке холода альпийского» (ст. 45), отсылающего к альпийской «прописке» Тютчева в статье «Пшеница человеческая» (II, 251). К Тютчеву восходит и еще один подтекстуальный нюанс стихотворения ОВР: строка «на лбу высоком человечества» (ст. 47) реминисцирует зачин тютчевского стихотворения на смерть Гете: «На древе человечества высоком…» (Тютчев 2002: I, 149)[211]. По-видимому, на тютчевские ассоциации Мандельштам вышел не только из-за принадлежности Тютчева к полю немецкого (в связи с протестантской линией ОВР достаточно вспомнить тютчевские интертексты «Лютеранина» и «Баха»), но и благодаря образу бури. Небо, «беременное» бурей, громом, грозой, — центральный мотив лирики Тютчева, а буря — лейтмотив не только разбираемого стихотворения («яблоко бури», «альфа и омега бури»), но и мандельштамовских статей того же времени («Буря и натиск» и т. д.).
Подтекстуальное обращение к Тютчеву мотивировано не только смежностью тютчевской темы с немецкой, но и некоторыми жанровыми особенностями ОВР. Жанровым или, точнее, метапоэтическим аналогам монументальности Баха и готики соответствует одичность стихотворения[212]. Монументальное время требует монументальных поэтических средств и форм; пространство оды в русской поэзии было издавна, начиная от Ломоносова и Державина, местом не только ликований, но и жанром призывов-предложений и утопических видений, причем главным образом политического характера. По мнению Л. В. Пумпянского, «классический поэт связан… с совершенно определенной картиной мира: монументальной» (2000: 157). Мандельштам 1920-х годов тематизирует эту константу «классической» поэтики. В связи с этим стоит отметить, что и ОВР, и процитированная статья Пумпянского были написаны в одно и то же время — в 1923 году: монументальный характер эпохи диктовал поэту Мандельштаму соответствующую образность, а филологу Пумпянскому подсказывал его историко-литературные гипотезы. Характерно, что в те же самые годы Тынянов разрабатывает положения своей будущей статьи «Ода как ораторский жанр» (1927), а Г. Гуковский приступает к исследованиям русской поэзии XVIII века, впоследствии вылившимся в книгу (1927)[213].
Словосочетание «грома проповедь» отсылает и к «громоподобной» традиции поэзии Державина и Тютчева[214]. В сочетании с «проповедью» «гром» сообщает мандельштамовскому высказыванию еще один немаловажный для нашей темы историко-литературный нюанс. Тютчевско-державинский одический принцип «трактовки звуковых тем» в духе немецкого барочного акустизма (Пумпянский 2000: 248) Мандельштам в своей оде ОВР вписывает в традицию морализирующей, догматической поэзии.
При трансплантации принципов немецкой оды на русскую поэтическую почву наряду с формальными особенностями были перенесены и многие риторически-содержательные константы оригинала; в случае мандельштамовской оды, опирающейся на Державина и Тютчева (в ОВР чувствительнее подтекстуальное присутствие Тютчева, в «Грифельной оде» — Державина) с ее одическими истоками — апеллятивность, инвективность, монументальность образов, колоризм. Мандельштам выстраивает свое высказывание, возрождая риторический и метафорический, не только «громоподобный», акустический, но и «цветовой» потенциал жанра: «камчатная скатерть» (ст. 30), оледеневшая кровь зари (ст. 34), белая «шапка» Альп (ст. 45), лазурь (ст. 50). Было бы ошибкой усматривать в «цветовых» пассажах ОВР лишь отголоски символистской эксплуатации сумерек и зари старшими современниками поэта (Белый, Мережковский и др.). Перед нами не символ, а пусть и сильно метафоризированная, но все же реальная картинка. Мандельштамовский колоризм восходит не только к символистам и цветовой метафорике немецких экспрессионистов, но и к цветовой образности «русско-немецкой» оды XVIII века. Мандельштам «колоризирует» свое высказывание, потому что помнит, что колоризм — одна из составляющих поэзии Державина, своего рода требование жанра: в русской оде с ее немецкими барочными и раннеклассицистскими истоками (Пумпянский 2000: 242) он уместнее, чем где бы то ни было.
В заключение разбора ОВР хотелось бы отметить, что, подобно тому как в стихах 1917–1918 годов «немецкое искушение», поначалу казавшееся варварским, скифско-германским «бредом» («Кассандре»), переосмысляется как исторический шанс России («Сумерки свободы»), в оде ОВР, представляющей собой отклик на «немецкие» события, конструируется оксюморонная утопия вселенского интернационала. Остается неясной временная направленность утопии: то ли она должна реализоваться после последней, революционной войны за мир, то ли перед лицом грозящей апокалиптической мировой войны. Автор «Зверинца», певец «мира» Мандельштам развивает и сталкивает в ОВР метафоры «мировой войны» и «мирового единства». Следующим идейно-фразеологическим принципом ОВР является взаимонаслоение значений слова «мир»: до орфографической реформы 1918 года мир и мiр были омофонами, после стали омографами. Полисемия «мира» оказалась для Мандельштама желанным поводом к наращиванию оксюморонности и полисемичности своей образности. Трансформация райского яблока раздора (Первая мировая война) в «яблоко революционной бури» — еще один пример такой полисемизации высказывания.
ОВР является то ли призывом к миру (как в «Зверинце»), то ли призывом к вооружению и дальнейшей войне за мир (вспомним место публикации стихотворения — сборник «Лёт», призывающий к созданию советской авиации). В туманной образности ОВР скрещиваются экуменические видения и революционные лозунги, апокалиптические видения и агитка. В ОВР идейная оксюморонность предстает как намеренно открытая полисемия, затрудняющая однозначное толкование текста и передающая неопределившееся (анти-)утопическое настроение Мандельштама и его времени.
2.3.4. Мандельштам — переводчик М. Бартеля
2.3.4.1. Исследовательская ситуация.
В поле зрения исследователей мандельштамовские переводы с немецкого попали с большим опозданием и с большим трудом. Больше всего не повезло переводам из Макса Бартеля. Исследователи избегали их по различным причинам: одним мешала скандальная репутация Бартеля, работавшего в нацистских изданиях, — дня западногерманских исследователей материал был слишком щепетильным, а в ГДР Бартеля, в свое время вышедшего из коммунистической партии, просто записали в реакционеры и предатели трудового народа[215]. Но прежде всего исследованиям препятствовала репутация самих мандельштамовских переводов немецких революционных поэтов вообще и Бартеля в частности. Конечно, было бы филологической натяжкой приравнивать переводы из Толлера или Бартеля к мандельштамовским переложениям Петрарки 1930-х годов: их Мандельштам делал не по заказу и ставил в один ряд со своими оригинальными стихотворениями[216].
Но не меньшей несправедливостью было бы просто закрывать на них глаза, как это делалось исследователями и издателями Мандельштама в 1960–1980-е годы. В предисловии к советскому изданию Мандельштама в «Библиотеке поэта» в хвалебном тоне были упомянуты мандельштамовские переводы из О. Барбье, Ф. Верфеля и Р. Шикеле (Дымшиц 1973: 9); но о переводах из Бартеля, количественно превышающих все остальные, не было сказано ни слова. Мандельштамовские переводы из Бартеля обходили молчанием и по ту сторону железного занавеса. Так, Г. Струве утверждал, что переводы из Бартеля сделаны ради денег и поэтому не представляют никакого, даже «документального» интереса (Струве, Филиппов 1964: 506). Оценка Струве была, судя по всему, согласована с вдовой поэта, которая также списывала «немецкие» переводы в разряд поденщины (Н. Мандельштам 1990b: 101). Издавая собрание сочинений Мандельштама (1964–1981), которое четверть века служило текстовой базой для всей западной русистики, Г. Струве перепечатал лишь два перевода из Бартеля, причем не для того, чтобы представить, хотя бы частично, «всего» Мандельштама, а чтобы показать на этом примере «невысокий уровень поэтического дарования этого немецкого поэта» и «недостойный Мандельштама художественный уровень» его бартелевских переводов (1964: 506). Используя свое огромное влияние на западную русистику, Г. Струве сам решал, что достойно публикаций и дальнейших исследований, а что нет. Так, в том же самом томе собрания сочинений он опубликовал два мандельштамовских перевода из Э. Толлера (которые, как выяснилось впоследствии, оказались переводами из Бартеля), потому что, по мнению Г. Струве, в отличие от «мало значительного» «пролетарского поэта Бартеля, Э. Толлер порвал с коммунизмом» (1964: 506). Свою роль при включении переводов из Толлера сыграло и то обстоятельство, акцентированное Струве (1964: 506), что Толлера переводил также и М. Кузмин, входивший в пантеон антисоветских поэтов, — таким образом легитимация была найдена.
По нашему мнению, Г. Струве и его единомышленникам не понравилось не качество переводов из Бартеля, а их содержание. Оно противоречило их антисоветским вкусам и не вписывалось в тот мифоподобный образ Мандельштама, который создавался совместными усилиями диссидентов в СССР и антисоветски настроенных эмигрантских кругов. Установка Струве прижилась[217]. Под воздействием антисоветского мученического ореола Мандельштама, сложившегося к 1980-м годам, «навязанным» переводам с немецкого противопоставлялись переводы с французского, как экзистенциально важные для Мандельштама[218]. Отрицательное, местами даже пренебрежительное отношение к переводам из Бартеля частично сохраняется и в наши дни[219], и это при том, что О. Ронен уже в 1983 году в своем хрестоматийном разборе интертекстов «Грифельной оды» рассматривал подтекстуальные примеры из переводов Бартеля наравне с оригинальными стихотворениями Мандельштама.
Основополагающую библиографическую работу с переводами 1920-х годов проделали А. Григорьев и Н. Петрова (1984), отыскавшие множество текстов, рассеянных в изданиях 1924–1926 годов. В 1986 году А. Мец призвал к тому, чтобы рассматривать переводы из Бартеля как «лабораторию» для поздней лирики поэта (цит. по II: 616). Библиографическую работу по отысканию немецких оригиналов переводов начал О. Ронен. Он не только привлек к своему анализу переводы из Бартеля, но и частично указал на те немецкие издания Бартеля, по которым Мандельштам осуществлял свои переводы[220]. Но решающую текстологическую брешь в вопросе о переводах из Бартеля пробил X. Майер (Meyer 1991): он нашел большинство бартелевских оригиналов, по которым переводил Мандельштам, и проделал их первичную тематическую систематизацию. Трудно переоценить воздействие библиографических находок Майера на издательскую практику мандельштамоведения: если в двухтомнике 1990 года переводы из Бартеля полностью отсутствовали, то во 2-м томе четырехтомного издания (1993–1997), то есть спустя почти 70 лет после первопубликации, они были вновь опубликованы с указанием на бартелевские оригиналы.
Но авторитет антисоветствующих мандельштамоведов был к моменту написания работы настолько высок, что X. Майеру пришлось сначала доказывать саму необходимость по крайней мере документально-биографического интереса к переводам из Бартеля, а по ходу исследования X. Майер сам, поддавшись влиянию антисоветского ореола Мандельштама, начал выискивать в них скрытую иронию и критику большевистской идеологии. Возникла характерная для мандельштамоведения 1980-х годов ситуация: X. Майер осторожно, но убедительно критикует позицию Струве (Meyer 1991: 72, прим. 2) и сам тут же попадается в ловушку антисоветского мифа о Мандельштаме. Уже в самом названии его статьи — «Эпизод из „глухих годов“ Мандельштама: переводы М. Бартеля» («Eine Episode aus Mandel’štams „stummen Jahren“: Die Max-Barthel-Übersetzungen») — подчеркивается эпизодичность, a значит, и маргинальность этих переводов[221].
Эти замечания ни в коей мере не призваны умалить ценность текстологической работы и множества точных поэтологических замечаний X. Майера, но они показывают, как в «антисоветском» мандельштамоведении представления о взаимоотношениях государства и литературы, обусловленные тем, что происходило в 1930-е годы, почти механически переносятся на первую половину 1920-х годов. Антисоветское толкование переводов первой половины 1920-х годов продолжает традицию оправдательного, «эзопова» прочтения «Оды» Сталину[222].
Исследовательская ситуация кардинально изменилась с появлением биографически-текстологических мемуаров Э. Герштейн (1986) и стиховедчески-семантических штудий М. Л. Гаспарова по поздней, гражданской, лирике Мандельштама (1996): идеологизированный и конъюнктурный образ поэта, чуть ли не с 1917 года начавшего путь мученика большевистского режима, по-диссидентски упрощавший всю противоречивость и трагичность судьбы и творчества Мандельштама, был окончательно расшатан. На примере стихов второй половины 1930-х годов М. Л. Гаспаров показал, что отношение Мандельштама к советской действительности складывалось сложнее и драматичнее, чем это пропагандировалось многими мандельштамоведами 1950–1980-х годов[223].
2.3.4.2. Мандельштам о поэтике М. Бартеля.
Прежде чем приступить к анализу мандельштамовских переводов из М. Бартеля, хотелось бы коснуться отношения Мандельштама к его поэтике, сформулированного в предисловии к сборнику «Завоюем мир!». В соответствии с запросами современности Мандельштам очертил главные политико-поэтические аспекты лирики немецкого поэта. Некоторые характеристики Бартеля почти дословно повторяют те формулировки, с помощью которых Мандельштам характеризовал другого поэта, которого переводил в 1923 году, — Огюста Барбье. Мандельштам подчеркивает важность Июльской революции для поэтического становления Барбье: «Если бы не 1830 год, он (Барбье. — Г.К.) навсегда бы остался бледным и банальным романтиком» («Огюст Барбье», II, 303). Знаменательны идейно-синтаксические конвергенции в мандельштамовских характеристиках Барбье и Бартеля: «Если бы не война и не русская революция, мы бы никогда не увидели Бартеля во весь рост. История оставит за ним имя поэта германского „Марта“, поэта 19-го года, подобно тому, как Барбье был вынесен на гребне революции 1830 года» (II, 422). При обсуждении актуальности Бартеля Мандельштам опирается на свои концепции сотрудничества между государством и культурой. Поэзия Бартеля призвана разбить «решетку» «между культурой и рабочей молодежью» (II, 421). По мнению Мандельштама, немецкий поэт выразил главные проблемы немецкого пролетариата («жажда действия, стыд бессилия, братский укор русского примера, вся нравственная трагедия… уже не одной молодежи, а мучительно созревшего класса») «с чисто германской мужественностью» (II, 422). В своих характеристиках Бартеля Мандельштам, отталкиваясь от своих собственных концепций, опирается не только на сделанные им же характеристики Барбье, но и на описания «мужественного» германского «революционера в театре» Толлера. При этом Мандельштам вновь обращается к тем стереотипно звучащим семантическим свойствам и эпитетам «немецкого», которые у него сформировались в рамках немецкой темы (топика германского мужества), носителем которой в 1922 году выступал Толлер («Революционер в театре», II, 283).
Однако важны и различия в характеристиках Толлера и Бартеля, свидетельствующие о развитии топики германского мужества у Мандельштама в 1920-е годы: если в первом случае мужество является частью политического образа Толлера, то мужество Бартеля переносится с политико-биографического на поэтологический уровень. Этот пример показывает не только механизмы трансформации культурологем в поэтологемы, характерные для Мандельштама 1920-х годов, но и то, как на лексическо-концептуальном уровне лирика Бартеля сознательно вписывается в немецкую тему, наработанную Мандельштамом в рамках собственного творчества. Это во многом объясняет обилие реминисценций из мандельштамовского же «архива» немецкой темы в переводах из Бартеля.
В своем предисловии Мандельштам задается вопросом о генезисе поэтики Бартеля:
«Кто предки Бартеля? С одной стороны, вся вековая мудрость германского символизма с ее родоначальником Гете, а с другой — Фрейлиграт, Гервег и немногие другие литературные одиночки-революционеры… Тоска по обетованной стране культуры, которую должен завоевать пролетариат, напоминает у Бартеля тягу старших немецких поэтов к Италии, к блаженному югу» (II, 421–422).
Немецкая «тоска по обетованной стране культуры» представляет собой первую редакцию центральной мандельштамовской формулы «тоска по мировой культуре». С нее начинаются многие научные работы по культурософии Мандельштама; при этом часто забывается, что произнесена она была впервые в «немецком» контексте, в рамках разговора о Гете и Бартеле[224].
Согласно X. Майеру, в следующем высказывании «знаток Мандельштама» («Mandel’štam-Kenner») может «расслышать формулировки, не подходящие для Бартеля и характерные для переводчика» («für den deutschen Dichter eher unpassende, aber für den Übersetzer charakteristische Formulierungen aufhorchen»: 1991: 80):
«На примере Бартеля мы видим, как историческая необходимость создает классового поэта из чужого материала, перерабатывая в горниле классовой борьбы идеалистическую психологию, преодолевая символизм и заставляя служить интересам масс весь арсенал буржуазной поэтики» (II, 421).
Остается неясным, почему мандельштамовские формулировки не подходят к Бартелю. Как раз наоборот — мы видим в них точное литературно-историческое описание политического контекста бартелевской лирики. То, что синтетический постсимволист Мандельштам при этом проводит параллели к собственной поэтике (преодоление символизма), скорее выказывает его интерес к поэтике немецкого постсимволиста Бартеля. X. Майер утверждает, что «Мандельштам не выказал посредственному пролетарскому поэту (Бартелю. — Г.К.) искреннего восхищения» («dem mittelmäßigen proletarischen Dichter keine aufrichtige Bewunderung entgegenbrachte»: 1991: 80). Хотя Мандельштам нигде не указывает на то, что Бартель ему не нравится или что он считает его поэтом «посредственным» (или, как у Дутли, «третьестепенным» — «dritt-und-viertrangig»: Dutli 2003: 265; по-русски: Дутли 2005: 178).
Исследователи обвиняют Бартеля в эпигонстве, несамостоятельности и т. д. Если мы перестанем беспечно-высокомерно переносить оценочные вкусы и черты одной эпохи на другую, то даже с таким понятием, как «эпигонство», можно продуктивно работать, вложив в него конкретный историко-литературный и поэтологический смысл. В истории литературы с определенной последовательностью появляются литературные системы, в которых использование устоявшихся мотивов и образов выполняет не менее конструктивную функцию, чем в других системах установка на оригинальность. Достаточно вспомнить раннего Лермонтова.
Макс Бартель был революционным поэтом, для поэтики революционно-пролетарской лирики как урбанистической «народной» поэзии было характерно как использование так называемых «клише», так и работа с актуальным политическим языком. Революционный поэт и был призван найти равновесие между модернистским императивом новаторства и репетиционным принципом фольклора, между поэтической оригинальностью, политической актуальностью и понятностью для широких народных масс. В случае Бартеля речь идет об устоявшихся народно-романтических образах, при поэтической обработке которых немецкий поэт привлекает новую революционную символику. Мандельштам в своем предисловии специально уделил внимание этой особенности поэтики Бартеля: «Интересно, как пульсируют у Бартеля самые обычные „поэтические“ образы: так, например, лес неоднократно становится у него, с глубокой внутренней логикой, воплощением коллективной мощи и действия» (II, 422).
Использование актуального политического языка относится к феномену взаимодействия между литературными и внелитературными рядами — проблема, которая как раз в интересующие нас годы ставится во главу угла историко-литературной мысли формалистов. Как раз в это время Мандельштам интенсивно общается с опоязовцами. Напомним, что именно в этих открытых дискуссиях и происходит артикуляция формалистских положений о «литературном быте» и «литературной эволюции». Попрекать пролетарскую или лефовскую поэзию использованием современного политико-пропагандистского языка то же самое, что упрекать иконописцев в том, что они пользуются религиозной тематикой и богословской экзегезой. Мандельштам, увлеченный формалистскими идеями о «литературной эволюции», эксплицитно указывает в своем предисловии к Бартелю на эти внелитературные связи и установки немецкого поэта:
«Когда читаешь Бартеля, нельзя забывать огромное значение песни (разбивка[225] Мандельштама. — Г.К.) в общественной жизни Германии. Певческие союзы (Gesangvereine) в буржуазных, студенческих и рабочих кругах Германии — политическая сила, агитационные аппараты» (II, 422).
В пользу того, что Мандельштам основательно занимался Бартелем, говорит не только то, что в своей подборке он постарался представить разные сборники немецкого поэта, но и то, что Мандельштам разделял поэтику Бартеля на позднюю и раннюю (II, 422).
В переводческой традиции существует две тенденции-установки — ассимилятивная и диссимилятивная: Мандельштам был поборником первой: «Высшая награда для переводчика — это усвоение переведенной им вещи русской литературой» («Жак родился и умер!», II, 445). При поэтическом переводе высказывание оригинала неизбежно попадает в лексико-ритмическую и стилистическую традицию чужой, в нашем случае русской, поэзии. В случае Бартеля мы имеем дело с факторами, дополнительно стимулирующими переводчика к ассимилятивному переводу: лирика немецкого поэта восходит к тем параллельным и родственным ритмико-семантическим традициям, которые присутствуют в русской поэзии, перенимавшей, особенно в романтический период, немецкие ритмико-тематические образцы. Главная тема поэзии Бартеля — русская революция и немецко-русское боевое братство-братание — сделали его стихотворения еще более «русскими».
Поэтический язык Бартеля представляет собой синтез романтизма, революционной лирики в духе 1848 года, символизма и экспрессионистски взвинченной пролетарской лирики. При переводе у Мандельштама возникла гремучая творческая смесь из публицистически-романтической поэзии Некрасова, парахристианской символики в диапазоне от Тютчева до символистов (через Надсона), экспрессионистских кошмаров в стиле антивоенных стихов футуристов и, не в последнюю очередь, поэтических опытов позднего футуризма, ЛЕФа и пролеткультовцев.
Мандельштаму был знаком не только сам основополагающий синтетический принцип (поэзии Бартеля), но и отдельные, перечисленные выше поэтики, которые ему предстояло синтезировать. На протяжении всей своей творческой жизни Мандельштам реминисцировал и тематизировал образность и топику русского романтизма, и в частности Тютчева с его немецкими корнями. Первые известные нам стихи Мандельштама («Среди лесов, унылых и заброшенных…» и «Тянется лесом дороженька пыльная…»), написанные на исходе эсеровской юности поэта, были стихами романтизированно-агитационными; именно из этой некрасовской ветки русской поэзии во многом развилась и так называемая пролетарская лирика.
О своих агитационно-поэтических опытах Мандельштам вспомнил после революции. В 1920 году он написал стихотворение «Актер и рабочий», в котором дал свое толкование места поэта в новой действительности:
Никогда, никогда не боялась лира Тяжелого молота в братских руках! Что сказал художник, сказал и работник: — Воистину, правда у нас одна! Единым духом жив и плотник, И поэт, вкусивший святого вина! («Актер и рабочий», I, 142)По-видимому, в интертекстуальных истоках мандельштамовских заявлений находится стихотворение «Поэт рабочий» В. Маяковского, в котором он, уже в названии, играет на грамматической многозначности «рабочего» (прилагательное «рабочий» может быть использовано в значении существительного); при этом Маяковский использует христианскую топику поэта как «ловца человеческих душ» (1956: II, 18–19). В своей клятве единой «правде» рабочего и поэта, живущих «единым духом», Мандельштам говорит о равенстве поэзии и пролетарского труда: и тот и другой вносят свой вклад в новую революционную действительность. При этом идейно-лексически Мандельштам, как и В. Маяковский, апеллирует как к элементам агитационных лозунгов («тяжелый молот в братских руках»), так и к парафразам поэтизмов и сакральных формул («единым духом», «святое вино»). Здесь вновь обнаруживается коренящееся в юности поэта соединение поэзии, религии и революции, сообщившее Мандельштаму особое чутье романтизма. Незадолго до написания стихотворения Мандельштам был арестован врангелевской контрразведкой. Стихотворение «Актер и рабочий» с его ярко выраженным «красным» содержанием и пропагандистской риторикой звучало провокативно. Эта поэтическая проба новой революционной поэтики и сама клятва верности идеалам революции были не просто случайным эпизодом смутного времени гражданской войны. В 1924 году — в период, на который пришлись переводы из Бартеля, — Мандельштам написал стихотворение «1 января 1924», в котором, «двадцатый вспоминая год», подтвердил свою «присягу чудную четвертому сословью» (II, 52)[226].
Как раз на первую половину 1920-х годов приходится и пик футуристических «штудий» Мандельштама; львиная доля филологических и поэтологических статей и анализов 1922–1923 годов касается рефлексии поэтических достижений и задач постсимволизма. Нельзя забывать и о константном опыте работы в «немецкой» теме, от лютеранского цикла 1912 года до ОВР, опыте, облегчавшем работу над переводами. Суммируя сказанное, можно констатировать, что политизированная поэтика Бартеля не была для Мандельштама чуждой: для переводов из Бартеля у него имелись как внелитературные причины (интеграция в литературный быт пронемецки настроенной молодой советской культуры), так и поэтологические предпосылки и заготовки.
2.3.4.3. Композиция сборника «Завоюем мир!»
Название сборника «Завоюем мир!» представляет собой перевод названия сборника Бартеля «Lasset uns die Welt gewinnen!» (Barthel 1920a). У Бартеля — игра слов, связанная с фразеологическим оборотом: «выиграем мир (как войну или битву)» («die Welt wie einen Krieg gewinnen»). В «оде миру» «Зверинец», где воспевается славяно-германский антивоенный союз, Мандельштам уже использовал омофонические возможности слов «мир» и «мiр». Ими и воспользовался Мандельштам при переводе названия бартелевского сборника, играя на полисемии мира (Welt, Frieden). Характерно, что Мандельштам остановил свой выбор именно на названии «Lasset uns die Welt gewinnen!», а не на «Arbeiterseele» (Barthel 1920b), хотя именно из этого сборника взято большинство стихов для бартелевской подборки. Название «Arbeiterseele» также содержало лексико-семантическую игру на полисемии «Душа рабочего» и «Душа рабочая», подобно названию стихотворения В. Маяковского «Поэт рабочий». Видимо, именно присутствие синтаксической полисемии «души рабочей/ рабочего» в советской неофутуристической и пролетарской лирике и заставило Мандельштама сделать выбор в пользу названия «Завоюем мир!». Конечно, Мандельштам помнил и о другой полисемии Маяковского: о названии поэмы «Война и мiр» (1916, первое полное издание: 1917), которое отсылало к роману Л. Н. Толстого «Война и мир». Мандельштам, с одной стороны, адекватно перевел игру слов Бартеля, с другой — «вписал» название сборника в семантический треугольник «война-мир-мiр», вызывавший богатые культурно-литературные ассоциации, кроме того, название «Завоюем мир!» точно передавало политический настрой современности: страна готовилась к мировой войне-революции за мир во всем мире.
Композиция мандельштамовской подборки не четкая, но прослеживаемая. Так, книга переводов из Бартеля начинается со стихотворения «Петербург», в центре которого находится фигура Ленина, а заканчивается стихотворением «Карл Либкнехт», посвященным вождю немецкой революции[227]. Так, уже на композиционном уровне читатель знакомился с идеей немецко-советского революционного братства, составляющей тему многих стихотворений, отобранных Мандельштамом для перевода.
В стихотворениях варьируются актуальные темы: русско-немецкое фронтовое братание, каторжное и революционное братство (116–121, 155, 160, 161)[228], романтика пролетарского труда, «глыбы больших достижений» и «крутых начинаний», ревущие динамо-машины и мастерские революции (123, 124, 130, 148, 149, 158), воспоминания о кошмарах и жертвах империалистической войны (127, 131, 136,137,142, 164), о немецких революциях (143, 156–157, 166), утопические видения-воспоминания войны и будущего революционного мира без войн (128, 129, 139, 145, 146, 154, 159). Темы взаимопроникаемые и синтетические: взаимопроникаемости способствует метафорика революционной грозы, шумящего людского леса, тема разлуки с возлюбленной или женой (революцией) (150–151, 162, 163), символические клятвы на могилах павших героев, воспоминания о «германском Марте», о весне происходящей и одновременно грядущей мировой революции, вариации «Интернационала». В идейном центре сборника находится стихотворение «Утопия», описывающее видения революционного будущего, в котором звучит «органный голос масс».
2.3.4.4. Контексты
Ниже нам бы хотелось продемонстрировать контекстуальные переклички переводческих решений Мандельштама с немецкой темой в творчестве самого поэта. Политическая тематика оригинала подвигла Мандельштама использовать в переводах собственный опыт поэтического осмысления революционных тем. Ниже — пример из зачинного стихотворения «Петербург»:
Говорит Владимир Ленин: Начинать поспело время — И народ, как вождь старинный, Поднимает власти бремя. (II, 163) Lenin spricht, der kühle Stürmer: / «Auf, es ist die Zeit gekommen!» Wie ein Held aus alten Zeiten / hast du, Volk, die Macht genommen. (Barthel 1920b: 148)Смерть В. И. Ленина (21.1.1924) глубоко переживалась современниками, в том числе и Мандельштамом, который вместе с Б. Пастернаком стоял в длинной очереди к гробу «вождя революции». Монументальность похорон Ленина Мандельштам описал в очерке «Прибой у гроба» (II, 406–407). При первой, журнальной, публикации перевод бартелевского «Петербурга» (II, 617) получил название «Ленинград», отсылая к переименованию города из Петрограда в Ленинград после смерти Ленина.
Метафорические отступления Мандельштама от текста Бартеля контекстуально отсылают к гимну «Сумерки свободы»:
Прославим роковое бремя, Которое в слезах народный вождь берет. Прославим власти сумрачное бремя, Ее невыносимый гнет. В ком сердце есть — тот должен слышать, время, Как твой корабль ко дну идет. («Сумерки свободы», I, 135)Повторяется не только образ вождя, но и сама рифмовка: бремя — время. Обращение Мандельштама к своему стихотворению более чем пятилетней давности вызвано тем, что именно «Сумерки свободы» были тем переломным текстом, в котором запечатлелось изменение отношения поэта к новой революционной власти: от негативного к позитивному, от гневного неприятия («Когда октябрьский нам готовил временщик…», «Кассандре», «Когда на площадях и в тишине келейной…») к болезненно-тревожному, но исторически необходимому признанию.
Касаясь «Сумерек свободы», мы затрагиваем один из самых спорных вопросов мандельштамоведения. Исследователи не смогли прийти к общему выводу относительно прототипа «народного вождя» в этом стихотворении: среди кандидатов были и Николай II, и Ленин, и Керенский, и патриарх Тихон[229]. Наиболее убедительно с идейно-лексической точки зрения выглядит предположение А. Меца, указавшего в качестве подтекста речь патриарха Тихона, с аллюзиями на Моисея (1994; в дополненном виде: 2005: 73–81). Однако А. Мец смешал понятия подтекста и прототипа: речь Тихона является подтекстом, но сам Тихон не является прототипом «народного вождя», как утверждает А. Мец в заглавии своей статьи (2005: 73).
Характерно, что А. Мец в своей интертекстуальной аргументации даже привел текст мандельштамовско-бартелевского «Петербурга», но процитировал его без строки о Ленине. Интертекстуальные ассоциации, которыми воспользовался Мандельштам в своем переводе (Ленин — вождь (патриарх) — народ — бремя — время), еще не говорят о том, что только Ленин является прототипом «Сумерек свободы». В то же самое время они показывают, что шесть лет спустя, в 1924 году первоначально синтетический образ вождя из «Сумерек свободы» снимается в пользу Ленина. Тихоновские аллюзии в 1923–1924 годы утрачивают свою актуальность. На примере исследовательских недоразумений и недосказанностей в толковании «Сумерек свободы» видно, как порой смешиваются понятия прототипа и подтекста; речь патриарха Тихона — подтекст, но главный прототип стихотворения — Ленин.
Подтекстуальные наложения прототипов в «Сумерках свободы» и в бартелевском «Петербурге» показывают, как Мандельштам систематически внедряет в свои переводы идеи и образы из своих собственных концепций, реализует свои культурософские утопии о «вселенском единстве» и «интернационале» («Пшеница человеческая», II, 250), смешивая и синтезируя сакральное и политическое, религиозно-символистский вокабуляр и современную революционную риторику. Следующий пример — из того же «Петербурга»:
Бедняков вселенским сердцем Ты позвал на вещий праздник, Но врагам на красных фронтах Приготовил злые казни. (II, 163) An dein Weltherz nahmst du alle / Armen auf und lachtest wieder: Aber an den roten Fronten / Schlugst du alle Feinde nieder! (Barthel 1920b: 148)«Вещий праздник», отсутствующий у Бартеля, пришел из ОВР (образ евхаристически-революционного пира). Но это не простая замена: ее мотивацию следует искать в оригинале Бартеля: Weltherz — парафраза романтически-символистского Weltschmerz, основанная на классической немецкой рифме Herz-Schmerz. Мандельштам превращает «мировую скорбь» — «мировое сердце» Бартеля во «вселенское», памятуя о символистско-экуменических концепциях «родного и вселенского» (название сборника Вяч. Иванова 1917 года).
Однако синтетическая техника смешения сакрального и революционного соседствует у Мандельштама с приемом устранения религиозных образов Бартеля. Христианско-символистскую топику, бывшую конструктивным элементом в немецком экспрессионизме и даже пролетарской лирике, нельзя было просто перенести в советское искусство. 1923–1924 годы — пора официального «безбожничества» и атеизации искусства. На эту секуляризирующую технику Мандельштама точно указал X. Майер (1991: 86–87). Однако исследователь увидел в «заострении коммунистической (прежде всего атеистической) идеологии» некое пародирование актуального дискурса, с чем мы не можем согласиться. В качестве примера немецкий исследователь привел следующие стихи «Петербурга»:
Пусть одних чарует купол Лицемерной римской церкви. (II, 162) Andre haben ihre Sehnsucht / im Gebet nach Rom gerichtet. (Barthel 1920b: 147)У Мандельштама римская церковь, в отличие от оригинала, оказывается «лицемерной». X. Майер указывает на современную атеистическую пропаганду как внетекстовую мотивировку мандельштамовского «заострения» («Verscharfung», Meyer 1991: 87); однако открытым остается вопрос о конкретном лексическом исполнении этого «заострения». По нашему мнению, Мандельштам здесь не просто «конъюнктурничает», а последовательно преследует свои собственные культурософские цели, пользуясь конкретной интертекстуальной логикой. И отсутствующий в оригинале «купол», и «лицемерие» римской церкви — контекстуально мотивированы. Купол собора Петра — константный образ римского цикла 1914–1915 годов. В рамках немецкой темы достаточно вспомнить «незрячий дух» Лютера, витающий «над куполом Петра» («Здесь я стою — я не могу иначе…», I, 84). «Лицемерность» римской церкви появляется в результате метонимического (немецкая тема) контекстуального наложения с «печалью-лицемеркой» из «Лютеранина». В своем переводе из Бартеля Мандельштам переносит лютеровско-лютеранские признаки на Рим. С помощью Бартеля Мандельштам вновь сводит счеты со своим предреволюционным увлечением Римом. К моменту работы над этим переводом римские концепции для Мандельштама окончательно устарели. Переакцентирование и сам подтекстуальный ход к немецко-лютеровской теме дополнительно мотивировался фактом перевода с немецкого. Мандельштам перенимает «немецкую», «лютеровскую», а значит, по логике мандельштамовской культурософии, и антиримскую перспективу. Интертексты из «лютеранских» стихов Мандельштама обнаруживают себя и в других переводах из Бартеля. Ниже — пример одного из вариантов 13-й строфы «Петербурга»:
Ленинград, ты не сорвешься — Наша радость и основа — За тебя скажу я немцам Братской проповеди слово. (II, 545) Einmal seid ihr schon gezogen, / Deutsche, Petrograd zu fällen, Dieser Henkerzug wird immer / Euch als Schmach im Herzen gellen. (Barthel 1920b: 149)В тексте Бартеля нет никакой эксплицитной «проповеди». «Проповедь», как и слово «прихожанин» в четвертой строфе, относится к метафорическому вокабуляру ОВР («грома проповедь»), с его контекстуальными корнями в «Бахе» и других стихах лютеранского цикла[230]. Здесь Мандельштам, в отличие от предыдущего примера, не редуцирует религиозную лексику, а, наоборот, привносит ее в текст перевода. Данный пример показывает, что поэтику мандельштамовских переводческих замен, редуцирующих и мультиплицирующих религиозную метафорику оригинала, нужно изучать каждый раз на конкретном примере, привлекая как внетекстовые обстоятельства, так и словарь самого Мандельштама.
На примере репрезентативного «Петербурга» видно, что стихотворение ОВР, связанное с немецкой темой в творчестве самого поэта и тематизировавшее немецкие политические события, является одним из центральных интертекстов книги «Завоюем мир!». В настоящей работе мы ограничимся лишь несколькими примерами, которые показывают, что переводы из Бартеля, какой бы поденщиной они ни были, вписываются Мандельштамом в интертекстуальную сеть его собственной поэтики, тематики, метафорики. В центре нашего внимания окажутся лишь два образных комплекса: хлебной и органной метафорики, характерной для ОВР.
Если «Петербург» композиционно является своего рода тематическим зачином сборника, то следующее стихотворение подхватывает уже отдельные мотивы «Петербурга» — мотив немецко-русского братания:
— Вечер красен, заря красна, — Начал вслух бормотать я, — Хлебом земля беременна — Утешьтесь, братья! (II, 166) Abendrot — Morgenrot — Frühlingserbarmen Ich bringe euch Brot. Weint nicht, Ihr, Armen. (Barthel 1920a: 25)В переводе появляется мотив земли, беременной хлебом, отсутствующий в оригинале и восходящий к ОВР: «А небо будущим беременно…» (II, 48–49). Метафорический сдвиг перевода помимо того факта, что переводы и ОВР разделяли лишь несколько месяцев, мотивирован христианской хлебной образностью, восходящей в ОВР к статье «Пшеница человеческая».
Смещения в сторону хлебной метафорики характерны и для многих других текстов «Завоюем мир!»:
Мы вяжем кровью и мозгом земли: Вот почему так быстро взошли Дрожжи баррикады. И каждый булыжный несет каравай. А ну-ка проверим: выравнивай знай! Вперед — на баррикаду! (II, 201) Wir binden mit Blut, wir kitten mit Mark! Das macht dich unüberwindlich stark, Du stolze Barrikade! Ein jeder bringt einen Stein zum Bau… Nun halten die Schaffenden prüfende Schau: Vorwärts! Zur Barrikade! (Barthel 1920b: 20)Бартелевская «гордая баррикада» («stolze Barrikade») превращается в «дрожжи баррикады», топику строительства баррикад Мандельштам метафорически усложняет хлебно-урожайной символикой («взошли», «каравай»). Мотивацию находим в стихотворении Мандельштама «Как растет стихов опара…» с его евхаристической образностью. Мандельштам вновь вписывает бартелевские образы в свой собственный тематический комплекс евхаристически-эсхатологического пира-праздника Мировой войны и революции. Интенсивность таких «интеграционных» переводческих решений Мандельштама показывает всю сложность тех идей и концепций, которые занимали творческое мышление поэта в первой половине 1920-х годов.
При переводе бартелевской «Утопии» Мандельштам ориентировался на свои культурософские концепции и поэтические опыты начала 1920-х годов. Уже первый стих («Люблю внимать средь грохота и теми…») лексически и метрически (ямбически) подхватывает зачин стихотворения «Люблю под сводами седыя тишины…» (1921). Отсюда и другие смещения в переводе: «Утопия! под купол твой свинцовый» (II, 182). В оригинале (Barthel 1920b: 145) «купол» также отсутствует. В мандельштамовский перевод «купола» пришли по ассоциации с куполами из его стихотворений римского цикла 1914–1915 годов и «Айя-Софии». Метафора «золотой хрустящий хлеб» (II, 183), отсутствующая у Бартеля, обязана своим появлением метонимической ассоциации с «соборами Софии и Петра» как «зернохранилищами вселенского добра» и другой хлебной метафорики стихотворения «Люблю под сводами седыя тишины…» (1,154), а также «хлебным» страницам эссеистики начала 1920-х годов. Отсутствующий в оригинале «купол утопии» помимо культурно-христианских ассоциаций («зернохранилища вселенского добра») имел для Мандельштама и революционные коннотации[231].
Мандельштам перманентно интенсифицирует «хлебную» символику Бартеля. Таким образом он экспрессионистски усложняет высказывания оригинала, при этом, с одной стороны, они становятся созвучны текстам самого Мандельштама, с другой стороны, благодаря этому поэт вызывает у читателя актуальные политические ассоциации с голодными годами гражданской войны в России и голодом в современной Германии. Характерно и привнесение в перевод отсутствующей в оригинале «органной» метафорики. Ниже — пример из «Утопии»:
Угадываю наигрыш бесплотный, Рожденный хриплой музыкой войны, И звуки песни, прежде мимолетной, В органный голос масс воплощены. (II, 182) О erster Ton, hinausgesungen, Als Krieg nach Blut und Leben schrie! Dann Ton an Ton zum Lied verschlungen Zur Millionenharmonie. (Barthel 1920b: 145)Непосредственный источник привнесенной органной образности — уже разобранная в контексте ОВР концовка статьи «Революционер в театре»: слово-действие звучит у Толлера «как орган и покрывает весь шум голосов» (II, 286). Из органа, голосов и масс (вариация бартелевской «гармонии миллионов») и сложился «органный голос масс». Масса становится синонимом «миллионов», а «гармония», напомнив о «музыкальной гармонии», вызвала у Мандельштама, вкупе с другой «звуковой» образностью оригинала, воспоминания о рассудительнейшей, гармоничной музыке Баха. Сходные «органные» изменения происходят в «Передышке» («Befreiung»):
Если нам передышку дать, Солнце хлынет в глаза опять, Грянут рощ органные хоры, Теплым паром наполнятся взоры, Ведь туман, зеленя и рощи Чужды насилью и злобной мощи. (II, 202–203) Wenn wir endlich in Ruhe sind, Macht uns die viele Sonne ganz blind. Verdonnert der Schrei der stöhnenden Wälder! Verwimmert die Nacktheit der dampfenden Felder! Wälder und Felder in rauschender Grüne wissen hier nichts von Schuld und Sühne. (Barthel 1917: 10)С одной стороны, Мандельштам устраняет (или не замечает) косвенную аллюзию на Достоевского: Schuld und Sühne (обычный немецкий перевод названия романа «Преступление и наказание»). С другой стороны, так же как и в «Утопии», Мандельштам опять вводит «органную» образность, отсутствующую в оригинале. Повод к появлению «органных хоров» — «der verdonnerte Schrei» — испуганный, ошарашенный крик. Глагол verdonnern образован от Dormer (гром). «Крик» напомнил Мандельштаму «органа многосложный крик» из стихотворения «Бах», дословно понятый «громовой» приговор — «проповедь грома», за которой в ОВР следовали «внуки Себастьяна Баха» и «органные крылья».
2.3.4.5. Подтексты
На примере перекличек с немецкой темой в стихотворениях и статьях 1920-х годов видно, как Мандельштам в пространстве перевода остается верен своей поэтике контекстуальных отталкиваний и наслоений. Однако интертекстуальность Мандельштама не ограничивалась разработкой собственных мотивов и языковых формул. Наравне с образами из своих стихотворений и статей Мандельштам вводит в переводы аллюзии на чужие тексты.
Как уже отмечалось выше, при переводе высказывание оригинала неизбежно попадает в лексико-ритмический, а значит, и в стилистический строй другой поэтической традиции. Особенностью переводов с немецкого является то, что формирование семантического ореола многих русских метров происходило одновременно с переносом-переводом иноязычных метров, в первую очередь немецких, связанных с русскими общей силлабо-тонической базой. Передавая ритмику и лексику Бартеля, Мандельштам, независимо от своих переводческих установок, переводил на поэтический язык, уже связанный с немецкой поэтической традицией. В случае Мандельштама перевод постромантической топики и ритмики Бартеля был облегчен тем фактором, что для его собственного творчества было характерно постоянное обращение к русской поэзии первой половины XIX века — периода интенсивного усвоения и освоения русской поэзией метрического и семантического опыта романтизма и предромантизма. В рамках нашего исследования мы ограничимся примерами, более или менее связанными с немецкой темой.
Неоромантическая топика Бартеля не была чужда Мандельштаму, о чем говорит прежде всего почти буквальное совпадение некоторых образов Бартеля с образами самого Мандельштама:
Хочешь песню о зеленой кроне? Ураган перетряхал листву. (II, 173) Soll ich dir ein Lied vom Leben sagen? Grüne Krone! Sturm zerwühlt ihr Laub. (Barthel 1920b: 88)Образы Бартеля перекликаются с образами стихотворения «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа…»: «песня урагана», «зеленый мир» романтической «песни», «рокочущие кроны». Эти параллели неслучайны: в мандельштамовском стихотворении 1918 года синтезировались сюжеты и образы немецкого романтизма, от штюрмеровского «урагана» до «двойника» Гейне. При переводе бартелевского стихотворения Мандельштам нашел подтверждение правильности своего романтического коллажа. Это могло служить в глазах Мандельштама дополнительным оправданием его решения переводить романтизированные образы Бартеля на язык русской романтики, причем ее «немецкой» ветви — Жуковского, Тютчева, Лермонтова.
Бартелевские темы революции, войны и любви тесно связаны между собой, их взаимопроникновению способствует метафорика «грозы». По мнению X. Майера (1991: 78), центральный образ бартелевских стихов — образ бури. Немецкий «Sturm» может означать как бурю, ураган, так и военный штурм, атаку, наступление[232]. На этой полисемии грозовой метафорики Бартель часто и выстраивает образность своих стихов. Образ бури оказался созвучным мандельштамовским поэтологическим вопрошаниям и метафорическим поискам первой половины 1920-х годов: в связи с этим достаточно вспомнить не только статью «Буря и натиск», но и метафорику бури и грома в стихотворениях 1923–1924 годов.
Оригинал переводного стихотворения «Гроза права» называется «Лес и гора» («Wald und Berg»). Мандельштам назвал его по последнему стиху третьей строфы: «Гроза права. Гроза права!» (II, 177), в оригинале: «Im Sturm erst recht. Im Sturm erst recht» (Barthel 1920b: 47). Видимо, Мандельштама привлекла не только метафорика и фоника этого рефрена, но и сама идея стиха оказалась созвучной его собственным идеям: гроза — читай революция — права. Здесь возможно влияние стихотворения «Наша гроза» Пастернака с ее повторяющимся рефреном «Гроза сожгла сирень как жнец» (1989: 138), ритмически идентичного мандельштамовскому и бартелевскому.
Однако помимо актуальных пастернаковских ассоциаций для Мандельштама существовали более интимные воспоминания о топике «грозы» и «бури» в русской поэзии. Мандельштам, для которого «прообразом исторического события в природе служит гроза», а «знатоком грозовой жизни» в русской поэзии является Тютчев (I, 276), широко использует в своих переводах тютчевские формулы. Вот пример из стихотворения «Гроза права»:
Я счастья полновесный слиток В колодезь горный уронил; О, расточи блаженных сил избыток И промолчи — кто б ни спросил. (II, 177) Ein Glück ruht fest in meinen Händen. Ich werf es hin wie einen Stein: Was du besitzt, sollst du getrost verschwenden, Und wenn du zagst, so war es niemals dein! (Barthel 1920b: 48)В своем переводе Мандельштам реминисцирует стихотворения Тютчева «Silentium!» с его рефренным императивом «молчи» (Тютчев 2002:1, 123) и «В душном воздуха молчанье…», описывающем грозу: «Жизни некий преизбыток / В знойном воздухе разлит» (2002: 1, 135)[233]. Тютчев рифмует «преизбыток» и «напиток», Мандельштам — «избыток» и «слиток»; при этом «слиток», «слит» — лексическая вариация тютчевского «разлит». Благодаря тютчевским ассоциациям Мандельштам одновременно и удаляется от оригинала, и приближается к нему: выбор тютчевской грозовой образности литературно-исторически корректен: и Бартель, и Тютчев черпали свою метафорику бури и грозы из грозовой образности немецкого романтизма. Так, знаменательны лексико-ритмические и синтаксические совпадения со стихотворением Тютчева «Стоим мы слепо пред Судьбою…»: «Гроза ревет, гроза растет» (2003: II, 67)[234].
В стихотворении «Петербург» Мандельштам реминисцировал уже не просто Тютчева, а стихи Тютчева на смерть Гете:
Наш ноябрь — свистун германский, Кто он — майский ветер, что ли? И оплеван лоб высокий Человеческий доколе? (II, 165) Ist Novembersturm in Deutschland / sanft wie süßer Wind im Maien? Ach, ihr Knechte, ewig laßt ihr / euch ins Menschenantlitz speien! (Barthel 1920b: 149)Почему Мандельштам заменил «человеческий лик» («Menschenantlitz») оригинала на «лоб высокий человеческий»? На месте «лба» без ущерба для ритмики и фоники перевода мог бы стоять «лик». Подтекстуальный ответ находится в разобранном нами стихотворении ОВР: «На лбу высоком человечества» (II, 49). Образ высокого лба человечества имел уже в ОВР гетевско-тютчевские корни. Ответ на вопрос о мотивировке гетевских ассоциаций дает предисловие Мандельштама к сборнику «Завоюем мир!», в котором поэт выявил связь между поэтикой Бартеля и Гете «не только через символизм, но и через „тягу к блаженному югу“ с его лаврами» (II, 421–422). Именно эту топику и использовал Тютчев в своем стихотворении «На древе человечества высоком…» на смерть Гете. Помимо этого, ко времени создания перевода (1923–1925) интертекстуальность тютчевских стихов на смерть Гете получила дополнительную мотивировку, уже выходящую за рамки историко-литературных аллюзий. В центре бартелевского «Петербурга», как уже говорилось, находится образ Ленина. Когда Мандельштам начал работать над переводом, вождь революции уже умер, и свой очерк «Прибой у гроба» Мандельштам закончил образом ленинского лба: «И мертвый — он [Ленин. — Г.К.] самый живой, омытый жизнью, жизнью остудивший свой воспаленный лоб» (II, 407).
В некоторых текстах тютчевские аллюзии накладываются на реминисценции из Лермонтова:
На кладбище выйду полевое, Где зарыт мой неизвестный друг. <…> Опилась земля твоею кровью, Мой хороший, мой похожий брат, Ax, придется мне с моей любовью Опуститься в темный смертный сад. (II, 173) Und ich gehe, innerlich verrastet, An ein unbekanntes Grab. <…> Binder in der blutgestillten Erde, Wesengleich bin ich mit dir verwandt. Jetzt noch lebend, stehe ich und werde Auch einmal vom Tode übermannt. (Barthel 1920b: 88)В мандельштамовском переводе произошло наслоение лермонтовского «Выхожу один я на дорогу…» и тютчевского «Вот бреду я вдоль большой дороги…». Помимо русских источников — посредников семантики 5-стопного хорея у Лермонтова и Тютчева существовали и немецкие образцы: стихотворения «Amalia» и «Thekla» Ф. Шиллера, известные в русской поэзии по переложениям Жуковского и Ап. Григорьева (Гаспаров 2000b: 249). Шиллеровскому сюжету следовал и сам Бартель.
В бартелевском стихотворении «Песнь девушки» описывается плач девушки по погибшему возлюбленному. Характерны метафорические расширения в мандельштамовском переводе:
Лес шумит: Сто тысяч мертвых, Лес шумит: Сто тысяч спят. Листьев шум: Сто тысяч мертвых Спят во рву: Листы шумят. (II, 192–193) Hunderttausend, hunderttausend Sind gestorben und verdorrt, hunderttausend, hunderttausend Leben in den Gräben fort. (Barthel 1917: 46)Образы шумящего леса и листвы у Мандельштама, которых нет в оригинале, возможно, лермонтовского происхождения — из концовки стихотворения «Выхожу один я на дорогу…». Мотивация образных дополнений оригинала: лермонтовский «сладкий голос», поющий о любви над могилой в «Выхожу один я на дорогу…», — лейтмотив бартелевского «Mädchenlied». В 1923 году была написана «Грифельная ода», наполненная реминисценциями из «Выхожу один я на дорогу…»[235]. Помимо внутренних механизмов включения лермонтовских образов в бартелевские тексты, существуют и внешние факторы нарастающего интереса Мандельштама к Лермонтову: в 1924 году выходит эйхенбаумовский «Лермонтов», с отрывками из которого Эйхенбаум знакомил публику уже в 1923 году[236].
Появление протестантской метафорики в «Петербурге» имеет помимо контекстуальной (ОВР, «Бах») и подтекстуальную мотивировку — на уровне семантического ореола метра. Четырехстопный хорей Бартеля восходит к «Жалобе» Шиллера и другим четырехстопным хореям штюрмеров. А у самих поэтов «Штурм унд Дранга» 4-стопный хорей «стал ходовым размером», который перешел из «протестантских духовных песен и в этом жанре привык к высоким темам» (Гаспаров 2000b: 204). Семантику 4-стопного хорея развивал В. Жуковский, в частности, переводами шиллеровской «Жалобы», которую Мандельштам мог перенять в процессе работы над переводом стихотворения Бартеля «Жалоба девушки» (II, 201), также написанного 4-стопным хореем.
Мандельштам компенсирует отход от дословности историко-литературной точностью, следуя логике семантического ореола «русско-немецкого» романтического размера. При этом перевод не только остается верен оригиналу, но актуализирует стершуюся связь между тематическими константами русских и немецких метров. Своими переводами Мандельштам реконструирует, оживляет забытые или стершиеся семантические ореолы метров романтической поэзии. Это, в свою очередь, говорит о глубоком проникновении в сознание Мандельштама метрически-семантических корреляций немецкого и русского стиха.
Другой важной проблемой мотивации метафорических смешений в мандельштамовских переводах является вопрос о том, что мы в рабочем порядке назовем интерлингвистической мотивировкой метафорики. Так, в стихотворении «Кто я? Вольный бродяга я…» (II, 165–166) переход к «хлебной» образности произошел не только на идейно-образном и лексическом уровне благодаря связи с ОВР и «Пшеницей человечества», но и фонически, через интерлингвистическую паронимию: фоника слова беременна корреспондирует с немецким erbarmen, подхваченным у Бартеля в аллитерационном потоке bringe-Brot-Armen (Barthel 1920а: 25).
Исследования интерлингвистической мотивировки мандельштамовской образности находятся в зачаточном состоянии. В интереснейшей работе Г. Амелина и В. Мордерера (2000) больше неизбежных при первопроходстве издержек, чем находок; но сам поиск таких иноязычных «подкладок», намеченный исследователями, представляется нам перспективным. Простой транслитерацией мандельштамовских текстов и последующей сверкой со словарями европейских языков проблемы не решить хотя бы потому, что иноязычные образы приходят в стихи Мандельштама не только фонически, но и ритмически, и фразеологически (как было показано нами на примере стихотворения «Когда на площадях и в тишине келейной…»). Учащение таких интерлингвистических подкладок приходится на 1930-е годы. Как нам кажется, возникновению этой интерлингвистической мотивировки метафорики Мандельштам обязан своим переводческим занятиям 1920-х годов, и вышеприведенный пример из бартелевского перевода тому доказательство.
В рамках настоящей работы мы коснулись лишь некоторых аспектов мандельштамовских переводов с немецкого, причем выборочно, фокусируясь на перекличках мандельштамовских переводов с немецкой темой в творчестве самого Мандельштама. Детальный, построчный анализ и комментарий переводов — дело будущего. Но даже некоторые полученные нами выводы, как нам представляется, позволяют по-новому взглянуть как на сами переводы, так и на их статус в литературной деятельности Мандельштама 1920-х годов. Как культурно-политический контекст, так и сама поэтика мандельштамовских переводов с немецкого свидетельствуют о том, что переводы (в первую очередь из Бартеля) ни в коем случае не являются чужеродным телом в творчестве Мандельштама, как может показаться на первый взгляд. В первой половине 1920-х годов Мандельштам ищет не только источников заработка, но и средств обновления своей поэтики, адекватных произошедшим историческим изменениям. Переводы с немецкого, сначала — из Толлера и в еще большей мере — из Бартеля, пришлись как нельзя кстати. По определению Мандельштама 1926 года, перевод призван быть «живой перекличкой культуры народов» и исходить из «внутренней необходимости» («Жак родился и умер!», II, 445). В свете новых советско-германских отношений немецкая революционная поэзия получила злободневную политическую актуальность. Кроме того, она представляла собой аналог развития русской поэзии начала XX века, об опыте и перспективах которой Мандельштам интенсивно размышлял в начале 1920-х годов. С одной стороны, переводы с немецкого дали Мандельштаму жизненно важную возможность участвовать в литературно-переводческом быту. «Я верен общему почину», — сказал Мандельштам, дополняя оригинал, в одном из переводов из Бартеля (II, 175): переводами с немецкого Мандельштам внес свою интеграционную лепту в переводческую работу молодой советской литературы. С другой стороны, в рамках перевода Мандельштам благодаря поэтическим экспериментам и интертекстуальным средствам продолжил как культурософскую работу своей эссеистики 1920-х годов, так и собственно поэтическую работу по обновлению своей поэтики. В переводах с немецкого, в особенности из Бартеля, Мандельштам получил возможность поработать с политически и литературно актуальной поэтикой. При этом пространство перевода избавляло его от возможных упреков в измене собственным поэтическим принципам.
2.4. Немецкая тема в автобиографической прозе
2.4.1. «Шум времени»
2.4.1.1. Оппозиция «еврейский хаос — немецкий строй»
Период критических и филологических работ, начавшийся в 1920–1921 годы статьями «Государство и ритм» и «Слово и культура» и пик которого пришелся на 1922-й и первую половину 1923 года, закончился к осени 1923-го. Одновременно с переводами Мандельштам приступает к работе над книгой воспоминаний «Шум времени», где обращается к событиям 1890–1900-х-годов, к своему детству и времени обучения в Тенишевском училище. В следующей главе мы коснемся тех мест автобиографических книг Мандельштама, в которых упоминаются немецкие реалии.
В «Шуме времени» немецкие реалии еврейского детства поэта не только противопоставляются «еврейскому», но и частично рассматриваются изнутри «еврейского»:
«Как крошка мускуса наполнит весь дом, так малейшее влияние юдаизма переполняет целую жизнь. О, какой это сильный запах! Разве я мог не заметить, что в настоящих еврейских домах пахнет иначе, чем в арийских? <…> Уже отцовский домашний кабинет был непохож на гранитный рай моих стройных прогулок» («Шум времени», II, 354–355).
Чтобы адекватно оценить это высказывание Мандельштама, нужно избавиться от тех коннотаций, которые слово «арийский» приобрело в 1930-е годы. Еврейским домам в «Шуме времени» противопоставляются «арийские», под которыми следует понимать немецкие и русские. Так, противопоставление «арийского» (как «европейского») «еврейскому» занимало видное место в культурософских концепциях Вяч. Иванова (1994: 52), который, по-видимому, перенял его у Ницше[237]. Обозначение «арийский» Мандельштам применил до этого только один раз, в «Зверинце», прославляя общую «праарийскую колыбель» «славянского и германского льна».
Еврейскому началу, метонимически воплощенному в кабинете отца, противопоставляется строй Петербурга. Знаменательно и само лексическое оформление этой культурной альтернативы — «стройные прогулки», заставляющие вспомнить «акмеистическую» прогулку в «Лютеранине». Характерно, однако, что Мандельштам противопоставляет «настоящие» еврейские дома, как, например, дом своих прибалтийских родственников, дому своих родителей. Родительский дом — уже не полностью еврейский:
«У отца совсем не было языка, это было косноязычие и безъязычие. Русская речь польского еврея? — Нет. Речь немецкого еврея? — Тоже нет. Может быть, особый курляндский акцент? — Я таких не слышал. Совершенно отвлеченный, придуманный язык, витиеватая речь… самоучки, где обычные слова переплетаются со старинными философскими терминами Гердера, Лейбница и Спинозы, причудливый синтаксис талмудиста, искусственная, не всегда договоренная фраза — это было все что угодно, но не язык, все равно — по-русски или по-немецки» («Шум времени», II, 361–362).
Здесь Мандельштам проговаривается: его отец все-таки говорил, пусть и неправильно, на русском и немецком языках. Главенствующим являлся, по всей вероятности, все же немецкий, поскольку даже свои письма к сыну в 1920-е годы Э. В. Мандельштам писал на немецком языке. Характерна в связи с этим просьба поэта к отцу не писать ему по-немецки, потому что «половину не разбираю, по десяти раз перечитывая письмо» (IV, 52). Русским языком отец Мандельштама так до конца и не овладел. Согласно воспоминаниям Э. Герштейн начала 1930-х годов, Эмиль Вениаминович говорил по-русски «со своим странным немецко-еврейским выговором» (1998: 47).
С одной стороны, отец Мандельштама выступает носителем «иудейского хаоса» и «косноязычия», с другой —
«…отец переносил меня в совершенно чужой век и отдаленную обстановку, но никак не еврейскую. Если хотите, это был чистейший восемнадцатый или даже семнадцатый век просвещенного гетто где-нибудь в Гамбурге… Четырнадцатилетний мальчик, которого натаскивали на раввина и запрещали читать светские книги, бежит в Берлин, попадает в высшую талмудическую школу, где собирались такие же упрямые, рассудочные, в глухих местечках метившие в гении юноши: вместо Талмуда читает Шиллера, и, заметьте, читает его как новую книгу» («Шум времени», II, 362).
Германия и «немецкое» были для отца Мандельштама возможностью выхода из «иудейского хаоса». Для темы нашего исследования важно, что тот путь к европейской цивилизации из духовной атмосферы еврейского быта, который проделывает Мандельштам, путь, типичный для его генерации, был начат его родителями: матерью, тянувшейся к русской культуре и оберегавшей все русское, и отцом, с его немецкими интересами и приоритетами. Видимо, от отца Мандельштам и усвоил немецкий язык, впоследствии откорректированный в Тенишевском училище. Знание немецкого языка, причем с раннего детства, может быть даже как второго родного (не исключено, что с печатью идиша), отложило отпечаток на вкусовые ориентиры поэта.
Вместо Талмуда отец Мандельштама читает Шиллера. Это не намек на старомодность вкусов отца; Мандельштаму важно подчеркнуть, что отец всеми силами приобщается к немецкому, но не к современной немецкой культуре, а к тем ее образцам, которые уже получили статус искомой европейскости. Косвенно Мандельштам подчеркивает, что его собственная тяга к европейскому началась уже в предыдущем поколении. То, что в сознании Мандельштама некоторая ретроспективность вкусов отца не являлась свидетельством «отсталости», подтверждается парадоксальной перекличкой мотива чтения Мандельштамом-старшим Шиллера как книги новой, с мотивом чтения Библии из «Заметок о поэзии»: там немцы радовались «свеженькой», как газета, Библии (II, 300), здесь — отец читает немецких штюрмеров. Напомним, что первые главы «Шума времени» и «Заметки о поэзии» разделяют всего несколько месяцев. Так, на уровне мотива чтения старого как нового Мандельштам соединяет немецкое и еврейское под общим знаменателем тяги к мировой культуре и христианской цивилизации[238].
Мандельштамовские мемуарные медитации о языках своего детства закономерно переходят к описанию книг (читанных или виденных) в семейной библиотеке:
«Книжный шкап раннего детства — спутник человека на всю жизнь. Расположенье его полок, подбор книг, цвет корешков воспринимаются как цвет, высота, расположенье самой мировой литературы. Да, уж тем книгам, что не стояли в первом книжном шкапу, никогда не протиснуться в мировую литературу, как в мирозданье… Нижнюю полку я помню всегда хаотической: книги не стояли корешок к корешку, а лежали, как руины: рыжие Пятикнижия с оборванными переплетами, русская история евреев, написанная неуклюжим и робким языком говорящего по-русски талмудиста. Это был повергнутый в пыль хаос иудейский… Над иудейскими развалинами начинался книжный строй, то были немцы: Шиллер, Гете, Кернер — и Шекспир по-немецки — старые лейпцигско-тюбингенские издания, кубышки и коротышки в бордовых тисненых переплетах, с мелкой печатью, рассчитанной на юношескую зоркость, с мягкими гравюрами, немного на античный лад: женщины с распущенными волосами заламывают руки, лампа нарисована, как светильник, всадники с высокими лбами и на виньетках виноградные кисти. Это отец пробивался самоучкой в германский мир из талмудических дебрей» («Шум времени», II, 355–356).
Характерно противопоставление немецкого «строя», к которому «самоучкой пробивался отец», иудейским «развалинам». Немецкое выступает и как составная часть еврейского культурного быта, и как его культурный императив. Существенен и сам список книг: немецкая штюрмерская и романтическая поэзия. Как мы видели, анализируя немецкую тему у Мандельштама, именно этот период развития немецкой литературы наиболее интенсивно прорабатывался Мандельштамом. В этом выборе определенную роль сыграли детские воспоминания о немецких читательских увлечениях отца. Было бы слишком самонадеянно утверждать, что лишь в пронемецких вкусах отца лежат корни мандельштамовского интереса к немецкой культуре, но немецко-еврейское детство все же не могло не подготовить этот интерес. Впоследствии понимание того воздействия, которое немецкая предромантическая и романтическая поэзия оказала на развитие русской поэзии — главного объекта поэтической рефлексии Мандельштама, — формировалось у поэта уже вне еврейского контекста.
Не вполне ясен смысл следующего важного высказывания Мандельштама: описывая русские книги, поэт замечает, что Лермонтов никогда «не казался мне братом или родственником Пушкина. А вот Гете и Шиллера я считал близнецами. Здесь же я признавал чужое и сознательно отделял. Ведь после 37-го года и стихи журчали иначе» (II, 356–357). Не совсем понятно, к чему относится сознательное отделение «чужого»: к Гете и Шиллеру или, что более вероятно, к русским книгам, написанным после смерти Пушкина, то есть и к Лермонтову. 1837 год — год смерти Пушкина и выхода Лермонтова на сцену русской литературы: значит, разграничение касается до- и послепушкинской эпох русской литературы, а не русской и немецкой литератур[239].
Сближение Гете и Шиллера происходит и в другом пассаже «Шума времени». Так, «на Пушкинской, в очень приличной квартире, жил бывший немецкий банкир, по фамилии Гольдберг, редактор-издатель журнальчика „Поэт“» (II, 382). Гольдберг — графоман, который читает молодым поэтам, желающим опубликоваться в его журнале, свою «философскую поэму» «Парламент насекомых» — «по-немецки, а в случае незнания языка — в русском переводе»: «Особенно он дорожил одним мрачным поэтом, которого считал самоубийцей». У «наемного юноши», помогающего Гольдбергу составлять журнал, — «небесно-поэтическая наружность» (II, 382). Юношу, наделенного романтической наружностью, Мандельштам гротескно называет «шиллерообразным помощником» Гольдберга, тем самым придавая Гольдбергу статус Гете. Гольдберг и его помощник — пародия на веймарскую чету. Такой вид пародии, которую Мандельштам в «Шуме времени» называет «злой иронией» (II, 382), призван помочь рассказчику отстраниться от своего прошлого, от «глухих» 1890–1900-х годов. Чем неадекватнее элементы сравнения, чем гротескнее «сходство», тем сильнее комический эффект, усиливающий момент «отстранения прошлого», момент отчуждения памяти Мандельштама, которая «враждебна всему личному». С другой стороны, гротескно-скептическая ирония позволяет со стороны «следить за веком, за шумом и прорастанием времени», она передает тревожно-болезненную атмосферу 1900-х годов, или, говоря словами самого поэта, «невежественную ночь» и «мразь» духовных смут современности (II, 383).
Подтверждением тому, сколь важную роль играло «немецкое» в детстве Мандельштама, является обилие в «Шуме времени» немецких реалий. В описаниях Петербурга присутствуют не только «немецкие» персонажи (как Гольдберг и его помощник), но и «немецкие» места. Так, Мандельштамы «ходили гулять по Большой Морской», «где красная лютеранская кирка» (II, 350): немецкая церковь из неотштукатуренного кирпича на стыке Большой Морской и Мойки (Морозов 2002: 231) — своего рода биографический интертекст стихотворения «Лютеранин».
В немецкие тона в «Шуме времени» окрашена Прибалтика, где жили дедушка и бабушка поэта. По мнению Л. Ф. Кациса, «описание Рижского взморья и его курортов строится на противопоставлении музыки немецкой части курорта и какофонии „еврейской клоаки“» (2002: 217). Рига названа «немецкой» (II, 354), «в Майоренгофе, у немцев, играла музыка — симфонический оркестр в садовой раковине — „Смерть и просветление“ Штрауса. Пожилые немки с румянцем на щеках, в свежем трауре, находили свою отраду» (II, 364). В последнем предложении реминисцируется образ «заплаканных дам» из стихотворения «Лютеранин». Образ румяных немок можно интерпретировать как невольное указание на биографический источник образов «Лютеранина»: таким образом, в стихотворении 1912 года переплелись воспоминания о лютеранской церкви в Петербурге и прибалтийских гуляньях.
Местом встречи «немецкого», «русского» и «еврейского» элементов оказывается музыка[240]. У немцев играют «Смерть и просветление» Штрауса, у евреев — Чайковского:
«Как убедительно звучали эти… все же русские скрипичные голоса в грязной еврейской клоаке! Какая нить протянута от этих первых убогих концертов к шелковому пожару Дворянского собрания и тщедушному Скрябину, который вот-вот сейчас будет раздавлен обступившим его со всех сторон еще немым полукружием певцов и скрипичным лесом „Прометея“» («Шум времени», II, 364).
Знаменательна лексическая перекличка этого признания с мандельштамовскими трактовками Баха периода акмеизма: «Как убедительна музыка Баха!» («Утро акмеизма», I, 180). Скрытый «баховский» подтекст, перекликающийся с готической рассудочностью Баха, можно увидеть и в более ранних описаниях интеграционных движений отцовского поколения, когда Мандельштам говорит о «рассудочных» еврейских юношах (II, 362). Немецко-русская музыка, как и немецкая и русская литература в отцовской библиотеке, а также строй Петербурга олицетворяют европейский императив еврейства мандельштамовского поколения. Причем, говоря об этом, Мандельштам пользуется заготовками из арсенала немецкой темы. В 1910-е годы они использовались в его акмеистической полемике с символизмом, теперь — в сведении счетов со своим прошлым. Одновременно мандельштамовские «немецкие» музыкальные воспоминания объясняют ту привязанность к немецкой музыке, которую Мандельштам отстаивал против символизма в акмеизме.
Характерна в воспоминаниях о Прибалтике и Павловске мемуарная привязка немцев к музыке. В главе «Шума времени», в которой описываются концерты Гофмана и Кубелика, Мандельштам говорит о том, что вся игра этих «маленьких гениев» была призвана «сковать и остудить разнузданную, своеобразно дионисийскую стихию». Мандельштам говорит о «рассудочной и чистой игре этих двух виртуозов» (II, 366). Характерны переклички с «дионисийскими» местами «Оды Бетховену». Разнузданность дионисийства напоминает чрезмерность бетховенской радости. С ней борется «способ игры» Гофмана и Кубелика:
«Я никогда ни у кого не слыхал такого чистого, первородно ясного и прозрачного звука, трезвого в рояли, как ключевая вода, и доводящего скрипку до простейшего, неразложимого на составные волокна голоса: я никогда не слышал больше такого виртуозного, альпийского холода, как в скупости, трезвости и формальной ясности этих двух законников скрипки и рояля» («Шум времени», II, 366).
Оксюморонное противоборство скупости, трезвости, формальной ясности и дионисийской стихии получает в силу качественной принадлежности (смежности) к немецкой теме тютчевское обрамление: причем к Тютчеву отсылает не только «альпийский холод», знакомый нам по стихотворению ОВР, написанному в том же 1923 году, но и чистое реминисцирование тютчевского стихотворения «Поток сгустился и тускнеет…» (Тютчев 2002: I, 132) с его образами бессмертной жизни ключа — холодного, но незамерзающего.
Для оценки динамической сущности семантических атрибутов «немецкого» существенно следующее высказывание Мандельштама: «Но то, что было в их исполнении ясного и трезвого, только больше бесило и подстрекало к новым неистовствам облепившую мраморные стены, свисавшую гроздьями с хоров, усеявшую грядки кресел и жарко уплотненную на эстраде толпу» (II, 366). Это высказывание отсылает не только к виноградным гроздьям (атрибут германского) и галерке из антивагнеровских «Валкирий», но и к белому трезвящему рейнвейну из стихотворения «Когда на площадях и в тишине келейной…». Прежде всего обращает внимание близость синтаксическая — и здесь, и там поэт начинает с противительного союза «но». Родственна и семантика: сдержанность, попытка обуздать дионисийскую стихию (или сумасшествие «на площадях и в тишине келейной») приводит к еще большему взрыву этой необузданности, варварского бешенства. Вряд ли будет натяжкой увидеть в этом рассуждении Мандельштама, пусть и с оговорками, более общую характеристику всей немецкой культуры, по крайней мере на момент написания «Шума времени».
Один из героев мандельштамовских мемуаров — Юлий Матвеич — имеет внешнее сходство с Бисмарком: «Буйная радость охватывала нас, детей, всякий раз, когда показывалась его министерская голова, до смешного напоминающая Бисмарка, нежно безволосая, как у младенца, не считая трех волосков на макушке… Бездетный, беспомощно-ластоногий Бисмарк чужой семьи» (II, 373). «Буйная радость» вновь отсылает к «чрезмерной радости» из «Оды Бетховену»: упоминание немца Бисмарка влечет за собой лексические ассоциации, наработанные в рамках немецкой темы. Юлий Матвеич напоминает Мандельштаму Бисмарка не только внешне, карикатурно сходны и «общественные» функции Юлия Матвеича и Бисмарка. Косвенно, через описание Юлия Матвеича характеризуется и настоящий Бисмарк: «В конце концов, всякая семья государство. Он (Юлий Матвеич. — Г.К.) любил семейные неурядицы, как настоящий государственный человек любит политические затруднения; своей семьи у него не было, и нашу он выбрал для своей деятельности как чрезвычайно трудную и запутанную» (II, 373).
Воспоминания из раннего детства поэта переплетаются с мемуарно-аналитическими страницами об отрочестве поэта, в центре которых — годы обучения в Тенишевском училище, где преподавался и немецкий: «На уроках немецкого языка пели под управлением фрейлин: „О Tannenbaum, о Tannenbaum!“ Сюда же приносились молочные альпийские ландшафты с дойными коровами и черепицами домиков» (II, 368–369). Скорее всего, имеются в виду немецкие молочные шоколадки, на упаковке которых были изображены альпийские коровы. В то же самое время не забывается и альпийская «прописка» «немца» Тютчева. Благодаря образным ассоциациям получается переплетение мемуарной конкретики и культурософских аллюзий, при этом образно-семантический потенциал «немецкого», соприкасающийся с другими образно-семантическими комплексами («русское», «еврейское», «поэзия», «школа»), оказывается выгодным полем для этой нарративной техники Мандельштама.
В основе метафорических скачков мандельштамовской прозы (и поэзии), на первый взгляд недостаточно мотивированных, лежат метонимические наложения, проясняющиеся при контекстуальном анализе. Вот еще один пример, относящийся к немецкой теме: в «краткой портретной галерее» своего класса из Тенишевского училища Мандельштам упоминает «рыхлого немца» Ванюшу Корсакова и Леонида Зарубина: «Леонид Зарубин, — крупная углепромышленность Донского бассейна, сначала динамо-машины и аккумуляторы, потом — только Вагнер» (II, 369). Между крупной углепромышленностью и Вагнером существует метонимическая связь — крупность; тяжеловесность углепромышленности корреспондирует с той громоздкостью, которой Мандельштам наделил Вагнера в «Валкириях».
Говоря о социальном происхождении и разбросанности политических, литературных и культурных интересов своих одноклассников, Мандельштам подытоживает: «Какая смесь, какая правдивая историческая разноголосица жила в нашей школе» (II, 375). Противоречивое, оксюморонное сочетание «смеси», «разноголосицы» и «правды» задним числом бросает свет на конфликтную «разноголосицу» «Баха», к образности которого Мандельштам вернулся в 1923 году в ОВР. То, что в 1913 году Мандельштаму, еще до конца не вышедшему из-под культурно-эстетической опеки символистов, казалось «кричащей разноголосицей», режущей слух диссонансностью, оказалось на поверку дня революционной исторической правдой. Вспомним аналогичное развитие мандельштамовских оценок «немецкого»: если в стихах 1917 года поэт отвергает «светлый образ северного мужа» за его грубость, то в статьях 1920-х годов он говорит об идеале совершенной мужественности как наиболее адекватном ответе современности на эстетические требования эпохи.
Заканчивая обзор одноклассников, Мандельштам замечает:
«А все-таки в Тенишевском были хорошие мальчики. Из того же мяса, из той же кости, что дети на портретах Серова. Маленькие аскеты, монахи в детском своем монастыре, где в тетрадках, приборах, стеклянных колбочках и немецких книжках больше духовности и внутреннего строю, чем в жизни взрослых» («Шум времени», II, 370).
И далее на страницах «Шума времени» Мандельштам продолжает расширять оппозицию «еврейский хаос — немецкий строй»: в приведенном отрывке «строй», на этот раз «внутренний строй» «маленьких аскетов» — метонимически, через немецкие книги, оказывается атрибутом немецкого.
2.4.1.2. Строй и эйфория: немецкие реалии в описаниях революционной юности
Наряду с воспоминаниями из раннего детства и с описанием обстановки в Тенишевском училище в «Шуме времени» Мандельштам заводит речь о своем «эсеровском» прошлом. Одним из стимулов обращения к этой теме явно послужили воспоминания поэта о пребывании в Грузии, которую осенью 1920 года посетила международная делегация социал-демократов, в ее составе были Каутский и Вандервельде[241]. В 1923 году в «Шуме времени» поэт возвращается к марксистским увлечениям своей тенишевской юности:
«…революционная накипь времен моей молодости, невинная „периферия“, вся кишела романами. Мальчики девятьсот пятого года шли в революцию с тем же чувством, с каким Николенька Ростов шел в гусары: то был вопрос влюбленности и чести. <…> Ночное солнце в ослепшей от дождя Финляндии, конспиративное солнце нового Аустерлица!» («Шум времени», II, 382–383).
Собственное революционное настоящее воспринимается Мандельштамом через «Войну и мир» Л. Толстого и описанные в романе события столетней давности. События первой русской революции Мандельштам косвенно сравнивает с новым Аустерлицем. Как мы помним, поиск параллелей между современностью и событиями первой трети XIX века был актуален и для историко-поэтических медитаций «Декабриста».
Просветом в «невежественной ночи» революционно настроенной интеллигенции начала 1900-х годов был для Мандельштама «мир Эрфуртской программы, коммунистических манифестов и аграрных споров» (II, 383). Немецкий «социалистский» контекст революционных дебатов 1900-х годов побуждает Мандельштама использовать «немецкую» образность. Так, поэт говорит, что «бурная политическая мысль» Герцена, «патетического в своем западничестве», «всегда будет звучать, как бетховенская соната» (II, 384). Реминисцируется название «Патетической сонаты» (№ 8) Бетховена. Косвенно Мандельштам возвращается и к своим определениям Бетховена: патетическая «бурность» — один из основных признаков поля «немецкого».
Целая глава «Шума времени» так и озаглавлена: «Эрфуртская программа» — по названию программы К. Каутского и Э. Бернштейна, принятой на съезде социал-демократической партии Германии в 1891 году и ставшей основополагающей для всех социалистических и коммунистических программ на ближайшие 30 лет. В. В. Гиппиус, «формовщик душ и учитель», советует Мандельштаму прочитать «Капитал» Маркса, но будущий поэт продолжает, несмотря на уговоры учителя, читать пропагандистские брошюры, потому что «брошюра кладет личинку — вот в этом ее назначенье.
Из личинки же родится мысль» (II, 375). Политическая мысль марксизма (Каутский) — «красная полоска марксистской зари» (II, 375) — поглощается тенишевскими воспитанниками вкупе с протопопом Аввакумом и символистами.
Анализируя влияние революционной мысли Германии на свое мироощущение, Мандельштам приходит к выводу, что Эрфуртская программа, которую он называет «марксистскими Пропилеями», приучила «дух к стройности», дала «ощущенье жизни в предысторические годы, когда мысль жаждет единства и стройности, когда выпрямляется позвоночник века, когда сердцу нужнее всего красная кровь аорты» (II, 376). Свойства немецкой политической мысли перекликаются со свойствами немецких книг в родительской библиотеке: и там, и здесь речь идет о строе-стройности, носителем которой выступает «немецкое»[242].
Мандельштам проводит параллели между своими политическими и поэтическими увлечениями отрочества:
«…для известного возраста и мгновенья Каутский (я называю его, конечно, к примеру, не он, так Маркс, Плеханов, с гораздо большим правом) тот же Тютчев, то есть источник космической радости, податель сильного и стройного мироощущенья, мыслящий тростник и покров, накинутый над бездной» («Шум времени», II, 376).
В данном отрывке знаменательно не только повторение топики строя («стройное мироощущенье») в «немецком» контексте Эрфуртской программы, но и тютчевский образ покрова над бездной, уже примененный Мандельштамом в связи со «стройным миражем» Петербурга, в который он бежал из «иудейского хаоса» (II, 354). Скрепленное воспоминанием о Коневском (II, 376) сравнение Каутского с Тютчевым как источником космической радости проливает свет и на признания поэта в письме к В. В. Гиппиусу в том, что его «первые… религиозные переживания относятся к периоду… детского увлечения марксистской догмой» (IV, 12). Марксизм в лице Каутского был, с одной стороны, носителем идеи строя, с другой стороны, источником религиозных чувств. Строй и эйфория составляют оксюморонное поле «немецкого». Интересно в связи с этим и то, какая лексика используется при подаче этой идеи: «источник космической радости» напоминает католическо-кафолическую «радость» мандельштамовского Бетховена (1990b: II, 159).
У немецких социалистов, в том числе у мастера революционной агитки Фердинанда Лассаля, сотрудника К. Маркса, Мандельштам учился и риторике. По воспоминаниям поэта, тенишевский друг Мандельштама — Б. Синани «зачитывался судебными речами Лассаля, чудесно построенными, прелестными и живыми, — это была уже чистая эстетика ума и настоящий спорт. И вот, в подражание Лассалю, мы увлеклись спортом красноречия, ораторской импровизацией ad hoc» (II, 380). Марксистские описания функционирования капиталистического хозяйства заложили личинки мандельштамовской концепции мира как «человеческого хозяйства», развиваемой в культурософских статьях начала 1920-х годов:
«Что может быть сильнее, что может быть органичнее: я весь мир почувствовал хозяйством, человеческим хозяйством, — и умолкшие сто лет назад веретена английской домашней промышленности еще звучали в звонком осеннем воздухе! Да, я слышал с живостью настороженного далёкой молотилкой в поле слуха, как набухает и тяжелеет не ячмень в колосьях, не северное яблоко, а мир, капиталистический мир набухает, чтобы упасть!» («Шум времени», II, 376).
Характерен в этом отрывке метафорический синтез реминисценций из марксистских описаний капиталистического хозяйства и тютчевского звонкого осеннего дня из стихотворения «Есть в осени первоначальной…». Тютчевские подтексты оказываются связующим звеном между семантическими полями «немецкого», «революционного» и «религиозного». Мандельштам возвращается к своей эсеровской юности с ее нелегальными сходками на финских дачах и чтением немецких и русских марксистов в поисках обоснования или оправдания изменений в своих культурно-политических установках. Описание обстоятельств того, как поэт проникся «космической радостью» Эрфуртской программы, начинается с реминисценции из Тютчева:
«В тот год в Зегельвольде, на курляндской реке Аа стояла ясная осень, с паутинкой на ячменных полях. Только что пожгли баронов, и жестокая тишина после усмиренья поднималась от спаленных кирпичных служб. Изредка протараторит по твердой немецкой дороге двуколка с управляющим и стражником и снимет шапку грубиян латыш. В кирпично-красных, изрытых пещерами слоистых берегах германской ундиной текла романтическая речка, и бурги по самые уши увязли в зелени» («Шум времени», II, 376).
Здесь мы имеем дело не просто с воспоминанием о восстании латышских крестьян против немецких землевладельцев: самые первые, марксистские стихи Мандельштама были посвящены этому восстанию. Первое поэтическое вдохновение и религиозное чувство вписываются в романтический пейзаж (развалины замка) и получают тютчевское обрамление. «Паутинка на ячменных полях» перекликается с образом «тонкого волоса» паутины на «праздной борозде» из стихотворения Тютчева «Есть в осени первоначальной…» (Тютчев 2003: II, 84).
С другой стороны, романтическая речка, на берегу которой Мандельштам читает марксистов, — «германская ундина», «сестра» Лорелеи из «Декабриста». Важен и творительный падеж Ундины, русалки из повести Де ла Мотт Фуке, русскому читателю известной в подаче Жуковского: романтическая речка, метонимически представляющая весь романтизм, — является Ундиной-Лорелеей. Таким образом, косвенно Эрфуртская программа, подобно посленаполеоновской эйфории в «Декабристе», оказывается тем соблазном, на который поддалась Россия в лице поколения Мандельштама. Подспудно Мандельштамом артикулируется и немецко-романтическая природа самих идей социалистов.
2.4.1.3. «Протестантский дух русской интеллигенции»
В «Шуме времени» есть и театральные страницы, на которых вновь появляется немецкая образность. Но на этот раз Мандельштам пользуется не оксюморонными оппозициями «строй — хаос» и «строй — эйфория», а сталкивает оксюморонные образно-смысловые признаки, разработанные в рамках немецко-протестантской темы. Так, по Мандельштаму, «в Комиссаржевской нашел свое выражение протестантский дух русской интеллигенции, своеобразный протестантизм от искусства и от театра» (II, 385). В описании Комиссаржевской присутствует множество эпитетов, так или иначе связанных с эстетикой немецкого протестантизма. Комиссаржевская Мандельштама «недаром… тянулась к Ибсену и дошла до высокой виртуозности в этой протестантски-пристойной профессорской драме» (II, 385). Ибсеновская драма называется «протестантски-пристойной профессорской». Эпитет «пристойный» пришел к Мандельштаму из тютчевского стихотворения «И гроб опущен уж в могилу…», где почти «профессорская» речь ученого сановитого пастора характеризуется как пристойная. В связи с «Лютеранином» нами уже отмечался мандельштамовский синоним тютчевского эпитета «пристойный» — «приличный». Здесь, однако, Мандельштам настойчиво пользуется тютчевской характеристикой. Так, буквально в следующем предложении Мандельштам говорит о том, что «интеллигенция всегда не любила театра и стремилась справить театральный культ как можно скромнее и пристойнее» (II, 385). Пристойность, скромность драматического действия роднит интеллигентский русский театр и протестантский обряд (в описании Тютчева).
Амбивалентное отношение к эстетике протестантизма, перенятое Мандельштамом у Тютчева, теперь метонимически переносится на «протестантский» театр Комиссаржевской. Мандельштам пользуется религиозной терминологией («справить культ»). Конечно, здесь есть и ирония, причем камни летят как в сторону русской интеллигенции, так и в сторону протестантизма. В своем стремлении обмирщения театрального действа русский театр следует «протестантским» образцам: «для начала она (Комиссаржевская. — Г.К.) выкинула всю театральную мишуру: и жар свечей, и красные грядки кресел, и атласные гнезда лож. Деревянный амфитеатр, белые стены, серые сукна — чисто, как на яхте, и голо, как в лютеранской кирке» (II, 385). Деревянный амфитеатр, белые стены, серые сукна напоминают «доски вместо образов» в «Бахе» и приглушенный матовый колорит «Лютеранина». Характеристика «убранства» лютеранской кирки как голой восходит опять же к Тютчеву — подтекстуальному «собеседнику» Мандельштама в «Бахе» и «Лютеранине» («голая храмина» в «Я лютеран люблю богослуженье…»).
В тесной связи с мандельштамовской топикой «немецкого протестантизма» находятся и дальнейшие характеристики Комиссаржевской. Мандельштам пишет об отличающей Комиссаржевскую «от всех тогдашних русских актеров, да, пожалуй, и теперешних» внутренней музыкальности (II, 385). Комиссаржевская «подымала и опускала голос так, как это требовалось дыханьем словесного строя; ее игра была на три четверти словесной, сопровождаемой самыми необходимыми скупыми движеньями» (II, 385). Движения Комиссаржевской — «скупые» (вспоминаются скупые «на приветы» участники похоронной процессии в «Лютеранине»), однако и самые необходимые. Аскетическая пластика и жестикуляция лишь «сопровождают» словесный «строй». Здесь очевидны параллели к эстетике лютеранского богослужения, когда аскетичная, «нулевая» обрядность призвана не заслонять внутреннюю работу со словом.
Характерен мандельштамовский совет-призыв, высказанный в статье «Художественный театр и слово» в связи с театром Мейерхольда за два года до «Шума времени», когда Мандельштам впервые подчеркнул культовую роль театра в жизни русской интеллигенции: «Сходить в „Художественный“ для интеллигента значило почти причаститься, сходить в церковь. Здесь русская интеллигенция отправляла свой самый высокий и нужный для нее культ» (II, 333–334). Мандельштам критикует чрезмерную театрализацию драматического слова и добавляет, что «в театре для того, чтобы двигаться, нужно говорить, потому что он весь дан в слове»: «Истинный и праведный путь к театральному осязанию лежит через слово, в слове скрыта режиссура. В строении речи, стиха или прозы дана высшая выразительность» (II, 335). Во МХАТе все было не так: МХАТ был «расплатой целого поколения за словесную его немоту, за врожденное косноязычие, за недоверие к слову», «слова не слышали и не осязали». «Вся деятельность Художественного театра прошла под знаком недоверия к слову и жажды внешнего осязания литературы» (II, 334). Комиссаржевская выгодно отличается от мхатовцев — у нее театральное действо не загораживает слово. И это, по Мандельштаму, роднит ее с логоцентризмом протестантизма. Оппозиция «протестантки» Комиссаржевской и «православного» культа МХАТа в рамках разговора о театре является своего рода продолжением мандельштамовского противопоставления монашеско-интеллигентского отношения к слову и поэтической работы Пастернака, Хлебникова и Лютера из статьи «Вульгата».
В очерке «Яхонтов» Мандельштам развивает идеи самодостаточности (драматического) слова из главы «Комиссаржевская» в «Шуме времени». Мандельштам находит в лице Яхонтова искомый вербализм театра:
«На примере Яхонтова видим редкое зрелище: актер, отказавшись от декламации и отчаявшись получить нужную ему пьесу, учится у всенародно признанных словесных образцов, у великих мастеров организованной речи, чтобы дать массам графически точный и сухой рисунок, рисунок движения и узор слова. Ничего лишнего. Только самое необходимое» («Яхонтов», II, 460).
Яхонтов оказывается продолжателем линии Комиссаржевской с ее «протестантизмом». Он показывает возможности «режиссуры», скрытой в слове. Не исключено, что, смежно касаясь немецкой темы, Мандельштам вышел в своих рассуждениях о Яхонтове на мотивы и сюжеты из арсенала немецкой темы:
«Показывая, как портной Петрович облачает Акакия Акакиевича в новую шинель, Яхонтов читает бальные стихи Пушкина… подчеркивая этим убожество лирической минуты. В тексте еще рукоплещет раек, но Яхонтов уже показывает гайдуков с шубами или мерзнущих кучеров, раздвигая картину до цельного театра, с площадью и морозной ночью. В каждую данную минуту он дает широко раздвинутый перспективный образ» («Яхонтов», II, 461).
Мандельштам почти дословно использует те образы и эпитеты, которые он применил в «Валкириях» («еще рукоплещет раек», «гайдуки с шубами», «мерзнущие кучера», разъезд морозной ночью).
Характерно, что поэт замечает, как Яхонтов контрастивно использует стихи Пушкина: той же техникой воспользовался в «Валкириях» сам Мандельштам: вагнеровская опера сатирически контрастивно связывалась сюжетно-лексическими аллюзиями с первыми сценами «Евгения Онегина».
В последней главе «Шума времени» («В не по чину барственной шубе») характерно появляются образы из заставки «Валкирий» и звериного зева скифов: неуклюжие дворники, дремлющие у ворот (II, 386). «Глухим годам» России противопоставляется, с оговорками, поэзия XIX века:
«Больные воспаленные веки Фета мешали спать. Тютчев ранним склерозом, известковым слоем ложился в жилах. Пять — шесть последних символических слов, как пять евангельских рыб, оттягивали корзину; среди них большая рыба: „Бытие“. Ими нельзя было накормить голодное время… Отвлеченные понятия в конце исторической эпохи всегда воняют тухлой рыбой. Лучше злобное и веселое шипенье хороших русских стихов» («Шум времени», II, 388).
Здесь Мандельштам прибегает к реминисценциям не только из своего стихотворения «Век», созданного незадолго до «Шума времени» (образ извести в крови), но и к образам голодного времени из «Сумерек свободы», статьи «Пшеница человеческая» и к шипучим, пушкинско-языковским бокалам встречи на Рейне из «Декабриста». Опираясь на образы «летейской стужи» и «гиперборейской зимы» из стихотворений 1917–1918 годов, Мандельштам заканчивает «Шум времени» характеристикой 1890–1900-х годов как звериного «зимнего периода русской истории», «непомерной стужи», «глубокой зимы» (II, 392).
2.4.2. «Египетская марка»
Очерк «Яхонтов», театрально-протестантскими сюжетными нитями связанный с последними главами «Шума времени», был написан в преддверии «Египетской марки», причем связь очерка с «Египетской маркой» не просто хронологическая. Яхонтовской техникой монтажа, которую описывает Мандельштам, поэт сам воспользовался, доводя ее до абсурда при создании «Египетской марки»: контрастивный монтаж, гоголевские фантасмагории, сама перипетия с визиткой, сюрреалистически дублирующая сюжет «Шинели», — яхонтовские чтения гоголевских повестей, в которые вкраплялись стихи Пушкина, являются, наряду с другими интертекстами (Белый, Шкловский), монтажно-сюжетным подтекстом «Египетской марки».
В 1920-е годы легкий и веселый мандельштамовский юмор трансформируется в едкую сатиру. Поэтому не мудрено, что в поисках прецедентов сатиры в собственном творчестве Мандельштам интертекстуально обращается к уникальному опыту «Валкирий»[243]. В «Египетской марке» иронические описания Петербурга (образца 1890-х годов и лета 1917 года — времени действия повести), появившиеся в «Шуме времени», принимают все более гротескные сюрреалистические черты. Наработанные в контексте немецкой темы образы играют при этом не последнюю роль. Повесть начинается с «эскиза» герба для мандельштамовской семьи:
«Семья моя, я предлагаю тебе герб: стакан с кипяченой водой. В резиновом привкусе петербургской отварной воды я пью неудавшееся домашнее бессмертие. Центробежная сила времени разметала наши венские стулья и голландские тарелки с синими цветочками. Ничего не осталось. Тридцать лет прошли как медленный пожар. Тридцать лет лизало холодное белое пламя спинки зеркал с ярлычками судебного пристава» («Египетская марка», II, 465).
В этом описании проглядывают мотивно-образные контуры стихотворения «Когда на площадях и в тишине келейной…»: сравним образ тридцатилетнего пожара и холодного белого пламени с их эквивалентами из стихотворения «Когда на площадях и в тишине келейной…» — образами стужи, янтаря, пожаров и пиров, холодного белого рейнвейна. Что вызвало эту образную параллель? Судя по всему, свою роль при этом сыграла центральная для прозы Мандельштама стратегия отстранения от прошлого, беспамятства, сознательного забытья, впервые тематизированная в «летейском» цикле 1917–1918 годов.
Кокоревские склады на основании их внешнего сходства и функциональности (хранение) сравниваются с Валгаллой. Артельщики Кокоревских складов, «приплясывая в ужасе, поднимают кабинетный рояль миньон, как черный лакированный метеор, упавший с неба» (II, 465). Мандельштамовское мышление метонимично, одна «немецкая» ассоциация влечет за собой по цепочке следующую: Валгалла — миньон. Вряд ли будет натяжкой в пляске артельщиков усмотреть сходство с плясками гайдуков вокруг костров в «Валкириях». Напомним, что в том же 1927 году написана уже упомянутая нами заметка «Яхонтов», в которой реминисцировалась уличная заставка «Валкирий». Поводом для «немецких» ассоциаций является показанное выше идейно-образное родство авторских интенций 2-й половины 1920-х годов, представленных в «Шуме времени», с «летейским» комплексом 1917 года, который по признаку принадлежности к «немецкому» оживляет и другие немецкие образы.
Появление (по цепочке) немецкой темы в зачине «Египетской марки» предопределяет и ее присутствие в дальнейших фабульных (или, точнее, антифабульных) поворотах повествования. Так, уже на следующей странице, вслед за утверждением грандиозности домоправительства (эта гротескная грандиозность связана с крикливой громоздкостью «Валкирий»), следует ироническое: «Сроки жизни необъятны: от постижения готической немецкой азбуки до золотого сала университетских пирожков» (II, 466). Немецкий готический алфавит — метонимия детства (изучение немецкого)[244].
«Немецкие» ассоциации появляются и далее: «Все уменьшается. Все тает. И Гете тает. Небольшой нам отпущен срок» (II, 489). В этом отрывке, связанном с разобранной выше темой «срока» жизни, содержатся в своих истоках образы «Декабриста» (дважды повторенное «Все тает» — «Все перепуталось») и мотив таянья, в связи с чем вспоминается тающий воск бессмертия над черной скифской Невой из стихотворения 1918 года «На страшной высоте блуждающий огонь…», навеянного слухами о немецких бомбардировках Петрограда. Для нашей темы важно, что именно Гете метонимически представляет европейскую культуру, распадающуюся в хаосе революций[245].
При описании географической карты появляются «воздушные очертания арийской Европы», противопоставляемые «тупому сапогу Африки» и «невыразительной Австралии» (II, 466–467). «Арийское», вбиравшее в себя в «Зверинце» «славянский и германский лён» и противопоставлявшееся в «Шуме времени» «еврейскому», здесь метонимически переносится на всю Европу. У Мандельштама была контекстуальная альтернатива при метафоризации очертаний Европы: в стихотворении «Европа» (1914) он сравнил силуэт Европы со средиземноморским крабом и морской звездой. Но здесь он этим образным запасом не воспользовался. Причины две: во-первых, к моменту написания «Египетской марки» Мандельштам уже отказался от идей Рима и Эллады, а значит, и избегал средиземноморских, античных ассоциаций и сравнений, доминировавших в период «Камня». Во-вторых, «арийскую» ассоциацию подсказала вся предыдущая немецкая, а не «европейская» образность.
В «Египетской марке» «подразумевается», что портной Мервис, живший возле Лицея, «шил… на лицеистов», как «рыбак на Рейне ловит форелей, а не какую-нибудь дрянь» (II, 467). Ассоциация кажется немотивированной, но несколькими главами далее следует косвенное пояснение: «Вот и Фонтанка — Ундина барахольщиков и голодных студентов с длинными сальными патлами, Лорелея вареных раков, играющая на гребенке с недостающими зубьями» (II, 477). Фонтанка — в то время запруженная баржами грязная река — граница, отделяющая «блистательный» Петербург от Петербурга «маленьких людей». Портной отбирает у Парнока, героя повествования, с которым время от времени идентифицируется сам Мандельштам, его визитку (подобие гоголевской «Шинели»), а на Фонтанке (со всеми ее «достоевскими» ассоциациями) толпа, теряющая свой человеческий облик, вершит самосуд. По мнению И. Месс-Бейер, «вдохновлявшая немецких поэтов мифологическая Лорелея… оторвана здесь от своей романтической немецкой почвы и помещена в издевательский и страшный русский контекст» (1991: 277). Нам же кажется, что Мандельштам контекстуально логично применяет связанный с Лорелеей мотив соблазнения. Возможные двигатели мандельштамовской образности таковы: сам вид Фонтанки соблазняет (как и в случае с рейнской Лорелеей) на преступление, на самосуд (преступление в состоянии дикости, одичания — часть образных констант «немецкого»), аналогично скифско-германскому балу на берегах Невы в стихотворении «Кассандре». Произошло метонимическое смещение: вместо Невы — Фонтанка, образ же Лорелеи использован вполне традиционно, он связывается с соблазном и гибелью.
В «Египетской марке» описывается тетя Вера Пергамент — «лютеранка», подпевавшая «прихожанам в красной кирке на Мойке. <…> Ее тонкие лютеранские губы осуждали наш домопорядок, а стародевичьи букли склонялись над тарелкой куриного супа с легкой брезгливостью» (II, 486). Здесь реминисцируется «Лютеранин», но уже с наслоениями, отмеченными нами в комментарии «немецких» пассажей «Шума времени»: лютеранка тетя Вера осуждает домопорядок еврейского быта Мандельштамов. Здесь гротескно преломляется высказанное в «Шуме времени» противопоставление «немецкого» и «еврейского».
В пятой главе «Египетской марки» Мандельштам описывает впечатление от нотного письма Шопена, Шуберта, Бетховена, Генделя, Баха, Шумана и Листа. Подавляющее большинство композиторов — немцы и австрийцы. Саму «нотную страницу» поэт характерно обозначает как «революцию в старинном немецком городе» (II, 481). Знаменательно здесь не только сюрреалистически-ассоциативное сравнение нотного листа с немецким городом (мотивированное метонимической связью немецкого города с немецкими композиторами), но и сама привязка нотной страницы, pars pro toto представляющей музыку вообще, к «немецкому». «Немецкое» связывается с революционностью не только по ассоциации с антинаполеоновской эйфорией («Декабрист») и воспоминаниям об Эрфуртской программе. В этой характеристике сказывается как актуальный прогерманский настрой советской России (о чем уже говорилось в связи с ОВР), так и опыт переводов революционной немецкой поэзии.
«Нотный виноградник Шуберта всегда расклеван до косточек и исхлестан бурей» (II, 480): в пассаже о Шуберте Мандельштам прибегает к образам, уже разработанным в «шубертовском» стихотворении «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа…». «Виноградник» — постоянный атрибут немецкого, метонимически уводящий ко всему рейнскому винному романтическому комплексу. «Голубоглазый хмель», который смеется «в песнях урагана» — и соответствие которому в тексте «Египетской марки» — буря, отсылающая ко всему поэтическому и историко-литературному «архиву» немецкого (сама романтическая образность «бури», «Буря и натиск», бурегрозовые символы-метафоры в переводах из Бартеля)[246].
Помимо Шуберта Мандельштам описывает и впечатление от партитуры других немецких композиторов. Он говорит о «воинственных страницах Баха» (II, 481). Здесь примечательно характерное для поэтики Мандельштама смещение-совмещение идейных полей и образов. Воинственность, которой одновременно соответствовала и противостояла музыка Баха в ОВР, метонимически перешла и на самого Баха[247].
Примечательно отсутствие в списке композиторов, чью нотную грамоту описывает Мандельштам, Моцарта. Дело, по-видимому, в том, что Моцарту в «Египетской марке» отведена особая роль. Хотя уже в письме Вяч. Иванову от 13. 8. 1909 года Мандельштам косвенно упомянул о том, что он слушал Моцарта (IV, 15), музыка Моцарта, в отличие от Баха, Бетховена и Шуберта, полноправно вошла в художественный мир Мандельштама лишь в 1920-е годы. В эссе «О природе слова» (1922) образ Моцарта появился в пушкинском контексте («Моцарт и Сальери») и служил иллюстрацией поэтических установок неоакмеизма: «идеалисту-мечтателю» Моцарту противопоставлялся «суровый и строгий ремесленник мастер Сальери» (I, 231). В «Египетской марке» Моцарт появляется в рамках рассказа о смерти итальянской певицы А. Бозио, причем его образ имеет амбивалентный характер: с одной стороны, упоминается партия Церлины из оперы Моцарта «Дон Жуан» (II, 490), входившая в репертуар Бозио; с другой стороны, музыка Моцарта, названная в одном ряду с «плюмажами» и «жандармами» (II, 467), — часть того сюрреалистического Петербурга, в варварско-бюрократической обстановке которого гибнет итальянская певица, воплотившая в себе образ хрупкой европейской культуры.
Судя по обилию и характеру немецких культурных реалий и реминисценций в прозе Мандельштама 1920-х годов (в первую очередь в «Шуме времени»), взятых из собственных «немецких» стихотворений, произошедшая в детстве «встреча» с немецкой культурой, скорее всего, оказала решающее воздействие на формирование культурно-литературной привязанности Мандельштама к Германии и к «немецкому». Эту свою привязанность Мандельштам пронес даже через «антигерманские» акмеистические годы. Тогда частично были заложены те семантические атрибуты и ассоциации, которыми, как было показано, обросло поле немецкого: соединение рассудочности и буйства, строя и эйфории. Конечно, здесь надо сделать скидку на то, что рефлексия «немецких» реалий детства происходит 20 лет спустя, на эстетическом языке совершенно другой эпохи. Поэтому вполне возможно, что на свои юношеские воспоминания Мандельштам накладывает наработанные в комплексе «немецкого» квалитативные константы по принципу смежности-принадлежности к немецкому образно-семантическому полю.
Пик немецких ассоциаций и реминисценций приходится на «Шум времени», в прозе второй половины 1920-х годов их количество уменьшается. Вероятно, это объясняется тем, что над «Шумом времени» Мандельштам работал по следам критических статей 1922–1923 годов, в которых постоянно обращался к немецким культурным и литературным реалиям. Возможно, катализатором немецкой образности являлись и переводы с немецкого. Свою роль сыграл и общий пронемецкий настрой в советской России первой половины 1920-х годов, связанный с чаяниями революционного интернационализма, который ослабел во второй половине десятилетия[248].
3. Немецкая тема в произведениях 1930-х годов
3.1. Возвращение немецких мотивов в произведениях 1930–1932 годов
3.1.1. «Итальянское путешествие» в Армению
В начале 1930-х годов, после более чем пятилетнего перерыва, Мандельштам вновь начинает писать стихи. Возвращение к стихам произошло в Армении, где поэт побывал летом 1930 года. Свои впечатления от поездки Мандельштам описал в «Путешествии в Армению». Выход из поэтической немоты второй половины 1920-х годов происходил по следам армянских впечатлений и переживаний — в Армении поэт соприкоснулся с миром, воспринятым им как более древняя и в то же самое время современная альтернатива «Элладе» и «Риму» — культурософским ориентирам Мандельштама периода «Камня» и первых «Tristia». В стихотворении «Я скажу тебе с последней прямотой…» Мандельштам с горькой усмешкой «распрощался» со своими античными «пристрастиями»: «Греки сбондили Елену / По волнам, / Ну, а мне — соленой пеной / По губам» (III, 45). Дальнейшее «томление» по средиземноморскому Югу в неоклассицистских формах и сами концепции Рима и Эллады не выдержали испытания временем. Уже в «Tristia» поэт взял курс на расставание со старой культурой. «Голая правда» Армении с ее суровыми ландшафтами и трагической историей (геноцид 1915 года, резня в Шуше, тематизированная в стихотворении «Фаэтонщик») была, говоря словами переломного стихотворения «Умывался ночью на дворе…», «по совести суровей» Эллады. Отказ от эллинского и романского неминуемо вел к более «грубым» культурным пластам. Армения являла собой опыт культурной и одновременно природной стойкости. Ниже мы попытаемся проследить, какие немецкие культурные реалии присутствуют в «Путешествии в Армению» и какую роль они сыграли в процессе возвращения к стихам. Кроме того, разбор «немецких» реалий «Путешествия» будет призван ответить на вопрос, почему именно в Армении поэт вернулся к немецкой теме, занимающей такое важное место в лирике Мандельштама 1930-х годов.
Ощутимое присутствие немецких реалий в армянских впечатлениях поэта объясняется, во-первых, внешними, биографическими обстоятельствами, частично тематизированными в «Путешествии». В Армении поэт говорил по-немецки, например, с профессором Хачатурьяном (III, 181), познакомился и подружился с Б. С. Кузиным (1903–1973), биологом и большим знатоком немецкой литературы и музыки[249]. В своих воспоминаниях Н. Я. Мандельштам отмечает:
«Через увлечение Арменией пришла тяга к Гете, Гердеру и другим немецким поэтам. Встреча с молодым биологом Кузиным, полным в то время философских и литературных интересов — всегда чуточку буршевских — могла бы пройти незамеченной где-нибудь в Москве, но в Армении шар попал в лузу. <…> Кузин любил Гете, и это… пришлось кстати» (Н. Мандельштам 1999: 275).
Надежда Яковлевна не случайно говорит, что тяга к Гердеру, Гете и немецкой поэзии пришла через увлечение Арменией. Увлечение немцами не просто произошло в Армении, Армения — не случайное место встречи. Между увлечениями немецкими поэтами и армянской культурой есть причинно-следственная связь. Готовясь к погружению в армянскую культуру, Мандельштам читал Гердера и Гете: характерно, что с собой в Армению Мандельштам берет «Итальянское путешествие» Гете (III, 387). В связи с «Путешествием в Армению» исследователями (Nesbet 1988: 111; Sippl 1997:216–217) уже отмечались параллели в биографии Гете и Мандельштама[250]. Учитывая, что книга Гете описывает бегство немецкого поэта из Германии на спасительный блаженный Юг, можно предположить, что мы имеем дело не просто с совпадениями, а с сознательной мандельштамовской интенцией-проекцией своего путешествия на гетевское. Книга Гете описывает пространственный и поэтический рывок Гете из замкнутого пространства литературных интересов и вкусов Веймара. То духовное и художественное обновление, которое Гете пережил в Италии, Мандельштам, по-видимому, сознательно проецировал на свое путешествие в Армению. Идентификация усиливалась и благодаря тому, что Мандельштам в момент путешествия в Армению был примерно в том же возрасте (39 лет), что и Гете во время итальянских путешествий (1786–1788). Проекцию мотивировало воспоминание о собственном путешествии из Германии в Италию в марте 1910 года[251].
В Армении Мандельштам перечитывает вместе с Кузиным «Фауста», «Годы странствий Вильгельма Мейстера» и «Вертера». Свою встречу в Армении с Кузиным Мандельштам сравнил со встречей Вильгельма Мейстера с Ярно (III, 193) — очередное свидетельство косвенной идентификации с Гете и гетевскими персонажами. Усилившийся с начала 1920-х годов интерес Мандельштама к Гете нарастал не только благодаря Кузину, но и подогревался другими внешними событиями, пусть и воспринятыми поэтом негативно. За год до поездки в Армению Мандельштам в разговоре о современных переводах классиков раскритиковал намеченное амбициозное издание восемнадцатитомного собрания сочинений Гете (II: 511, 518).
В начале 1930-х годов поэт ищет в поэзии новой природности, укорененности, геологичности. Здесь, в Армении, не в последнюю очередь благодаря Кузину, Мандельштаму оказался полезен Гете с его геологическими и биологическими штудиями[252]. Не исключено, что Мандельштам во время путешествия в Армению читал и «Западно-восточный диван» — «последнее откровение» Гете, в котором поэтически осмысляется «встреча» немецкого поэта с восточной персидской традицией и культурой, в первую очередь с поэзией Гафиза. В пользу этого предположения говорит тот факт, что в мандельштамовских армянских штудиях нашла свое отражение культурная связь Армении и Персии (III, 204–205), и недаром стихи армянского цикла открываются обращением к культуре Армении, в котором присутствует Гафиз: «Ты (Армения. — Г.К.) розу Гафиза колышешь» (III, 35). Армения определяется через ее отношение к Гафизу и персидской традиции. Гафиза Мандельштам мог знать по фетовским переложениям из Даумера и (или) по «Западно-восточному дивану» Гете, посвященному Гафизу, вступительное стихотворение которого переводил Ф. Тютчев, и (или) по персидским стилизациям Н. Гумилева.
Впервые немецкая культура в персидском контексте появилась у Мандельштама в 1922 году. Старинная грузинская портретная живопись по своему «плоскостному восприятию формы и линейной композиции» напомнила Мандельштаму персидскую миниатюру, а «по своей технике и глубокому статическому покою… старую немецкую живопись» (II, 234). Немецкая живопись выступает аналогом и своего рода каналом «европеизации» грузинского искусства, однако она и сродни искусству кавказского Востока.
В Ереване Мандельштам брал «томик Гете» у М. Шагинян (IV, 149)[253]. М. Шагинян была любителем и знатоком творчества Гете. К сожалению, мы не знаем, какую именно книгу Гете Мандельштам брал у Шагинян: «Вертера», «Итальянское путешествие», «Вильгельма Мейстера» или же «Западно-восточный диван». Мы присоединяемся к предположению К. Трибла, что «видное место», которое уделяется «Гафизу в цикле (стихов об Армении. — Г.К.), подсказано чтением Гете» (1999: 351). Исследователь даже предлагает считать армянский цикл мандельштамовским «Западно-восточным диваном» (1999: 348). Предположение К. Трибла представляется нам плодотворным: обращение к восточной теме, в центре которой был Гафиз, стало последним откровением Гете, путешествие в Армению творчески обновило Мандельштама после пяти лет молчания.
Зачатки нового обращения к немецкой культуре обнаруживаются во многих местах «Путешествия в Армению». Образная перекличка с немецкой темой присутствует, например, при описании озера Севан: «Скорость движения облаков увеличивалась ежеминутно, и прибой-первопечатник спешил издать за полчаса вручную жирную гутенберговскую Библию под тяжко насупленным небом» (III, 180). Этот образ перекликается с размышлениями об обмирщении поэтической речи в «Заметках о поэзии», где радость от чтения книги стихов Пастернака «Сестра моя — жизнь» сравнивалась с полиграфическим воздействием лютеровской Библии на его современников (II, 300). Идейные переклички со статьями 1923 года обнаруживаются и в утверждении Мандельштама о том, что «биография сельского учителя может стать в наши дни настольной книгой, как некогда „Вертер“» (III, 207). Как и в статье «Буря и натиск», развитие немецкой литературы XVIII–XIX веков выступает мерилом литературных процессов и запросов современности.
С Кузиным Мандельштама связывали не только немецкие литературные, но и музыкальные интересы: «Б. С. (Кузин. — Г.К.)… пуще всего на свете любил музыку Баха, особенно одну инвенцию, исполняемую на духовых инструментах и взвивающуюся кверху, как готический фейерверк» (III, 189). Знаменательна характеристика музыки Баха как готического фейерверка, в котором синтезируются образы «готического собора» и «барочного фейерверка»: готический собор взвивается вверх, как фейерверк. Готика как архитектурный стиль, воспетый в «Камне», эстетический императив акмеизма, связывается с явлением барочно-классицистским. Архитектонический императив готики получает новый иллюминационно-пиротехнический аспект, характерный для барочной культуры. Косвенно Бах оказывается связующим звеном между «рассудочной пропастью» готической архитектуры и барочной поэзией XVIII века, немецкой и русской.
Кузин знакомит Мандельштама не только с актуальными проблемами и спорными вопросами биологической науки, но и с ее историей. В начале 1930-х годов Мандельштам читает Линнея, Ламарка, Дарвина, натуралистов, в том числе «Путешествие по разным провинциям Российской империи» члена Петербургской академии наук, немца Петра Симона Палласа (1741–1811). С 1768 по 1774 год берлинский ученый П. С. Паллас руководил научной экспедицией по восточным областям России. Им были собраны важнейшие сведения по географии, климатологии, этнографии, зоологии и биологии Поволжья, Урала, Сибири. Книга Палласа, о которой Мандельштаму, по всей видимости, рассказал Б. Кузин, не потеряла своего значения и к 1930-м годам. В «Путешествии в Армению», в главе «Вокруг натуралистов» и в ее черновиках Мандельштам посвящает несколько страниц книге Палласа. Поэт связывает описания Палласа с немецкой музыкой: «Кто не любит Гайдна, Глюка и Моцарта — тот ни черта не поймет в Палласе. Телесную круглость и любезность немецкой музыки он перенес на русские равнины» (III, 201). По Мандельштаму, Паллас воспринимает и описывает русский ландшафт через призму немецкой музыки. В связи с темой нашего исследования важна сама перспектива, взгляд на русское глазами иностранца и связывание эмоционально-рационалистических описаний Палласа с современной ему немецкой музыкой.
«Никому, как Палласу, не удавалось снять с русского ландшафта серую пелену ямщицкой скуки[254]. В ее [мнимой] однообразности, приводившей наших поэтов то в отчаяние, то в унылый восторг, он подсмотрел неслыханное <…> богатое жизненное содержание. <…> Удивительный был немец этот Паллас» (III, 387–388).
Имеются в виду особенности стиля Палласа (в переводе его сотрудника В. Ф. Зуева), сочетающие дескриптивную хватку просвещенческой науки (но без академических сухостей) с эмоциональностью, когда признания в любви к российским ландшафтам нерасторжимо сочетаются с «утилитарным» описанием географических, биологических и этнографических особенностей региона. Мандельштам восхищается в Палласе тем, что десятью годами ранее в статье «Девятнадцатый век» он назвал (в связи с ломоносовским посланием Шувалову) «внутренним теплом», «согревающим» научное размышление, и положительно отделил от «блестящего и холодного безразличия методологической научной мысли девятнадцатого столетия» (II, 266).
В заметках «К проблеме научного стиля Дарвина» Мандельштам противопоставляет «хищным, насквозь функциональным зарисовкам» Дарвина описания Палласа, объекты описания которого «преподносились» «как драгоценность в оправе» (III, 212–213). У Палласа, представителя школы Линнея, познание и восхищение неразделимы. Обобщая свой опыт чтения Палласа, Мандельштам приходит к выводу, что «только та проза действительно хороша, которая всей своей системой внедрена в сплошное», а «действительность носит сплошной характер» (III, 390). В прозе Палласа эмоциональность частного восприятия нового не отделяется от объективного научного познания действительности. Этот подход был близок свежеиспеченному ламаркисту и линнеевцу Мандельштаму. Подобно тому как Мандельштам предпочел Дарвину Ламарка, потому что у последнего эволюция представала не пассивным приспособлением, а активным и волевым (Гаспаров 2001а: 652), так и стиль прозы Палласа ему ближе дарвиновского: он не «обезличивает» исследователя, исследование предполагает творческий восторг. В статье «Слово и культура» Мандельштам создал облик синтетического поэта современности, у которого «поют идеи, научные системы, государственные теории» (I, 216). Мандельштам переадресует свое описание Палласа натуралистам: в поэзии может быть научность, а в науке — поэтичность и творческий восторг[255].
3.1.2. «Нюренбергские» аллюзии в стихотворении «Рояль»
Начиная с 1931 года немецкая тематика (прежде всего музыкальная) постепенно начинает занимать все большее место в творчестве Мандельштама. Прежде чем перейти к разбору немецких музыкальных мотивов в стихотворениях 1931–1932 годов, нам бы хотелось кратко сказать о тех текстах, в которых немецкая тема существует маргинально, большей частью на правах отдаленных аллюзий.
В стихотворении «Колют ресницы. В груди прикипела слеза…» (1931) в строке «Чую без страху, что будет и будет гроза» (III, 46) частично реминисцируется заглавие и рифмовка мандельштамовского перевода из Бартеля «Гроза права». Обращают на себя внимание и другие мартовские стихи 1931 года, продолжающие тему кары из «Колют ресницы…». Напомним, что немецкие мотивы присутствовали в сюжетно-образной ткани стихотворения «Кому зима — арак и пунш голубоглазый…», контекстуально связанного с «Декабристом». Поэтому нам не кажется чрезмерной натяжкой попытка усмотреть в других стихах о казнях отдаленное присутствие немецкой образности. В стихотворении «За гремучую доблесть грядущих веков…» появляется «чаша на пире отцов» (III, 46): пир — из немецкого тематического словаря.
В стихотворении «Ночь на дворе. Барская лжа…» присутствует «бал-маскарад» (III, 45), представляющий собой дальнейшую разработку образа «омерзительного» варварского бала на берегах Невы из стихотворения «Кассандре». Здесь осторожно можно указать и на «гардеробный» фон бала-маскарада, напоминающий заставку стихотворения «Валкирии», которое Мандельштам реминисцировал в «Шуме времени», «Египетской марке» и заметке «Яхонтов»:
Ночь на дворе. Барская лжа: После меня хоть потоп. Что же потом? Хрип горожан И толкотня в гардероб. Бал-маскарад. Век-волкодав. Так затверди ж назубок: Шапку в рукав, шапкой в рукав — И да хранит тебя Бог. («Ночь на дворе. Барская лжа…», III, 45)Мотив бегства с бала (в «Валкириях» — с оперы), ночной антураж, телеграфность стиля и редкие для Мандельштама мужские рифмы также отсылают к «немецким» стихотворениям поэта. Возможный фонетико-ассоциативный ход мысли Мандельштама был, по нашему предположению, таков: сходство барской лжи с ложей и одновременное обыгрывание цепочки лжа-ложа-ложь[256]. Балу-маскараду ритмически параллелен образ «века-волкодава», продолжающий мотив волчьей крови из стихотворения «За гремучую доблесть грядущих веков…»; безусловно, волки — в первую очередь часть того «сибирского» антуража, в котором должна произойти казнь (главная тема разбираемых стихов). В рамках настоящей работы мы не можем останавливаться на мотиве вервольфного оборотничества и двойничества со всем комплексом «нечисти» у позднего Мандельштама («Неправда» и др.). В то же время можно было бы вспомнить о мифологической нагруженности волчьих образов; и здесь возникает пространство для некоторых спекуляций по поводу связи волчьей метафорики с немецкой линией в творчестве Мандельштама. Волк в германской мифологии — зверь, коннотированный не только негативно. Волки — спутники Одина, германского бога войны, фигуры, косвенно, через «дубовую Валгаллу» и «Валкирии», вошедшие в поэтический мир Мандельштама. Неясно, насколько Мандельштам был знаком (например, через прессу) с символикой и геральдикой быстро набиравших популярность нацистов, интенсивно использовавших волчью символику и эмблематику[257].
Напомним и неслучайное присутствие волка в немецкой образной ткани ОВР. Не исключена контекстуальная связь «волчьего» цикла с мандельштамовским переводом бартелевского стихотворения «Перед битвой»:
Вы же, в столицах, — все те же волки В клетках каменных, В громыхающих фабриках, Где машины пьют кровь. Волки свободы, вас приветствую! (II, 199–200) Wölfe bleibt ihr in der Großstadt, In den steinernen Käfigen Und den sausenden Fabriken, Die das Blut träge machen: Wölfe der Freiheit, ich grüße euch! (Barthel 1920b: 72–73)Волки свободы — русские братья, вершители русской революции; знаменательно соединение волчьего мотива с мотивом «неволчьей» крови: ср. признание Мандельштама «Но не волк я по крови своей…» («За гремучую доблесть грядущих веков…», III, 46), а также образ волков революции из стихотворения «Кассандре». Осознавая туманность и определенную натянутость вышеуказанных аллюзий и соображений, мы ни в коем случае не настаиваем на своей правоте; но в то же время, учитывая всю сложность работы по расшифровке метафорических и тематических ходов позднего Мандельштама, нам показалось небесполезным упомянуть о них в дискуссионном порядке.
Стихотворение «Рояль» представляет собой одно из самых темных произведений позднего Мандельштама:
1. Как парламент, жующий фронду, 2. Вяло дышит огромный зал, 3. Не идет Гора на Жиронду 4. И не крепнет сословий вал. 5. Оскорбленный и оскорбитель, 6. Не звучит рояль-Голиаф, 7. Звуколюбец, душемутитель, 8. Мирабо фортепьянных прав. 9. — Разве руки мои — кувалды? 10. Десять пальцев — мой табунок! 11. И вскочил, отряхая фалды, 12. Мастер Генрих — конек-горбунок. 13. [Не прелюды он и не вальсы 14. И не Листа листал листы, 15. В нем росли и переливались 16. Волны внутренней правоты] 17. Чтобы в мире стало просторней, 18. Ради сложности мировой, 19. Не втирайте в клавиши корень 20. Сладковатой груши земной. 21. Чтоб смолою соната джина 22. Проступила из позвонков, 23. Нюренбергская есть пружина, 24. Выпрямляющая мертвецов. («Рояль», 1995: 201, 480)Основные аллюзии и биографический контекст стихотворения прокомментированы, но многие его элементы не поддаются интерпретации. Большинство образов связано с именами и реалиями Французской революции, но все стихотворение, описывающее впечатление от сорванного концерта пианиста Генриха Густавовича Нейгауза, заканчивается образом «нюренбергской пружины»[258], источник которого однозначно не установлен. Нам бы хотелось лишь дополнить устоявшиеся в мандельштамоведении гипотезы относительно актуальности нюрнбергских ассоциаций поэта.
«Нюренбергские мейстерзингеры» Вагнера ставились в московском Большом театре в сезоне 1928/29 года (Флейшман 1981: 236). Нюрнберг, возможно, ассоциировался с нюрнбергскими механическими игрушками (Гаспаров 2001а: 650). Кроме того, Нюрнберг — оружейный город: обращают на себя внимание образные переклички топики революционного восстания в «Рояле» (ст. 1–4) с описаниями нотной страницы как революции в немецком городе в «Египетской марке» (II, 481). В Нюрнберге Петером Хенляйном (Peter Henlein) были изобретены первые портативные часы с пружиной (указано В. Кошмалем) и кларнет[259].
Читателю и почитателю немецкой романтики, каковым был Мандельштам, важными и ассоциативно емкими могли показаться «Щелкунчик» и другие произведения Э. Т. А. Гофмана, для которого Нюрнберг был олицетворением ремесленного города, где делают механические, заводные предметы. В пользу гофмановских ассоциаций говорит и тот факт, что в «Шуме времени», описывая концерт, Мандельштам имеет в виду концерт Иосифа Гофмана. Метонимия по признаку однофамильности (Иосиф Гофман — Э. Т. А. Гофман) довольно правдоподобна, если учитывать, что из Генриха Нейгауза получился «мастер Генрих», в «листовском» контексте стихотворения (ст. 13–16) принимающий черты Генриха Фауста, с отсылом к «Вальсу Мефистофеля» Листа. В то же самое время нельзя забывать, что Генрих Нейгауз — не подтекст, а прототип. Информация о концерте Нейгауза — в отличие от нюрнбергских литературных аллюзий — имеет чисто генетическое, но не эволюционное значение для литературности «Рояля».
Добавим, что Нюрнберг мог актуализироваться в сознании Мандельштама и через современные политические события: с 1927 года съезды нацистов регулярно, с нарастающей помпезностью, проводились в Нюрнберге, о чем писали советские газеты. Возможно, Мандельштаму был знаком немецкий фразеологизм «нюрнбергская воронка» (Nürnberger Trichter), обозначающий метод обучения, при котором ученику, без всякого усилия с его стороны, материал «вливается» как будто через воронку. Менее вероятно, но не исключено, что Мандельштам знал о «поэтическом» происхождении этой идиомы. Фразеологизм восходит к названию вышедшего в Нюрнберге в XVII столетии учебника Г. Ф. Харсдёрфера (G. Ph. Harsdörffer), в котором рассказывалось, как за шесть часов методом «вливания» через «поэтическую воронку» можно научиться писать стихи («Poetischer Trichter, die Teutsche Dicht- und Reimkunst…»). Помимо этого, Нюрнберг — город Дюрера и Сакса: Дюрера Мандельштам упомянул в «Разговоре о Данте» (III, 250); Сакса как «первого пролетарского поэта» интенсивно переводили в 1920-е годы (в том числе Б. Пастернак).
Нюрнберг связан также и с образом найденыша Каспара Хаузера. Легенду о Хаузере Мандельштам хорошо знал: согласно воспоминаниям М. Карповича (1995: 41), поэт в 1907 году даже составил свою, не дошедшую до нас версию легенды по мотивам «Gaspar Hauser» П. Верлена. В 1910-е годы роман Якоба Вассерманна (Jakob Wassermann) «Caspar Hauser» был бестселлером. Не исключено, что Мандельштам знал и о так называемом «нюрнбергском скрипичном клавесине» («Nümbergsches Geigenklavizimbel») — попытке соединить эффект щипковых инструментов с клавиатурой. Из «Разговора о Данте» и «Путешествия в Армению» мы знаем, что Мандельштам в начале 1930-х годов живо интересовался историей музыкальных инструментов.
В ходе обсуждения темной образности «Рояля» Кирилл Осповат указал нам на вероятные подтекстуальные ходы к повести Тынянова «Восковая персона». «Восковую персону», опубликованную в 1931 году в январском и февральском номерах «Звезды», Мандельштам знал и образы из нее «преломлял» в своих стихотворениях. Так, «сословий вал» в «Рояле» (ст. 4) и уроды, играющие «в девятый вал» из «Стихов о русской поэзии» (III, 68), как нам представляется, перекликаются с упоминанием немецких (!) картежных попоек («уродов») у Тынянова (ср. Тынянов 1986: 388–394)[260]. Определенная связь существует и между мастерами и подмастерьями из «Восковой персоны» и «мастером Генрихом» из «Рояля»[261] (ср. в связи с этим и перекличку подмастерьев в «Восковой персоне» и в гофмановских «Серапионовых братьях», которые входили в «программу чтения» акмеистов).
Еще более убедительным представляется подтекст, на который, по нашим сведениям, еще не указывали исследователи, — стихотворение Ф. Сологуба «Нюрнбергский палач»: ср., в частности, в описаниях казни «позвонковую» линию, перекликающуюся с «Роялем»: «Удар меча обрушу, / И хрустнут позвонки» (Сологуб 1979: 342). Не исключено, что одним из связующих звеньев, одним из ассоциативных механизмов метафорики «Рояля» явилось знакомство Мандельштама с немецким словом «Wirbeln», означающим, помимо анатомических «позвонков», колки музыкальных инструментов, в том числе в механизме рояля. Контекстуально «позвонки» продолжают «позвоночно-хрящевую» линию стихотворений «Век» и «1 января 1924» (ср. топику «сословий», хрящевых клавиш и «сонат-сонатин» из «1 января 1924» с «сонатно-сословной» метафорикой «Рояля»).
Все вышеуказанные отсылы — лишь предположения. Их содержание можно свести к следующему: Нюрнберг, актуализированный в сознании Мандельштама и его читателей нацистскими съездами, — город механизмов (будь то игрушки, оружие, клавесин или «нюрнбергская воронка»). Раскрытию образа пружины, выпрямляющей мертвецов, мешает его сложность. Когда будет найден его источник, все станет на свои места. В заключение отметим, что немецкий образ («нюренбергская пружина») не случайно появился в стихотворении, затрагивающем музыкальную тему: музыка метонимически означает всю Германию. Напомним, что и у прототипа стихотворения — Генриха Нейгауза — немецкие имя и фамилия. Переход от «французской» линии «Рояля» к «немецкой» произошел благодаря не только «музыкальной», но и «революционной» нагруженности поля «немецкого». В «Рояле» таким революционным «старинным немецким городом» оказывается Нюрнберг, нагруженный гофмановскими ассоциациями и актуальными политическими аллюзиями[262].
3.1.3. Музыкальная тема: образы Шуберта и Моцарта
В начале 1930-х годов Мандельштам пишет наряду с «Роялем» еще несколько «музыкальных» стихотворений, в которых появляются шубертовские и моцартовские мотивы и аллюзии. Герой стихотворения «Жил Александр Герцевич…» «наверчивает» Шуберта. Главный подтекстуальный ресурс стихотворения — песня Шуберта на стихи Гете «Гретхен у прялки» («Gretchen am Spinnrade») и раннее стихотворение самого Мандельштама — «Бесшумное веретено» (Кац 1991а: 75). Среди метафорических метаморфоз стихотворения — превращение «голубоглазого хмеля» музыки из «шубертовского» стихотворения «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа…» в «музыку-голубу»: «Нам с музыкой-голубою / Не страшно умереть» (Мандельштам 1995: 198), метонимически связанную с одной из героинь стихотворения «Жил Александр Герцевич…» — «итальяночкой» Бозио.
Мандельштам обыгрывает фоносемантическую рифменную вереницу Герцевич-Сердцевич-Скерцевич[263]. Соединение сердечности и шуточности дополняется макаронической игрой со значениями слов разных языков — еврейское имя Герц, аллюзии, отсылающие к А. Герцену, значения «Herz» в немецком или на идиш («сердце») и переход к музыкальному итальянскому термину «скерцо» создают искомый Мандельштамом трагикомический эффект.
В 1931–1932 годах Мандельштам создает ряд стихотворений о «буддийской» Москве. В одном из них («Там, где купальни, бумагопрядильни…») в почти сюрреалистическом пейзаже столицы звучит музыка Шуберта:
На Москве-реке почтовым пахнет клеем, Там играют Шуберта в раструбы рупоров. Вода на булавках и воздух нежнее Лягушиной кожи воздушных шаров. («Там, где купальни, бумагопрядильни…», III, 61)Не столько почтовые ассоциации с рожком почтальона, сколько сам водно-речной антураж стихотворения (Москва-река, Ока, Клязьма) связался в сознании Мандельштама с центральной водной образностью «Прекрасной мельничихи» и других песен Шуберта и вызвал тем самым появление Шуберта в этом стихотворении. Напомним, что уже в «Четвертой прозе» образ Шуберта метонимически, через немца-шарманщика «с шубертовским лееркастеном», дополнял сюрреалистически-абсурдную картину Москвы (III, 179). «Шубертовский» потенциал безумия был заложен, скорее всего, еще раньше, в первом «шубертовском» стихотворении — «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа…». Если в 1918 году через образ «Шуберта» передавалось нарастающее, болезненное сумасшествие революционной смуты, то в начале 1930-х годов оно превращается в фантасмагорический сюрреализм социалистической столицы.
Кроме шубертовских ассоциаций, в произведениях 1931–1932 годов присутствуют и моцартовские аллюзии. Так, в стихотворении «Полдень в Москве. Роскошно буддийское лето…» (1931) посреди московского пейзажа появляется Моцарт:
Уже светает. Шумят сады зеленым телеграфом, К Рембрандту входит в гости Рафаэль. Он с Моцартом в Москве души не чает — За карий глаз, за воробьиный хмель. («Полдень в Москве. Роскошно буддийское лето…», III, 53–54)Здесь функция Моцарта, связанного с «хмелем» — атрибутом немецкого, еще во многом пересекается с его ролью в «Египетской марке», где музыка композитора была частью того сюрреалистического Петербурга, в котором погибает Бозио, чья судьба, как мы видели на примере «шубертовского» «Жил Александр Герцевич…», тематизировалась Мандельштамом в стихотворениях 1931 года. Шуберт и Моцарт — часть фантасмагорического образа столицы и своего рода музыкальный аккомпанемент «неугомонной» Москвы.
До 1930-х годов Моцарт находился на периферии музыкальных интересов Мандельштама. Поэт не тематизировал музыку Моцарта, хотя и слушал ее регулярно, на концертах и по радио[264]. Изменение в отношении к Моцарту произошло, по-видимому, под воздействием знатока немецкой музыки и литературы биолога Б. С. Кузина: в «Путешествии в Армению», в главе, посвященной разговорам с другом, Мандельштам связывает Моцарта с «натуралистской» образностью[265]. Музыковедческо-ламаркистский диалог с Кузиным продолжается в стихотворении «Ламарк»:
Он сказал: довольно полнозвучья, — Ты напрасно Моцарта любил: Наступает глухота паучья, Здесь провал сильнее наших сил. («Ламарк», III, 62)Музыка Моцарта, олицетворяющая музыкально-поэтическое «полнозвучье», противопоставляется наступающей «глухоте паучьей». По нашему предположению, в подтекстах мотива глухоты — судьба «глухого» Бетховена. Слова «довольно полнозвучья», вложенные в уста неизвестного героя («он сказал»), по-видимому, отсылают к музыкальным новшествам Бетховена, реорганизовавшего музыкальную гармонию классицизма. Моцарт был любимым композитором (и недолгое время учителем) Бетховена. Подтекстуальность бетховенского сюжета — намеренно стертая, смешивающаяся с биологической образностью (глухота пауков). Этим смешением и намеренно затемненными картинами из жизни Ламарка и Бетховена Мандельштам создает искомый синтетический сюжет, в пространство которого иносказательно погружает повествование о собственном положении, в котором «не до Моцарта».
Сама поэтика синтетического сюжета присутствует на протяжении всего творчества Мандельштама, однако с годами меняется ее функция. У раннего Мандельштама метасюжетность («Аббат», «Домби и сын» и др.) юмористически (пародический коллаж) работает на искомую акмеистическую легкость высказывания. В революционные годы происходит важная перемена: в рамках немецкой темы нами был разобран «шубертовский» «дайджест» романтических сюжетов в стихотворении «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа…», имевший своего рода «ономатопоэтическую» функцию — с помощью метасюжета Мандельштам передавал саму синтетичность поэтики романтизма. В 1920-е годы, в период поисков Мандельштамом новой (пост)революционной поэтики, синтетизм усиливает метафоризм. У позднего Мандельштама синтетический характер лирического сюжета работает на другую константу поэтики 1930-х годов — затемнение и пропуск смысловых звеньев, интерпретационную открытость, а значит, и внелитературно-мотивированную иносказательность высказывания. Тематизированные в рамках немецкой темы интертексты, сюжеты и отдельные мотивы в силу своей многосложности и оксюморонности представляли для этих целей особо благодатный поэтический материал.
3.1.4. Советская дьяволиада
В 1931 году, по следам гетевских чтений с Кузиным и в преддверии официальных мероприятий в связи со столетней годовщиной со дня смерти Гете, Мандельштам пишет стихотворение «Сегодня можно снять декалькомани…», заканчивающееся мотивом поездки-прогулки Мефистофеля на Воробьевы горы:
И Фауста бес — сухой и моложавый — Вновь старику кидается в ребро И подбивает взять почасно ялик, Или махнуть на Воробьевы горы, Иль на трамвае охлестнуть Москву. («Сегодня можно снять декалькомани…», III, 60)Мандельштам берет не устоявшиеся клише «Фауста», а конкретный мотив, причем не центральный. Здесь, в отличие, например, от цветаевского Фауста из стихотворения «Ты миру отдана на травлю…», Фауст взят не просто как эмблема Гете. Сходное отличие в использовании немецких образов мы наблюдали на примере образа Лорелеи: у Цветаевой — клише, Мандельштам же подхватывает и развивает отдельный конкретный мотив.
В связи с источниками мотива гипотетической фаустовской прогулки по Воробьевым горам укажем на стихотворение Пастернака «Воробьевы горы» (1989: 142), где описывается прогулка и гуляние на Троицу, интертекстуально обыгрывающее сцену пасхальной прогулки Фауста и Вагнера. За «Воробьевыми горами» в сборнике «Сестра моя — жизнь» следует стихотворение с немецким названием «Mein Liebchen, was willst du noch mehr?», реминисцирующем рефрен стихотворения Гейне «Du hast Diamanten und Perlen…» (Пастернак 2003: 468): композиционный отсыл к пропитыванию «Воробьевых гор» в «немецко-романтическом» свете[266]. Сцену прогулки из «Фауста» Мандельштам хорошо знал: в статье «Пшеница человеческая» он описывает «бюргеров» из «Фауста», покуривающих «на скамеечке» табак и рассуждающих «о турецких делах». Сразу же за этой сценой «Перед воротами» («Vor dem Tor») у Гете следует пасхальная прогулка Фауста. Вероятно, в сознании Мандельштама прогулка Фауста с Вагнером на Пасху наложилась на сцены прогулок Фауста с Мефистофелем и Гретхен[267]. Релевантность пастернаковских интертекстов не подлежит сомнению. В 1922 году вышел сборник Пастернака «Сестра моя — жизнь», содержащий стихотворный цикл «Елене» (биографической канвой цикла, отсылающего к Елене второй части «Фауста», была история с Еленой Виноград[268]), а в 1923 году — «Темы и варьяции», включавшие стихотворения «Мефистофель» и «Маргарита»[269]. До прочтения Пастернака Мандельштам рассматривал Гете в свете полемики с символизмом. По нашей гипотезе, именно Пастернак с его литературно-мотивным (а не как в случае символистов, идеологическим) использованием гетевских образов снял «табу» на Гете в сознании Мандельштама. Интертекстуальный комплекс вокруг прогулки лирического героя стихотворения «Сегодня можно снять декалькомани…» на Воробьевы горы вместе с Мефистофелем прямо и косвенно связан со стихотворениями Пастернака.
Не менее актуальная для Мандельштама ассоциация — знаменитая прогулка на Воробьевых горах Герцена и Огарева. Герцен появляется у Мандельштама в немецком обрамлении в «Шуме времени»: «бурная политическая мысль (Герцена. — Г.К.) всегда будет звучать, как бетховенская соната» (II, 384)[270]. На 1931 год приходится пик герценовских ассоциаций («Жил Александр Герцевич…»). Памятуя о «Воробьевых горах» Пастернака, Мандельштам связал поэзию автора сборника «Сестра моя — жизнь» с Герценом и Огаревым в заметке «Пастернак» начала 1920-х годов, утверждая, что, «конечно, Герцен и Огарев, когда стояли на Воробьевых горах мальчиками, испытывали физиологически священный восторг пространства и птичьего полета. Поэзия Пастернака рассказала нам об этих минутах» (II, 302).
Пастернаковские ассоциации возникли еще и потому, что Пастернак в сознании Мандельштама — поэт — москвич. В своих «московских» стихах петербуржец Мандельштам всегда опирается на конкретного подтекстуального собеседника-москвича. В 1916 году таким собеседником была Цветаева. В 1920-е годы место Цветаевой как источника аллюзий и ассоциаций занял «эксперт» по Москве Пастернак. В связи с этим достаточно указать на то, что впервые Воробьевы горы появляются у Мандельштама в стихотворении «На розвальнях, уложенных соломой…», навеянном прогулками с Цветаевой по Москве. В этой историко-мифологической «московской» медитации 1916 года описывалась последняя поездка по Москве Отрепьева «от Воробьевых гор» (I, 120–121)[271]. В этом стихотворении, так же как в «Сегодня можно снять декалькомани…» Мандельштама и в «Воробьевых горах» Пастернака, описывается всенародное гулянье-гульбище.
В начале 1930-х годов мотив поездки-прогулки на Воробьевы горы не потерял своей «зловещей» окраски, но на смену культурно-историческому видению смуты пришла фантасмагорическая картина смуты советской Москвы. Фантасмагоризация происходит за счет внедрения в повествование образа Мефистофеля. Литературно демонизируя советский быт (и, в частности, быт социалистической Москвы), Мандельштам следует уже разработанной в советской литературе 1920-х годов традиции фантасмагорической сатиры. До конца не ясно, имеют ли образно-жанровые переклички мандельштамовского сюжета с «Дьяволиадой» (1925) и «дьявольской» линией в «Мастере и Маргарите» М. Булгакова (начало работы над романом — 1928 год) интертекстуальный характер, или же, учитывая более раннее присутствие фаустовских ассоциаций в творчестве Мандельштама, речь идет о параллельном развитии[272].
В свете «фаустовских» ассоциаций напрашивается «гетевское» прочтение концовки стихотворения «Сегодня можно снять декалькомани…»: «Ей [Москве. — Г.К.] некогда. Она сегодня в няньках. / Все мечется. На сорок тысяч люлек / Она одна — и пряжа на руках» (III, 60). Не исключено, что образ пряхи-Москвы связан, помимо ассоциаций с Пенелопой и парками, и с прялкой гетевско-шубертовской Гретхен[273].
Последствием «итальянского» путешествия в Армению явилось увеличение в стихотворениях 1931–1932 годов числа немецких культурных реалий: в первую очередь музыкальных (Шуберт, Моцарт и др.) и литературных (Гете, Гофман). Мандельштам внедряет в свои поэтические описания Москвы сюжетные реминисценции из «Фауста» и отсылы к песням Шуберта на стихи Гете. Одновременно Шуберт вплетается Мандельштамом в контекст сюжета о смерти итальянской певицы Бозио (олицетворение хрупкости культуры), который в «Египетской марке» имел «моцартовское» обрамление. В то же время образ музыки Моцарта в стихотворениях 1931–1932 годов предстает уже не только как носитель трагически-абсурдной «диссонансности». По принципу смежности с Палласом, актуальным дарвинистско-ламаркистским дискурсом и биологическими штудиями Гете, обогатившись новыми ассоциациями, моцартовские аллюзии работают на дальнейшую абсурдизацию московского сюжета. Музыкально-литературными «немецкими» аллюзиями Мандельштам сюрреалистически фантасмагонизирует свое лирическое повествование, создавая свою «дьяволиаду» социалистической Москвы.
3.2. Кульминация немецкой темы в стихотворении «К немецкой речи»
3.2.1. Черновики и варианты: предварительные замечания
В августе 1932 года Мандельштам написал стихотворение «К немецкой речи» (далее: HP). HP — последнее прижизненно опубликованное стихотворение поэта — было напечатано в «Литературной газете» 23 ноября 1932 года и таким образом завершило целую серию мандельштамовских публикаций этого года. По-видимому, свою роль при публикации сыграло и то обстоятельство, что один из героев стихотворения — Гете, столетие со дня смерти которого широко отмечалось в СССР в 1932 году[274].
Исследователи, касавшиеся HP, высказывали предположение, что это стихотворение представляет собой кульминацию немецкой темы у Мандельштама[275], но в силу неизученности самой немецкой темы они не выделяли того, что, собственно, кульминируется. Кульминационность выражается не столько в самом факте прямого обращения к немецкой речи и литературе, для Мандельштама не уникальном (ср. обращения к армянской и итальянской речи), сколько в том, что в HP, как ни в каком другом стихотворении, пересеклись и переплелись почти все мотивы, наработанные Мандельштамом в рамках немецкой темы. Если в других стихотворениях нам, как правило, приходилось «вылавливать» немецкие мотивы из обшей сюжетно-метафорической канвы стихотворения, то в HP Мандельштам само название выдвигает немецкий элемент на первый план.
Для адекватного понимания HP требуется не только изучение и подключение к разбору стихотворения всех немецких мотивов поэта, но и обсуждение ближайшего контекстуального окружения стихотворения. В предыдущей главе нами было показано, что произведения Гете — одного из персонажей HP — оказываются не только главным объектом самопроекций и идентификаций, но и связующим центром «немецких» аллюзий в стихотворениях 1931–1932 годов. Однако этим контекстуальное окружение HP не исчерпывается. Помимо армянских впечатлений обращению Мандельштама к немецкой речи и поэзии предшествовали его поэтические медитации о русской поэзии, о Державине и Батюшкове, Тютчеве, Языкове, Фете, авторах, связанных с «немецкой» поэтической традицией в русской словесности. В 1932–1933 годах Мандельштам пишет ряд стихотворений, адресатом которых является сам язык, сама поэзия — «Дайте Тютчеву стрекозу…», «Батюшков» и «Стихи о русской поэзии», после HP — двойчатки «Ариоста» и стихотворение «Друг Ариоста, друг Петрарки, Тасса друг…», в которых поэт обращается к итальянской речи. Стихотворение «Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть…» заканчивает этот двухгодичный цикл «речевых» стихов. Наше стихотворение, прямо обращенное к немецкой речи, хронологически находится в центре этого цикла.
Учитывая крайне сгущенный метафорический характер и плотную интертекстуальную ткань HP, мы постараемся соединить при рассмотрении HP разбор биографических и библиографических данных с имманентным анализом, в ходе которого будут указаны и разобраны главные релевантные подтексты и контексты. Желание обстоятельно обсудить все важные нюансы, которые могли бы быть забыты при более обобщенном разговоре о HP, повлияло на наше решение разбирать стихотворение построфно. Такое медленное чтение будет способствовать и реконструкции всей драматической динамики лирического повествования в HP[276].
Интерпретацию HP осложняет тот факт, что стихотворение было создано не сразу. 8 августа 1932 года поэт написал сонет «Христиан Клейст», из которого впоследствии и выросло стихотворение; в одной из промежуточных стадий оно носило название «Бог Нахтигаль» (Мец 1995: 591):
Freund! Versäume nicht zu leben: Denn die Jahre fliehn, Und es wird der Safi der Reben Uns nicht lange glühn! Ew. Chr. Kleist 1 Есть между нами похвала без лести, 2 И дружба есть в упор, без фарисейства. 3 Поучимся ж серьезности и чести 4 У стихотворца Христиана Клейста. 5 Еще во Франкфурте купцы зевали, 6 Еще о Гете не было известий. 7 Слагались гимны, кони гарцевали 8 И перед битвой радовались вместе. 9 Война, как плющ в дубраве шоколадной. 10 Пока еще не увидала Рейна 11 Косматая казацкая папаха. 12 И прямо со страницы альманаха 13 Он в бой сошел и умер так же складно, 14 Как пел рябину с кружкой мозельвейна. (Мандельштам 1995: 484–485, 591)В результате правок из «Бога Нахтигаля» вышло HP. Сонет «Христиан Клейст» Мандельштам впоследствии не включал в проекты своих сборников, поэтому мы с полным основанием можем рассматривать сонет не как часть двойчатки, а просто как предвариант HP[277].
Герой стихотворения — немецкий поэт X. Э. Клейст (Christian Ewald Kleist). По воспоминаниям Н. Штемпель, она видела у Мандельштамов в Воронеже немецкие издания Новалиса и X. Э. Клейста — последнего Мандельштам читал ей в оригинале (Штемпель 1995: 374). Куплен был Клейст, по всей видимости, в 1932 году или еще раньше, в связи с предпринятыми под влиянием Б. С. Кузина немецкими штудиями. По воспоминаниям вдовы поэта, в период создания HP Мандельштам «покупал, кроме русских поэтов девятнадцатого века, немцев — Гете, романтиков (начал со случайно попавшегося Бюргера). Случайно попался и Клейст-старший. Его судьба поразила О. М.: он был ранен в битве… его узнали русские офицеры и на носилках отнесли в госпиталь» (Н. Мандельштам 1990а: 226). В вышеприведенном отрывке Н. Я. Мандельштам пересказывает карамзинскую версию смерти и похорон Клейста. Вот интересующий нас отрывок из «Писем русского путешественника»:
«В 1759 году, в жарком сражении при Куммерсдорфе, командовал он баталионом, и взял три батареи. У правой руки отстрелили у него два пальца: он взял шпагу в левую. Пулею прострелили ему левое плечо: он взял шпагу опять в правую руку. В самую ту минуту, как храбрый Клейст уже готов был лезть на четвертую батарею, картеча раздробила ему правую ногу. Он упал и закричал своим солдатам: „Друзья! Не покиньте Короля!“ Наехали казаки, раздели Клейста и бросили в болото. <…> Ночью нашли его наши гусары… <…> Поутру увидел Клейст нашего Офицера, Барона Бульдберга, и сказал ему свое имя. Барон тотчас отправил его во Франкфурт. <…> Через несколько дней умер Клейст с твердостию Стоического Философа. Все наши Офицеры присутствовали на его погребении. Один из них, видя, что на гробе у него не было шпаги, положил свою, сказав: „У такого храброго Офицера должна быть шпага и в могиле“» (Карамзин 1984: 39).
Знакомство Мандельштама с «Письмами русского путешественника» не вызывает сомнений. Об этом знакомстве свидетельствует эссе «Пшеница человеческая», отрывок из которого мы уже цитировали при разборе ОВР[278].
Мандельштам не первый русский поэт, обратившийся к творчеству Э. X. Клейста[279]. В 1932 году для Мандельштама, написавшего за два месяца до HP стихотворение «Батюшков», актуальна в первую очередь русская клейстиниана, касавшаяся Батюшкова. Так, в пушкинской «Тени Фонвизина» восставший из гроба Фонвизин встречается с русскими поэтами начала XIX века, в том числе и с Батюшковым (Simonek 1994а: 84–85). Батюшков сравнивается с Клейстом: «Знакомый вид; но кто же он? / Уж не Парни ли несравненный, / Иль Клейст? Иль сам Анакреон?» (Пушкин 1957:1,173).
Впечатления от описаний героической смерти Клейста были первоначальным толчком для поэтических медитаций Мандельштама, которые по ходу создания стихотворения все больше удалялись от своего сюжетного источника — карамзинских описаний судьбы Клейста. Отход от «линии» Клейста в HP П. Нерлер аргументирует тем, что
«…в той действительности, которую он (Мандельштам. — Г.К.) так хорошо знал, героический „случай Клейста“ — это лишь часть коллизии, и „случая“ самого Мандельштама здесь еще нет. Возможно, именно этим объясняется и весьма неожиданная для позднего Мандельштама сонетная форма первоначальной редакции, не встречавшаяся у него со времен „Камня“. Применительно к себе Мандельштам уже не мог бы изъясняться столь изящно, столь медальонно, столь классицистично!» (Нерлер 1995: 186–187).
Мы можем лишь добавить, что Мандельштам взял курс на метонимическое расширение контекста (от Клейста и «веймарских свечей» к «чуждому семейству» Запада) скорее по поэтологическим причинам: как раз в это время у него начинается поэтика пропущенных звеньев. Поэт и раньше опускал не только само собой разумеющиеся, но и те метафорические ориентиры, которые могли бы облегчить восстановление в читательском сознании образных перепадов лирического повествования. Мандельштам начала 1930-х годов делает это сознательно, о чем и говорят черновики «Ариоста» и других стихотворений.
Сонету «Христиан Клейст», в отличие от HP, был предпослан эпиграф из Клейста. Список текста с эпиграфом находится в собрании А. Звенигородского, с которым Мандельштам сдружился в период создания стихотворения. Вариант с эпиграфом предназначался только для Звенигородского (Мец 1995: 592). Сходная эпиграфная стратегия наблюдалась нами в связи со стихотворением «В тот вечер не гудел стрельчатый лес оргна…». Тогда в альбом Кривича-Анненского к стихотворению был приписан эпиграф из Гейне. При публикации HP в «Литературной газете» эпиграф был снят. Мы не знаем с достоверностью, было ли это авторской волей или же своеволием публикаторов, как, к сожалению, не приводя доказательств, предполагает П. М. Нерлер (1995: 185). Против предположения Нерлера говорит признание Н. Я. Мандельштам о том, что «первый вариант — сонет — прямое посвящение Клейсту, записан Звенигородским… О. М. сказал, что дарит ему этот вариант и больше нигде его не будет» (1990а: 226). В любом случае, в результате снятия эпиграфа исчез клейстовский ключ к стихотворению, который давал определенную подтекстуальную отмычку к некоторым сюжетным ходам HP.
В «Литературной газете» стихотворение вышло с посвящением Б. С. Кузину, дружба с которым, согласно «Путешествию в Армению», не только вернула Мандельштама к стихам, но и придала этому возвращению «немецкое» направление. Надежда Яковлевна, после войны поссорившаяся с Б. С. Кузиным, пыталась впоследствии принизить значение Кузина как вдохновителя и адресата HP[280]:
«О. М. называл чтение „деятельностью“, и для него это была прежде всего деятельность отбора. Некоторые книги он перелистывал и просматривал, другие читал с интересом и любопытством, как, например, Хемингуэя и Джойса. Но наряду с этим существовало настоящее формообразующее чтение, книги, с которыми он как бы вступал в контакт, которые определяли какой-нибудь период его жизни или всю жизнь. Приход новой книги, определяющей период жизни, походил на встречу с человеком, которому суждено стать другом. „Я дружбой был, как выстрелом, разбужен“ относится далеко не только к встрече с Кузиным, но в гораздо большей степени к встрече с немецкими поэтами… О. М. и прежде знал этих поэтов — Гете, Гёльдерлина, Мёрике, романтиков; но просто чтение — это еще не „встреча“» (Н. Мандельштам 1999: 274).
По утверждению самого Кузина, хотя стихотворение и посвящено ему, «но обращено оно к обозначенному в заглавии адресату. Не ко мне прямо. Однако в нем есть слова, очень для меня значительные: Когда я спал без облика и склада,/ Я дружбой был, как выстрелом, разбужен» (Кузин 1999: 168). Посвятив стихотворение Кузину, Мандельштам тем самым отблагодарил его за «встречу» с немецкой литературой. Без Кузина эта встреча могла бы не состояться. Личностью Кузина, мандельштамовского «собеседника» и «второго „я“» Мандельштама, согласно признанию поэта в письме к М. С. Шагинян, «пропитана и… новенькая проза, и весь последний период… „зрелого Мандельштама“» (IV, 150).
3.2.2. Исход в «чужую речь»
1 Себя губя, себе противореча, 2 Как моль летит на огонек полночный, 3 Мне хочется уйти из нашей речи 4 За всё, чем я обязан ей бессрочно[281].Тематизируя немецкую поэзию, Мандельштам интертекстуально обращается к заготовкам, наработанным в рамках немецкой темы, причем не только на уровне образов и лексики, но и ритмики. Так, знаменательны переклички HP с первым «немецким» стихотворением Мандельштама — «Лютеранином»: оба стихотворения написаны пятистопным ямбом с женскими рифмами: размер для Мандельштама редкий. Нами обнаружено лишь четыре стихотворения, написанные этим размером до HP: раннее «О, небо, небо, ты мне будешь сниться…», «Лютеранин», «У моря ропот старческой кифары…» и «Окружена высокими холмами…» («Феодосия»)[282]. Вряд ли будет преувеличением утверждать, что обращение к немецкой теме в HP повлекло за собой использование метрики первого стихотворения, затрагивающего эту тему.
Переклички HP и «Лютеранина» не только ритмические, но и идейно-лексические. И в «Лютеранине», и в HP поднимается комплекс тем, который мы в рабочем порядке обозначим как «жизнь — смерть» и «чужая речь». В «Лютеранине», вслед за тютчевским «И гроб опущен уж в могилу…», чужая смерть приводит к переживанию собственной смертности, в HP собственная духовно-поэтическая «смерть» вызывает размышления о смертях других и пробуждает лирического героя к жизни.
Ритмическим реминисценциям закономерно сопутствуют аллюзии идейно-лексические. Так, оба стихотворения объединяет мотив «чужой речи». В «Лютеранине» «чужая речь не достигала слуха…», в HP происходит обратное движение — к чужой речи. Чужая речь, в которую герой стихотворения бежит из родного языка, как и в «Лютеранине», притягивает и отпугивает именно своей чуждостью.
Первому стиху предшествовал отброшенный вариант зачина «Когда пылают веймарские свечи» (1995: 485), который сразу же метонимически отсылал к «веймарской классике» Шиллера, Виланда, Гердера и Гете. К Гете поэтическое высказывание впоследствии обращено в четвертой строфе HP. В версии HP Мандельштам решил начать с описания собственной ситуации.
Слова «себе противореча» рифмуются с «из нашей речи» — рифма почти тавтологична, противоречить себе значит идти против своей речи. Чужая речь есть «противоречие» речи своей, родной. Мотив гибели (собственной смерти), благодаря отрывистой внутренней рифме «себя-губя», задающей трагическую интонацию стихотворения, лексико-синтаксически параллелен теме противоречия (и противоречия самому себе), отхода от собственных принципов и установок из второго полустиха. Мандельштам в определенном смысле восстанавливает буквальный смысл понятия «противоречие»[283].
Л. Кацис (2002: 511) указал на лексические переклички некоторых строк HP с защитными инвективами Мандельштама в «открытом письме» советским писателям: «Все ваши постановления шиты гнилыми нитками, не сводят концов с концами, сами себе противоречат» (IV, 129). В HP «виртуоз противочувства» (определение Аверинцева) Мандельштам выворачивает обвинения в противоречии наизнанку, переадресуя их самому себе[284].
Движение навстречу чужой речевой стихии окрашено в роковые тона. В стихотворениях об Армении, где сходным образом происходит отдаление от своей речи, своей культуры и приход к культуре другой, чужой язык получает эпитет «зловещий»:
Как люб мне язык твой зловещий, Твои молодые гроба[285], Где буквы — кузнечные клещи И каждое слово — скоба… («Ты красок себе пожелала…», III, 36)Уже здесь, за два года до HP, появляется тема смертоносной любви к чужому языку. Чужой язык, несмотря на свою зловещесть, люб лирическому герою Мандельштама. В конце цикла стихов-обращений к армянской, русской, немецкой и итальянской речи будет сказано:
Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть: Ведь все равно ты не сумеешь стекло зубами укусить. О, как мучительно дается чужого клекота полет — За беззаконные восторги лихая плата стережет! <…> И в наказанье за гордыню, неисправимый звуколюб, Получишь уксусную губку ты для изменнических губ. («Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть…», III, 73)Обращение к чужой речи — беззаконно, оно — измена родной, так как, по Мандельштаму, в русской речи «спит она сама и только она сама», и тот, «кто поманит родную поэзию звуком и образом чужой речи», будет «соблазнителем» («Вульгата», II, 300). С одной стороны, такое обращение к чужому выказывает гордыню — расслышать, познать чужое «ты не сумеешь», тебе не хватит сил. С другой — пусть и «мучительно», но «чужого клекота полет» дается, удается через «не могу». Искусившего чужую речь ожидает расплата, казнь. Недаром в конце этого стихотворения появляется образ уксусной губки. Тема «изменнических губ» в стихотворении «Не искушай чужих наречий…» корреспондирует с темой «противоречия себе» в HP. Конечно, самопризыв не искушать «чужих наречий» больше относится к мандельштамовским занятиям итальянской поэзией, о которой написаны стихи, предшествующие стихотворению «Не искушай чужих наречий…» (в последнем стихотворении к тому же упоминаются Ариосто и Тассо). У немцев Мандельштам учится, итальянцами же восхищается и вдохновляется. Немецкую поэтическую речь Мандельштам не «искушает», а испрашивает.
Уход из родного языка в чужой сравнивается с губительным и одновременно спасительным полетом моли на «огонек полночный»: из тьмы на свет, на огонь, который погубит ее. Полет моли на огонек — инстинктивный, спонтанный, неизбежный. Фонетически, благодаря немецкому языку (моль — Motte), образ моли метонимически сближается с образом мотылька, летящего на огонь. Сам образ гафизовского происхождения. Персидский поэт Гафиз был одним из героев армянского цикла — мандельштамовского «Дивана». Образ спасительно-губительного света, на который летит мотылек, уже в своем гафизовском праисточнике содержал тему неотвратимости самопожертвования и обновления, которую Мандельштам как раз и разрабатывает в стихотворениях 1930-х годов. Гибель мотылька в огне стала благодаря Гете наиболее известным мотивом гафизовских газелей. Стихотворение Гете «Блаженное томление» («Selige Sehnsucht») многократно переводилось на русский язык. Многозначная символика стихотворения была взята на вооружение символистами:
Sagt es niemand, nur den Weisen, Weil die Menge gleich verhöhnet, Das Lebend’ge will ich preisen Das nach Flammentod sich sehnet. (Goethe 1888: VI, 28)Сама немецкая тема HP подсказывает Мандельштаму, через Гете, гафизовский образ. При этом поэт не просто переносит инокультурный образ на русскую поэтическую почву, а опирается на его обработку, уже существующую в русской поэзии. Среди наиболее известных импровизаций — «Мотылек и цветы» Жуковского (1980: I, 123–124)[286]. Один из современных подтекстов образа «моли — мотылька» — стихотворения Брюсова из сборника «Третья стража»: «Я — мотылек ночной…» (1973: I, 180–181) и «О да! Я темный мотылек» (там же: 187)[287]. У Мандельштама образ имеет не только подтекстуальную (Гете, Гафиз, Брюсов), но и контекстуальную почву. Отдаленно, метонимически «огонек полночный» связан со стихотворением, написанным за три месяца до HP, — «Увы, растаяла свеча…», перекликающимся с образом «веймарских свеч» из черновика HP. Образом свечи заканчивалось и первое «немецкое» стихотворение поэта — «Лютеранин»: «И в полдень матовый горим, как свечи». Таким образом, уже во втором стихе заданная в первом стихе тема спасительной гибели получает литературное обрамление, косвенно связанное с немецкой поэзией. Сгущая немецкие подтексты и их русские переложения и вариации, Мандельштам на интертекстуальном уровне реализует идею-метафору немецко-русской поэтической дружбы, центральную для HP.
«Противоречивость» находит свое выражение не только на идейно-образном, но и на синтаксическом уровне текста. Мандельштам себе противоречит логико-синтаксически. Деепричастный оборот «себя губя» с трудом сочетается со сравнением «как моль летит на огонек полночный». Логико-синтаксическая нестыковка продолжается в четвертом стихе — «За все, чем я обязан ей бессрочно»: нельзя уйти за что-то, можно уйти из-за чего-то; нестыковка происходит и на собственно семантическом уровне: уйти можно из-за несогласия, неприятия и т. д., но никак не из благодарности. По нашему мнению, Мандельштам идет на все это сознательно: логико-синтаксическая разобщенность высказывания призвана подчеркнуть трагизм ситуации лирического героя и противоречивость, артикулированную в первом стихе.
Черновой вариант HP проливает свет на генезис этих стихов: «Мне хочется воздать немецкой речи / За всё, чем я обязан ей бессрочно» (1995: 485). Все становится на свои места: не уйти, а воздать (благодарность), причем не русской речи, а немецкой. В определенном смысле «воздать немецкой речи» и значит «уйти из нашей речи». Но тогда меняется и адресат «бессрочной» благодарности: в черновиках им была немецкая поэзия, в беловом варианте — русская[288].
5 Есть между нами похвала без лести, 6 И дружба есть в упор, без фарисейства, 7 Поучимся ж серьезности и чести 8 На Западе у чуждого семейства.Во второй строфе Мандельштам поясняет, за что он благодарен немецкому языку и литературе и зачем уходит из русской речи. Многозначно мандельштамовское «мы». На прономинальном уровне оно перекликается со словами отброшенного клейстовского эпиграфа: там такое же всеобъемлющее и одновременно частное, цеховое «мы» — «мы» всех читателей, всех друзей, всех поэтов, всех людей. Мандельштам ощущает себя заведомо включенным в «мы» Клейста. «Мы» Мандельштама, сменившее и расширившее самопротиворечащее «я» первой строфы, относится ко всем людям вообще и к конкретному поэтическому дружеству в частности. Мандельштам — губящий себя и противоречащий себе — не один, у него есть друзья и собратья.
«Похвала без лести» — похвала поэта поэтам — неотъемлемая часть той «бессрочной» благодарности, которую поэт призван выговорить, произнести, дать себе отчет, за что и кому он обязан своим поэтическим даром. Стихотворение написано в 1932 году — во времена «льстивого» воспевания власти, от которого своим уточнением («без лести») отгораживается Мандельштам. Его похвала не имеет целью угодить или усладить. Так, на вечере в редакции «Литературной газеты» Мандельштам назвал, по воспоминаниям Харджиева, поэтический «молодняк» «„чикагскими“ поэтами (американская рекламная „поэзия“)», то есть косвенно — воспевателями, поэтами, пишущими на заказ (цит. по: Тоддес / Чудакова / Чудаков 1987: 532). «Политизированное» прочтение HP легитимируется читательским восприятием современников. Так, Б. Эйхенбаум, выдвинув после HP тезис о «сверхсоциальности» последних стихов Мандельштама (то есть 1931–1932 годов), говорит о том, что «для поэзии высокого стиля», носителем которой является Мандельштам, «актуальное должно найти незлободневные выражения» (Эйхенбаум 1987: 448, прим. 4). Здесь же он говорит о «необходимости иносказания» (там же: прим. 1): иносказание в данном случае не конспиративная мера, а специфика жанра, специфика поэтики позднего Мандельштама. В той же самой речи о поэзии Мандельштама (1933) Эйхенбаум отметил, что «личная поэзия (лирика) стала почти запретной» (1987: 447, прим. 5). Мандельштам включает свое историко-литературное воспоминание в эту запретную «личную лирику». Немецкая образность становится у Мандельштама своего рода тематической внутренней эмиграцией и оппозицией. «Литературность» мандельштамовского воспоминания — минус-прием, но в отдельных местах гражданская полемика прорывается наружу.
Во внутритекстовом пространстве HP дружба «без фарисейства» не только дублирует и развивает «похвалу без лести», но и переносит, перемещает семантическое поле лицемерия на новый смысловой уровень: мандельштамовскому призыву сообщается при этом статус религиозного духовного искания-вопрошания. Поэтическая правда, которой лихорадочно доискивается Мандельштам, напрямую связывается с правдой высшей.
Противопоставление чести и фарисейства встречается в письмах вокруг горнфельдовского дела: «книжниками-фарисеями» Мандельштам называет сторонников бездушного буквализма (IV, 102), противопоставляя им (с оглядкой на свой переводческий и редакторский опыт) культуртрегерский творческо-адаптивный подход к переводу (Кацис 2002: 511). Продолжая мысль Л. Кациса (2002: 512), можно сказать, что литературную злость и личную обиду, накопившуюся по ходу горнфельдовских разбирательств, Мандельштам вылил в ядовитую «Четвертую прозу», а поиск и призывы к защите чести и писательской дружбы выразил в HP.
Мандельштам точно разграничивает похвалу и лесть. Лести и лицемерному косноязычию противопоставляется человеческая дружба (здесь Мандельштам мог иметь в виду обновившую его дружбу с Б. С. Кузиным) и дружба поэтическая — «в упор», дружба «с последней прямотой». Образ продолжает двусмысленно-оксюморонные фигуры первой строфы. Устойчивое выражение «стрелять в упор» придает мандельштамовскому высказыванию дополнительный драматизм: «в упор» в русском языке бывает выстрел, выстрел без промаха, наповал, выстрел врага, но не друга. С одной стороны, фразеологемой «в упор» продолжает развиваться тема собственной гибели: герою неминуемо грозит насильственная смерть, на которую он сам решается («себя губя»), С другой стороны, Мандельштам выворачивает выражение «стрелять в упор» наизнанку: роковой выстрел призван спасти его. Мотив пробуждения через смерть перекликается с мотивом летящей на огонек моли, а сама оксюморонность — с заявленным в первом стихе противоречием самому себе.
Выражение «в упор» встречается и в словосочетаниях «говорить в упор», «спрашивать в упор». Важным здесь вновь оказывается эпистолярный контекст травли двухлетней давности — черновик письма советским писателям (Кацис 2002: 511): «Я спрашиваю в упор: за кого вы меня принимали?» (IV, 125). Там Мандельштам «спрашивал в упор» своих гонителей, в HP, «себе противореча», — друзей. Выстрел-вопрошание «в упор» вызывает и фонетические ассоциации «упора» с «опорой». В письме к Н. Я. Мандельштам периода травли «опора» и «друзья» — противопоставлялись «всякой лжи и нечисти»: «Напиши мне только, как быть, помоги взять твердую линию, помоги уйти от всякой лжи и нечисти. Мне люди нужны, товарищи, как в Моск<овском> Комс<омольце>. Мы еще найдем друзей, найдем опору» (IV, 136). Через два месяца после этого письма «опора» и друг «в упор» были найдены в лице Б. С. Кузина, которому и посвящено HP.
Лести и фарисейству противопоставляется дружба. В HP Мандельштам поднимает весь образно-семантический пласт русско-немецкой дружбы, разработанный в рамках немецкой темы. Россия и Германия, «германский и славянский лён», русская и немецкая поэзия и история находятся в сложных дружественных отношениях; достаточно вспомнить «подругу рейнскую» из «Декабриста» и «упрямую подругу» из стихотворения «Когда на площадях и в тишине келейной…». Свою роль в выборе «немецкого» сыграла и наработанная в рамках переводов из Бартеля топика русско-немецкого братства. Русско-немецкая дружба — дружба воинственно-революционная. Для HP Мандельштам берет революционный потенциал немецкой темы, но обращает его против лжи постреволюционной сталинской действительности.
Топика «дружбы» отсылает напрямую к стихам Христиана Эвальда Клейста, вынесенным в эпиграф черновика. Обращение-призыв Клейста «Друг!» («Freund!») относится к любому потенциальному читателю, провиденциальному собеседнику, значит, и к самому Мандельштаму. У Клейста Мандельштам перенимает не только тему дружбы, но и саму тональность дружеского разговора, перекликающегося с доверительным тоном русско-немецкой встречи на Рейне в «Декабристе». Подспудно, на историко-литературном уровне, затрагивается и поэтологический план высказывания: воспевание дружбы (в первую очередь поэтической) — одна из главных тематических констант анакреонтики, представителем которой и является Клейст. Мандельштам обращается с призывом: «Поучимся ж серьезности и чести / На Западе у чуждого семейства». Искомая серьезность должна помочь дать отпор юродствующему лицедейству эпохи. Честь является противоположностью лести, с которой она зарифмована (семантически-контрастивная рифма). Честь и серьезность, которым нужно снова учиться, напрямую связаны с суровостью и мужеством — качествами, являющимися для поэта константами «немецкого».
Диагноз эпохи как лживой и льстивой, попирающей честь и человеческое достоинство писателя, имел под собой конкретное основание. В письмах вокруг горнфельдовского дела понятие чести — центральное. В своих гневных апелляциях Мандельштам обвинял «писательскую общественность» в том, что она «безнаказанно шельмует работу и честь писателя» (IV, 126). Поэт говорит о «бесчестнейших трюках» Федерации советских писателей и «лицемерной гнусности» «ханжеских речей» членов конфликтной комиссии (IV, 127). Происходящее Мандельштам характеризует как «трусость, ложь, подхалимство» и призывает товарищей «спасти честь свою (курсив Мандельштама. — Г.К.), честь литературы» (IV, 121). Сходное противопоставление лести, лжи и чести — в HP. За год до этого уже было сказано:
За гремучую доблесть грядущих веков, За высокое племя людей, — Я лишился и чаши на пире отцов, И веселья, и чести своей. («За гремучую доблесть грядущих веков…», III, 46)Поэта, по определению Мандельштама, лишили не только «чаши на пире отцов»[289], то есть прервали, разорвали его связь с традицией, лишили не только «веселья», то есть той эллинско-христианской «радости игры», о которой писалось в стихотворении «Когда на площадях и в тишине келейной…», но и чести. Мандельштамовский «пламенный» Ламарк из стихотворения «Ламарк» — «за честь природы фехтовальщик» (III, 61). Бесчестье грозит самому языку, самой поэзии. Об утрате современным советским сознанием понятия чести и самой чести Мандельштам уже писал в «Египетской марке»[290]:
«Пропала крупиночка: гомеопатическое драже, крошечная доза холодного белого вещества… В те отдаленные времена, когда применялась дуэль-кукушка, состоявшая в том, что противники в темной комнате бьют из пистолетов в горки с посудой, в чернильницы и в фамильные холсты, — эта дробиночка именовалась честью» («Египетская марка», II, 483).
Проблематика чести — из XVIII–XIX веков, в которых укоренен Мандельштам[291]. За опытом личного поэтического бесстрашия поэт обращается к любимой эпохе. В «Египетской марке», заговорив о чести, он вспоминает эпоху дуэлей. Та же ассоциативная схема и в HP. С HP приведенный отрывок из «Египетской марки» связывает и мотив выстрела — пробуждающего и спасающего честь. В образе дуэли-кукушки присутствует и мотив гадания о судьбе, ожидания рока, генетически связанный с мотивом гадания-предложения в стихотворениях 1917 года, имеющих решающее значение для HP.
Тот факт, что честь в черновом сонете рифмовалась с Клейстом (Simonek 1994а: 69), подчеркивает ключевой характер образа Клейста для идейного строя Н Р. Героический образ Клейста являлся своего рода примером, прототипом «честного» поведения. Укажем и на фонетическое и семантическое родство рифм лести-чести и фарисейства-семейства. В предшествовавшем HP стихотворении «Христиан Клейст» восьмой стих звучал иначе: «У стихотворца Христиана Клейста…». В рифменной позиции случай Клейста противостоял фарисейству. Но в окончательной редакции Мандельштам расширяет семантическое пространство своего послания. Христиан Клейст — часть «чуждого семейства», он теперь лишь один из тех, у кого поэт призывает учиться. Знаменателен выбор слов: «чуждое семейство» — межлитературные, межкультурные отношения — отношения семейные, родственные, наследственные. В «Заметках о Шенье» Мандельштам замечает:
«…в поэзии разрушаются грани национального, и стихия одного языка перекликается с другой через головы пространства и времени, ибо все языки связаны братским союзом, утверждающимся на свободе и домашности каждого, и внутри этой свободы братски родственны и по-домашнему аукаются» («Заметки о Шенье», II, 282).
Грани национального разрушаются именно в поэзии, то есть в искусстве, которое принято считать самым национальным и потому самым непереводимым. Столпами «братского союза» национальных поэзий являются «свобода и домашность». Поэтому Мандельштам и призывает учиться у западной поэзии. Контекстуальные ходы неслучайно уводят к А. Шенье, роль которого мы обговаривали в рамках разговора об оппозиции романтизм — классицизм. В центральном мотиве HP — мотиве выхода из родного языка в чужой важен момент исхода, связанный с мандельштамовским пониманием поэтического пути Шенье, с судьбой которого поэт сравнивает свой путь: «Поэтический путь Шенье, — это уход, почти бегство от „великих принципов“ (Просвещения. — Г.К.) к живой воде поэзии» (II, 277). Так и в HP поэт бежит от навязываемых ему новых идеологических и поэтологических принципов к «живой воде поэзии».
Почему же лирический герой HP покидает родное, которому он так благодарен? Ответ на этот вопрос можно найти в раннем эссе Мандельштама о Чаадаеве, который, как и лирический герой HP, сознательно покидает «родное»: «У России нашелся для Чаадаева только один дар: нравственная свобода, свобода выбора… Чаадаев принял ее… и пошел в Рим» (I, 200). Россия дает свободу выбора, пусть даже это и будет выбор чужого. Мандельштамовский Чаадаев направляется за идеей единства «в Рим», герой HP — в культурно-поэтический мир XVIII–XIX веков (то есть в эпоху самого Чаадаева)[292]. Во второй строфе дается мотивация ухода: уйти, чтобы научиться. Это не просто уход, это уход с целью возвращения: «Чаадаев был первым русским, в самом деле, идейно, побывавшим на Западе и нашедшим дорогу обратно» (I, 200)[293]. В определенном смысле уход (из своего в чужое) предполагает возвращение. Возвращение для Мандельштама — не только предпосылка и перспектива ухода, но и его содержание и движущая сила.
Императив ухода на Запад впервые прозвучал у Мандельштама в связи с Чаадаевым в 1914 году:
«Все те свойства, которых была лишена русская жизнь, о которых она даже не подозревала, как нарочно соединялись в личности Чаадаева: огромная внутренняя дисциплина, высокий интеллектуализм, нравственная архитектоника и холод маски, медали, которым окружает себя человек, сознавая, что в веках он — только форма, и заранее подготовляя слепок для своего бессмертия. <…> Идея организовала его личность, не только ум, дала этой личности строй, архитектуру, подчинила ее себе всю без остатка и, в награду за абсолютное подчинение, подарила ей абсолютную свободу» («Петр Чаадаев», I, 195).
Качества личности Чаадаева перекликаются с серьезностью и честью, которым призывает учиться Мандельштам. Это сформулированное в чаадаевском дискурсе признание-кредо раннего Мандельштама приобретает новую актуальность в начале 1930-х годов. В статье «Жак родился и умер!» в контексте разговора о деградации русской переводной литературы поэт в 1926 году заметил, что «взыскательной и строгой сестрой должна подойти русская литература к литературе Запада и… выбрать хлеб среди камней» (II, 446). Это высказывание косвенно соотносимо и с мотивом ухода на Запад: надо выбирать в европейской литературе то, что станет событием в русской культуре. В случае с HP это немецкая литература XVIII–XIX веков.
Призыв учиться «на Западе, у чуждого семейства» перекликается с характеристиками Тютчева (постоянного проводника «немецкого» в творчестве Мандельштама) и Карамзина (источника информации о Клейсте) в «Пшенице человеческой»: и Тютчев, и Карамзин «чувствовали почву Европы» (II, 251). Так, на интертекстуальном уровне Мандельштам вписывает паломничество своего героя («Мандельштама») в топику ухода на Запад (Карамзин, Чаадаев, Тютчев). Учиться на Западе, по Мандельштаму, — один из конструктивных принципов русской культуры. Сам призыв — для тогдашнего официозного пафоса самодостаточности (построение социализма в отдельно взятой стране и т. д.) — крамольный, еретический[294].
3.2.3. «Немец-офицер»: прототипы и интертексты
9 Поэзия, тебе полезны грозы! 10 Я вспоминаю немца-офицера: 11 И за эфес его цеплялись розы, 12 И на губах его была Церера.В третьей строфе происходит первое из цепочки обращений, которые пронизывают все стихотворение[295]. На первый взгляд неожиданным подтекстом строки «Поэзия, тебе полезны грозы!» оказывается обращение Державина к Екатерине II в оде «Фелица»: «Поэзия тебе любезна, / Приятна, сладостна, полезна» (1958: 22). Именно на оду «Фелица» опирался Мандельштам, говоря о Державине в стихах о русской поэзии, написанных непосредственно перед HP. Подтекстуальная ассоциация пришла, по-видимому, по смежности: в HP описывается немецкая поэзия середины XVIII века — то есть та самая поэзия, которая во многом станет ритмической и тематической основой русской одической поэзии. Интертекстуальными методами Мандельштам вводит в «диалог» немецкой и русской поэзии нового персонажа — Державина.
Главный контекст строки — мандельштамовская заметка «Жак родился и умер!» (Simonek 1994а: 86–87). Разбирая «отвратительное месиво», «слякотное безразличие» переводческой практики и читательских вкусов 1920-х годов, Мандельштам писал, что «книга стала чем-то вроде непогоды — сыростью и туманом… нужна гроза, чтобы книга вновь зарокотала» (II, 446). «Гроза» в первую очередь — метафора обновления, выхода из аморфного, летаргического состояния. Многие подтексты «грозы» уже были указаны нами в связи с грозовой метафорикой в переводах из Бартеля. Одно из ближайших к HP упоминаний грозы мы находим в следующем стихотворении 1931 года:
Колют ресницы. В груди прикипела слеза. Чую без страху, что будет и будет гроза. Кто-то чудной меня что-то торопит забыть. Душно — и все-таки до смерти хочется жить. («Колют ресницы. В груди прикипела слеза…», III, 46)С HP сходно образно-семантическое окружение роковой и в то же время обновляющей «грозы»: страх-бесстрашие, тютчевская предгрозовая духота («В душном воздуха молчанье…»). Оксюморонность заостряется в последнем стихе («до смерти хочется жить»), который своей парадоксальностью родственен образу «дружбы в упор».
За три месяца до HP Мандельштам пишет стихотворение «Когда в далекую Корею…», где время Русско-японской войны характеризуется как «пора наступающей грозы» (III, 63), то есть «грозы» революции. «Наступающая гроза» — гроза исторических изменений. Образ — расхожий, у самого Мандельштама имеющий давнюю традицию: в одном из плохо датируемых прозаических набросков «знатоком грозовой жизни» назван Тютчев (I, 276). В написанных непосредственно перед HP стихах о русской поэзии есть загадка: «Дайте Тютчеву стрекозу — / Догадайтесь почему!» (III, 65). Стрекоза появляется у Тютчева лишь в одном-единственном стихотворении:
В душном воздуха молчанье, Как предчувствие грозы. Жарче роз благоуханье, Звонче голос стрекозы. (Тютчев 2002: I, 135)Уже К. Ф. Тарановский в рамках своего семинара указал на то, что «стрекоза» метонимически олицетворяет, предвосхищает грядущую «грозу» (Ронен 2000а: 253–254; см. также Ронен 2002: 125–126). Образ грозы в стихах самого Тютчева — центральный. «Гроза» у Тютчева приносит с собой, с одной стороны, свежесть восприятия, обновление, с другой стороны, во время грозы разряжается тот «жизни некий преизбыток» («В душном воздуха молчанье…»), который представляет собой подспудную, сгущенную сущность происходящего. В стихотворении «Не то, что мните вы, природа…» Тютчев говорит о тех, кто слеп и не способен видеть и слышать жизнь природы:
И языками неземными, Волнуя реки и леса, В ночи не совещалась с ними В беседе дружеской гроза! (Тютчев 2002: I, 169–170)А в стихотворении на смерть Гете «На древе человечества высоком…» (зачин которого был использован Мандельштамом в ОВР и смежных переводах из Бартеля) Гете Тютчева «пророчески беседовал с грозою» (2002: I, 149)[296].
Воззвание «Поэзия, тебе полезны грозы!» соотносимо и с призывом из ОВР «Давайте слушать грома проповедь…» с его баховско-тютчевскими интертекстуальными оттенками. Там «гром»-«гроза»-«буря» были предвестниками будущего, небо было «беременно» «будущим», как грозовыми облаками. В таком интертекстуальном окружении утверждение «Поэзия, тебе полезны грозы» прочитывается и как «Поэзии полезно будущее, полезно всматриваться в будущее». «Гроза» Тютчева и тютчевского Гете — метонимия «природы», получающая в HP статус «природы поэзии»[297].
Поздний Мандельштам все чаще за сравнениями поэтических процессов прибегает к образам и терминологиям точных наук — химии, геологии, биологии и метеорологии. Здесь не столько сравнение, сколько проектирование, параллелизация: внутренние процессы стихообразования параллельны процессам природным. Метеорологические параллели получают литературное и филологическое обрамление. Гроза метонимически связана с «Бурей и натиском» — эпохой в немецкой поэзии, уже воспользовавшейся грозовой, погодной символикой при формулировке своей эстетики[298].
В контексте искомого в HP обновления поэтических и жизненных ресурсов продуктивен оказывается и отсыл к переводу бартелевского «Петербурга» с его, как и в случае HP, «грозовым» императивом:
Нужно в буре раствориться — И победа ливнем брызнет. Лишь грозе подставив темя, Благодать вернете жизни! (II, 165)С помощью образа грозы тонкими интертекстуальными ходами — через Тютчева к Гете, через Бартеля к грозовой образности немецкой романтики — Мандельштам приближается к самим фигурам, образам и героям немецкой поэзии, к языку которой обращено мандельштамовское послание. Неудивителен и по-мандельштамовски логичен переход, прямое называние «немецкого» в следующем стихе: «Я вспоминаю немца-офицера».
Как показывает сонет «Христиан Клейст», легший в основу HP, а также эпиграф, немецкий офицер — это поэт и прусский офицер Эвальд Христиан фон Клейст. Характерен для «противоречивости», заявленной в зачине стихотворения («Себя губя, себе противореча…»), выбор немецкого поэта, погибшего от русского оружия. Возможно, именно здесь коренится еще один источник оксюморона «дружбы в упор»[299].
В то же самое время немецко-русские образы декабристских медитаций Мандельштама связаны с заговорщицкой темой. В контексте разговора о HP это означает не только понимание обращения к немецкой речи и поэзии как своего рода заговора против лицемерия происходящего, но и конкретные аллюзии, отсылающие к «воину и поэту» Н. Гумилеву, десятилетие смерти которого было в 1931 году.
Одно из важнейших контекстуальных свидетельств интереса к теме смерти в бою — стихотворение «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето…», где Мандельштам повторяет свою клятву разночинцам: «Мы умрем как пехотинцы, / Но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи» (III, 53). Смерть в бою, противопоставляемая льстивому и лживому славословию, сродни героической смерти немецкого офицера. Ратная смерть является выходом из атмосферы лести и фарисейства.
Не исключена подтекстуальная связь с клейстовской «Одой прусской армии» («Ode an die preussische Armee») (Simonek 1994a: 74–75), где солдат прусской армии бросается в бой, чтобы на поле битвы обрести или честь, или смерть (причем и смерть может быть с честью или без чести) («Ehr oder Tod»)[300]. С воспоминанием немецкого офицера в HP возникает и тема прапамяти, напоминающая как идеи вечного возвращения Ф. Ницше, связь с которыми маловероятна, так и более правдоподобный для литературных (а не философских) интересов Мандельштама мотив элегического воспоминания, в связи с чем вспоминается «Переход через Рейн» Батюшкова. Актуальность батюшковских мотивов подтверждается не только соседством HP со стихотворением «Батюшков» и клейстовско-анакреонтическими пластами батюшковского образа, но и самой рейнской тематикой.
Мотив литературного вспоминания-припоминания как пробуждения присутствовал в созданном по следам армянских впечатлений стихотворении «Фаэтонщик» 1931 года, уводящем к «Пиру во время чумы» Пушкина:
Я очнулся: стой, приятель! Я припомнил — черт возьми! Это чумный председатель Заблудился с лошадьми! («Фаэтонщик», III, 58)Пробуждающий «сон» литературного воспоминания генеалогически связан и с припоминанием «блуждающих снов» поэзии (в раннем стихотворении «Я не слыхал рассказов Оссиана…») и «вечных снов» как «образчиков крови» поэзии в «Батюшкове». Очевидна и связь со стихотворением «Память» Гумилева — одного из скрытых прообразов-героев HP. Гумилевский подтекст не покажется таким надуманным, если учитывать, что стихотворение Гумилева «Память» лежит у истоков мандельштамовского «Ламарка» — фехтовальщика «за честь природы». Мандельштамовский герой оказывается фехтовальщиком за поруганную честь поэзии. Поэтику воспоминания, как равноправную с поэтологическим императивом изобретения, провозглашенного футуристами, Мандельштам защищал в статье «Литературная Москва»: «Изобретенье и воспоминание идут в поэзии рука об руку, вспомнить — значит тоже изобрести, вспоминающий тот же изобретатель. <…> Поэзия дышит и ртом и носом, и воспоминанием и изобретением» (II, 258).
В HP воспоминание-изобретение получает по ходу своего развития все более литературные черты: «И за эфес его цеплялись розы». Образ мирного эфеса, за который цепляются розы, — продолжает одну из экспрессионистских картинок «Египетской марки», в которой присутствовал будущий герой HP — Гете: «Все уменьшается. Все тает. И Гете тает. Небольшой нам отпущен срок. Холодит ладонь ускользающий эфес бескровной ломкой шпаги, отбитой в гололедицу у водосточной трубы» (II, 489). Явна антивоенная направленность образа цепляющихся за эфес роз. Розы, цепляющиеся за эфес немецкого офицера, образно параллельны военным астрам из стихотворения «Я пью за военные астры…» 1931 года (III, 49): астрами провожали солдат на фронт в 1914 году[301].
Поиск подтекстов розы — как литературного символа — безграничен. Отметим лишь близлежащие по времени интертексты: в «Батюшкове» герой стихотворения, «русский Клейст», Батюшков «нюхает розу». Роза — атрибут Веневитинова в стихах о русской поэзии. В «Дифирамбе» Клейста герой стихотворения, испив счастья и радостного мужества из кубка мозельвейна, почиет на розах:
So — noch eins! — Siehst du Lyäen Und die Freude nun? Bald wirst auch Amorn sehen, Und auf Rosen ruhn. (Kleist 1771: 46)Клейст воспевал не только вино и муз, но и написал гимн прусской армии. Так подспудно, логическими оксюморонами, сдобренными литературными реминисценциями, мотив ухода приобретает в HP черты ухода на войну.
Вкладывая в уста немца-офицера имя Цереры («И на губах его была Церера…»), Мандельштам накладывает на образ немецкого поэта Клейста, в стихах которого Церера отсутствует, черты русского поэта Батюшкова, у которого Церера присутствует в стихотворении «Гезиод и Омир — соперники» (Simonek 1994а: 84). Поводом для такого наложения послужил факт офицерства обоих поэтов. Один погиб в бою с русскими, другой — анакреонтически-оссианический певец русско-прусского военного братства — участвовал в совместном Рейнском походе. Сходны и анакреонтические сюжеты обоих стихотворцев. Реальность такого наложения подтверждается тем фактом, что стихотворение Мандельштама «Батюшков» было написано лишь за два месяца до HP и, по-видимому, находилось в активной памяти поэта.
Но не стоит упускать из виду и чисто метафорического значения Цереры. Церера на устах поэта-воина — это метонимическое развитие образа роз, цепляющихся за эфес. Церера — богиня плодородия; плодородие как метафора дара речи противопоставляется молчанию[302].
3.2.4. В ожидании Гете
13 Еще во Франкфурте отцы зевали, 14 Еще о Гете не было известий, 15 Слагались гимны, кони гарцевали 16 И, словно буквы, прыгали на месте.В следующей строфе рисуется ситуация в немецкой поэзии незадолго до вступления в нее Гете. Намеком на детские годы Гете во Франкфурте метонимически обозначается предыстория фундаментального сдвига в немецкой, и не только немецкой, литературе XVIII века. Время Клейста описывается как время до Гете, «в ожидании» Гете: не прошлое, а будущее лежит в основании настоящего. Обращенность в прошлое есть одновременно обращенность в будущее: сравним дважды повторенное «еще» в стихах 13–14. Это и есть настоящий момент поэзии: настоящее как место встречи будущего и прошедшего. Парадоксальным образом прошлое еще не произошло, главное свойство прошлого — его еще-не-произошедшесть, будущего — его уже-присутствие. Мандельштам реализует фразеологему «прозевать кого-либо»: франкфуртские отцы прозевали Гете, не знали, кто среди них родился.
В сонете «Христиан Клейст» на месте «отцов» стояли «купцы» («Еще во Франкфурте купцы зевали»): намек на купеческое происхождение родителей Гете и статус Франкфурта как «купеческого города» («Handelsstadt»). Но, как уже было отмечено, в процессе работы над HP Мандельштам стушевывал исторические детали, поэтому вместо конкретного указания на профессию отца Гете и его окружения появилось просто его (их) отцовство. Образ зевающих отцов-купцов отдаленно напоминает также сцену бюргеров, покуривающих трубку и рассуждающих о турецких делах из первого акта «Фауста», которую Мандельштам приводил в статье «Пшеница человеческая».
По-видимому, Мандельштам ассоциативно вышел на Франкфурт через Карамзина: раненого Клейста должны были отвезти во Франкфурт. Не исключено, что в подтекстах находятся «немецкие» стихотворения из «Нездешних вечеров» Кузмина (1923) (аллюзии на франкфуртское детство Гете в стихотворении «Ведь это из Гейне что-то…» и на веймарский период в стихотворении «Гете»: Кузмин 1978: 186, 223). Хотя против вероятности кузминских подтекстов косвенно говорят мемуары Э. Герштейн: «я: (Герштейн. — Г.К.) „А помните Кузмина стихи о Гете? (в „Нездешних вечерах“)“. О. (Мандельштам. — Г.К.) морщится: „Наверное, плохие“» (1998: 154). «Наверное» выдает незнание, недостаточное знакомство или же сознательное открещивание Мандельштама от стихов Кузмина. Франкфуртское детство Гете — общеизвестный факт. Лексических и ритмических точек соприкосновения со стихами Кузмина нами не обнаружено. «Нездешние вечера» Кузмина — не подтекст, а фон, на котором русский читатель, в данном случае в лице Э. Герштейн, воспринимал HP.
Поэтическая мысль Мандельштама движется ко времени Христиана Клейста через Гете: в эпохе, в духе времени Клейста на правах еще отсутствующего присутствует Гете. Еще не бывшее становится одним из главнейших свойств прошлого. Даже не столько свойством, сколько сущностью прошлого. Прошлое есть еще не бывшее. Обоснование такой «ретроспективы» находится в формуле из статьи «Слово и культура»: «вчерашний день еще не родился. Его еще не было по-настоящему. <…> Зато сколько редкостных предчувствий» (I, 213–214).
Воссоздание историко-литературной ситуации эпохи происходит через упоминание гимна — типичного жанра немецкой поэзии середины XVIII века, уводящего к предклассицистским гимническим одам Клопштока: «Слагались гимны, кони гарцевали». В образе гарцующих коней историко-литературная зарисовка имеет под собой контекстуальное обоснование: в цикле стихов о русской поэзии 1932 года, частью которого является и загадка о Тютчеве, капли после раскатного грома, содержащего метафору начала русской поэзии, — «прыгают галопом, скачут градины гурьбой, пахнет потом, конским топом» (III, 66–67). Прыгающие кони как образ начала русской поэзии превращаются в HP в гарцующих предгетевских коней, прыгающих, «словно буквы», «на месте».
В «Христиане Клейсте» гарцующие кони оказывались частью торжественного образа войска перед битвой: «и перед битвой радовались вместе». В автографах еще два варианта (1995: 485, прим. 1): «на мураве протравленных поместий» «и княжества топталися на месте» с историческим намеком на раздробленность Германии XVIII века. Ту же историческую реалию Мандельштам уже делал историческим фоном в «Оде Бетховену»: Бетховен «собирал с князей оброк» (I, 248). В HP она оказывается не просто биографическим нюансом. «Княжества топталися на месте» связывается с Рейнским походом (в котором будет участвовать «казацкая папаха»), в результате которого будет сделан новый шаг к объединению Германии. Отдаленно, косвенно проскальзывает здесь и рассуждение о том, что именно немецкая литература второй половины XVIII — начала XIX века, в центре которой — Гете, преодолеет политическую раздробленность Германии.
В любом случае, в окончательном варианте HP Мандельштам счел, что отсылов к реальностям интересующей его эпохи и без того немало, и предпочел разработку не исторического пласта, а метафорического. Сходно Мандельштам работал и с другими историческими посылами в HP, сводя их к минимуму и усложняя не историзм своего реинкарнационного воспоминания-вопрошания, а его образную ткань — тенденция, характерная для всего позднего Мандельштама.
17 Скажите мне, друзья, в какой Валгалле
18 Мы вместе с вами щелкали орехи, 19 Какой свободой вы располагали, 20 Какие вы поставили мне вехи?В пятой строфе звучит второе обращение Мандельштама — на этот раз к «друзьям». Друзья, как следует из предыдущих строф, — немецкие поэты, в первую очередь Христиан Клейст. Мандельштам подхватывает тему немецко-русского братства, впервые появившуюся в формуле «германский и славянский лён» («Зверинец»), разработанную в стихах и переводах 1917–1924 годов (где абстрактное «братство» получило реально-историческую подпорку — русско-немецкие фронтовые братания конца империалистической войны).
Валгалла — постоянный образ немецкой темы («Когда на площадях и в тишине келейной…», «Телефон») — выбрана не только из-за своей германской (древнегерманской) окрашенности, но и из-за своего значения рая для павших воинов. Привлечение Валгаллы историко-литературно оправданно: возрождение древнегерманских сказаний было частью поэтико-тематических открытий середины XVIII века, от Гердера и «Бури и натиска» до романтиков. В отношении русской литературы в связи с этим снова вспоминается Батюшков, в творчестве которого клейстовско-анакреонтические черты и мотивы соединились с традицией оссиано-нордической.
«Мы вместе с вами щелкали орехи…»: «щелкать орехи» — вариация мотива брудершафта во время встречи на Рейне. Мандельштам задается вопросом, где и когда, в каком культурно-поэтическом пространстве он сдружился, побратался, «перешел на ты» с немецкой поэзией. Выражение «щелкать орехи» отсылает и к другим идиомам: щелкнуть, раскусить твердый, трудный, крепкий орешек — то есть раскрыть какую-то тайну, разрешить трудный вопрос, докопаться до истины. «Ореховая» метафорика появилась в одном из «Стихов о русской поэзии», непосредственно связанных с разбираемым стихотворением: «Там [в „лесу“ русской поэзии. — Г.К.] фисташковые молкнут / Голоса на молоке, / И когда захочешь щелкнуть, / Правды нет на языке» (III, 67). Эти стихи подтверждают метафорическую связь орехов (фисташек) с поэтической и идиоматической нагрузкой фразеологизма «щелкать орехи». Таким образом, герой Мандельштама уже когда-то щелкал орехи, то есть решал сложные вопросы. Теперь, в 1932 году, поэту предстоит «расщелкать» еще один орех, найти выход из новой ситуации, выявить «правду», хотя ее уже и «нет на языке», потому что язык «залгался», превратился в «хищь», «поденщину» и «ложь» («Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето…», III, 53).
В мандельштамовском «ореховом» воспоминании участвуют и литературные, гофмановские ассоциации («Щелкунчик», следы которого мерцали в стихотворении «Рояль»), Согласно И. Месс-Бейер, «щелканье орехов подчеркивает обращенность к Гофману с его „Щелкунчиком“» (1991: 259). И по мнению В. В. Мусатова, в образе щелканья орехов присутствует «мотив гофмановского Щелкунчика, который из безобидной детской игрушки с не менее безобидной функцией (щелкать орехи) превращается в храброго солдата» (2000: 418). Напомним, что студентом Мандельштам начинал переводить «Золотой горшок». Упоминания Гофмана у Мандельштама редки: так, выстраивая генеалогию Штробеля, Мандельштам называет в том числе и Гофмана (II, 601). «Щелкунчик», по наблюдению И. Месс-Бейер (1991:259)[303], появляется в стихотворении «Куда как страшно нам с тобой…»: «Ох, как крошится наш табак, / Щелкунчик, дружок, дурак»[304]. Для нашего анализа важно, что вместе с «автобиографическим» Гофманом в мандельштамовские медитации включается, после Клейста и Гете, еще один персонаж немецкой литературы.
Следующий стих («Какой свободой вы располагали…»), продолжая обращение к немецкой речи, благодаря упоминанию «свободы» вызывал актуальные ассоциации. В ноябре 1932 года Мандельштам читал свои стихи в редакции «Литературной газеты». По впечатлению Н. Харджиева, изложенному в письме Эйхенбауму, Мандельштам, «седобородый патриарх, шаманил около двух с половиной] часов. Он прочел все свои стихи (последних двух лет) — в хронологическом порядке. Это были такие страшные заклинания, что многие испугались. Испугался даже Пастернак, пролепетавший: „Я завидую Вашей свободе“» (цит. по: Эйхенбаум 1987: 532). Впечатление Харджиева от выступления Мандельштама насыщено реминисценциями из стихов 1932 года (например, «седобородый патриарх» — из «Ламарка»). «Внутренняя свобода», о которой говорит Пастернак, — реминисценция из HP. Заклинанием немецкой речи Мандельштам в HP испрашивает, «заклинает» искомую свободу. Впечатления современников подтверждают актуальность, казалось бы, несвоевременных и несовременных вопрошаний в HP. В связи с этим следует рассматривать и признание Мандельштама об «огромной внутренней свободе» Кузина — адресата посвящения HP, одарившего ею и самого поэта (IV, 151).
Здесь не только косвенное воспоминание о пошатнувшейся после революционных бурь свободе, но и вопрос к друзьям-поэтам: насколько ограниченной или неограниченной была их свобода, в чем она состояла и где кончалась. Местоимение «какой» в этом контексте двузначно: с одной стороны, это вопросительное местоимение, обозначающее вопрос о качествах, свойствах и признаках предмета, с другой — местоимение определительное, обозначающее оценку качества, восхищение и удивление. Одновременно происходят вопрошание и восторженное восклицание. Даже если в следующем, 20-м стихе уже третий раз повторенное местоимение и является чисто вопросительным, в нем не прекращает звучать эмоциональный заряд определительного местоимения, полученный им в 19-м стихе: «Какие вы поставили мне вехи».
Друзья-поэты, поэты-воины, как боги, ставят вехи, предопределяют поэтическую судьбу поэта. Мандельштам пытается узнать, что уготовано ему. Сходное «гадание по немецкой культуре» происходило в «Декабристе» и «Когда на площадях и в тишине келейной…»: там — о судьбах революционной России, здесь — о собственной поэтической судьбе. Немецкая поэзия выступает как оракул. В связи с мотивом гадания-прогноза небезынтересной становится и возможная аллюзия на сборник «Вехи» («какие вы поставили мне вехи»), в котором анализ современного положения русской интеллигенции сочетался с прогнозами и пророчествами о ее судьбах.
21 И прямо со страницы альманаха, 22 От новизны его первостатейной, 23 Сбегали в гроб — ступеньками, без страха, 24 Как в погребок за кружкой мозельвейна.Строфа развилась из последнего терцета «Христиана Клейста» и уже там содержала точный историко-литературный намек на популярную на Западе и в России форму издания — альманах. Время расцвета жанра альманаха муз («первостатейная новизна») не только как органа публикации, но и как важной составляющей литературного процесса приходится как раз на интересующий Мандельштама период — 1760–1830-е годы. В связи с немецкой литературой, находящейся в центре мандельштамовских медитаций, к месту вспомнить Геттингенский альманах муз (главный издательский орган поэтов круга «Геттингенской рощи», в том числе и Клопштока, намек на которого имеется в 15-м стихе — «слагались гимны») или шиллеровский «Альманах муз», в работе которого участвовал еще один герой мандельштамовского стихотворения — Гете.
Возможно, свою роль сыграли в самой ассоциации не только историко-литературная эрудированность Мандельштама, но и знакомство поэта с формалистской проблематизацией феномена альманахов и журналов. Соображения Тынянова (1977: 257) середины 1920-х годов были подхвачены и развиты в конце 1920-х Шкловским в статье «Журнал как литературная форма» (1928) и Эйхенбаумом в сделанном в форме журнала «Моем временнике» (1929), где в рамках актуального разговора о литературном быте и литературной домашности, по следам книги М. Аронсона и С. Рейснер «Литературные кружки и салоны» (1929), было уделено внимание и феномену литературного альманаха в поэтической культуре начала XIX века (Эйхенбаум 1929: 63–64)[305].
«Со страницы альманаха» немецкие поэты-собеседники Мандельштама «сбегали в гроб — ступеньками, без страха». В одном из вариантов HP с большей прямотой звучала тема обмана судьбы: «сбегали в гроб, обманывая пряху» (1995: 485): поэт в состоянии перехитрить судьбу, не согласиться с ней, сделать свой выбор.
Готовность к смерти есть одновременно и готовность к жизни[306]. В интертекстуальных рамках HP важен в связи с этим афоризм Гете «Und so lang du das nicht hast, / Dieses: Stirb und werde! / Bist du nur ein trüber Gast / Auf der dunklen Erde» (Goethe 1888: VI, 28) из «Блаженного томления» — стихотворения, из которого, скорее всего, взят образ мотылька-моли, летящей на огонь[307].
Может быть, есть связь между «гробами» немецких поэтов и «зеленой могилой» Хлебникова в «Ламарке»: в июне 1932 года, за несколько недель до создания HP, была десятилетняя годовщина смерти Хлебникова. В конце «Ламарка» появляется образ «зеленой могилы» Хлебникова (Лекманов 2004: 145). В любом случае, память о Хлебникове в 1932 году была жива. Мультиассоциативность мандельштамовских интертекстуальных отсылов работает на главную тему HP — «диалога» русской и немецкой поэзии. На интертекстуальном уровне Мандельштам подключает к этому пиру-диалогу русских поэтов, предромантиков и анакреонтиков (Фонвизин, Державин, Батюшков) и современных поэтов-«мучеников» (Гумилев, Хлебников).
В «Феодосии», в главе о Мазесе да Винчи, носившем, кстати, «бетховенскую рубашку» (II, 402), описывался фаэтон: «Лошадь, подметая ногами искры, с такой силой обивала горячие камни, что казалось, в них должна была образоваться лестница» (II, 400). Возможно, это видение «града копыт», пробивающих лестницу внутрь земли, и легло в основу образного перехода от «гарцующих коней» в предгетевеком Франкфурте к ступенькам, по которым поэты со страниц альманахов XVIII века «сбегали в гроб». Мандельштамовский герой готов последовать за своими немецкими друзьями, готов умереть, причем умереть с легкостью и непринужденностью обычного действия: умереть, как сбегать «в погребок за кружкой мозельвейна». В сонете «Христиан Клейст» мотив поэзии в этой легкости умирания звучал еще очевиднее:
И прямо со страницы альманаха Он в бой сошел и умер так же складно, Как пел рябину с кружкой мозельвейна. (III, 69)Умереть с той же «складностью», что и петь: песнь и смерть неразрывны[308], нужно умереть в веселье, играючи; знаменательно в связи с этим ласкательное «погребок», семантически и фонетически связанное с фобом. Сходная паронимическая игра на грб уже была в стихотворении «Дикая кошка — армянская речь…», где «Долго ль еще нам ходить по гроба, / Как по грибы деревенская девка?..» (III, 42). В случае HP семантико-фонетическая связь между погребком и гробом оказывается этимологически правильной.
«Мозельвейн» уводит в семантическое поле «вина» и «опьянения», так многосложно коннотированное в творчестве Мандельштама. В контексте немецкой темы у Мандельштама кружка мозельвейна перекликается с белым вином Валгаллы («Когда на площадях и в тишине келейной…») и голубым пуншем из «Декабриста». Литературные ассоциации расходятся от «Фантасмагорий в бременском винном погребке» В. Гауфа до «Дифирамба» Клейста, строки из которого Мандельштам предпослал эпиграфом к черновому варианту. В третьей строфе стихотворения Эвальда Христиана Клейста, из которого Мандельштам взял стихи для эпиграфа, есть «мозельское вино»:
Moslerwein, der Sorgenbrecher, Schafft gesundes Blut. Trink’ aus dem bekränzten Becher Glück und frohen Muth! (Kleist 1771: 46)В кружке клейстовского мозельвейна — счастье (удача, «Glück») и искомое Мандельштамом радостное мужество («froher Muth»). В связи с этим вспоминаются поиски и «примерки» «германского» мужества в «Декабристе» и «Когда на площадях и в тишине келейной…». «Мозельвейн» Клейста — живительная влага (дословно: ломающий, прерывающий печаль — Sorgenbrecher) — творит здоровую кровь. Этот мотив пересекается с темой подмены крови и «вечных снов» — «образчиков крови» в стихотворении «Батюшков». Кружка мозельвейна метонимически связана и с соком виноградных лоз из строфы эпиграфа, там вино — эликсир жизни. Оксюморонность высказывания сгущается: умирать нужно с легкостью похода за животворящим, горячащим кровь вином. Кружка мозельвейна немецких поэтов находится в братско-дружественной метонимической связи и со стаканами Батюшкова («Батюшков»), и с бокалом Языкова из цикла стихов о русской поэзии:
Дай Языкову бутылку И подвинь ему бокал. Я люблю его ухмылку, Хмеля бьющуюся жилку И стихов его накал. («Стихи о русской поэзии», III, 66)«Бокал» для Языкова зарифмован с «накалом» стихов. Накал — эквивалент «glühen» клейстовского вина. Так Мандельштам на интертекстуальном уровне, метафорически и символически вовлекает в свой разговор с немецкими поэтами участников своего предыдущего «разговора» о поэзии, русских поэтов XVIII–XIX веков, подтекстуальные и биографические константы которых уже вливались в немецкую тему у Мандельштама[309].
В стихах о русской поэзии присутствовал и гром, который «наслаждается» мускатом. Историко-литературно верна связь муската из стихов о русской поэзии с белым вином Валгаллы и мозельвейном немецких предромантиков — они имеют общую анакреонтическую подоплеку. В «Батюшкове» Мандельштам говорил о «виноградном мясе стихов» (III, 66), также и в HP виноград и поэзия сливаются в одной метафоре: виноград и вино выступают и как символ поэзии, и как ее объект. «Винными» образами Мандельштам наращивает топику пира: встреча с друзьями-поэтами происходит в «немецкой» обстановке, в ситуации пира, знакомой нам по другим «немецким» стихотворениям («Декабрист», «Когда на площадях и в тишине келейной…», «Телефон»).
3.2.5. «Бог Нахтигаль»
25 Чужая речь мне будет оболочкой, 26 И много прежде, чем я смел родиться, 27 Я буквой был, был виноградной строчкой, 28 Я книгой был, которая вам снится.В следующей строфе Мандельштам, уже погрузивший читателя в мир немецкой поэзии, возвращается к теме ухода в «чужую речь», заявленной в первой строфе: «Чужая речь мне будет оболочкой…» Чужая речь — не только речь иностранная, в данном случае немецкая, но и речь других поэтов, чужая поэтическая речь, из которой Мандельштам конструирует собственную. Характерно в связи с этим высказывание Эйхенбаума на одном из поэтических вечеров Мандельштама в 1933 году, на котором читалось HP. В конспекте своего выступления Эйхенбаум, явно реминисцируя HP, говорит о «филологизме» Мандельштама, о его «любви к чужой речи», о «необходимости иносказания, „чужой речи“» (1987: 448, прим. 1).
Чужая речь призвана стать новой «оболочкой». Об утрате «оболочки» Мандельштам писал в «Египетской марке»: «Ах, Мервис, Мервис, что ты наделал! Зачем лишил Парнока земной оболочки, зачем разлучил его с милой сестрой?» (II, 466). Оболочка утрачена и должна быть восстановлена или же найдена новая. Оболочка — слово из словаря «Ламарка», навеянного разговорами с ламаркистом Б. Кузиным, — образно перекликается с «ламарковской» «роговой мантией» на пути растворения по упругим сходням эволюционных рядов[310]. В то же время оболочка предполагает определенную защиту того родного, что остается внутри. «Чужая речь» выступает как защитный слой, который предотвратит попадание в творящееся «свое», советское литературное и культурное пространство начала 1930-х годов, в искусительное лицемерие, несущее поэтическую смерть и бесчестье.
В следующих стихах Мандельштам, подобно спуску по «подвижной лестнице Ламарка», расшифровывает свою генеалогию: «И много прежде чем я смел родиться…» «Сметь родиться» — так сказать по-русски нельзя. «Сметь» — «посметь» предполагает волевое решение, «рождение» же — действие неподконтрольное, по ту сторону волевого усилия. На фразеологическом уровне Мандельштам продолжает игру с семантическими аномалиями, начатыми в первой строфе. «Смел» как смог и посмел — отсюда и русское слово «смелость», а смелость — часть искомого Мандельштамом бесстрашия.
До своего рождения лирический герой HP «буквой был, был виноградной строчкой…». Это второе упоминание «буквы» в стихотворении; первое произошло в контексте предгетевского Франкфурта. Мандельштам метафорически переносит свое обращающееся и обращенное к немецкой поэзии «я» в искомую ситуацию. Таким образом, в воспоминании Мандельштама одной из букв, гарцевавших в нетерпеливом ожидании грядущего поэтического переворота, был он сам.
Виноградная строчка образно связана с кружкой мозельвейна из шестой строфы и соком винограда из клейстовского эпиграфа. «Я» Мандельштама метонимически проникает и присутствует и в той кружке мозельвейна, и в соке винограда, в которых метафорически воплощена и легкая смерть, и «жизнегорячащая» стихия поэзии. Виноградная строчка может быть понята и как образная перифраза готического шрифта (Гаспаров 2001а: 656). По схожему принципу Мандельштам описывал впечатления от нотного письма немецких композиторов в «Египетской марке». Реинкарнационная цепочка поэтической преемственности выстраивается по нарастающей: буква, строчка, книга («Я книгой был, которая вам снится…»).
«Вам» — немецким поэтам, которым снится вещий сон. Стих придает всему лирическому повествованию профетическую интонацию. Обращение к немецкой речи открывается, с одной стороны, как обращение к прошлому поэзии, с другой — как гадание на этом прошлом о будущем: вехи мандельштамовской поэзии и личной судьбы поэта определили его немецкие собратья по перу.
В ходе работы над стихотворением Мандельштамом была отброшена следующая строфа:
Воспоминаний сумрак шоколадный. Плющом войны завешан старый Рейн. И я стою в беседке виноградной Так высоко, весь будущим прореян. (1995: 485)Шоколадный сумрак воспоминаний — развитие образа плюща в «дубраве шоколадной» из сонета «Христиан Клейст». Дубрава — у Мандельштама «немецкая» культурная реалия (шумящие дубы в «Декабристе»), шоколадный — по всей видимости—, коричневый (коричневый мир старинной песни в «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа…»). «Плющом войны завешан старый Рейн» отсылает ко всем «рейнским» подтекстам и контекстам («Декабрист» и др.).
В черновике обыгрывалась богатая, почти омонимическая рифма Рейн-прореян. Конечно, первое значение «прореян» — пронзен, но образно-звуковой двигатель этого «прореяния» — историко-мифологический и поэтический Рейн. Слову «прореян» сообщается значение «пронзенный, наполненный Рейном». Может быть, здесь и игра с омонимией Rhein (Рейн) — rein (чистый), знакомой по «Когда на площадях и в тишине келейной…»: общение с немецкой речью, с немецкой культурой, одним из символов которой является Рейн, должно не только предопределить будущее поэта, но и очистить его. Здесь вспоминается катарсическая функция «холодного и чистого рейнвейна» («Когда на площадях и в тишине келейной…»).
Не исключен и отсыл к началу рейнской романтики — легендарному путешествию по Рейну Брентано — создателя столь важного для Мандельштама образа Лорелеи. Более реальный русский подтекст — стихотворение «Беседка муз» Батюшкова, актуализированное в сознании Мандельштама в процессе работы над стихотворением «Батюшков», написанным за два месяца до HP[311]. Батюшковский герой обращается к музам с такой же просьбой, что и герой в HP:
Он молит муз: душе, усталой от сует, Отдать любовь утраченну к искусствам, Веселость ясную первоначальных лет И свежесть — вянущим бесперестанно чувствам. (Батюшков 1978: 334)Плющом и розами увита у Пушкина могила Анакреона в стихотворении «Гроб Анакреона», написанном в том же году, что и «Тень Фонвизина», в период анакреонтического ученичества Пушкина у Батюшкова. Роза, вино-виноград, соловей, беседка — ключевые образы анакреонтики, которые в памяти Мандельштама освежил Клейст (Simonek 1994а: 69–71).
В «Христиане Клейсте» тема Рейнского похода как временного ориентира и при этом некой границы времен звучала еще однозначнее: «Пока еще не увидала Рейна/ Косматая казацкая папаха» (III, 69). С одной стороны, здесь возможна отсылка к карамзинскому описанию смерти Клейста (Simonek 1994а: 66–67): «Кто не подивится тому, что он (Клейст. — Г.К.) в сию минуту смеялся от всего сердца над странною физиогномиею и ухватками одного казака, который снимал с него платье?» (Карамзин 1984: 39). Но «казацкая папаха» — не просто очередной намек на карамзинский подтекст, она дана в исторической перспективе: «далека от Рейна» — то есть от Рейнского похода: при переходе через Рейн в новогоднюю ночь 1813/14 года именно казацкие воинские части стояли под командованием Блюхера. Глубокое историческое знание Мандельштамом событий 1812–1815 годов не подлежит сомнению и прослеживается от стихотворения «Европа Цезарей! С тех пор, как в Бонапарта…» 1914 года до «Стихов о неизвестном солдате» 1937 года. В 1932 году отмечалось 120-летие Отечественной войны, освежившее в памяти Мандельштама празднование столетия в 1912-м. Мандельштам интертекстуально создает русско-немецкий военный метасюжет: события Семилетней войны, в которой Россия и Пруссия были врагами, синтезируются здесь с событиями антинаполеоновских войн, в которых Россия и Германия были союзниками. Такой синтез работает на дальнейшую оксюморонизацию высказывания. На интертекстуальном уровне поэт реализует заявленное в первой строфе «себе-противоречие», проявления которого прослеживаются на многих уровнях текста[312].
29 Когда я спал без облика и склада, 30 Я дружбой был, как выстрелом, разбужен. 31 Бог Нахтигаль, дай мне судьбу Пилада 32 Иль вырви мне язык — он мне не нужен.В следующей строфе автобиографические намеки на актуальное положение Мандельштама усиливаются: стих («Когда я спал без облика и склада…») иносказательно описывает поэтическое молчание поэта во второй половине 1920-х годов. «Спячка без склада» лексико-семантически противопоставляется той складности, с которой в «Христиане Клейсте» «сошел» в бой и умер немецкий поэт-офицер.
В одной из редакций было: «Так я стою и нет со мною сладу…»; стих представляет собой перифразу лютеровского «Здесь я стою — я не могу иначе» (Аверинцев 2001а: 388). Если лютеровская клятва-кредо была негативно (или, по крайней мере, амбивалентно) коннотирована в четверостишии «Здесь я стою — я не могу иначе…» и позиция Лютера в Вормсе оценивалась с «римской» точки зрения — как упрямство и незрячесть, то в HP Мандельштам возвращается к словам Лютера как образцу искомой стойкости и чувства правоты[313]. Появление лютеровской цитаты связано как с общим немецким контекстом высказывания, так и образно-ассоциативно (через виноградные строчки готического алфавита) с мыслями Мандельштама, высказанными им в статье «Буря и натиск», в которой радость от чтения Пастернака сравнивалась с радостью немцев, открывших впервые лютеровскую готическую Библию.
«И нет со мною сладу» — косвенное обращение к современности, требующей от поэта отказа от своих принципов. Лютеровская бескомпромиссность, осужденная Мандельштамом в 1913 году, в 1932-м является примером той серьезности и чести, которые должны помочь поэту не пойти на сделку со своей человеческой и поэтической совестью.
От летаргической спячки 2-й половины 1920-х годов Мандельштам был разбужен «немецкой» дружбой с Б. Кузиным: «Я дружбой был, как выстрелом, разбужен». Трагический оксюморонный образ выстрела-дружбы, внедренный в самом начале в ткань стихотворения («дружба в упор»), переосмысляется в 30-м стихе. Клин клином вышибают — смертию попирается смерть[314].
В связи с мотивом пробуждения выстрелом вспоминается также знаменитое ленинское выражение «Декабристы разбудили Герцена» из программной статьи «Памяти Герцена» (Ленин 1948: 14). Ведь именно в начале 1930-х у Мандельштама нарастает герценовская тема — «Жил Александр Герцевич…» и др. С 1932 года Мандельштам жил в Доме Герцена, поэтому ленинский подтекст не кажется нам фантастическим. Подтекст ленинского подтекста — «Былое и думы» самого Герцена: «„Письмо“ Чаадаева было своего рода последнее слово, рубеж. Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что его не будет, — все равно надобно было проснуться» (Герцен 1956: IX, 139). По-видимому, герценовский подтекст метонимически зацепился у Мандельштама за чаадаевскую линию HP. Ср. также в герценовской статье «О развитии революционных идей в России»: «Публикация этого письма была одним из значительнейших событий. То был вызов, признак пробуждения; письмо разбило лед после 14 декабря» (Герцен 1956: VII, 221). Обращает на себя внимание образная и паронимическая перекличка с выстрельно-пробудительной топикой HP (выстрел — вызов). Ср. также другую цитату из той же самой статьи: «Пистолетный выстрел, убивший Пушкина, пробудил душу Лермонтова» (Герцен 1956: VII, 224).
Встреча, вымышленный диалог с немецкими поэтами и невымышленный — с Кузиным не исчерпывают список близких людей, дружба с которыми «разбудила» Мандельштама. Г. Г. Амелин и В. Я. Мордерер полагают в адресате мандельштамовской дружбы черты Гумилева (2000: 142). К сожалению, представители так называемого «интуитивного мандельштамоведения» не развернули далее свой тезис, хотя для этого были достаточные основания и зацепки. HP находится в тесной контекстуальной связи с «Ламарком», одним из наиболее отчетливых семантико-ритмических подтекстов которого является стихотворение «Память» Гумилева. Безусловны к тому же параллели между судьбой Христиана Клейста и Гумилева — оба путешествовали и воевали. За «поэтическим опытом» бесстрашия Мандельштам мог обратиться как к судьбе Гумилева, так и к его стихам «Душа и тело», которыми вместе с «Памятью» открывается посмертный сборник Гумилева «Огненный столп»:
Но я за все, что взяло и хочу, За все печали, радости и бредни, Как подобает мужу, заплачу Непоправимой гибелью последней. (Гумилев 1988: 313)Стихи родственны не только тематически (тема гибели и мужества), но и синтаксически. Гумилевский герой платит «за все», мандельштамовский — уходит из своей речи (та же гибель) «за все, чем я обязан ей бессрочно…», то есть за те же поэтические «печали», «радости» и «бредни». В связи с гумилевской топикой радости достаточно вспомнить «веселье» на «пире отцов» («За гремучую доблесть грядущих веков»). Не исключена также и оглядка на рифмовку Гумилева (бредни — последний) в стихотворении Мандельштама «Я скажу тебе с последней…» (III, 45), разделяющем с HP пушкинскую тему пира во время чумы. Вышеупомянутые стихотворения — непосредственное контекстуальное окружение HP.
Вполне возможно, что гибель Гумилева являлась для Мандельштама и прообразом, и идеальной моделью собственной судьбы. В любом случае, гумилевский образ, наслаиваясь на клейстовский, а может быть, и на образы Шенье, Пушкина и Хлебникова, незримо присутствовал в подсознании поэта во время создания HP. Интертекстуально и прототипически лирический герой наделяется не только чертами Клейста, Шенье, Гумилева, но и погибшего на дуэли Пушкина. В связи с топосом защиты чести и дуэли вспоминается и судьба Лермонтова. В 1930-е годы поведенческая оглядка Мандельштама на Пушкина будет только усиливаться. Пожалуй, не менее важен для мандельштамовской топики самоубийственной дуэли и «выстрел» Маяковского 1930 года.
Если биографическим адресатом-источником дружбы является Кузин, а прототипно-подтекстуальным — русские и немецкие поэты, то поэтическим — бог Нахтигаль, к которому Мандельштам обращается в следующем стихе: «Бог Нахтигаль, дай мне судьбу Пилада». Бог-Нахтигаль, по мнению Ронена (1991: 17), восходит к стихотворению Гейне «Im Anfang war die Nachtigall…» («В начале был соловей…») (Heine 1912: II, 10), первый стих которого представляет собой парафразу начала Евангелия от Иоанна: «Im Anfang war das Wort» («В начале было слово»)[315]. Парафразирование выигрывало еще больше при переводе на русский благодаря фонетической близости «слова» и «соловья» (Ронен: 1991, 17). Соловей Гейне, который «приносит себя в жертву за всех птиц» (Гаспаров 2001а: 656), пересекается с жертвенной темой HP. В цикл «Новых стихов» Гейне входит наряду с «Im Anfang war die Nachtigall…» и гафизообразное стихотворение «Der Schmetterling ist in die Rose verliebt…» (Heine 1912: II, 9)[316].
Нахтигаль-соловей, возможно, имеет помимо гейневского источника и подтекст из стихотворений Клейста «Сельская жизнь» («Landleben») и «Хвала божеству» («Lobgesang der Gottheit»), в которых образы соловья и соловьиной песни соседствуют в рамках одной строфы с образами виноградников, кустов роз и беседок, присутствующих в мандельштамовском стихотворении (Simonek 1994а: 70). Конечно, «соловьиная» топика представляет собой общее место анакреонтики, но, учитывая черновик, можно заключить, что именно клейстовский пример анакреонтической образности вдохновил Мандельштама.
Памятуя о лютеровских аллюзиях в HP, уместно вспомнить и о «виттенбергском соловье» Лютере («Die Wittenbergisch Nachtigall») — так обозначил его в одном из стихотворений Ганс Сакс. Образ прижился: впоследствии так прозвали виттенбергского религиозного поэта Пауля Герхардта (Paul Gerhardt, 1607–1676), стихи которого вошли в канон лютеранских церковных песенников[317].
Помимо «соловьиных» подтекстов не менее важно вспомнить и тексты самого Мандельштама, в которых присутствует соловьиная образность: она нам знакома по немецкой теме: во-первых, это «соловьиные липы» из «шубертовского» стихотворения «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа…», где Мандельштам, как и в HP, создавал метаобраз романтизма за счет перечисления его основных образов-символов. Сюда же относится и «соловьиная горячка» из стихотворения «Что поют часы-кузнечик…». Характерна и объединяющая оба стихотворения тема легкой или невинной смерти: «Потому что смерть невинна, / И ничем нельзя помочь, / Что в горячке соловьиной/ Сердце теплое еще» (I, 134). «Соловьиная» образность присутствовала и в переводах из Бартеля: «Ты сейчас блуждаешь где-то…» Там она, по тонкому замечанию X. Майера (Meyer 1991: 92–93), пересекалась с «соловьиной» линией пастернаковской книги «Сестра моя — жизнь», где поэзия была определена как «двух соловьев поединок» (Пастернак 1989: 134). В HP присутствует не только «соловьиная» тема, но и тема поединка — «дружбы в упор». Возможны переклички и с пастернаковским «Определением творчества», где есть «погреб», «соловей над лозою» и «разряды страсти» (1989: 137)[318].
Образ Пилада — символ молчания. Мандельштам готов дать обет молчания, точнее, его продолжить, учитывая, что с 1926 года по 1930-й он стихов не писал. Но если это невозможно, то: «Иль вырви мне язык, он мне не нужен». Этот стих отсылает к пушкинскому «Пророку»: «И вырвал грешный мой язык» (Пушкин 1956: II, 338). HP связано с «Пророком» на уровне мотивов: герой HP просит бога Нахтигаля вырвать ему язык, чтобы он не стал «грешным» «и празднословным и лукавым», языком лести и фарисейства.
Лексически (фарисейство, бог) и интертекстуально (пушкинский «Пророк») Мандельштам наращивает сакральный ореол немецкой речи, к которой он обращается. В одном из вариантов было еще прямее: «иль вырви мне язык» с пометкой «за святотатство!» (1995: 485). Святотатство как поругание, оскорбление чего-то заветного, святого — не просто измена себе, а поругание святого «языка» поэзии.
Обращение к богу Нахтигалю повторяется и в заключительной строфе HP: «Бог Нахтигаль, меня еще вербуют…» В 1932 году улучшились жилищные условия в Доме Герцена, благодаря Бухарину Мандельштам получает ежемесячную пенсию, следуют поэтические и публицистические публикации, в сентябре 1932 года поэт даже подпишет договор на издание своей книги «Стихотворения». Может быть, эти милости воспринимались им как «вербовка». Тема вербовки-приманки еще отчетливее звучала в одном из вариантов HP: «Бог нахтигаль [в черновике с маленькой буквы. — Г.К.], дай мне свою приваду» (1995: 485): «свою приваду» бога Нахтигаля взамен тех, которыми соблазняют другие «вербовщики»[319].
В одном из предвариантов обращенность к немецкой культуре звучала еще отчетливее и прямее: не «Бог Нахтигаль! Меня еще вербуют…», а «Германия! Меня еще вербуют!». Отсутствовало эмоциональное напряжение за счет повторения обращения к богу Нахтигалю, но появлялись иные аллитерации: Германия — вербуют, Германия — меня. Возможно, помимо поэтических причин отказа от «Германии» существовали и конъюнктурные: отношения с Германией в 1932 году были уже далеко не те, что 10 лет назад. Советская пресса с озабоченностью следила за усиливавшимися в предвыборной Германии нацистскими тенденциями. На вечере Мандельштама в 1933 году поэту вообще пришлось оговаривать, что стихи написаны до победы Гитлера на выборах.
Лирического героя HP вербуют «для новых чум, для семилетних боен». Происходит семантическое смещение идиомы: «вербовать» можно на войну (военную службу), но не на «чуму». Тем самым Мандельштам подчеркивает сознательность распространения «чумы». «Семилетние бойни» отсылают к Семилетней войне и к главному герою стихотворения — Христиану Клейсту. Конечно, здесь «бойня», как и «чума», употреблена и метафорически, с оглядкой на разрастающийся террор и провоенные настроения 1930-х годов.
«Для новых чум» содержит очевидный подтекстуальный ход к пушкинскому «Пиру во время чумы», ставшему в 1930-е годы одним из главнейших подтекстов поэта («Я скажу тебе с последней прямотой…» и др.)[320]. Интересно, что первое обращение к «Пиру во время чумы» после молчания 1926–1930 годов произошло в навеянном армянскими впечатлениями «Фаэтонщике», где появились темы «чумного председателя» и «темно-синей чумы». Д. М. Магомедова отмечает (2001: 139), что с 1917 года образ пира связуется в сознании Мандельштама с «Пиром во время чумы» Пушкина. «Чумные» образы HP подтверждают предположения исследовательницы: на германо-славянский, скифский пир накладываются пушкинские ассоциации.
В очерке «Феодосия», где Мандельштам, описав «неслыханно жестокую зиму» врангелевского Крыма, говорил об ощущеньи «спустившейся на мир чумы — тридцатилетней войны» (II, 396, 398). ВНР место Тридцатилетней войны заняла, благодаря Клейсту, война Семилетняя. «Бойня» и «чума» находятся в метонимической зависимости. Мандельштаму должно было быть известно, что во время Тридцатилетней войны свирепствовала и чума. Не менее правдоподобна и ассоциативная связь со Столетней войной, начало которой сопровождалось первыми в Европе эпидемиями чумы. Литературное приравнивание войны и чумы произошло для Мандельштама в переводе из бартелевского «Вердена», описывавшего ужасы Первой мировой войны, которая стала для Мандельштама мерилом и примером любой войны: «Верден, Верден — ты чумный дух, / Ты бойня с гнойниками всеми!» (II, 181). Свою роль в формулировке стиха сыграл, очевидно, и фразеологический оборот «бежать от чего-то, как от чумы». В связи с этим вновь обращает на себя внимание уже цитированное открытое письмо советским писателям, в котором Мандельштам заявляет, что бежит от писательской «общественности» как от «чумы» (IV, 130).
Сужающийся звук («Звук сузился, слова шипят, бунтуют…») продолжает важный для стихов 1930-х годов мотив удушья[321]. «Шипение слов», с одной стороны, продолжает образность удушливости, с другой — вкупе с «бунтом» — вызывает контекстуальные ассоциации с «Декабристом» и далее со всем заговорщицким комплексом в творчестве Мандельштама.
Подтекстуальный фундамент последнего стиха («Но ты живешь, и я с тобой спокоен») — концовка батюшковской «Разлуки»: «И слово, звук один, прелестный звук речей/ Меня мертвит и оживляет» (Батюшков 1978: 232). О том, что подтексты из батюшковской «Разлуки» являются самыми актуальными для HP, говорит тот факт, что мандельштамовское стихотворение «Батюшков» написано за два месяца до HP, а в нем реминисцировалась именно «Разлука»: «Ни на минуту не веря в разлуку» (III, 65). «Неверие в разлуку» относится не только к Батюшкову, но и ко всей поэзии. Одновременно все обращение к немецкой речи оказывается полемикой с батюшковской «Разлукой», где «небо чуждое не лечит сердца ран» (1978: 231). В стихотворении «Когда на площадях и в тишине келейной…» Мандельштам ставил германскому миру в укор его отлученность от волшебства чужого, южноевропейского мира («Им только снится воздух юга, / Чужого неба торжество…»). Теперь, в HP, «себя губя, себе противореча», он сам уходит из-под «неба» родной речи под чужое.
Мандельштам подтекстуально возражает «Разлуке» другим стихотворением Батюшкова — «Надеждой», семантические и риторические ходы которого Мандельштам использует в HP:
Кто, кто мне силу дал сносить Труды и глад и непогоду, И силу — в бедстве сохранить Души возвышенной свободу? (Батюшков 1978: 201)У Батюшкова — Бог, у Мандельштама — бог Нахтигаль. Вопрошание Мандельштама во многих образно-тематических местах затрагивает и батюшковское послание «К другу»:
Я с страхом вопросил глас совести моей… И мрак исчез, прозрели вежды: И вера пролила спасительный елей В лампаду чистую надежды. Ко гробу путь мой весь, как солнцем, озарен: Ногой надежною ступаю И, с ризы странника свергая прах и тлен, В мир лучший духом возлетаю. (Батюшков 1978: 252)Характерно в связи с этим и само обращение к другу (у Мандельштама — к друзьям в немецкой поэзии), и упоминание гробов, и озарение смертью[322].
В последнем стихе со всей ясностью выходит на поверхность псалмодический характер обращения к немецкой речи. К языческим богам можно обращаться с просьбами, но Мандельштам не молит о помощи. Все встает на свои места лишь в тот момент, когда герой удостоверяется, что бог Нахтигаль жив: главный эпитет христианского Бога — «живый». Это не «поэтическое язычество», не перенос атрибутов живого Бога на бога Нахтигаля. Бог Нахтигаль — не столько бог, сколько ангел-хранитель поэтической речи, функционально близкий серафиму из пушкинского «Пророка».
Как герой Мандельштама удостоверяется в том, что бог Нахтигаль жив? Видимо, с помощью всей медитации HP, всего погружения-припоминания и происходит укрепление в вере в живость поэзии, которая — «радостное богообщение». Таким образом, христианизация «диалога» с немецкой поэзией, о которой мы говорили в связи с топикой фарисейства, достигает своей кульминации в последней строфе HP.
Обобщая результаты разбора HP, можно сказать, что в своем стихотворении Мандельштам обращается к немецкой поэзии середины XVIII — первой половины XIX века, того периода немецкой литературы, который в стихотворении «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа…» поэт назвал «родной колыбелью» и которым, как было показано в предыдущих разборах, интересовался более всего. HP представляет собой своего рода элегический псалом и одновременно гимн немецкой поэзии. В мандельштамовском литературном повествовании-воспоминании «участвуют» предромантическая и романтическая немецкая литература, от анакреонтики Клейста, одическо-гимнической традиции Клопштока, через Гете и «Бурю и натиск» до романтической топики и постромантического «Нахтигаля» Гейне. Историко-литературная реинкарнационная медитация происходит не только за счет упоминания биографического контекста немецких авторов (прямо — Гете, косвенно, по карамзинским каналам, — Клейста), но и на уровне жанрово-тематическом: это анакреонтическая поэзия Клейста (русским посредником-эквивалентом которой выступает Батюшков), гимны, с их отсылом к Клопштоку и к его русским подражателям. Упоминаются особенности литературного быта эпохи — альманахи. Одновременно интертекстуально Мандельштам опирается на личные и поэтические судьбы русских поэтов, от Державина, Батюшкова и Пушкина до Хлебникова и Гумилева. Создается синтетический образ поэта, от предромантически понятого Анакреонта до современников, образ, в котором сплелись поэтические и литературно-биографические черты немецких и русских поэтов двух столетий.
Поэтические установки и судьбы немецких предромантиков и романтиков, тематизированные в HP, вдохновили и укрепили Мандельштама в вере в поэзию вообще и в собственную правоту в частности. Успех обращения к немецкой поэтической культуре «гарантируется» в HP историко-литературно выверенным погружением в мир немецкой поэзии. Как и в стихах 1917–1918 годов, Мандельштам работает с пластами интересующей его культуры на ее поэтическом языке. «Правдоподобность» воскрешения особенностей поэтики интересующей Мандельштама эпохи происходит на уровне идейно-тематическом (тема ухода, бегства — романтическая) и усиливается за счет переработки устоявшейся в рамках этой поэтики образности. Обращение к немецкой речи и поэзии выстраивается как обращение-превращение в ее литературно-биографический мир, синтезируемый Мандельштамом. Здесь Мандельштам являет себя учеником и продолжателем немецкой литературы XVIII–XIX веков: своим реинкарнационным воспоминанием Мандельштам подхватывает мистическую иллюзию фантастического вживания в чужую эпоху, среду, тематизированную самим романтизмом.
Мандельштам — поэт экономный, поэтому, разрабатывая в HP немецкую образность, он контекстуально опирается на собственные стихи, в которых уже затрагивалась немецкая тема: из «Лютеранина» он подхватывает тему чужой речи и похорон, а также ритмику, из «Здесь я стою — я не могу иначе…» — тему стойкости и уверенности в своей правоте, из «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа…» — как сам принцип метакартины романтизма, так и отдельные образы, из бартелевских переводов — детали метафорики. Главным объектом контекстуальных ссылок являются стихотворения 1917 года («Декабрист», «Когда на площадях и в тишине келейной…»), в которых уже в зачатке существовал момент обращения к немецкой культуре и гадания-выгадывания собственной судьбы. Немецкие стихи революционной поры — не только пассивный источник тематических и образных приемов HP, но и предмет интертекстуальной полемики: если в стихах 1917 года поэтическая и солдатская (офицерская) дружба показана роковой и губительной, то в HP она призвана возродить поэта; если в своих вопрошаниях 1917 года поэт-культурософ Мандельштам раздваивался между оксюморонными качествами германского и, скорее, отталкивался от них, то в HP именно в «немецком» культурном пространстве он находит искомый опыт поэтической и социальной независимости и бесстрашия. Античные мифологические мотивы соединяются с мотивами германских сказаний и их романтических переработок. Упоминанием средиземноморских Цереры и Пилада Мандельштам снимает, аннулирует провозглашенную в «Когда на площадях и в тишине келейной…» роковую отдаленность германской стихии от «волшебства» средиземноморского мира. Грубость северных дружин и древних скальдов — поэтов-воинов — не распространяется на немецких поэтов и воинов — в данном случае на поэта-офицера Клейста.
Несмотря на «литературность» тем и образов, Мандельштам усиливает актуальность высказывания, причем не только в силу осязаемой «русской» подтекстуальности, но и благодаря недвусмысленным намекам на писательскую и общественную ситуацию начала 1930-х годов. Проекции биографии Клейста наличную судьбу поэта придают этим параллелям особенный драматизм. Установка на двуплановость закономерно прослеживается при сличении черновиков: сонет «Христиан Клейст» и другие варианты HP — более «немецкие» и более «литературные». По ходу развития стихотворения немецкий «колорит», в котором был выдержан весь первовариант, отступал, высвобождая место более актуальному и личному. Схожая «дегерманизация» прослеживается при работе поэта над «Декабристом». ВНР редукция немецкой детализации напрямую связана с общей для позднего Мандельштама тенденцией к пропуску смысловых звеньев, зашифровыванию возникавших по ходу работы «черновых» метафорических ключей.
3.3. Немецкая тема в произведениях 1933–1937 годов
3.3.1. От Парацельса до Шпенглера: немецкие культурные реалии в «упоминательной клавиатуре» «Разговора о Данте»
В 1932 году Мандельштам начал изучать итальянский язык и читать Данте. Вдова поэта вспоминала, что первое время он прибегал к подстрочным прозаическим переводам с немецкого, при этом предпочитая немецкие подстрочники французским, «потому что немцы, как переводчики, точнее французов» (Н. Мандельштам 1999: 288)[323].
В «Разговоре о Данте» Мандельштам развивает свои автопоэтологические положения на большом культурном материале, в том числе и немецком: так, Одиссеева речь 26-й песни Комедии «обратима… и к дерзким опытам Парацельса» (III, 238). «Ключевой признак сопоставления — смелость, дерзкость опытов Парацельса и дантовских тематических и метафорических рывков». А характеризуя фоноритмику 32-й песни «Ада», Мандельштам говорит о том, что «все это приплясывает дюреровским скелетом на шарнирах и уводит к немецкой анатомии» (III, 250). Характерно, что даже в контексте Дюрера Мандельштам отсылает не к немецкой живописи, а к «анатомии». В мандельштамовской концепции немецкой культуры практически начисто отсутствует немецкая живопись. Исключения немногочисленны: мимоходом, в контексте размышлений о грузинском искусстве упомянуты немецкие ренессансные портретисты. Немецкую живопись Мандельштам знал, но целенаправленно не тематизировал. Для сравнения можно взять тему живописи в рамках «французского комплекса». К французскому импрессионизму как теме Мандельштам обращался как в стихах, так и в прозе («Импрессионизм», III, 64–65; «Путешествие в Армению», III, 198–200). Различные сферы культуры приобретают у Мандельштама национальный характер: живопись отдана Франции[324]. Практически исключая живопись из немецкой культуры, Мандельштам косвенно подчеркивал невизуальность немецкой культуры, тем самым выделяя ее музыкальную и литературную стороны, которые и тематизировал. Для «Разговора о Данте» характерны ассоциации с Бахом. Так, монументальность дантовской «Комедии» Мандельштам связывает с органной музыкой немецкого композитора:
«Задолго до Баха, и в то время, когда еще не строили больших монументальных органов, но лишь очень скромные эмбриональные прообразы будущего чудища, когда ведущим инструментом была еще цитра, аккомпанирующая голосу, Алигьери построил в словесном пространстве бесконечно могучий орган и уже наслаждался всеми его мыслимыми регистрами и раздувал меха, и ревел, и ворковал во все трубы» («Разговор о Данте», III, 225).
Характерен и сам принцип выстраивания дантовской «генеалогии наоборот». Явление более раннее определяется через более позднее, через «еще не». В контексте немецкой темы этот прием знаком нам по стихотворению «К немецкой речи», где время Христиана Клейста передается через еще не вступившего на литературную сцену Гете: «Еще во Франкфурте отцы зевали, / Еще о Гете не было известий…» Здесь по-своему действует мандельштамовская логика «радостных предчувствий». Причинно-следственные связи работают в оба хронологических направления. Таким образом, Мандельштам, выстраивая свою традицию преемственности, не сводит ее к простому эволюционированию.
Свое описание Данте Мандельштам выстраивает на образности, разработанной в стихотворении «Бах»: («ворковал во все трубы» в приведенном отрывке и «воркотня твоя» в «Бахе»), Но если в «Бахе» «воркотня» звучала негативно, то «ворковал во все трубы» — коннотировано позитивно. Оценки явления могут быть или могут стать у Мандельштама противоположными, но само явление описывается за счет метонимического углубления его константных признаков[325].
Мандельштам остается верен и идейному содержанию своих образов. В приведенном отрывке опять появляется проблематика аккомпанемента, соединения голоса и инструмента, поднятая в раннем «Бахе». По ходу «Разговора о Данте» Мандельштам вновь возвращается к Баху. Приведя в качестве примера «метафорических приемов» Данте отрывок из 26-й песни «Ада», Мандельштам замечает: «Если у вас не закружилась голова от этого чудесного подъема, достойного органных средств Себастьяна Баха, то попробуйте указать, где здесь второй, где здесь первый член сравнения, что с чем сравнивается, где здесь главное и где второстепенное, его поясняющее» (III, 236). Многосложность дантовских сравнений — продолжение того, что Мандельштам в «Бахе» назвал «органа многосложный крик». Бах выступает мастером полифонии.
Характерна эволюция тематической привязанности и функции Баха в творчестве Мандельштама. Бах уже в стихотворении «Бах» выступает не только как композитор, но и как носитель протестантской (метонимически-немецкой) эстетики. «Буйная рациональность» мандельштамовского Баха — одно из первых проявлений оксюморонности поля немецкого. В 1920-е годы, в ОВР и переводах из Бартеля, Мандельштаму в Бахе важно и интересно уже другое — соединение экстатики с монументальностью: в пространстве баховской темы сопрягаются барочная одичность и готика, поэзия и архитектура.
В своих рассуждениях о поэтике Данте Мандельштам прибегает к музыковедческой терминологии, которая тут же обрастает музыкальными метафорами и ассоциациями в духе нотных страниц «Египетской марки». Так, 33-я песнь «Ада» дана, по Мандельштаму, «в оболочке виолончельного тембра, густого и тяжелого» (III, 245). Музыкально-музыковедческая ассоциация подкрепляется «авторитетом»: «Виолончель задерживает звук, куда бы она ни спешила. Спросите у Брамса — он это знает» (III, 246). Музыковедческий метафоризм соединяется с литературоведческим: история Уголино — «балладно общеизвестный факт, подобно Бюргеровой „Леноре“, „Лорелее“ или „Erl König’y“» (III, 247). Баллады, которые Мандельштам вспомнил в связи с историей Уголино, — немецкие, романтические: с ними поэт уже работал: с «Лорелеей» — в «Декабристе», с «Лесным царем» — в «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа…»[326]. В качестве примера баллады Мандельштам берет такие пред- и постромантические баллады, которые были наиболее известны в русской литературе и стали для русского читателя образцами жанра. Бюргеровскую «Ленору», известную в русской поэзии в трех (!) переложениях В. Жуковского («Людмила», «Светлана», «Ленора»), Мандельштам, судя по всему, прочитал (или перечитал) в оригинале в начале 1930-х годов: по свидетельству вдовы поэта, Бюргер был первой «немецкой» покупкой Мандельштама во время возобновившегося, благодаря Кузину, интереса к немецкой литературе (Н. Мандельштам 1990а: 226).
Легитимируя жанровую параллель между историей Уголино и немецкими балладами, Мандельштам перечисляет «следующие элементы баллады»:
«…разговор отца с сыновьями (вспомните „Лесного царя“); погоня за ускользающей скоростью, то есть, продолжая параллель с „Лесным царем“, в одном случае — бешеный скок с трепещущим сыном на руках, в другом — тюремная ситуация, то есть отсчет капающих тактов, приближающих отца с тремя детьми к математически представимому, но для отцовского сознания невозможному порогу голодной смерти. Тот же ритм скачки дан здесь в скрытом виде — в глухих завываниях виолончели, которая из всех сил стремится выйти из ситуации и дает звуковую картину еще более страшной, медленной погони» («Разговор о Данте», III, 247–248).
Незнакомое подается через соединение знакомого: чтобы передать динамику и драматику истории дантовского Уголино, малоизвестную русскому читателю, Мандельштам, с одной стороны, литературными сравнениями и аллюзиями вызывает читательское воспоминание о сюжетно-жанровых особенностях романтической баллады (в ее русско-немецком варианте), с другой стороны, смешивает этот читательский, литературный опыт с музыкальным (Брамс).
Характерно для самопроекций позднего Мандельштама и обращение в «Разговоре о Данте» к Новалису. Предыстория упоминаний Новалиса в эссе Мандельштама не такая длинная. В статье «О природе слова» немецкий романтик был назван наряду с Шеллингом и Гофманом в числе тех авторов, которых открыли младшие современники Пушкина (I, 230). В «Письме о русской поэзии» и статье «А. Блок» Новалис был назван среди тех авторов, которых мандельштамовское поколение воспринимало через Блока. Для русского читателя Блок выступает адептом и «адаптером» «голубого цветка Новалиса» (II, 238, 254). А в статье «Армия поэтов» Мандельштам описал молодого поэта по сходству с Новалисом: «…голубоглазый, чистенький, с германской вежливостью, аккуратностью приказчика и шубертовской голубой дымкой в глазах. <…> в убогих строчках, косноязычных напевах — благородный дух германской романтики, темы Новалиса…» (II, 340). В этом отрывке Новалис выступает репрезентантом романтизма, признаки Новалиса смежны тем качествам и образам, которые у Мандельштама входят в семантическое поле немецкого романтизма. Явна лексическая параллель между «шубертовской голубой дымкой» — «голубым цветком» Новалиса. Вероятно памятуя о Новалисе как примере поэта-самородка, Мандельштам назвал Константина Вагинова новым Новалисом (ср. Герштейн 1998: 152). Теперь же, в «Разговоре о Данте», Мандельштаму, увлекшемуся благодаря Б. Кузину естественными науками, пригодилось не «самородство» и не принадлежность Новалиса к романтизму, а его «геологизм» и горно-инженерная профессия: «Прелестные страницы, посвященные Новалисом горняцкому, штейгерскому делу, конкретизируют взаимосвязь камня и культуры, выращивая культуру как породу» (III, 256). Сдвиги в культуре Мандельштам уподобляет геологическим сдвигам (III, 256)[327]. «Взаимосвязь камня и культуры», которую Мандельштам находит у Новалиса, автопоэтологична: тему и метафорику камня-культуры Мандельштам разрабатывал уже в своем первом сборнике «Камень». Таким образом, примеры, которые приводит Мандельштам в «Разговоре о Данте», произвольны и сообщают читателю больше информации о вкусовых пристрастиях самого поэта, нежели об объектах его эклектичной рефлексии. Происходит характерный для Мандельштама перенос собственных поэтологических воззрений на описываемого автора, в данном случае на Новалиса. На месте Новалиса мог бы быть и естествоиспытатель Гете[328].
В черновых набросках к «Разговору о Данте» Мандельштам говорит о фонетической полифонии дантовской речи: «Я вижу у Данта множество словарных тяг. Есть тяга варварская — к германской шипучести и славянской какофонии; есть тяга латинская…» (III, 403–404). Знаменательны в этом наброске как называние славянского и германского под общим знаменателем варварства, заставляющие вспомнить формулу германского и славянского льна из «Зверинца», так и предложение мужественно-грубой «Валгаллы» в стихотворении «Когда на площадях и в тишине келейной…». Словосочетание «германская шипучесть» пришло, по всей видимости, по ассоциации с «голубым пуншем» русско-прусской встречи на Рейне в «Декабристе».
Менее ясна другая аллюзия. Так, в черновиках «Разговора о Данте» вошедший в метафорический задор Мандельштам пишет: «Я позволю себе сказать, что временные глагольные формы изготовлял для десятой песни в Кенигсберге сам Иммануил Кант» (III, 402). Немецкой философии, в отличие от русской, Мандельштам не читал и знал ее, по всей видимости, понаслышке или по толкованиям в трудах символистов. Но понятие о категориях Канта Мандельштам имел, о чем говорят два беглых упоминания кантовских категорий в программных текстах 1910-х годов: со знаком плюс в туманном околосимволистском докладе о «Скрябине и христианстве», где «христианская вечность — это кантовская категория, рассеченная мечом серафима» (I, 205), и в статье «Утро акмеизма», в полемике с ценившими Канта символистами, которым «плохо, не по себе в клети своего организма и в той мировой клети, которую с помощью своих категорий построил Кант» (I, 179). В «Пшенице человеческой» Мандельштам говорил о «родной исторической земле» Европы, «носившей Канта и Гете» (II, 251). Гете представлял здесь немецкую поэзию, Кант — немецкую философию. Сравнение с кантовскими категориями в «Разговоре о Данте» тем более удивительно, что, согласно воспоминаниям вдовы поэта, «с германской философией явно не ладилось», и незадолго до начала работы над Данте Мандельштам «купил томик Канта, понюхал, сказал: „Наденька, это не для нас“ и закинул за книги, чтобы не соблазняться» (Н. Мандельштам 1999: 289). Томик Канта Мандельштам, по-видимому, купил под воздействием разговоров с Ю. М. Вермелем, другом и соавтором Кузина. Скорее всего, именно в разговорах с Вермелем Мандельштам освежил свои знания о Канте, если таковые имелись. В шуточных стихах к Вермелю Мандельштам писал:
Вермель в Канте был подкован, То есть был он, так сказать, Безусловно окантован, То есть Канта знал на ять. В сюртуке, при черном банте, Философ был — прямо во! Вермель съел собаку в Канте, Кант, собака, съел его. («Вермель в Канте был подкован…», III, 150)Обыгрывание имени Канта наводит на мысль, что Кант всплыл в сознании Мандельштама в процессе работы над Данте не только по увязке «глагольных форм» с категорическим императивом — самым знаменитым понятием немецкого философа, но и по фонетической ассоциации имени Канта с итальянским Canto, Canti — песнями Комедии. Возможна также и другая фонетическая ассоциация: Кант-Дант-Сато[329].
Не исключено, что Мандельштам вышел на Канта через Шпенглера. Во время работы над «Разговором о Данте» он перечитывал Шпенглера, о чем косвенно говорят воспоминания Э. Герштейн (1998: 46). Отдельные страницы «Разговора о Данте» посвящены критике рецепции Данте в сознании модернизма. Так, Мандельштам полемизирует со шпенглеровским взглядом на Данте: «Шпенглер, посвятивший Данту превосходные страницы, все же увидел его из ложи немецкой бург-оперы, и когда он говорит „Дант“, сплошь и рядом нужно понимать — „Вагнер“ в мюнхенской постановке» (III, 230). «Мюнхенская постановка», по нашему мнению, возникла по ассоциации с постановкой в музыкальном театре Немировича-Данченко и Станиславского оперы Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». По воспоминаниям Э. Герштейн, в антракте Мандельштам назвал оперу Шостаковича «вагнеризмом» (1998: 45). Перед нами лишнее свидетельство негативного отношения Мандельштама к Вагнеру, прослеживаемое с 1913 года («Валкирии»), Но Мандельштам не только критикует оценки Шпенглера, но и хвалит немецкого культуролога («превосходные страницы»). Так, в пятой главе Мандельштам говорит о волновом танце, вальсности «беспокойных, дергающихся гласных» 26-й песни «Ада». Сопоставление взято из Шпенглера, на что Мандельштам указывает в скобках (III, 239–240).
Исследователями уже отмечались источники «Разговора о Данте»[330]. Самым убедительным нам показалось предположение Тоддеса (1986: 78–79), что книга Мандельштама автопоэтологически развивает положения книги Ю. Тынянова «Проблема стихотворного языка». В свете «шпенглеровских» мест в «Разговоре о Данте» возникает предположение, что некоторые аналитические и повествовательные ходы мандельштамовской мысли восходят и к «Закату Европы». Так, рассуждения о взаимосвязи истории различных искусств (архитектуры, литературы, живописи, музыки, истории музыкальных инструментов) напоминают сознательное смешивание истории отдельных искусств и наук у Шпенглера. Эту константу (технику) мышления Шпенглера отмечал в своем рецензионном обзоре 1922 года Ф. Степун (2002: 330–331). Сама техника «упоминательной клавиатуры», возможно, восходит не только к Данте, но и к труду Шпенглера. Для мандельштамовской ars poetica точкой отсчета стал Данте, для Шпенглера им был Гете. Не исключено, что и Шпенглера Мандельштам начал перечитывать под воздействием своих гетевских штудий 1930-х годов.
Суммируя, можно отметить, что так же, как сам Данте, по словам Мандельштама, в «цитатной оргии» устраивает пробежку по всей «упоминательной клавиатуре» античности и средневековья (III, 220), Мандельштам для передачи особенностей дантовской поэтики и собственного восторга по этому поводу пробегается по «упоминательной клавиатуре» Нового, последантовского времени. Немецкая культура представлена художниками, учеными, поэтами, композиторами XVI–XIX веков. Для передачи монументальности дантовской «Комедии» Мандельштам напомнил искусствоведчески и музыковедчески подготовленному читателю слушательский и зрительский опыт переживания готики и органной музыки Баха, а для передачи сюжетно-фонетических особенностей 33-й песни «Ада» активировал этим литературно-музыкальным (и литературоведчески-музыковедческим) воспоминанием-напоминанием интеллектуальное и одновременно эмоциональное переживание немецко-русской баллады и музыки Брамса. Говоря об анатомизме дантовского языка, Мандельштам напомнил читателю опыты Парацельса и картину Дюрера, говоря о грамматике, — философию Канта. Деятели Нового времени оказываются не только в исторической, причинно-следственной зависимости от Данте. То, что произошло и было наработано в новоевропейских науке, литературе, искусстве, уже было заложено в дантовской «Комедии» — такова историческая легитимация кажущихся произвольными историко-культурных ассоциаций Мандельштама.
3.3.2. «Пульс толпы»: о функции немецких образов в «Восьмистишиях»
В 1933 году Мандельштам пишет «Восьмистишия», которые становятся идейно-поэтической лабораторией «темных» стихов второй половины 1930-х годов. В них и прямо и косвенно упоминаются немецкие культурные реалии. Начальный образ стихотворения «О бабочка, о мусульманка…» заставляет вспомнить мотылька из HP. Бабочка-мусульманка, которая «жизняночка и умиранка» (III, 77), — вариация гетевско-гафизовского образа моли-мотылька, летящего на губительно-живительный огонь. Образ косвенно подтверждает актуальность гафизовских ассоциаций при создании HP и стихов об Армении[331].
В восьмистишии «Шестого чувства крошечный придаток…» вторая строфа начинается строкой «Недостижимое, как это близко» (III, 77), в которой слышатся лексико-смысловые переклички с зачином стихотворения «Патмос» Ф. Гельдерлина: «Nah ist / Und schwer zu fassen der Gott» («Близок и недостижим [непостижим] Бог», Hölderlin 1953: 173). Невозможный в эстетике начала 1930-х годов «недостижимый Бог», вероятно, превратился в сознании Мандельштама в безлично-абстрактное «недостижимое». По свидетельству вдовы поэта (Н. Мандельштам 1999: 288), Гельдерлин появился в библиотеке Мандельштама как раз в начале 1930-х годов. Мы не берем на себя смелость обозначить гимн Гельдерлина как подтекст. Факт знакомства Мандельштама с Гельдерлином, к сожалению, не поддается детализации, и поэтому окончательной уверенности у нас нет.
В «Восьмистишиях» появляются и герои московских стихов 1931–1932 годов — Шуберт, Моцарт и Гете:
И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме, И Гете, свищущий на вьющейся тропе, И Гамлет, мысливший пугливыми шагами, Считали пульс толпы и верили толпе. («Восьмистишия», III, 78)Присутствие Шуберта в списке тех, которые «считали пульс толпы и верили толпе», мотивировано, с одной стороны, ассоциацией с общей тягой немецкого романтизма, олицетворением которого для Мандельштама был Шуберт, к народной стихии (синтез народной и литературной песни в творчестве Шуберта); с другой стороны, конкретной контекстуальной привязкой Шуберта к московским гуляниям (Парк культуры и отдыха. Нескучный сад) в стихотворении «Там, где купальни, бумагопрядильни…» (1932), где «играют Шуберта в раструбы рупоров» (III, 61). Речной пейзаж стихотворения, связанный с центральной водной образностью «Прекрасной мельничихи» и других песен Шуберта, по-видимому, вызвал привязку романтического композитора к воде в «Восьмистишиях». Но Шуберт находится на воде и по подтекстуальным причинам: в немецком оригинале знаменитая шубертовская «Баркарола» на стихи Л. Штольберга называется «Auf dem Wasser zu singen» — «петь на воде»: Мандельштам «соединил имя композитора с началом… названия одного из самых популярных его сочинений» (Кац 1991а: 69). Не менее вероятен и отсыл к рефрену песни «Das Wandern» («Скитание»), которым открывался цикл «Прекрасная мельничиха»: троекратно повторенное das Wasser — «вода»[332].
Появление Моцарта среди тех, кто прислушивается и доверяется голосу масс, содержит намек на разножанровость творчества Моцарта, писавшего музыку и для церкви, и для двора, и для простонародных опереточных театров, например «Волшебную флейту», аллюзию на которую представляет собой «птичий гам»[333]. «Птичий гам» связывается в первую очередь с птицеловом Папагено из «Волшебной флейты». По убедительному предположению Б. Каца (1991а: 69), Мандельштам был знаком с книгой В. Д. Корганова «Моцарт» (1909b), где описано, что Моцарт держал у себя дома певчих птиц[334].
Отдаленная метонимическая привязка Моцарта к «птичьему гаму» просматривается и в связи с «птичьим воздухом» квартиры Парнока (II, 468), упоминание «птичьего воздуха» следует сразу же после сюрреалистического описания смерти Бозио, в которой «участвовал» Моцарт (II, 467). Характерно и то, что в стихотворении «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето…» Мандельштам связал Моцарта с «воробьиным хмелем» (III, 54). Предположителен и отдаленный намек на сцену с трактирным скрипачом в «Моцарте и Сальери» Пушкина.
В одном из вариантов первого стиха было: «И Моцарт на воде, и Шуберт в птичьем гаме». Такая перестановка показалась Ш. Симонеку доказательством того, что Моцарт для Мандельштама лишь заменимый («austauschbar») пример художника (Simonek 1993а: 16). Мы не согласны с мнением австрийского исследователя. Перестановка в одном из вариантов была вызвана не безразличием к Шуберту и Моцарту, а, как мы полагаем, желанием затемнить текст: мандельштамовская поэтика 1930-х годов предполагала сознательное усложнение образности, пропуск смысловых звеньев. Не случайно в основном варианте Мандельштам вернул Моцарту «птичий гам», а Шуберту — воду. Отказ от «перестановочного» варианта происходил, по всей вероятности, и по идейным соображениям. Излишнее затемнение смысла дискредитировало бы внетекстовую, интеграционную интенцию стихотворения: желание приблизиться к нуждам и чаяньям советского народа.
Если в HP Гете выступал наряду с другими немецкими поэтами одним из образцов этико-поэтической независимости, то в «Восьмистишиях» Мандельштам, ищущий пути выхода из обнажившегося противоречия между собственными поэтическими поисками и вкусами и чаяниями советского народа, включил Гете в список тех художников, которые «считали пульс толпы и верили толпе». Согласно высказыванию Мандельштама 1935 года, Гете в Италии «так непрерывно, так щедро, так искрометно радовался… популярности и заразительности искусства, близости художников к толпе, живости ее откликов, ее одаренности, восприимчивости», Гете «претила отгороженность искусства от жизни» («Молодость Гете», III, 298). Гете — авторитетный пример близости художника и «толпы». «Народническая» контекстуализация Гете имеет в русской эстетической мысли давнюю традицию. Среди актуальных для Мандельштама примеров укажем лишь на монолог «Писателя» в «На пиру богов» С. Н. Булгакова из нашумевшего сборника «Из глубины»: «Надо иметь мудрое благостное сердце, чтобы созерцать красоту стихии народной. Гете знал эту тайну, а уж его ли надо учить эстетическому мерилу жизни. Вспомните Фауста среди народа на прогулке с Вагнером, этот великолепный монолог: „Vom Eise befreit sind Strom und Bäche“» (Булгаков 1991: 334). Характерны не только переклички топики меры у С. Булгакова и О. Мандельштама, но и выбранный пример: фаустовская сцена «У ворот», которую Мандельштам тематизировал в стихотворении «Сегодня можно снять декалькомани…». Напомним, что в сборнике «Из глубины» после статьи С. Н. Булгакова следует статья Вяч. Иванова «Наш язык», с которой, по нашему предположению, Мандельштам спорил в «Вульгате». Факт знакомства Мандельштама с текстом С. Н. Булгакова — более чем вероятен[335].
Гете, «свищущий на вьющейся тропе», — Гете в Италии, Гете «Итальянского путешествия», с которым отождествляет себя Мандельштам. Во время работы над стихотворением Мандельштам писал «Разговор о Данте», перенося на Данте собственные поэтические установки. Во второй главе своего эссе он говорит о странствиях Данте «по козьим тропам Италии» (III, 219). Так в сознании Мандельштама, много путешествовавшего пешком по горным тропам Армении, образ бродящего по Апеннинам Гете наложился на Данте. Не исключено, что и Гамлет, замыкающий четверку (Шуберт, Моцарт, Гете), возник благодаря Гете. Напомним, что с Шекспиром Мандельштам познакомился в детстве в немецком переводе: Шекспир, идеал «Бури и натиска», стоял на одной полке с немецкими классиками в семейной библиотеке (II, 356)[336].
Данное четверостишие, в котором лирический герой (поэт) заручается поддержкой, своего рода поручительством близких ему деятелей искусства, не игнорировавших вкусы и чаяния народа, вписывается в тематическую традицию, в центре которой находится стихотворение Пушкина «Поэт и толпа». С одной стороны, Мандельштам подтекстуально полемизирует с Пушкиным, у которого поэт не потакает вкусам «тупой черни» (1957: III, 87); с другой стороны, сам выбор слова «толпа» («пульс толпы») с его негативным общеупотребительным и литературным потенциалом частично нивелирует предпринятую попытку интеграции. Выбор немецких художников как контраргумент Пушкину исторически оправдан: Пушкин с большим скепсисом относился к «германским увлечениям» своих младших современников.
Для нашей темы важно, что Мандельштам в качестве прецедентов чуткости художника к эстетическим навыкам «простого народа» называет четыре имени, три из которых немцы. Стихи были написаны в конце 1933 года, когда немецкие литературно-музыкальные увлечения, доминирующие в стихотворениях 1931–1932 годов, отходили в прошлое. 1933 год прошел под знаком итальянцев — Данте, Ариосто, Тассо. Тем не менее Мандельштам обратился именно к немецким «поручителям». Не исключено, что это связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, в 1933 году главной темой политических прений и разговоров был приход к власти национал-социалистов. В 1933 году Мандельштам в разговоре с Липкиным косвенно провел параллель между Гитлером и Сталиным, советским строем и фашистским режимом (Липкин 1994: 31). Другое обстоятельство напрямую связано с семантическими константами немецкой темы в творчестве поэта. Амбивалентность семантического поля «немецкого» подходила для противоречивого решения Мандельштама вслушаться в искомый, но и устрашающий «пульс толпы», или, говоря словами мандельштамовского перевода из Бартеля, «органный голос масс».
3.3.3. Мотив альпийского путешествия: А. Белый
Памяти А. Белого был написан цикл «Стихов памяти Андрея Белого». «Мудрецов германских голоса» (III, 83) намекают на увлечение Белым немецкой философией. 5-е стихотворение цикла — «А посреди толпы, задумчивый, брадатый…» (III, 85) — в первом варианте стихов памяти Белого отсутствовало и, скорее всего, примыкало к «Восьмистишиям». На это указывает метрическая эквивалентность (6-стопный ямб) со стихотворением «И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме…», которое Мандельштам закончил в том же январе 1934 года. Ритмические совпадения сопровождаются лексическими: вновь появляется топика толпы. «Толпа» присутствует и в одном из вариантов третьего стихотворения цикла: «Ему (А. Белому. — Г.К.) Кавказские кричали горы / И нежных Альп стесненная толпа» (Мандельштам 1995: 492). «Нежные Альпы» — намек на швейцарское паломничество Белого к Р. Штейнеру.
Для темы нашего исследования особый интерес представляет «толпа». «Толпа» паронимически заменила «тропу». Логичней было бы: «И нежных Альп стесненная тропа…» У этой замены не только фонетическое оправдание (толпа — тропа, толпа — Альп), но и подтекстуальное, связанное с немецкой темой: в стихотворении «И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме…»: «толпа», к пульсу которой прислушивались немцы Шуберт, Моцарт, Гете, — рифмовалась с «тропой», по которой путешествовал Гете по Италии («И Гете, свищущий на вьющейся тропе…»).
Образ А. Белого, гуляющего по швейцарским Альпам, сопряжен с образами Гете, путешествующего по Италии, странствующего Данте, Карамзина и Тютчева, путешествующих по Альпам[337]. А. Белый, вслед за Чаадаевым, Герценом, Тютчевым, Карамзиным, — очередной персонаж мандельштамовского культурософского метасюжета «паломничества» на Запад. Внутренняя логика мандельштамовского стиха работала как по сходству на уровне мотивов (хождение по тропам Альп — Италии — Швейцарии), так и по смежности: Тютчев — Карамзин — Белый — деятели русской культуры, приобщающиеся к Европе, представленной как «историческая земля Канта и Гете» и локализованной в альпийском пейзаже. Ход мандельштамовских культурологически-поэтических ассоциаций можно проследить и далее: от карамзинских Альп намечается ход к Э. X. Клейсту — персонажу стихотворения «К немецкой речи», одним из героев которого был Гете. В стихотворении «К немецкой речи» описывалось бегство на Запад, в Германию. Еще один возможный ход — через Тютчева: альпийский путешественник Тютчев — проводник и переводчик Гете, одного из объектов рефлексии Белого[338]. Скорее всего, именно чрезвычайная сгущенность вышеуказанных метонимических ходов из одного мотивного комплекса в другой, объединенных немецкой темой, и руководила цепью мандельштамовских ассоциаций и связанными с ними поэтическими решениями.
3.3.4. Немецкая тематика в гражданской лирике второй половины 1930-х годов
3.3.4.1. Политический фон покаянных «Стансов» (1935)
Стихотворениями 1932 года, в первую очередь обращением HP, Мандельштам вновь обрел чувство личной свободы и значимости. В 1933 году он стал очевидцем голода на Украине и в Крыму. Впечатления от увиденного легли в основу стихотворения «Холодная весна…», в котором в некрасовской традиции описывается трагедия коллективизации Украины и Крыма. Как реакция на попытки приручения и травлю пишется «самоубийственное» стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны…». Согласно М. Гаспарову, «эпиграмма», направленная «не против режима, а против личности Сталина, должна была вернее всего привести поэта к подвижнической гибели» (1995: 360). В мае 1934 года Мандельштама арестовывают, но искомой казни не происходит. Поэта отправляют в трехлетнюю ссылку в Чердынь. В июне этот и без того мягкий приговор пересматривается и заменяется ссылкой в Воронеж. Измученный следствиями и пересылками Мандельштам — душевно болен. В Воронеже происходит переосмысление помилования:
«Несостоявшаяся смерть ставила Мандельштама перед новым этическим выбором, а благодарность за жизнь предопределяла направление этого выбора. <…> Ключевые стихи Мандельштама воронежских лет — это стихи о приятии: сперва режима, потом вождя» (Гаспаров 1995: 361).
Важнейшей вехой на трудоемком пути приятия советского строя являются «Стансы», написанные весной 1935 года, в которых Мандельштам осуждает «нелепую затею» эпиграммы и пытается слиться с исторической волей советского народа[339]. Одно из звеньев слияния — приятие тем, волнующих народ; среди них — отпор немецкому фашизму.
1935 год — год борьбы крепнущего и становящегося все более агрессивным национал-социалистического режима со своими внутренними критиками и противниками — социалистами и коммунистами, которых поддерживал Советский Союз[340]. В марте 1933 года Гитлер ввел всеобщую воинскую повинность, рейхсвер переформируется в вермахт (евреи до воинской службы в вермахте не допускаются). Этим актом Гитлер на законодательном уровне нарушил условия Версальского договора, до этого нарушавшиеся негласно. Гитлеровская Германия открыто демонстрирует агрессивность своих намерений. Ситуация накаляется. В Москве на всех парах идет подготовка VII Конгресса Интернационала, центральная тема которого — отпор фашизму. Главный докладчик — Георгий Димитров, которого на Конгрессе изберут генеральным секретарем Коминтерна, свидетель и участник немецких событий 1933 года (оправдан на процессе по поджогу Рейхстага). Осенью 1935 года Мандельштам должен был даже писать приветствие Коминтерну на немецком языке, судя по всему для воронежского радио (ср. Герштейн 1998: 158). По следам Конгресса Коминтерна в октябре 1935 года пройдет так называемая «Брюссельская конференция», на которой В. Пик будет избран председателем компартии Германии в изгнании (Э. Тельман — в тюрьме с 1933 года). В Париже в марте 1935 года организуется съезд писателей в защиту культуры от фашизма[341]. Антифашистскими стихами была наводнена советская пресса[342].
В качестве иллюстрации к антинемецкому пафосу общественных настроений 1935 года, которыми проникнуты «Стансы» Мандельштама, приведем обзор статей, помещенных в «Правде» в конце апреля — начале мая 1935 года, непосредственно перед написанием «Стансов», в которых нашли отражение актуальные политические события. В каждом номере «Правды» на международной, 5-й странице печатаются не только заметки и сводки из Германии, но и крупные статьи, посвященные «немецкой» угрозе. 20 апреля выходит статья берлинского корреспондента «Правды» «Создание массовой армии в Германии». 21 апреля происходит публикация воззвания коммунистических партий европейских стран «Против военных провокаций». 22 апреля «Правда» публикует заметку «Германские пролетарии против фашизма» и статью, посвященную двадцатилетию первой газовой атаки, осуществленной Германией во время Первой мировой войны. 23 апреля на первой странице «Правды», сразу же под девизом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» печатаются первомайские лозунги. Среди них и касающиеся Германии: «Революционным пролетариям Германии братский привет! Да здравствует героическая коммунистическая партия Германии! Да здравствует товарищ Тельман! Вырвем его из рук фашистских палачей!». В том же номере «Правды» на международной, 5-й странице — сообщение: «Германия заготовляет военное сырье». В следующем номере от 25 апреля выходят сразу три статьи, касающиеся Германии, — «Господин Розенберг под защитой закона», «Валютные затруднения Германии» и «Германский флот — угроза Англии». В номере от 26 апреля — статья «Вооружения германского фашизма» с плакатом из первомайских лозунгов «Вырвем тов. Тельмана из рук фашистских палачей».
Номер от 27 апреля открывается статьей «Европейские державы и Германия», а на шестой странице — заметки об очередных «арестах германских коммунистов». 28 апреля — «Германия строит подводный флот» и «Убийство коммунистов в Германии». 29 апреля, на первой странице — «Строительство подводного флота в Германии». Тема вооружения Германии — постоянная в «Правде» весной 1935 года. В том же номере — статья «25 аэродромов в Германии» и «Инсценировка „национального подъема“ в Германии», посвященная «празднованиям» (кавычки «Правды». — Г.К.) Первомая в «Третьей империи» (кавычки «Правды». — Г.К.).
30 апреля, накануне первомайских праздников, на первой странице публикуется воззвание Исполкома Коммунистического Интернационала с призывами к борьбе против «фашизма и угрозы империалистической войны». На третьей странице — заметка «Массовые аресты в Германии», а на пятой странице — три статьи, прямо или косвенно освещающие события в Германии: «Германские вооружения — угроза Лондону», «Террористические акты национал-социалистов за границей» и «Собачья жизнь» — о Берлине накануне Первомая. 1 мая выходит статья О. Пятницкого «Новое в международном рабочем движении»; это «новое» — отпор германскому фашизму. Статья снабжена рисунком, на котором изображен немецкий пролетарий «под фашистским кнутом»; в том же номере статья Карла Радека «Голова в пасти льва» и заметка «Шесть германских подводных лодок спущены на воду».
1 мая 1935 года по всей стране проходят военные парады, демонстрирующие готовность СССР отразить возможную фашистскую агрессию. Статьи о немецкой военной угрозе создают фон, на котором особую актуальность получает вопрос о франко-советском пакте, призванном укрепить коллективную безопасность в Европе: в апреле — мае интенсивно, с перерывами и межправительственными консультациями идут переговоры между наркомом иностранных дел М. М. Литвиновым и французским премьер-министром П. Лавалем; вечером 2 мая 1935 года, после многонедельных прений и консультаций, был подписан Договор о взаимопомощи, о чем сообщали советские источники информации, газеты и радио[343].
3.3.4.2. Две Лорелеи
Согласно свидетельству современника (Липкин 1994: 31), за политическими событиями в Германии Мандельштам следил по крайней мере с 1933 года. О теме солидарности с Германией ему писать было легче, чем о какой бы то ни было другой: за спиной был опыт бартелевских переводов, в которых многократно тематизировалось немецко-русское революционное братство. В первомайской атмосфере антифашистской пропаганды Мандельштам и пишет «Стансы», в шестой строфе которых касается актуальных событий:
33 Я должен жить, дыша и большевея, 34 Работать речь, не слушаясь — сам-друг, — 35 Я слышу в Арктике машин советских стук, 36 Я помню все: немецких братьев шеи 37 И что лиловым гребнем Лорелеи 38 Садовник и палач наполнил свой досуг. («Стансы», III, 96)«Немецкие братья» (ст. 36) — коммунисты, жертвы гитлеровского режима, с которыми вся страна демонстрирует солидарность. Как всегда, Мандельштам опирается на свои интертекстуальные ресурсы: воспоминание о немецко-русском братании в стихах и переводах начала 1920-х годов. Клятва памяти и верности «немецким братьям» («я помню») перекликается со стихом HP «Я вспоминаю немца-офицера». Метонимически и метафорически в число «немецких братьев» включаются и немецкие «друзья»-поэты из обращения HP. Выражение «сам-друг» (ст. 34) и «неправильное» выражение «работать речь» (34) отсылают к топике «чужой речи» в HP.
«Садовник и палач» (ст. 38) — Гитлер. Палач (обычно во множественном числе) — постоянное обозначение национал-социалистов в советской прессе 1935 года[344]. Гитлер — садовник: фюрер принимал участие в первомайских мероприятиях по посадке деревьев. В то же самое время образ садовника может иметь и сталинские корни. 29 апреля 1935 года, непосредственно перед написанием «Стансов», «Правда» выбирает одним из девизов номера выделенные крупными буквами, набранные вверху страницы, слова Сталина: «Людей надо выращивать заботливо и внимательно, как садовник выращивает облюбованное плодовое дерево»[345]. Не исключено, что эти слова Сталина многократно цитировались и по радио.
Тема казни немецких братьев (ст. 36–38) подается при помощи разработанного в «Декабристе» образа губительной Лорелеи. По мнению И. Месс-Бейер, «то, что объединяет Лорелею „Египетской марки“ с Лорелеей „Стансов“ — это их (имеющая мифологические корни) сопричастность палачеству» (1991: 277). В качестве примера исследовательница приводит сцены самосуда в Фонтанке-ундине-Лорелее из «Египетской марки». В одном из черновиков «Стансов» Лорелея названа «проклятой» (Мандельштам 1995: 493). Метафорика казни усиливается за счет «устрашающей» рифмы: шеи — гребень Лорелеи. Гребень Лорелеи выступает орудием казни, топором палача Гитлера. В поэтическом мире Мандельштама синонимической метонимией казни всегда выступают предметы, связанные с отрубанием головы, — например, «топорище» и «мерзлые плахи» в стихотворении «Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма…». И даже в стихотворении «Умывался ночью на дворе…» расстрел Гумилева преподносится в «топоровой» образности.
Актуальный политический фон: в конце 1934 года утес Лорелеи на Рейне нацисты объявляют тингом — местом древнегерманских сборищ и судилищ (Thingstätte). В связи с этим обращает на себя внимание лексическая близость «гребня Лорелеи» с выражением «гребень горы»: Лорелея — метонимия рейнского утеса Лорелеи.
Возможный подтекстуальный ресурс мандельштамовской рифмы с «шеей» (Лорелеи — шеи) — стихотворение Пушкина «Из Пиндемонти»: «…для власти, для ливреи / Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи» (1957: III, 369). Звуковая связь «ливреи» и «Лорелеи» — паронимическая ослышка, очень вероятная для Мандельштама 1930-х годов. Масла в огонь интерпретаций покаянных (или эзоповых) «Стансов» подливает и возможная мотивировка реминисценции «Из Пиндемонти». Как и «Стансы» Мандельштама, пушкинское стихотворение тематизирует независимость поэта «от царя» (в цензурном варианте — «властей») и «народа». Для Мандельштама, в отличие от Пушкина, актуальной становится именно связь с народом. Здесь мы наблюдаем продолжение начатого в «Восьмистишиях» подтекстуального спора с Пушкиным: там Мандельштам, заручившись авторитетом Шуберта, Моцарта и Гете, слушал «пульс» ненавистной Пушкину толпы. Помимо этого Мандельштам полемически сталкивает пушкинские «интеграционные» «Стансы» и «сопротивленческое» «Из Пиндемонти». У самого Пушкина в подтекстах «Из Пиндемонти», возможно, присутствует «Изображение Фелицы» Державина. Стихотворения связаны не только идейно-тематически (поэт, народ, власть), но и рифменно: ср. державинскую «шею» в рифменной позиции (1958: 65). Как было показано ранее, державинское стихотворение «Фелица», продолжающее тему «Изображения Фелицы», присутствовало в подтекстах Н Р.
Еще один возможный подтекст — стихотворение «Германия» Н. Тихонова: «Но уже кровью пьяны Лорелеи, / Хрипя на площадях о том… <…> Кричат в ушах стальные Лорелеи, / Германский хмель…» (Тихонов 1958: 88). У самого Тихонова Лорелея — из мандельштамовских стихов 1917 года. Ср. тихоновское «на площадях» с мандельштамовским «Когда на площадях и в тишине келейной…». В качестве одного из подтекстов указывались уводящие к Пушкину примиренческие «Стансы» С. Есенина (Хазан 1991: 56; Ронен 1994: 194), с которыми «Стансы» Мандельштама связаны не только названием, но и ритмико-лексически (ср. Есенин 1990: 296–298)[346]. Со своей стороны отметим, что внешним толчком к актуализации есенинских подтекстов в сознании Мандельштама послужила, по-видимому, десятая годовщина смерти Есенина. Тот факт, что Есенин, автор «Стансов» (1924), покончил жизнь самоубийством, придает подтекстам мандельштамовских «Стансов» дополнительный драматизм и оксюморонность. Убийственно-самоубийственной оказывается не только подготовленная HP антисталинская эпиграмма 1933 года, но и, теперь уже себе противоречащая, губительная попытка примирения и интеграции.
Самый главный мандельштамовский контекст «шеи» — стихотворение «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето…»:
Пора вам знать, я тоже современник, Я человек эпохи Москвошвея… <…> Попробуйте меня от века оторвать, — Ручаюсь вам — себе свернете шею! («Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето…», III, 53)В этом стихотворении Мандельштам отвечает тем, кто пытается оторвать его от современности и записать в старорежимные поэты: Мандельштам заявляет себя полноценным участником новой действительности. Идейная направленность этих стихов сходится с волевой установкой на интеграцию в советскую современность в «Стансах». Там в качестве примера современности был взят «Москвошей», в «Стансах» — подвиги полярников и готовность к отпору фашистской угрозе.
Внутритекстуально метафорика «шеи» драматизируется дополнительно за счет звуковых отсылов к начальным строфам «Стансов»:
1 Я не хочу средь юношей тепличных 2 Разменивать последний грош души, 3 Но, как в колхоз идет единоличник, 4 Я в мир вхожу — и люди хороши. 5 Люблю шинель красноармейской складки — 6 Длину до пят, рукав простой и гладкий, 7 И волжской туче родственный покрой, 8 Чтоб, на спине и на груди лопатясь, 9 Она лежала, на запас не тратясь, 10 И скатывалась летнею порой. 11 Проклятый шов, нелепая затея, 12 Нас разделили. А теперь — пойми: 13 Я должен жить, дыша и большевея, 14 И, перед смертью хорошея, 15 Еще побыть и поиграть с людьми! («Стансы», 1995: 243–244)Знаменательны «шейные» паронимии в цепочке «юношей (ст. 1) — хороши (ст. 4) — шов (ст. 11) — большевея (ст. 13) — хорошея (ст. 14)», а также перекличка «проклятого шва» с «проклятым гребнем Лорелеи». Оксюморонность нарастает: «нелепая затея» эпиграммы легко оборачивается и «нелепой затеей» самих «Стансов».
Не до конца ясно, почему гребень Лорелеи — лиловый. Интертекстуальное объяснение: в мае 1935 года пишется стихотворение «Еще мы жизнью полны в высшей мере…». Размер стихотворения для Мандельштама редкий — 5-стопный ямб с женскими рифмами, в контекстуальном багаже которого — «Лютеранин» и HP. Последняя строфа стихотворения заканчивается образом «лиловых чернил»:
Еще стрижей довольно и касаток, Еще комета нас не очумила, И пишут, звездоносно и хвостато, Толковые, лиловые чернила. («Еще мы жизнью полны в высшей мере…», III, 97)Перспектива чумной кометы перекликается с отказом Мандельштама участвовать в «новых чумах» в HP. Чернила, которыми пишут «злые» звезды, — лиловые. Именно этот свет — у гребня Лорелеи в «Стансах». Но существенно и различие: «толковые чернила» — скорее добрые, чем злые[347].
Почему Мандельштам остановил свой выбор на лиловых чернилах, а не на синих или черных? Возможно, он еще помнил свой перевод из Бартеля: «Не чернилом водянистым / Я пишу — а красной кровью» (II, 164). Чернила — кровь, писать — жить. Лиловые чернила являются в данном случае дальнейшей метафоризацией идиомы «писать кровью»[348].
В «Декабристе» мотив Лорелеи появляется на фоне багряных сумерек свободы. Лиловый — цвет кровавого заката старого мира и революции. О метонимически-ассоциативной связи гребня Лорелеи с революцией свидетельствует образ гребня. О гребне революции Мандельштам говорил в связи с Бартелем и Барбье в предисловии к стихам немецкого поэта[349]. Среди отдаленных подтекстов — «лиловые миры» из статьи Блока «О современном состоянии русского символизма» (1962: V, 427). И. Месс-Бейер указывает на другие случаи употребления слова «лиловый» в поэзии Блока: «„магический лиловый свет“ у Блока — символический свет поэзии» (1991: 367, прим. 61). Исследовательница точно подметила лексическую перекличку немецких «братьев» с мандельштамовской характеристикой Блока как «русского романтика, умудренного германскими… братьями» (Месс-Бейер 1991: 366, прим. 61). Со своей стороны добавим, что актуальность блоковских ассоциаций еще отчетливее подтверждается реминисценцией: «Я помню все» — парафраза ритмически идентичной блоковской словоформулы «Мы любим все: парижских улиц ад…», которую Мандельштам цитировал в своих статьях (II, 238, 253). Характерно для гражданской лирики 1930-х изменение смысла блоковских слов: у Блока (и Мандельштама в 1922 году) это воспоминание и «торжественная клятва» верности европейской культуре (Париж французской поэзии, Венеция, готические громады Кельна), у Мандельштама 1935 года на место культурного наследства вступают актуальные политические события. Культурные ассоциации (Лорелея) — вспомогательны, косвенный укор Гитлеру, использующему культуру на потребу своей националистической политике.
Параллельно Мандельштам пишет темное стихотворение «Железо», где фоносемантическое поле «железа» паронамастически обрастает «воздухом», «грезой», «жизнью на зависть», «завязью» и «поэзией» «в железе, слезящейся в родовом разрезе» (III, 96). Родовой разрез поэзии подхватывает как на мотивном, так и на фонетическом уровне тему разрезания жил из наброска «Это я. Это Рейн. Браток, помоги…». В беседе с автором данной работы М. Л. Гаспаров осторожно указал на возможность иконографического подтекста: раскрашенные фотографии-плакаты советских гидростроев, особенно Днепрогэса, на которых лиловые гребни дамб похожи на гребень с волосами. В подтверждение гаспаровской гипотезы укажем на то, что образ разрезания жил в соку можно истолковать как образ гидроэлектростанции, разрезающей реку[350].
Тематически к «Стансам» примыкает и уже упоминавшийся труднодатируемый отрывок (или даже черновик) апреля — мая 1935 года:
Это я. Это Рейн. Браток, помоги — Празднуют первое мая враги. Лорелеиным гребнем я жив, я теку Виноградные жилы разрезать в соку. (1995: 493)В апреле 1933 года Гитлер объявил — с советской точки зрения кощунственно — 1 Мая, День трудящихся. Праздником национального Труда (Feiertag der nationalen Arbeit) (Kammer / Bartsch 1992: 65). A 2 мая 1933 года были произведены обыски и аресты членов профсоюзов, что вызвало лавину негодования советской общественности. С 1934 года Первое мая празднуется в Германии как Национальный праздник германского народа (Nationaler Feiertag des deutschen Volkes). В наброске происходит разработка темы русско-немецкого или, точнее, советско-немецкого братства: «браток» — еще более народная, коллоквиальная форма «брата», связанная с «немецкими братьями» в «Стансах». Отрывок выстраивается как запутанный диалог или внутренний монолог поэта с немецкими братьями.
Стих «Лорелеиным гребнем я жив» синонимичен концовке HP: «Но ты (бог Нахтигаль. — Г.К.) живешь, и я с тобой спокоен». Лорелеин гребень, бывший в «Стансах» орудием казни «немецких братьев», во фрагменте «Это я. Это Рейн…» оксюморонно становится символом и метонимией поэзии. Лорелеину гребню Гитлера (и, может быть, Сталина) в «Стансах» противопоставляется гребень Лорелеи как символ поэзии, которым «жив» Мандельштам. Такие взаимоисключающие семантические развязки образа, бывшие для раннего Мандельштама редкостью, в 1930-е годы становятся нормой. Мандельштамовская поэтика 1930-х годов — поэтика двойчаток и взаимоисключающих смыслов. В рамках немецкой темы достаточно вспомнить порицание Лютерова упрямства в стихах 1913 года, признание заслуг Лютера-переводчика в «Заметках о поэзии» и заимствование немного переиначенной лютеровской формулы «Здесь я стою, и нет со мною сладу…» в черновиках HP. В 1930-е годы фразы становятся еще более текучими, перекочевывая из стихотворения в стихотворение и, в зависимости от контекста, меняя свой смысловой потенциал до противоположного. В случае Лорелеи оксюморонность была во многом заложена изначально: в «Декабристе» Лорелея — историко-мифологический символ роковой гибели и историко-литературно оправданная часть заклинательной формулы единства России и Германии, вызывающая литературные ассоциации (русская и немецкая романтика) и исторические воспоминания (Рейнский поход 1813–1815 годов).
Используя слова Л. Гинзбург (1999: 454) об «Оде» Сталину 1937 года применительно к 1935 году, можно отметить, что «Стансы» 1935 года явились не «камуфляжем», а «самовоспитанием». Обращение к актуальным «немецким» событиям если и не закономерно, то объяснимо: немецкая тема Мандельштаму была близка, в ней к 1935 году существовали метафорические и мотивно-тематические заготовки, которые поэт и использовал в новой ситуации[351]. Оксюморонная семантическая нагруженность образов Рейна и Лорелеи идеально подходила для передачи той двоякой ситуации, в которой оказался Мандельштам после «помилования»: палаческой Лорелее властей противостоит Лорелея как символ-талисман поэзии. Оксюморонность интертекстуальных коннотаций Лорелеи и других немецких образов из стихов апреля — мая 1935 года провоцирует и легитимирует двоякое прочтение палача-садовника. Таким образом, если обращение к немецкой образности в HP вывело Мандельштама на «положительные» немецкие качества (стойкость, бесстрашие), то в «Стансах» Мандельштам, используя и наращивая оксюморонный потенциал немецкой темы, вновь обратился к другому ее образно-семантическому арсеналу: к образу губительно-спасительного зова современности.
3.3.4.3. «Стихи о неизвестном солдате»
В завершение разбора немецких мотивов в «интеграционной» гражданской лирике позднего Мандельштама нам бы хотелось коснуться «Стихов о неизвестном солдате» (далее: СНС). О самом длинном и самом темном стихотворении Мандельштама — СНС — уже написано немало. Комментированием СНС занималась уже Н. Я. Мандельштам (1990а: 292–301; 1990b: 393–397). Поиск интертекстов и попытки интерпретации стихотворения продолжились в работах О. Ронена (1979), Ю. Левина (1979) и многих других ведущих мандельштамоведов[352]. Подлинной революцией в «солдатоведении» стали исследования по гражданской лирике позднего Мандельштама, проведенные М. Гаспаровым (1996). Гаспаров показал развитие агитационно-апокалиптической образности СНС от варианта к варианту. Ниже нам бы хотелось, не вмешиваясь в конфликт интерпретаций СНС, дополнить соображения Гаспарова примерами из немецкой темы.
Стихотворение Мандельштама представляет собой, с одной стороны, реквием по всем ровесникам и современникам поэта, рожденным в 1880–1890-е годы и погибшим в Первой мировой войне; с другой стороны, визионерский призыв к новой, последней войне против войн. В СНС Мандельштам продолжает антивоенную тему «Реймса и Кельна», «Зверинца» и ОВР[353]. Немецкая тема прочно связана у Мандельштама с военной и антивоенной, поэтому неудивительно, что в своих эсхатологических видениях он опирается на свой «немецкий» опыт.
Картины Апокалипсиса вызываются у Мандельштама перечислением знаменитых битв XIX–XX столетий: битвы народов под Лейпцигом, Ватерлоо, Верденом (1995: 500–501). Как было показано в предыдущих главах, русско-прусский поход против Наполеона неоднократно тематизировался в рамках немецкой темы («Декабрист», HP). Лейпцигская битва — часть Рейнского похода. Обращение к Наполеоновским войнам уже присутствовало в медитациях о военно-революционных событиях 1914–1917 годов. Тема чумы и войн в египетско-наполеоновской сюжетной ветке СНС перекликается с мотивом «новых чум и семилетних боен» из HP. Метонимическая ниточка ведет от Египта Наполеона к Аустерлицу в «Египетской марке». Там, в одном из набросков, Парнок должен броситься в «битву»: «Соленый ветер стратегической игры, ветер Иены и Аустерлица взвил его, как отклеившуюся от письма египетскую марку» (II, 571). В одном из вариантов СНС по смежности с наполеоновским и рейнским комплексом и появляется «огонек Аустерлица» (1995: 501). Стих «Хорошо умирает пехота» — связан, возможно, и с мотивом смерти X. Э. Клейста из HP. В контекстах мотива воскресения воинов после чистилища последней войны — чистый рейнвейн Валгаллы. Валгалла — рай воинов, рейнвейн метонимически связан с Лейпцигом и Наполеоновскими войнами. Чистое вино рейнвейна («Когда на площадях и в тишине келейной…») — необходимое безумие, сумасшествие, опьянение, которое призвано отрезвить: явны параллели к оксюморонной мотивировке «последней войны»[354].
Аустерлиц, Лейпциг, Ватерлоо — предвестники Вердена, ставшего уже во время Империалистической войны символом бессмысленного братоубийства. Сам Мандельштам во время Первой мировой с задачей написания «военных» стихов не справился. Об этом свидетельствует невключение Мандельштамом военных стихотворений («В белом раю лежит богатырь…», «Реймс и Кельн», «Немецкая каска», «Polacy!») в свои последующие издания. Но опыт «Зверинца» пригодился при написании ОВР, так же как и СНС, призывно тематизирующих мировую войну за мир. Но настоящим опытом поэтического изображения событий Первой мировой для Мандельштама стали переводы 1920-х годов. Поэтому неудивительно, что, вернувшись к теме Первой мировой в свете будущей мировой войны, Мандельштам в процессе написания СНС вспомнил о своих переводах из Бартеля и Толлера. С темой Вердена, присутствующей в образной ткани СНС, Мандельштам поэтически впервые столкнулся при переводе бартелевского «Вердена» (II, 180–182), с его окопами и ядами, которые инсталлируются в апокалиптический мир СНС. Само название «Стихов о неизвестном солдате» уходит корнями к бартелевскому стихотворению «Неизвестному солдату», уже содержащему мотив оплакивания погибших. Видимо, перевод бартелевского стихотворения «Неизвестному солдату» (II, 173), ритмически близкого к «Выхожу один я на дорогу…», инициировал и лермонтовскую тему СНС. Характерна и мандельштамовско-бартелевская «Военная песня», с ее военно-антивоенным призывом: «Война, последняя война, / Неотвратим удар твой. / Благословим дыханье бурь, / Последний бой пред жатвой» (II, 180).
Определенную перекличку можно обнаружить между строкой СНС «Миллионы убитых задешево» (1995: 273) со 2-й картиной драмы Э. Толлера, где банкиры и маклеры играют на бирже, продают и покупают «человеческое мясо». Торги на военной бирже Первой мировой у Толлера перекликаются с оптовыми смертями в СНС. В одном из последних монологов толлеровской Женщины звучал укор тем, кто послал умирать миллионы на поля мировой войны: «Кто мясом человеческих мильонов / Кормил алтарь безумных вычислений?» (IV, 351). В пьесе Толлера есть герой, человек массы — «Безымянный» — возможно, тоже один из прототипов «Неизвестного солдата». В своей агитационной речи Безымянный говорит о необходимости последней войны («последнего боя»): «Бессодержательный я заменяю лозунг стачки, / Тяжелым, веским лозунгом — война, / И революции я открываю двери… Мощь против мощи» (IV, 324–325). После последней войны настанет «вечный мир» (IV, 326).
Актуализация пафоса Интернационала (Коминтерна) произошла в связи с гражданской войной в Испании. Здесь Мандельштам и вспомнил свой опыт стихов-переводов на военно-революционные темы. Тема последнего боя пересекается с мандельштамовским переводом Интернационала, который поют в «Человеке-массе» у Толлера (IV, 342). Заканчивая разбор интертекстов из немецкой темы в СНС, заметим, что Мандельштаму в 1937 году вновь пригодилась бартелевско-толлеровская антивоенная тема, более 10 лет пролежавшая в «запасниках» немецкой темы. В новой «социально-поэтической» ситуации Мандельштам вновь обратился к революционному пафосу боевого братства. Тема последней мировой войны поэтически развилась из мандельштамовских переводов Интернационала, из военно-революционных утопий, с которыми он поэтически познакомился при переводах Бартеля и Толлера. В 1937 году Мандельштам вновь вспомнил и воспел революционно-экуменическую утопию Интернационала, последний и решительный бой, который положит конец всем войнам и принесет долгожданный эсхатологический мир.
3.3.5. Идентификации и проекции в радиопьесе «Молодость Гете»
В Воронеже Мандельштам ищет заработка, пишет рецензии, дает литературные консультации, переводит, работает на радио. Весной 1935 года Мандельштамы начинают работу над радиопьесой «Молодость Гете»[355]. В своей радиопьесе Мандельштам пересказывает воспоминания Гете из «Поэзии и правды» и «Итальянского путешествия». По наблюдению вдовы поэта, звучащему как пересказ слов самого Мандельштама, в пьесе Мандельштам «подбирает эпизоды из жизни Гете, которые считает характерными для становления каждого поэта, поскольку и сам он пережил нечто подобное» (Н. Мандельштам 1990b: 199). Для нас в данной связи важна прослеживаемая с начала 1930-х годов идентификация Мандельштама с немецким классиком. Работу над радиопьесой Э. Герштейн метко определила как «монтаж о Гете» (1998: 103). Комментаторами Мандельштама уже были отмечены источники и разобраны временами дословные параллели с текстами Гете (Dutli 1991а: II, 273–276; Майерс 1994: 89–97). Поэтому в рамках нашей работы мы коснемся лишь тех мест текста, которые непосредственно касаются немецкой темы в творчестве Мандельштама.
Первый эпизод радиопьесы описывает Франкфурт до рождения Гете: свое повествование о Гете Мандельштам начинает с тех времен, когда, говоря словами HP, «еще о Гете не было известий». ВНР «купцы (отцы) зевали» — в «Молодости Гете» в первом эпизоде описывается купеческий быт Франкфурта, появляется и слово «купцы» (III, 281)[356]. Дом Гете строится на территории Конного рынка. Эту деталь Мандельштам включил в свое повествование, по-видимому, по ассоциации с HP, где во Франкфурте «кони гарцевали».
В четвертом эпизоде Мандельштам, описывая окружение отца Гете, рассказывает о встрече фон Рейнеке и фон Маляпорта, франкфуртских отцов-купцов:
«Молодежь (среди которой и юный Гете. — Г.К.) подметила в беседке накрытый стол, вазы с фруктами и графины с искрящимся мозельвейном. К несчастью, Рейнеке увидал прелестную гвоздику с опущенной головкой и тронул ее рукой. <…> И Рейнеке снова коснулся гвоздики. Мозельвейн унесли обратно в погреб» («Молодость Гете», III, 289).
Очевидны образные переклички с HP: беседка Маляпорта — «беседка виноградная», «мозельвейн» и «погреб», на месте розы HP — гвоздики. Таким образом, Мандельштам для воссоздания гетевского (предгетевского) биографического контекста пользуется арсеналом HP. Сцена с беседкой из клейстовских черновиков HP становится в радиопьесе частью образа «ожидания Гете».
Согласно воспоминаниям Н. Мандельштам (1990b: 199), в одном из утраченных эпизодов радиопьесы Гете поднимался на колокольню Кельнского собора. Кельнская тема была Мандельштаму знакома («Реймс и Кельн», «кельнские» цитаты из Блока). Скорее всего, поэт выстраивал параллель между своим переживанием готики и опытом Гете. Сохранившийся эпизод о Страсбурге связывается с готикой: описывая путешествие Гете по Заару, Мандельштам говорит о «стреловидных громадах готических соборов» (III, 294). Лексическая обработка темы реминисцирует словоформулы из собственных готических стихов: «башни стрельчатый рост» из стихотворения «Я ненавижу свет…» и «громады» — «священная громада» из «Реймса и Кельна». Конечно, Мандельштам помнил о том, что именно Гете назвал готику застывшей музыкой, по крайней мере по цитатам, — например, в степуновском пересказе мыслей Шпенглера (Степун 2002: 330).
Интересно, что среди многих литературных пристрастий, описываемых у Гете в «Поэзии и правде», Мандельштам выбрал те места, где Гете говорит о Клопштоке:
«Старика Клопштока называют божественным поэтом. Согласен. Он хорош уже тем, что не поглотил целиком древнегреческой колонны. Но поэма его — знаменитая „Мессиада“, пересказывающая Евангелие, так длинна, что понадобилось бы нанять носильщика, чтобы таскать ее с собой на прогулку. Речи святых персонажей усыпляют, как воскресные проповеди, но вдруг автор оживляется и обретает силу, огонь, краску, звучность. Бедный Клопшток! Он уже угадывает язык страстей, язык живой природы, — но слушать органную музыку и выжимать из себя слезы сорок восемь часов подряд! — Нет, спасибо» («Молодость Гете», III, 293).
Говорит Бериш, персонаж радиопьесы, но мы слышим Мандельштама. Что принимает и что отвергает в Клопштоке мандельштамовский Гете?[357] Клопшток — громоздок, его нельзя взять с собой на прогулку. Чтение предполагает, по Мандельштаму, определенную легкость, портативность поэтического материала. Клопшток утомляет как церковный орган, который невозможно слушать долго. Упрек Клопштоку родственен упреку Вагнеру в громоздкости в «Валкириях». В то же самое время Клопшток предчувствует, предугадывает грядущую стихию романтизма, его «язык страстей, язык живой природы». Здесь отсыл к страстям-страданиям того же «Вертера» и к натурфилософско-пантеистическому мирочувствованию романтиков. «Язык живой природы» — реминисценция из Тютчева («Не то, что мните вы — природа…»): «в ней (в природе. — Г.К.) есть язык» (Тютчев 2002: I, 169). Образ «старика Клопштока» перекликается и с «несговорчивым стариком» Бахом из одноименного стихотворения 1913 года, органная метафорика — с «баховской» топикой «проповеди». Таким образом, Клопшток вписывается в немецкую тему по нескольким каналам: немецкая поэзия, барокко (Бах), проповедничество.
Некоторые части «Молодости Гете» были утрачены. В потерянных или планировавшихся эпизодах Гете должен был встретиться с поэтом Клингером и «сумасбродом» Ленцем (III, 420). Интересно, что Мандельштам выделил именно эти встречи. Фридрих Максимилиан Клингер был выбран, по-видимому, не только по принадлежности к «Буре и натиску» — периоду жизни Гете, который Мандельштам многократно тематизировал[358]. По нашему предположению, не менее важным критерием выбора Клингера могла послужить и принадлежность «бурного гения» к русской культуре: Клингер с 1780 года жил в России, участвовал в антинаполеоновских войнах, дослужился до генерал-лейтенанта, был попечителем Дерптского университета[359].
Так, по-видимому, и выбор Якоба Ленца был также обусловлен его принадлежностью не только к «Буре и натиску», но и к русской культуре: Ленц был другом Карамзина. О нем Карамзин писал в «Письмах русского путешественника», через которые, как мы помним, Мандельштам вышел на Эвальда Христиана Клейста. Русской публике начала XX века о Ленце напомнила книга М. Н. Розанова (1901)[360]. Судьба и смерть Ленца могли заинтересовать Мандельштама. Ленц умер в сумасшествии и нищете в Москве, буквально под забором. В связи с этим напрашивается ассоциация со стихотворением «Это какая улица?..» о яме-могиле Мандельштама — стихотворение было написано в апреле 1935 года, в период работы над «Молодостью Гете».
В музыкальных вставках пьесы должна была звучать музыка немецких композиторов: «Времена года» Генделя и «Мельник» Шуберта. В радиопьесу вкраплены стихи самого Мандельштама, его переводы отдельных строк Гете и часть тютчевского перевода «Кто миру чуждым хочет быть…». Так, в этой радиопьесе, как и в HP, сплетаются различные немецкие мотивы и темы: поэтические и музыкальные. Тютчев выступает посредником, носителем этой немецкой романтической стихии.
Четверостишие «И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме…» Мандельштам включил в конец седьмого эпизода «Молодости Гете» (III, 295), где рассказывается о путешествиях Гете по Заарланду и Эльзасу. Здесь же упоминаются «цепи Вогезских гор» (III, 294). Но образ Гете, свищущего «на вьющейся тропе», легко вписывается и в «Итальянское путешествие» Гете. В связи с «гетевским» мотивом хождения по горам знаменательна и вставка эпизода, в котором сапожник подарил Гете «пару прочных, но некрасивых сапог» (III, 292). Другим композиционным решением оказывается введение Мандельштамом в музыкальные паузы «Молодости Гете» песен Шуберта. Тем самым проводится мысль об идейно-поэтическом родстве предромантики (ранний Гете) и романтики (Шуберт)[361].
В заметках вокруг «Молодости Гете» (III, 418) Пастернак, как и Гете, назван «человеком всепониманья»; Мандельштам же характеризует себя как «человека исключительного понимания». Запись интересна не только тем, что Мандельштам впервые прямо проговаривает связь и сходство пастернаковского и гетевского мироощущения, но и тем, что она представляет собой важный и единственный пример мандельштамовского дистанцирования от Гете: Мандельштам очерчивает границы своей идентификации с Гете. «Человек всепонимания» — намек на универсализм Гете (и Пастернака), в котором Мандельштам себе отказывает. Но почему и что значит эта исключительность понимания в противовес всепониманию? Исключительность предполагает и содержит экстремальность поэтического мышления. К 1935 году Мандельштам уже окончательно взял курс на дальнейшее усложнение образности, он продолжает работать в поэтике пропущенных смысловых звеньев и метафорических крайностей, выплескивающихся за рамки конвенциональной семантики. От «крайности» — один шаг к суперлативному толкованию исключительности как высшего проявления понимания. Полисемия слова «исключительный» затрудняет возможность окончательного ответа на этот вопрос. Для нас важно, что идентификация Мандельштама с Гете имела свои границы.
3.3.6. Немецкие литературно-музыкальные мотивы
Весной — летом 1935 года, одновременно с гражданской лирикой «Стансов» и радиопьесой «Молодость Гете», Мандельштам пишет ряд стихотворений, в которых продолжает и во многом суммирует композиторскую тему, начатую в музыкальных образах стихов первой половины 1930-х годов. Впечатления от концерта скрипачки Галины Бариновой 5 апреля и концерта 1 мая 1935 года легли в основу тематически и ритмически взаимосвязанных стихотворений «За Паганини длиннопалым…» и «Тянули жилы, жили-были…». Стихотворения уже были предметом обстоятельного музыковедческого комментария (Кац 1991а: 72–74), поэтому в своем разборе мы коснемся лишь тех текстовых элементов, которые связаны с немецкой темой:
1. За Паганини длиннопалым 2. Бегут цыганскою гурьбой — 3. Кто с чохом — чех, кто с польским балом, 4. А кто с венгерской чемчурой. 5. Девчонка, выскочка, гордячка, 6. Чей звук широк, как Енисей, 7. Утешь меня игрой своей — 8. На голове твоей, полячка, 9. Марины Мнишек холм кудрей, 10. Смычок твой мнителен, скрипачка. 11. Утешь меня Шопеном чалым, 12. Серьезным Брамсом, нет, постой — 13. Парижем мощно-одичалым, 14. Мучным и потным карнавалом 15. Иль брагой Вены молодой — 16. Вертлявой, в дирижерских франках, 17. В дунайских фейерверках, скачках, 18. И вальс из гроба в колыбель 19. Переливающей, как хмель. 20. Играй же на разрыв аорты, 21. С кошачьей головой во рту! 22. Три черта было, ты — четвертый, 23. Последний, чудный черт в цвету! («За Паганини длиннопалым…», 1995: 248)Если в HP Мандельштам искал самоутверждающего утешения в поэзии вообще и у немецких поэтов в частности, то в стихотворении «За Паганини длиннопалым…» — в музыке. Мандельштам просит «утешить» его музыкой Брамса, Шумана и обоих Штраусов[362]. Если Брамс и Шопен названы напрямую (ст. 11–12), то Шуман (ст. 13–14) и Штраусы (ст. 15–18) — косвенно, метафорически[363]. Б. Кац убедительно полагает, что метафорика этих двух «немецко-австрийских» строф во многом определена «названиями двух сочинений Шумана. Первое — это знаменитый „Карнавал“, посвященный Каролю Липиньскому (среди персонажей этого фортепьянного цикла появляются Паганини и Шопен)» (1991а: 74)[364].
Стихотворение «За Паганини длиннопалым…» сюжетно-тематически параллельно стихотворению «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа…», также описывающему впечатление от концерта. Там создавался метаобраз немецкой романтики, здесь — опьяненной музыкой Вены второй половины XIX — начала XX века. На смысловое родство обоих стихотворений указывает и «немецкая» рифма колыбель — хмель (ст. 18–19), примененная в обоих текстах. В рамках немецкой темы появлялись у Мандельштама и фейерверки (ст. 17). Метафорический ход «из гроба в колыбель» (ст. 18), перефразируя, выворачивает наизнанку побег в гроб «со страницы альманаха» в HP. В контексте стихотворения «вальс из гроба в колыбель» представляет собой «намек на композиторскую династию Иоганнов Штраусов» (Кац 1991а: 74).
Как и в стихотворении «Тянули жилы, жили-были…», метафорика подкрепляется паронимической игрой словами: «чох — чех» (ст. 3): вероятность читательской ослышки становится конструктивным элементом поэтики. Фонетическими вариациями шипящих с их ореолом польскости (славянскости) Мандельштам «ономатопоэтически» передает игру-«горячку» «полячки» (ст. 8). Для темы нашей работы важна в данном случае «чемчура» (ст. 4), в которой слышится не только смесь «чуши» с «мишурой» и своего рода «конспект» фразеологизма «чем черт не шутит», угадываемый в доминирующей «чертовской» метафорике обоих стихотворений, но и паронимические возможности «чемчуры». В общем немецком композиторском контексте стихотворения в «чемчуре» угадываются «немчура» и «чума», пришедшие, по-видимому, по метонимическому родству немецкой темы с чумной[365].
Связь с немецкой музыкальной культурой в Воронеже не прерывалась. 14 октября 1935 года, по традиции мандельштамовско-кузинских «немецких» бесед, произошел «немецкий» музыкально-поэтический вечер. По свидетельству С. Б. Рудакова, флейтист немецкого происхождения Карл Карлович Шваб играл на флейте и «немного на рояле» «Моцарта и куски из Баха». Разговор между Швабом, Рудаковым и Мандельштамом шел «почти по-немецки», и Мандельштам «читал свои стихи, преимущественно где есть о музыке» (Рудаков 1999: 307)[366]. О К. К. Швабе Н. Я. Мандельштам писала: «Он был немец и страшно боялся за свою единственную флейту, присланную из Германии каким-то старым товарищем по консерватории. Мы не раз заходили к нему, и он… утешал О. М. Бахом, Шубертом и прочей классикой» (1999: 218). Характерен глагол «утешал», примененный вдовой поэта, непроизвольно реминисцирующий музыкальные «утешения» Шопеном, Брамсом, Шуманом и Штраусами в стихотворении «За Паганини длиннопалым…»[367].
Немецкие литературно-музыкальные мотивы, появившиеся в стихотворениях июня 1935 года («На мертвых ресницах Исакий замерз…» и «Возможна ли женщине мертвой хвала…»), связаны с работой над радиопьесой «Молодость Гете». Уже в 1932 году Мандельштам узнал о самоубийстве Ольги Александровны Ваксель (1903–1932), в которую был влюблен в 1924–1925 годах. Работа над Гете актуализировала воспоминания: «Мы взяли в университетской библиотеке несколько немецких биографий Гете. Рассматривая портреты женщин, Мандельштам вдруг заметил, что все они чем-то похожи на Ольгу Ваксель» (Н. Мандельштам 1990b: 200). Памяти О. Ваксель были написаны стихотворения «Возможна ли женщине мертвой хвала…» и «На мертвых ресницах Исакий замерз…», в которых воспоминание об О. Ваксель передается через образы Гете:
Я тяжкую память твою берегу — Дичок, медвежонок, Миньона, — Но мельниц колеса зимуют в снегу, И стынет рожок почтальона. («Возможна ли женщине мертвой хвала…», III, 98)Пояснение к этим ассоциациям обнаруживается в «Молодости Гете»:
«Чтобы понять, как разворачивалась жизнь и деятельность Гете, нужно также помнить, что его дружба с женщинами, при всей глубине и страстности чувства, была твердыми мостами, по которым он переходил из одного периода жизни в другой. <…> Маленькая дикарка с арфой — Миньона. Южанка, потерявшая свою родину. Воплощение тоски по цветущему югу, но не итальянка» («Молодость Гете», III, 295–297).
Косвенно происходит и самоидентификация Мандельштама с Гете, начавшаяся во время путешествия в Армению. Стихотворение «Возможна ли женщине мертвой хвала…» заканчивается образом Миньоны Гете, озвученной Шубертом. «Шубертовская» мельница, которая в стихотворении «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа…» «шумела», будучи частью летнего романтического пейзажа, теперь зимует в снегу. Снежный ландшафт, мельница в снегу и «рожок почтальона» — реминисценции из циклов Шуберта «Прекрасная мельничиха» и «Зимнее путешествие», песни из которых Мандельштам использует в радиопьесе «Молодость Гете» для создания предромантической атмосферы юности Гете (III, 290, 416).
Площадками лестниц — разлад и туман, Дыханье, дыханье и пенье, И Шуберта в шубе застыл талисман — Движенье, движенье, движенье… («На мертвых ресницах Исакий замерз…», III, 97)Троекратно повторенное «движенье» — ритмически точный и лексически адекватный перевод рефрена песни Шуберта «das Wandern, das Wandern, das Wandern», которую Мандельштам уже реминисцировал в «шубертовских» стихах начала 1930-х годов. Мотив движенья-полета, подтекстуально связанный с переводом «Гретхен у прялки» Э. И. Губера (Кац 1991а: 75), становится в стихотворении «На мертвых ресницах Исакий замерз…» атрибутом Шуберта. Л. Г. Панова отмечает (2001: 184), что зачатки поэтологической темы движения находятся в одной из первых статей Мандельштама — «Франсуа Виллон»: «Если б Виллон в состоянии был дать свое поэтическое credo, он, несомненно, воскликнул бы, подобно Верлену: Du mouvement avant toute chose!» (I, 174). Говоря о Вийоне, Верлене и Шуберте, Мандельштам говорит о себе: движение — его собственное поэтическое credo. «Движенье, движенье, движенье» — характеристика, формула Шуберта и всей музыкальной стихии немецкого романтизма. Она перекликается с автопоэтологическими определениями динамичности поэтического высказывания, сформулированными в «Разговоре о Данте»:
«„Inferno“ и в особенности „Purgatorio“ прославляет человеческую походку, размер и ритм шагов… Шаг, сопряженный с дыханием и насыщенный мыслью, Дант понимает как начало просодии. <…> У Данта философия и поэзия всегда на ходу, всегда на ногах. Даже остановка — разновидность накопленного движения» («Разговор о Данте», III, 219–220).
«Шубертовская» формула лексико-семантически перекликается с дантовской. Интересно, что приведенный пассаж о динамичности дантовской речи следует в «Разговоре о Данте» сразу же за описанием «козлиных троп Италии», по которым странствовал Данте. Как было показано при разборе «Восьмистиший», там Мандельштам на дантовский мотив наложил мотив Гете, «свищущего на вьющейся тропе». Там Данте сплелся с Гете, здесь — с Шубертом.
О том, что слово «движенье» было для Мандельштама одновременно и синонимом поэтической работы, говорит одно из замечаний С. Рудакова. В ноябре 1935 года Мандельштам и Рудаков намеревались напомнить о поэтическом существовании Мандельштама письмами в редакции журналов и литературных организаций (с приложением к ним стихов Мандельштама того периода, в том числе и стихов памяти О. Ваксель. Эта акция должна была «создать оживление (вокруг имени забытого Мандельштама. — Г.К.) вообще, а для О. (Мандельштама. — Г.К.) — „внутреннее движение“» (Рудаков 1999: 313). Кавычки явно указывают на принадлежность этих слов Мандельштаму.
Троеточие после троекратно повторенного «движенья», как пароля и заклинания, сигнализирует о его бесконечности — это движение без остановки. Ускорение движения происходит и за счет синтаксического параллелизма со вторым стихом четверостишия: «дыханье, дыханье и пенье». Талисман Шуберта — романтическое «без оглядки» — хранит героя стихотворения; сходным ангелом-хранителем в HP выступал бог Нахтигаль, а в «Это я. Это Рейн. Браток, помоги…» — гребень Лорелеи. Вокруг зима, еще более жесткая и жестокая, чем «летейская стужа» 1917–1918 годов. Но тогда, в период написания «Декабриста» и «Когда на площадях и в тишине келейной…», в «сумерках свободы» еще было время, мгновение для остановки дыхания, для раздумья на перепутье. Сейчас такого времени больше нет. Трижды повторенное «движенье» — единственная возможность согреться. Только двигаясь, можно согреться последним, шубертовским, колыбельным теплом.
Заканчивая разговор о стихотворении «Возможна ли женщине мертвой хвала…», хотелось бы обратить внимание не только на стих «Из гроба ко мне прилетели» (1995: 247), переворачивающий «побег» в «гроб» из HP и интертекстуально еще более уплотняющий немецкую топику текста, но и на стих «от шейки ее хорошея» (1995: 247); «шейная» образность знакома нам по «Стансам» (ср. «шейные» паронимии), возникшим в тот же самый период. С одной стороны, перед нами пример тесноты образно-лексической ткани позднего Мандельштама, с другой — полисемичной или даже оксюморонной функциональности одних и тех же образов. Если в «Стансах» «шейная» метафорика передавала драматику интеграции лирического героя в политическую жизнь страны, то в стихотворении «Возможна ли женщине мертвой хвала…» та же самая образность внедряется в описание миньоновских черт Ваксель. Немецкая тема в 1930-е годы обслуживает как интеграционную гражданскую лирику, так и стихи, которые можно условно обозначить как «внутреннюю тематическую эмиграцию». Не только общий метонимический знаменатель, но и сам двигатель этой оксюморонности — принадлежность к полю «немецкого».
Развитие немецкой темы в творчестве Мандельштама проливает свет на развитие всей его интертекстуальной поэтики. Так, стратегия реминисценций, поэтика тематизированной и самотематизирующей интертекстуальности, обнажающая свой прием (пример из немецкой темы — HP), — своего рода архаизм, охватывающий все уровни текста. В 1910-е годы он имеет новаторское воздействие: архаизм выступает неологизмом. Но в 1920-е годы он уже воспринимается как анахронизм, причем не только как анахронизм поэтический, но и как политический: «литературщина» оказывается синонимична «старорежимности». Мандельштам пытается, осложняя, обновить свою поэтику, но получается еще сложнее — структурированная архаика. В 1930-е годы интертекстуальный архаизм остается извне анахронизмом, но внутри системы Мандельштама оказывается герметичным пространством поэтического самосохранения. Опыт усложнения архаичности теперь используется для шифровки. Интеграционные «приступы» также приводят лишь к более усложненной архаике, Мандельштам теряется в собственных шифрах, попадается в собственные интертекстуальные ловушки[368].
В июне 1935 года Мандельштам пишет четверостишие «Римских ночей полновесные слитки…», герой которого — Гете:
Римских ночей полновесные слитки, Юношу Гете манившее лоно, — Пусть я в ответе, но не в убытке: Есть многодонная жизнь вне закона. («Римских ночей полновесные слитки…», III, 98)Читатель призван вспомнить итальянские грезы юного Гете. Стиху «Римских ночей полновесные слитки…» в «Молодости Гете» соответствует описание «упругого воздуха» венецианских ночей (III, 298). При создании гетевско-итальянской атмосферы Мандельштам опирается на свой перевод бартелевского стихотворения «Гроза права»: там есть не только «недр материнская игра» (а в стихе «Хоть во сне — с тобой побуду!» — «цветочное лоно»), но и «счастья полновесный слиток». Стихотворение Бартеля «Гроза права» выстраивалось Мандельштамом на реминисценциях из Тютчева, который в сознании Мандельштама связуется с Гете. Именно тютчевские переводы поэт использовал в радиопьесе «Молодость Гете»[369]. Вспоминается и мандельштамовская привязка Бартеля (в предисловии к сборнику «Завоюем мир!») к «тяге старших немецких поэтов к Италии, к блаженному югу» (II, 422). Более отдаленные подтекстуальные ассоциации — жгуче-синее небо бартелевской «Утопии» и «купол лицемерной римской церкви» в переводе из Бартеля «Петербург». Подтекстуальный отсыл к Бартелю не случаен — в своем предисловии к книге «Завоюем мир!» Мандельштам подчеркнул генетическую связь Бартеля с символизмом и его «родоначальником Гете» (II, 421), а в статье «Выпад», написанной во время работы над бартелевскими переводами (1924), говорил о «широком лоне символизма» (II, 410). Метафора «лона» расширяется: Бартель вышел из «лона» символизма, символизм — из «лона» Гете, а самого Гете тянуло к «лону» Рима. Конкретная привязка Гете к «римским ночам» произошла уже в набросках к «Египетской марке»: «[Гете уменьшается.] Римские ночи» (II, 577).
В четверостишии Мандельштам играет с двусмысленностью устойчивых выражений «быть вне закона» и «поставить кого-либо вне закона»: ссыльный Мандельштам, поставленный вне закона, сохраняет ответственность как за свои прегрешения перед режимом, так и перед поэзией. Как в HP и «Восьмистишиях», Гете выступает авторитетным гарантом творческой независимости и одновременно свидетельствует о зависимости художника от окружения; константной остается тяга к Италии, Риму, блаженному Югу — тоска по европейской культуре.
В заключение разговора о музыкальных мотивах позднего Мандельштама хотелось бы упомянуть стихотворение «Я в львиный ров и в крепость погружен…», в котором поэт вновь синтезирует мотивы Шуберта и Баха (III, 122–123). Незадолго до написания стихотворения Мандельштам «слушал по радио Мариан Андерсон» (Н. Мандельштам 1990а: 289 и 1999: 216). Первое впечатление от этого концерта легло в основу строки о горькой траве морей, которая «длинней органных фуг» в стихотворении «Разрывы круглых бухт, и хрящ, и синева…» (III, 120). В репертуар М. Андерсон входили «арии из кантат Баха, исполнявшиеся в сопровождении органа» (Кац 1991b: 126)[370]. Отсюда — «вполголосная органная игра», заставляющая вспомнить «Баха» с его оппозицией голоса и музыки; оппозиция в разбираемом тексте снимается: гармония между голосом и инструментом найдена. Органная игра на фонетическом уровне обыгрывает «неограниченность» из первого стиха четверостишия. Неограниченность вызвала у Мандельштама ассоциации с «безмерностью» — эпитет музыки и мироощущения Бетховена; отсюда и воспоминание о собственном упоении («восторг вселенский»), Знаменателен и мотив «сопровождения»: «музыкальное сопровождение» арии превращается в философское. В строках «Богатых дочерей дикарско-сладкий вид / Не стоит твоего — праматери — мизинца» Б. Кац предполагает «отсылку к двум песням Шуберта, входившим в репертуар М. Андерсон, — к „Лесному царю“, где соблазн олицетворен в украшенных золотом и драгоценностями дочерях Лесного царя, и к „Аве, Мария“ (1825), где воспевается чистота Богоматери» (Кац 199 lb: 127). Отсыл клееному царю не вызывает сомнений: с мотивом лесного царя Мандельштам работал, начиная со стихотворения «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа…». Баховское (орган) накладывается на шубертовское (песня), как и там, где впервые они соприкоснулись: в стихотворении «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа…». Опять найдено искомое сочетание музыки и слова.
Обобщая опыт использования Мандельштамом немецких литературно-музыкальных тем, хотелось бы отметить, что подавляющее большинство композиторов, музыка которых получила поэтическое осмысление в творчестве Мандельштама, были немцами и австрийцами. Поэтому вряд ли будет натяжкой утверждать, что музыка является в творчестве Мандельштама своего рода прерогативой немецкой культуры: не философия, а музыка: в философии Мандельштам не очень хорошо разбирался, о немецких философах знал понаслышке или в перетолкованиях символистов; недолгое время он увлекался лишь Бергсоном и эпизодически — русской религиозно-историософской мыслью.
Музыкоцентричный Мандельштам, как никто другой, ввел в русскую поэзию немецкую музыкальную тематику — Баха, Моцарта и, прежде всего, Шуберта. Но и здесь она присутствует не в «чистом виде», а сопрягаясь с другими культурно-историческими элементами европейской эстетики: «музыкальная стихия» немецкого романтизма перекликается с главной темой Мандельштама — поэзией поэзии: немецкая поэзия выступает искателем и носителем синтеза музыки и поэтического слова. Поэзия и музыка — количественно (и качественно) доминирующие стороны-ипостаси немецкой культуры. Их соединению посвящено стихотворение «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа…», которое в связи с этим можно назвать для немецкой темы переломным. Не будет преувеличением сказать, что, по крайней мере хронологически, немецкая литература входит в мир Мандельштама позже музыки, а точнее, через музыку. Песни Шуберта оказываются связующим звеном. С этого момента интерес Мандельштама к немецкой поэзии и музыке только нарастал. Если немецкие герои «Камня» — отступник Лютер, дионисийствующий Бетховен, протестантская эстетика Баха, актуальные политические события, то в стихах 1930-х годов немецкая тема практически «ограничивается» поэзией, музыкой и их синтетическими сплавами.
Проблема количественного и качественного преобладания музыкальных и метапоэтических мотивов в рамках немецкой темы напрямую связана с вопросом о стабильности немецкой темы в творчестве Мандельштама; этот вопрос частично соприкасается с уже разобранным вопросом наложений различных тематических комплексов. Так, образы Лютера, Баха или Моцарта можно назвать тематически нестабильными: они на протяжении времени кардинально меняют как свою функциональную окраску, так и оценку. Образ Шуберта, несмотря на динамически развивающуюся тематизацию, оказывается, в сравнении с вышеуказанными примерами, стабильным. В этом смысле образ Шуберта представляет собой переход к стабильным фигурам немецкой литературной темы, главная из которых — Гете.
4. Вместо заключения
4.1. К вопросу о генезисе формулы «тоска по мировой культуре»
Центральное место в немецко-литературной теме в творчестве Мандельштама занимает Гете. В свете полученных в нашем исследовании данных можно констатировать, что произведения Гете являлись для Мандельштама константным предметом рефлексии и поэтизации, а творческая биография немецкого поэта — объектом идентификации, с годами только нараставшей. При этом поэтической и эссеистической тематизации подверглась вся творческая биография Гете, от ее начала (франкфуртские годы в HP), через дружбу с Шиллером, «Бурю и натиск», годы странствий (в том числе по Италии) вплоть до смерти (реминисценции тютчевского стихотворения на смерть Гете). Мандельштамовские аллюзии охватывают многочисленные произведения Гете: от «Вертера», «Вильгельма Мейстера» и «Поэзии и правды» до «Фауста» и «Западно-восточного дивана». В случае реминисценций из «Фауста» нами было прослежено полемическое отношение к символистскому использованию «Фауста», коренящееся в акмеистических установках раннего Мандельштама. Религиозно-мистическому опыту прочтения «Фауста» противопоставляется поэтический и поэтологический. Заостряя формулировку, можно говорить о том, что «Фаусту II» как источнику зарифмованных сентенций и афоризмов для символистских самоконцептуализаций Мандельштам противопоставил «Фауста I», состоящего из конкретных мотивов («турецкие» разговоры в сцене «У ворот», Гретхен, прогулки Фауста и Мефистофеля).
Хотя «Фауст» и представлял собой константный предмет поэтической рефлексии Мандельштама, еще более частым и важным объектом реминисценций является тематический комплекс «Гете и Италия». Так, если в центр биографии Гете он поставил поездку немецкого поэта в Италию, то романтическая тоска по блаженному югу, воплощающему для Мандельштама Европу, образует, согласно его взглядам, характерную константу поэтического и культурософского мышления Гете.
Эти выводы позволяют на новом уровне вернуться к проблеме генезиса мандельштамовской дефиниции акмеизма как тоски по мировой культуре. Дифференцирующей интерпретации содержательных особенностей мандельштамовской формулы должно предшествовать изучение контекста ее произнесения и собственно ее лексического оформления. Но именно здесь и возникли интерпретационные проблемы, причем как касательно лексического происхождения формулы, так и в вопросе о ее датировке. «Официальной» является так называемая «итальянская» версия. Она базируется на воспоминаниях А. Ахматовой, которая датирует знаменитую формулу 1937 годом (1995: 35). В том же самом году Мандельштам написал стихотворение «Не сравнивай: живущий не сравним…», в котором, обыгрывая фонетическую близость «ясной тоски» и Тосканы, паронимически развил культурософское видение «всечеловеческих холмов» Тосканы (или Италии). Надежда Мандельштам первой указала на лексико-семантическую связь паронимий тоска — тосканских (1999: 296)[371]. В то же самое время вдова поэта высказала неуверенность в точности ахматовской датировки, оставив вопрос о 1933-м или 1937-м годе как времени первого произнесения формулы открытым. Эта неуверенность говорит, по нашему мнению, в пользу 1933 года: как известно, Надежда Яковлевна, создавая мемуарный миф о Мандельштаме, согласовывала его, где только можно, с ахматовскими высказываниями и легендами. Поэтому вдова поэта, не будь у нее оснований для сомнений в датировке, спокойно могла бы оставить дату Ахматовой. Помимо этой неуверенности Н. Я. Мандельштам, в пользу 1933 года говорят многие другие факторы: так, на поэтических вечерах 1933 года (на них Ахматова не присутствовала), на которых его также спрашивали об акмеизме, Мандельштам мог в первый раз произнести свою формулу. Не исключено, что в 1937 году Мандельштам просто повторил свои ответы 1933 года.
Вопрос о датировке формулы (1933-й или 1937 год) не может быть однозначно решен в мемуарном порядке. Поэтому его решение следует искать в исследовании лексического оформления формулы. 1930–1933 годы прошли у Мандельштама под знаком Гете, с 1933 года — и под знаком Данте: если верна датировка 1933 года, то произнесение формулы попадает как раз в переходный период от Гете к Данте[372]. Постоянное присутствие мотива блаженной тоски в контексте Гете наталкивает на предположение, что мандельштамовская дефиниция акмеизма как тоски по мировой культуре — немецко-романтического, гетевского происхождения. Тоска соответствует немецкому Sehnsucht, а мировая культура является метонимическим расширением гетевского понятия мировой литературы[373]. Не исключено, что Мандельштам, с начала 1930-х годов интенсивно занимавшийся Гете, знал и единственный известный нам случай произнесения Гете самой формулы «мировая культура» («Welt-Cultur»), затерявшейся в разговорах с Эккерманом (разговор в среду, 17 января 1827 года, ср. Eckermann 1836: 297). Но главным аргументом в пользу «немецкого» генезиса является тот конкретный текстовой факт, что уже в 1925 году, задолго до итальянских штудий поэта, в предисловии к сборнику Бартеля, Мандельштам в гетевском контексте заговорил о «тоске по обетованной стране культуры» (II, 422).
Датировка 1937 года и связанные с ней тоска-тосканские паронимии нисколько не снимают «гетевского» подтекста. Стихотворение «Не сравнивай: живущий не сравним…» содержит мотив путешествия, восходящий, в свою очередь, к мотиву итальянского путешествия Гете, а «всечеловеческие холмы» тонко связаны с «всепониманием» Гете. Гетевская тоска по блаженному югу метонимически включает в себя Италию. Италия, представляющая pars pro toto мировую культуру, и является содержанием этой тоски. Генезис от немецкой поэзии, которая, как мы помним, была «самой близкой» для Мандельштама, имплицирует «итальянский» генезис. Гетевско-римские пассажи поздней лирики Мандельштама говорят о том, что как раз интенсивные занятия Гете (в 1930–1935 годах) и привели Мандельштама к возврату к римско-итальянским мотивам поздней лирики. Мандельштам познакомился с Гете еще в детстве, в момент формирования его будущих вкусов и концепций. Античная и римско-итальянская темы, без сомнения, представляют собой императивное ядро мандельштамовской культурософии, но оно в трансформированной форме (через Батюшкова и Тютчева) имеет немецкие корни.
4.2. «Я не Генрих Гейне»: Мандельштам И Гейне
Если свою увлеченность творчеством Гете Мандельштам постоянно тематизировал, примеряя развитие Гете на себя и на русскую поэзию, то связь с Гейне остается у Мандельштама неотрефлектированной, и в этом смысле Гейне занимает особую позицию в творчестве Мандельштама[374]. Вопрос этот получает еще большую остроту в связи с тем, что Мандельштам не только не проговаривал своей связи с Гейне, но и практически не рефлектировал важность Гейне для русской поэтической традиции. Между тем центральный образ немецкой темы — образ Лорелеи — заимствован из Гейне. Один из вариантов стихотворения «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа…» предварялся эпиграфом из Гейне, «двойник» третьей строфы стихотворения — однозначно гейневского происхождения. Не исключены подтекстуальные гейневские ресурсы в антивагнеровскмх «Валкириях» и в заговорщицкой тематике, уводящей к «Карлу I» Гейне (в обработке И. Анненского). Образ бога Нахтигаля из кульминационного стихотворения HP также гейневского происхождения. Три важнейших «немецких» стихотворения Мандельштама (причем важнейших не только для развития немецкой темы, но и для мировоззренческих установок поэта) — «Декабрист», HP и «Стансы» (1935) — содержат образы из стихотворений Гейне. Причем в «Декабристе» и в HP образы Гейне появляются в композиционно-семантическом смысле в решающей позиции. В «Декабристе» образом Лорелеи заканчивается медитация о германо-русских исторических судьбах, а в HP псалмодическим призывом к гейневскому богу Нахтигалю в двух последних строфах стихотворения Мандельштам, обратившийся за опытом бесстрашия к немецкой поэзии, вновь обретает чувство внутренней правоты, искомое в атмосфере лести и соблазнов 1930-х годов.
В связи с этим напрашивается вопрос о специфике значения Гейне в творчестве Мандельштама. По мнению С. С. Аверинцева,
«Мандельштам в течение всей своей жизни последовательно игнорировал Гейне, что на фоне рецепции Гейне в русской лирической традиции от Тютчева и Фета через Блока и Анненского вплоть до 20-х годов выглядит контрастом. Тривиально рассуждая, можно было бы ожидать, что у Гейне и Мандельштама найдутся сближающие моменты — от еврейской судьбы и еврейской впечатлительности до схожей позиции в литературе (Гейне — постромантик, Мандельштам — постсимволист)» (Аверинцев 1996: 206, прим. 6).
Результаты наших исследований не позволяют говорить о мандельштамовском «игнорировании» Гейне. Странно, что С. С. Аверинцев в своих рассуждениях закрыл глаза не только на гейневские места в творчестве Мандельштама (Лорелея «Декабриста», «Двойник» в «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа…» и др.), очевидные и известные к моменту написания статьи, но и на имеющие гипотетический характер интертексты из Гейне, названные в книге Ронена в 1983 году[375].
Проблемы Гейне, правда в другом исследовательском контексте, коснулся Л. Кацис. Исследователь-иудаист на протяжении всего своего исследования (2002) проводит мысль о более широком знакомстве Мандельштама с творчеством Гейне и косвенно выдвигает гипотезу о том, что Мандельштам сознательно моделировал свое литературное поведение по образцу Гейне[376]. Таким образом, даже если только часть текстов Гейне, выявленных О. Роненом, Л. Кацисом и нами, действительно содержится в подтекстуальном поле мандельштамовской образности, то вопрос о месте Гейне в творчестве Мандельштама заслуживает особого обсуждения. В любом случае, находки исследователей говорят в пользу того, что Мандельштам не «игнорировал Гейне», как пишет С. Аверинцев, а сознательно замалчивал свою связь с немецко-еврейским поэтом.
В библиотеке отца Мандельштама Гейне не было; по крайней мере, Мандельштам об этом не говорит. Гейне нет и в списке тех немецких авторов, которых, согласно воспоминаниям вдовы поэта, Мандельштам покупал в начале 1930-х годов. В то же самое время в стихах Мандельштам стушевывает авторство гейневских образов и подтекстов. Конечно, Лорелея — изобретение не Гейне, а Брентано (которого Мандельштам знал и упомянул в списке йенских романтиков наряду с Новалисом и Тиком: «Армия поэтов», II, 340), но в русской поэтической и переводческой традиции образ Лoрелеи — гейневского происхождения. В стихотворении «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа…» образ гейневского двойника замыкает метасюжет немецкого романтизма и стоит под общим «шубертовским» знаменателем.
Мандельштам мог идентифицироваться с Гейне по многим параметрам: еврейство, крещение — у обоих — в протестантизм, скитальческая жизнь, изначальное положение поэта, принимающего и осваивающего русскую поэтическую культуру (в случае Гейне — немецкую) не по наследству, а в результате сознательного выбора. Наверняка Мандельштам знал и об особом положении Гейне в немецкой поэтической среде.
Единственным упоминанием Гейне в поэзии Мандельштама является одно из шуточных стихов к Н. Штемпель 1937 года:
Наташа, ах, как мне неловко, Что я не Генрих Гейне: К головке — переводчик ейный — Я б рифму закатил: плутовка. (<Стихи к Наташе Штемпель>, III, 157)Как нам кажется, в этом стихотворении Мандельштам проговаривается: «Я не Генрих Гейне». Оговорка Мандельштама — свидетельство не только дистанцирования от Гейне, но и знания творчества Гейне. Во второй части четверостишия Мандельштам иронизирует над иронией Гейне. Напомним, что в разговоре о Блоке Мандельштам помянул именно об «иронии Гейне» (II, 254). В отношении Мандельштама к гейневской иронии, как нам кажется, и следует искать разгадку отношения Мандельштама к Гейне. И здесь наши соображения частично смежны с замечанием С. С. Аверинцева, тонкого знатока немецкого романтизма[377], что мандельштамовскому юмору была чужда «специфическая ирония во вкусе немецких романтиков и особенно Гейне» (Аверинцев 1996: 206). В приведенном отрывке из стихов к Н. Штемпель Мандельштам косвенно противопоставляет гейневской иронии свой юмор. Обращает на себя внимание ироничная рифма «ейный — Гейне». Своей концовкой «я б рифму закатил: плутовка», с ее вульгаризмом «закатил», Мандельштам пародирует поэтику гейневских шлюспуантэ.
Поднимая вопрос о противоположности мандельштамовского юмора гейневской иронии, нужно отметить, что Мандельштаму не была чужда ни сатира (достаточно вспомнить сатирические зарисовки «Камня» и «эпиграмму» Сталину), ни «литературная злость» прозы 1920-х годов, восходящая у Мандельштама к его тенишевскому учителю В. В. Гиппиусу — поклоннику Гейне. Но «литературную злость» Мандельштам в свои стихи, в отличие от прозы, старался не впускать.
Памятуя о поэтологичности мандельштамовского мышления, становится возможным предположение, что Мандельштам не только боялся идентификации с Гейне (сам он, как было показано выше, отождествлял себя с Гете), но и не принял саму поэтику Гейне. И это несмотря на то, что она оказалась по душе таким разным фигурам русской литературно-филологической культуры, как Блок и Тынянов[378]. Гейне переводил и любимый Мандельштамом Тютчев. Тютчевские переводы из Гейне Мандельштам реминисцировал в своих произведениях. Но, видимо, поэт-филолог Мандельштам понимал, что Тютчев переводил Гейне не по внутреннему родству (как в случае тютчевских переводов из Гете), а методом от противного, сознательно пытаясь — через перевод — познакомиться с развитием чужой поэтической традиции[379]. В случае мандельштамовских реминисценций из Гейне, не афишируемых поэтом, происходила сходная трансформация: и если гейневская интонация при переводах и переложениях попадала в иную, русскую лексическую традицию и утрачивала пародийность оригинала, то в случае Мандельштама образы Гейне, прошедшие адаптивную трансформацию в русской поэтической рецепции XIX века, оказывались плодотворными для метапоэтических медитаций Мандельштама. Лишний раз напоминать об их авторстве значило вызывать ненужные ассоциации.
Мандельштам воспринял и переработал те гейневские мотивы, которые прижились в русской литературе, — Лорелея, «Двойник» и т. д. Главная особенность рецепции Гейне в русской литературе состоит в том, что стихотворения Гейне, вырванные из литературной полемики позднего немецкого романтизма, утратили при усвоении русской поэзией свою пародийную направленность. Ирония судьбы немецкого романтизма в русской культуре состоит в том, что последняя во многом воспринимала романтиков с опозданием, и к тому же не столько по йенским оригиналам (за исключением Тютчева), сколько по Гейне. Если в первой волне рецепции Гейне в России образы немецкого постромантика, утратив свою пародийность, представляли своего рода дайджесты романтической топики (а именно по таким сжатым конспектам и привыкла нагонять западную традицию русская литература), то во второй волне восприятия Гейне, начатой Ап. Григорьевым и развернутой Блоком, пародийность Гейне преломилась в автопародийный надрыв, который вдобавок смешался с цыганским и городским романсом. Вспомним, как Мандельштам в «Декабристе» отказался от «сентиментальной гитары», уводящей к Ап. Григорьеву, в пользу «вольнолюбивой гитары», с ее немецко-русскими культурными ассоциациями первых десятилетий XIX века догейневского периода русской поэзии. Надрывная интонация была чужда поэтике Мандельштама.
В начале настоящей работы мы процитировали раннюю мандельштамовскую программу сочетания «суровости Тютчева» с «ребячеством Верлена». «Ребячество Верлена», веселая ирония должна была подчеркивать немецкую, тютчевскую суровость в разработке поэтических тем. Мандельштаму, по всей вероятности, интонационная позиция Гейне казалась болезненным, паразитирующим пересмешничеством. Не случайно в стихотворении «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа…» Мандельштам взял из Гейне мотив двойничества, косвенно определив местоположение Гейне в немецком романтизме как его, романтизма, болезненного двойника. Позиция Гейне могла показаться Мандельштаму неблагодарной, а как мы помним из HP, романтической поэзии Мандельштам хотел воздать за все, чем обязан ей бессрочно.
Сам Мандельштам, вслед за Блоком взявший на себя обязанность синтеза поэтического опыта русской поэзии XIX века, выбрал созидательную установку. Существенна и разница: Мандельштам — многочисленными цитатами и подтекстуальными намеками работал над синтезом русской поэтической культуры конца XVIII — начала XIX века (Державин, Батюшков, Тютчев, Баратынский), Блок же — остальной части XIX века, когда в русскую поэзию уже вошла «гейневская» интонация, замалчивать которую Блоку не позволяла «профессиональная совесть» поэта-синтетика. В этом смысле Мандельштам продолжил синтетическую работу, начатую Блоком.
Возвращаясь к теме «Мандельштам и Гейне», хочется подчеркнуть, что наши соображения носят дискуссионный характер. Вопрос о значении Гейне в творчестве (и жизнетворчестве) Мандельштама остается открытым. Для его адекватного решения нужно определить статус Гейне в поэтической культуре всего русского модернизма. Таким образом, существует несколько объяснений непроговоренности мандельштамовской связи с Гейне; одно — реалистически «банальное»: просто так получилось; как говорится, не пришлось. Другое — гипотетическое: Мандельштам боялся аналогий: и он, и Гейне — евреи, оба по-своему провели работу по синтезу литературных школ и течений. Мандельштам мог опасаться проецирования-идентификации себя и своего места в русской поэзии с ролью Гейне в немецкой. Третье объяснение — поэтическая несовместимость: ирония Мандельштама, не умаляющая «немецко-тютчевской» суровости затрагиваемых тем, была противоположна пародийной поэтике Гейне[380].
4.3. Не-рецепция: Рильке и Гельдерлин
Немецкая литература в рецепции Мандельштама сужена до поэзии. За исключением прозы поэта Гете, проза для него — прерогатива французской литературы[381]. Концентрирующая редукция немецкой литературы до поэзии еще более усиливается за счет редукции немецкой поэзии до поэзии конца XVIII — начала XIX века, поэзии предромантизма и романтизма. Исключения немногочисленны и имеют более или менее внешний характер: современной немецкой поэзии Мандельштам коснулся в 1920-е годы в лице Бартеля, Толлера, Шикеле, Верфеля — список довольно случайный, вызванный революционно-экспрессионистскими запросами и пристрастиями современности. Видимо, этим отчасти объясняется тот факт, что в отличие от многих современников, в первую очередь от Пастернака и Цветаевой, Мандельштам прошел мимо модного тогда Рильке. Причиной такой «глухоты» является, судя по всему, тот факт, что «немецкие» литературные вкусы Мандельштама сформировались в тенишевские и университетские годы и впоследствии лишь дополнялись. Характерно, что в 1930-е годы он вновь вернулся к той немецкой поэзии, к которой приобщался в детстве, — к романтизму и его предтечам.
Если в начале своего творческого пути Мандельштам в рамках немецкой темы касается известных в русской поэтической культуре немецких образов (Лорелея — Ундина, Валгалла), то по мере разработки темы он привлекает к немецкой теме образы и фигуры немецкой культуры, менее известные или же не закрепившиеся в самосознании русского поэтического мира. Так, например, Мандельштам возрождает забытого с пушкинских времен Э. X. Клейста.
В поле зрения Мандельштама, в большей или меньшей степени, попали и прошли поэтическую и критическую обработку элементы жизни и творчества таких немецких поэтов, как Брентано, Бюргер, Гейне, Гельдерлин, Гердер, Гете, Клейст, Клингер, Клопшток, Новалис, Шиллер. Характерно, что в 1930-е годы Мандельштам пытается расширить сферу своих немецких поэтических увлечений не за счет современной поэзии, а, скорее, в прошлое, вглубь, отталкиваясь от Гете, к поэтам «Бури и натиска» и анакреонтики. Предтечи и зачинатели романтизма заинтересовали Мандельштама больше, чем его последователи в современности. Тенденций, родственных акмеизму, в современной немецкой поэзии не существовало, а восприятие экспрессионизма в русской поэзии и критике 1910-х годов было затруднено как актуальными политическими событиями (война, революция), так и наличием параллельного русского явления — футуризма, адекватное осмысление опытов которого было более актуально для синтетически-экономного мышления Мандельштама.
Неинтерес к современной немецкой поэзии не уникален, сходное не-восприятие наблюдается и относительно опытов французской поэзии первой трети XX века. С еще большим основанием, чем Рильке, Мандельштама мог бы заинтересовать Поль Валери: но этого не случилось, другие интересы, углубление в русскую поэзию XVIII–XIX веков, вылившееся в «Стихи о русской поэзии», и итальянцы (Данте, Ариосто, Тассо) определили сферу интересов позднего Мандельштама. Конечно, при анализе не-рецепции нельзя забывать как о культурной изоляции советской литературы 1930-х годов, так и о чисто биографическом факторе — политически-идеологическом климате этого периода.
Не менее существенным в вопросе о не-рецепции является и тот факт, что Мандельштам — поэт, уже опирающийся на переработки и переводы предшественников-посредников. Мандельштам ищет прецедентов русской рецепции иноязычной культуры: в случае Рильке или экспрессионистов ко времени становления Мандельштама такой культурной переработки еще не произошло. В случае песен Шуберта или же полузабытого Э. X. Клейста Мандельштам опирался на русские переводы (Жуковский) или же свидетельства русских писателей (Карамзин в случае Э. X. Клейста). А вот гельдерлиновской традиции в русской поэзии еще не было, в ней даже не существовало какого бы то ни было отдаленного аналога творчеству и судьбе Гельдерлина[382]. Отсюда — ослабленная, еле прослеживаемая рецепция Гельдерлина со стороны Мандельштама в 1930-е годы, если она вообще имела место. И если Мандельштам не успел воспринять даже Гельдерлина, поэта, чья поэтика (античная тема, одичность, предромантизм) могла оказаться сродни идеопоэтике Мандельштама, то что говорить о Рильке или экспрессионистах. В 1920-е годы представился случай, в лице Бартеля и некоторых других поэтов-новаторов, познакомиться с некоторыми проявлениями экспрессионизма, в пространстве перевода произошла попытка частичного приобщения к этой поэтике, но она носила временный и сугубо экспериментальный характер.
4.4. Посредники, прототипы, подтексты: вопрос о Тютчеве
В ходе исследования было показано, что ассоциативные образы немецких культурных реалий возникают не в результате произвольного обращения к своему собственному, личному образу Германии. Любой поэт работает не на пустом месте. Мандельштам эту свою укорененность в поэтической традиции сознательно тематизировал. Поэтому, затрагивая немецкую тему, он целенаправленно обращался к опыту восприятия немецких поэтических тем в русской поэтической культуре XVIII–XX веков. «Посредниками» немецкой культуры, к которым многочисленными аллюзиями обращается Мандельштам, являются русские поэты, перенимавшие и прививавшие немецкие культуро-поэтические интересы и вкусы: Лермонтов, Языков, Батюшков, Жуковский, Тютчев и другие, из современников — Вяч. Иванов, Блок, Пастернак.
Мандельштам превратил подтекстуальный импульс поэтической речи в источник, требующий со стороны поэта дополнительной тематизации и интенсивной поэтической рефлексии. Поэтому вопрос о «проводниках» немецкой культуры носит в случае Мандельштама метапоэтический характер. При этом часто трудно определить, кто и что является проводником: тема выводит Мандельштама на искомого проводника или же подтекст диктует тему. Как быть, к примеру, с темой Рейна, Рейнского похода, оссианическими образами и поэзией Батюшкова? Причем речь идет не о простых перепевах и перетасовках. Самые выразительные примеры — стихотворения вокруг «Декабриста», в которых мифопоэтический мир германских сказаний историко-литературно оправданно включается в медитации о судьбах русской истории.
Сложнее выявление медиаторной функции стихов и концепций современников, Пастернака и Вяч. Иванова. Вяч. Иванов — один из главных источников культурософских вкусов и концепций раннего Мандельштама. Этим объясняется и последующее отталкивание от вкусов и пристрастий учителя. Возможно, этой ученической полемикой объясняется и затухание бетховенской темы в творчестве Мандельштама, и «реабилитация» Лютера в статьях 1923 года. Сходная полемическая позиция наблюдается и в связи с Блоком.
Немногочисленные, но емкие реминисценции из Пастернака в собственных стихах и переводах с немецкого показывают, что Мандельштам косвенно, поэтическими средствами, тематизировал укорененность Пастернака в идейно-образном наследии и экспрессионистском опыте немецкого романтизма. Появление «Сестры моей — жизни» и «Темы и вариаций», с их тематизированной немецко-романтической и, в частности, гетевской образностью, растабуизировало в сознании Мандельштама обращение к творчеству Гете, находившегося до этого в руках символизма.
Особую роль среди проводников и посредников «немецкого», к которым апеллирует Мандельштам, разрабатывая немецкую тему, играет Тютчев. И если Батюшков, наряду с немецкой темой, является проводником и французской, и итальянской темы (оказываясь прообразом самого Мандельштама), а Вяч. Иванов — античной, то Тютчев в творчестве Мандельштама — проводник и носитель одной, немецкой (и смежной с ней альпийской), темы. Стихи Тютчева (собственные и варьирующие стихи немецких поэтов — Гейне, Гете, Гердера) чаще других реминисцируются в «немецких» стихотворениях Мандельштама. Тютчев — ключевая фигура во взаимоотношениях Мандельштама с Германией: с Тютчевым косвенно связываются первые ощущения космической радости периода марксистской юности Мандельштама, подтекстуальным диалогом с Тютчевым открывается немецкая тема в стихотворениях «Лютеранин» и «Бах», Тютчева Мандельштам старательно реминисцирует в переводах из Бартеля. В отличие от других реминисцируемых поэтов, Мандельштам не просто «вспоминает» Тютчева в немецком контексте, но через Тютчева он с первых же стихов выходит на немецкую тему. Тютчев уже не просто посредник, он — носитель «немецкого», не предмет немецких аллюзий, но их источник. Поэтому разгадку отношений Мандельштама с Германией следует искать, предварительно разгадав немецкую «природу» поэзии Тютчева.
Судя по всему, Мандельштам считал, что Тютчев не просто «представитель» немецкой школы в русской поэзии; укорененность Тютчева в немецкой поэтической традиции, отмеченная и угаданная, но до сих пор недостаточно изученная на конкретном текстовом материале, отличает его от других представителей немецкой школы в русской традиции. Тютчев представляет собой уникальный пример русского поэта, идейно-семантически и формально укорененного в немецкой поэтической традиции[383].
Значение тютчевского канала немецкой темы для Мандельштама тем удивительнее и важнее, что переживание Мандельштамом поэзии Тютчева, наряду с Батюшковым, произошло на самом раннем, основополагающем этапе, в процессе становления Мандельштама как поэта. Можно предположить, что поэзия Тютчева — «немецкая» в своей идейно-тематической направленности и проблематике и немецко-русская в своем формально-жанровом исполнении — явилась одним из главных толчков для поэтического самоопределения Мандельштама. Память об этом первом вдохновении Мандельштам пронес через всю свою жизнь. Немецкая тема являлась, таким образом, и пространством поэтической благодарности Мандельштама Тютчеву.
4.5. Перспективы дальнейших исследований
Нами было показано и разобрано развитие немецкой темы в творчестве Мандельштама. Дальнейшего изучения требуют темы французская (многое уже было сделано Р. Дутли (1985)), итальянская и русская. Впоследствии можно будет сопоставить (качественно и количественно) присутствие «национальных» тем в стихах Мандельштама, сравнить стратегии применения этих тем в разные периоды творчества поэта. Долгосрочным плодотворным проектом нам представляется описание и хронологический разбор немецкой темы в творчестве других русских поэтов и писателей Серебряного века. Данные таких штудий позволят сравнительно сопоставить и точнее выделить специфику немецкой темы в творчестве Мандельштама.
Ясно, что окончательно устарела «оправдательная» трактовка «Стансов», «Оды Сталину» и смежных стихов о «приятии». В то же самое время и позиция, противоположная «диссидентской», была сформулирована как оппозиционная, альтернативная; отсюда издержки: риторические заострения и схематизация. Дальнейшее изучение проблемы перспективы (точки зрения), выявленной в оксюморонной риторике «немецких» стихотворений, поможет в понимании идеологической позиции автора в гражданской лирике 1930-х годов — этого камня преткновения мандельштамоведения.
Дальнейших исследований заслуживает поэтика шуточных стихов Мандельштама. Такое исследование пролило бы свет не только на проблему мандельштамовского юмора, но и пародийности в «нешуточных» произведениях поэта. Результатом такой работы может стать и прояснение авторской позиции Мандельштама в так называемых антисталинских и сталинских стихах 1930-х годов.
В нашем исследовании были приведены примеры интерлингвистической подкладки мандельштамовской образности. Для объективного освещения этой стороны поэтики Мандельштама потребуются совместные усилия мандельштамоведов, специалистов по языковым особенностям балтийских и польских евреев в начале XX века, и, не в последнюю очередь, психолингвистов — специалистов по детскому билингвизму.
Дальнейшего изучения заслуживает связь поэтологических концепций Мандельштама с развитием культурософской и филологической мысли 1900–1930-х годов. Вопросы и перспективы исследований, вытекающие из работ Е. А. Тоддеса (1986) и Р. Д. Тименчика (1986) в данном направлении, требуют дальнейшей разработки: это и анализ конкретного взаимовлияния между идеями Мандельштама и формалистов, и изучение причин сходства ранних мандельштамовских установок с постсимволистской литературософией М. М. Бахтина и концепцией «классической традиции» Л. В. Пумпянского. Такое исследование не только поможет пролить свет на «перелом» в воззрениях и поэтике Мандельштама 1920-х годов, но и даст возможность показать на примере развития поэтологических установок Мандельштама тот конфликтно-полемический потенциал филологических споров 1910–1920-х годов (ОПОЯЗ, московский формализм, Пумпянский, Бахтин, Выготский), который во многом продолжает являться двигателем современной русистики.
Принятые сокращения
БП. Библиотека поэта.
ВЛ. Вопросы литературы.
ЖТМ. Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама. Воспоминания. Материалы к биографии. «Новые стихи». Комментарии. Исследования. Редакторы-составители: С. С. Аверинцев, В. М. Акаткин, В. Л. Гордин, О. Г. Ласунский, А. И. Немировский, П. М. Нерлер, Т. А. Никонова, В. А. Свительский, Ю. Л. Фрейдин. Воронеж, 1990.
Л. Ленинград.
ЛО. Литературное обозрение.
ЛП. Литературные памятники.
М. Москва.
МА. Мандельштам и античность. Записки мандельштамовского общества. Том 7. Сборник статей под редакцией О. А. Лекманова. М., 1995.
НБП. Новая библиотека поэта.
НГ. Н. Гумилев. Исследования и материалы. Библиография. Составители М. Д. Эльзон, Н. А. Грознова. СПб., 1994.
НЛО. Новое литературное обозрение.
НМ. Новый мир.
ОМВ. «Отдай меня, Воронеж…» Третьи международные мандельштамовские чтения. Составители: О. Г. Ласунский, Г. А. Левинтон, О. Е. Макарова, П. М. Нерлер, В. Г. Перельмутер, М. В. Соколова, Ю. Л. Фрейдин. Воронеж, 1995.
ОМЕВ. Осип Мандельштам и его время. Составители: Е. Нечепорук, В. Крейд. М., 1995.
Пг. Петроград.
Пб. Петербург.
СБП. Смерть и бессмертие поэта. Материалы международной научной конференции, посвященной 60-летию со дня гибели О. Э. Мандельштама. (Москва, 28–29 декабря 1998 г.). Составители: М. З. Воробьева, И. Б. Делекторская, П. М. Нерлер, М. В. Соколова, Ю. Л. Фрейдин. М., 2001.
СПб. Санкт-Петербург.
СМ. Столетие Мандельштама. Материалы симпозиума. Редакторы-составители: Р. Айзелвуд (R. Aizlewood) и Д. Майерс (D. Myers). Лондон, 1994.
СМР. Сохрани мою речь, № 3, 1/2. Записки мандельштамовского общества. Составители: О. А. Лекманов, П. М. Нерлер, М. В. Соколова, Ю. Л. Фрейдин, М., 2000.
ССОМ. Слово и судьба. Осип Мандельштам. Исследования и материалы. Составитель: З. С. Паперный. М., 1991.
DD19. Deutsche und Deutschland aus russischer Sicht. 19. Jahrhundert: Von der Jahrhundertwende bis zu den Reformen Alexanders II. Herausgegeben von D. Herrmann und A. L. Ospovat. München, 1998.
DD20. Deutsche und Deutschland aus russischer Sicht. 19./20. Jahrhundert. Von den Reformen Alexanders II. bis zum Ersten Weltkrieg. Herausgegeben von D. Herrmann. München, 2006.
DRR. Deutschland und die russische Revolution. 1917–1924. Herausgegeben von G. Koenen und L. Kopelew. München, 1998.
IJSLP. International Journal of Slavic Linguistics und Poetics.
RL. Russian Literature.
SH. Slavica Hierosolymitana.
WS. Die Welt der Slaven.
ZfslPh. Zeitschrift für slavische Philologie.
Список литературы
АБАШЕВ, В. В. 1988: Урбанизм В. Я. Брюсова и натурфилософская лирика Ф. И. Тютчева // Из истории русской литературы конца 19 — начала 20 в. М., 78–91.
АВЕРИНЦЕВ, С. С. 1968: «Морфология культуры» Освальда Шпенглера // ВЛ, № 1, 132–153.
— 1991: Конфессиональные типы христианства у раннего Мандельштама // ССОМ, 287–298.
— 1995: «Чуть мерцает призрачная сцена…»: подступы к смыслу // ОМ В, 116–122.
— 1996: Поэты. М.
— 2001а: София — Логос. Киев.
— 2001b: Страх как инициация: одна тематическая константа поэзии Мандельштама // СБП, 17–23.
— 2002: «Скворешниц вольных гражданин…» Вячеслав Иванов: путь поэта между мирами. СПб.
АДАМОВИЧ, Г. В. 1995: Мои встречи… // ОМЕВ, 184–186.
АЛЛЕН, Л. 1994: У истоков поэзии Н. С. Гумилева. Французская и западноевропейская поэзия // НГ, 235–252.
АЛЬТМАН, М. С. 1995: Разговоры с Вячеславом Ивановым. СПб.
АМЕЛИН, Г. Г., МОРДЕРЕР, В. Я. 2000: Миры и столкновения Осипа Мандельштама. М., СПб.
АННЕНСКИЙ, И. Ф. 1923: Тихие песни. С приложением сборника стихотворных переводов «Парнассцы и проклятые». 2-е издание. Пб.
— 1969: Вторая книга отражений // Книги отражений I, II. München. Репринт издания 1909 г. СПб.
АРОНСОН, М., РЕЙСЕР, С. 1929: Литературные кружки и салоны. Л.
АХМАТОВА, А. А. 1995: Листки из дневника // ОМЕВ, 18–39.
— 2001: Собрание сочинений в шести томах. Т. 5. М.
БАЛЬМОНТ, К. Д. 1980: Избранное. Стихотворения. Переводы. Статьи. М.
БАРАН, X. 1993: Поэтика русской литературы начала XXвека. М.
БАРАТЫНСКИЙ, Е. А. 1982: Стихотворения. Поэмы. ЛП. Издание подготовил Л. Г. Фризман. М.
БАРТЕЛЬ, М. 1924: Семь Златоустовских скрипачей. Перевод О. Мандельштама // Красная Нива, № 26, 29 июня.
— 1924а: Птицы. Перевод О. Мандельштама // Красный журнал для всех, 1924, № 7.
— 1924b: Клич. Перевод с немецкого О. Мандельштама // Звезда, 1924, № 5.
— 1925: Завоюем мир! Избранные стихи. Перевод с немецкого О. Мандельштама. Л., М.
БАТЮШКОВ, К. Н. 1978: Опыты в стихах и прозе. ЛП. Под редакцией И. М. Семенко. М.
БЕДНЯКОВА, Т. Н. 1989: Комментарии // Блок, А. А.: О литературе. М., 390–477.
БЕЛЫЙ, А. 1908: Символизм. Лекция, читанная в Москве 21 ноября в Доме печати // Весы, № 12. М., 36–41.
— 1909: Урна. Стихотворения. М.
— 1911: Арабески. Книга статей. М.
— 1921: Офейра. Путевые заметки. М.
— 1923: Стихотворения. Берлин, Пг., М.
— 1933: Культура краеведческого очерка // НМ, № 3, 257–273.
— 1966: Стихотворения и поэмы. БП. Подготовка текста и примечания Н. Б. Банк и Н. Г. Захаренко. М., Л.
БЕРДЯЕВ, Н. А. 2002: Смысл истории. Новое средневековье. М.
БЕРКОВСКИЙ, Н. Я. 1989: Мир, создаваемый литературой. М.
БЛАГОЙ, Д. Д. 1979: От Кантемира до наших дней. Том первый. М.
БЛОК, А. А. 1960–1963: Собрание сочинений в восьми томах. Под общей редакцией В. Н. Орлова, А. А. Суркова, К. И. Чуковского. М., Л.
— 1989: О литературе. Составление и комментарии Т. Н. Бедняковой. М.
БРЮСОВ, В. Я. 1921: В такие дни. Стихи 1919–1920 гг. М.
— 1927: Из моей жизни. Моя юность. М.
— 1933: Избранные стихи. М., Л.
— 1955: Избранные сочинения в двух томах. М.
— 1973: Собрание сочинений в семи томах. Под общей редакцией П. Г. Антокольского, А. С. Мясникова, С. С. Наровчатова, Н. С. Тихонова. М.
БУЛГАКОВ, С. Н. 1991: На пиру богов // Вехи. Из глубины. Составление и подготовка текста А. А. Яковлева. М., 290–353.
БУРЛЮК, Д. Д. 1994: Фрагменты из воспоминаний футуриста. Письма. Стихотворения. СПб.
БЫКОВ, Д. Л. 2007: Борис Пастернак. М.
ВЕНГЕРОВ, С. А. 1914: Редакция и предисловие // История русской литературы XX века. Том 1. М.
ВОЛЫНСКИЙ, А. Л. 1900: Борьба за идеализм. Критические статьи. СПб.
ВОЛЬПИН, Н. Д. 1991: Осип Мандельштам // ЛО, № 1, 86–87.
ВЯЗЕМСКИЙ, П. А. 1986: Стихотворения. БП. Л.
ГАРДЗОНИО, С. 2006: Статьи по русской поэзии и культуре XX века. М.
ГАСПАРОВ, М. Л. 1986: «За то, что я руки твои…» — стихотворение с отброшенным ключом // Преподавание литературного чтения в эстонской школе. Методические разработки. Таллин, 74–85.
— 1994: Метрическое соседство «Оды» Сталину // СМ, 99–111.
— 1995: Избранные статьи. НЛО. М.
— 1996: О. Мандельштам. Гражданская лирика. М.
— 1997: Избранные труды. В трех томах. М.
— 2000а: К. Тарановский — стиховед // Тарановский, К. Ф.: О поэзии и поэтике. М., 417–419.
— 2000b: Метр и смысл. Об одном из механизмов культурной памяти. М.
— 2001а: Комментарии // Мандельштам, О. Э.: Стихотворения. Проза. БП. М., 604–710.
— 2001b: О русской поэзии. Анализы. Интерпретации. Характеристики. СПб.
ГЕЛИХ, А. 1995: «Звезда с звездою говорит»: Диалог Мандельштама с Лермонтовым // ОМВ, 69–83.
ГЕРЦЕН, А. И. 1954–1965: Собрание сочинений в 30-ти томах. М.
ГЕРШЕНЗОН, М. О. 1989: Грибоедовская Москва. П. Я. Чаадаев. Очерки прошлого. Составление, предисловие, примечания В. Ю. Проскуриной. М.
ГЕРШТЕЙН, Э. Г. 1986: Новое о Мандельштаме. Главы из воспоминаний. О. Э. Мандельштам в воронежской ссылке (по письмам С. Б. Рудакова). Париж.
— 1995: Слушая Мандельштама // ОМ ЕВ, 282–293.
— 1998: Мемуары. СПб.
— 2001: Память писателя. СПб.
ГЕТЕ, И. В. 1912: Собрание сочинений в трех томах. Под редакцией А. Е. Грузинского. Том II. Герман и Доротея. Учебные годы Вильгельма Мейстера. М.
— 1922а: Тайны. Перевод Б. Пастернака. М.
— 1922b: Фауст. Часть 1. Перевод Н. А. Холодковского. Пб., М.
— 1932: Собрание сочинений. Юбилейное издание. Под общей редакцией А. В. Луначарского и М. Н. Розанова. Т. 1. Лирика. Под редакцией А. Г. Габричевского и С. В. Шервинского. М., Л.
— 1949: У ворот (Отрывок из второй сцены). Перевод с немецкого Б. Пастернака // НМ, № 9, 176–180.
— 1950: Избранные произведения. М.
— 1953: Фауст. Перевод Б. Пастернака. М.
ГИНЗБУРГ, Л. Я. 1989: Человек за письменным столом. Л.
— 1990: «Камень» // Мандельштам, О. Э.: Камень. Л., 261–276.
— 1999: Записные книжки: новое собрание. М.
— 2002: Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб.
ГЛАЗОВА, М. 2000: Мандельштам и Данте: «Божественная комедия» в поэзии тридцатых годов // СМР 3, I, 73–100.
ГОЗЕНПУД, А. А. 1990: Рихард Вагнер и русская культура. Л.
ГОЛЛЕРБАХ, Э. Ф. 1994: Н. С. Гумилев// НГ, 577–592.
— 1998: Встречи и впечатления. СПб.
ГОЛОВАЧЕВ, П. М. 1906: Декабристы. 86 портретов, вид Петровского завода и 2 бытовых рисунка того времени. М.
ГОНЕГГЕР, И. 1867: Очерк истории литературы и культуры XIX столетия. Пер. В. Зайцева. СПб.
ГОРОДЕЦКИЙ, С. М. 2002: Некоторые течения в современной русской поэзии // Критика русского постсимволизма. Составитель: О. А. Лекманов. М., 13–20.
ГРИГОРЬЕВ, Ап. А. 1916: Стихотворения. Под редакцией А. Блока. М.
ГРИГОРЬЕВ, А., ПЕТРОВА, Н. 1984: О. Мандельштам. Материалы к биографии // RL, XV, 1–27.
ГРУШИНИН, А. Л., ЧУДАКОВ, А. П. 1969: Комментарии // Тынянов, Ю. М. 1969: Пушкин и его современники. М., 382–414.
ГУКОВСКИЙ, Г. А. 1927: Русская поэзия XVIII века. Л.
ГУМИЛЕВ, Н. С. 1988: Стихотворения и поэмы. БП. Составление, подготовка текста и примечания М. Д. Эльзона. Л.
— 1990: Письма о русской поэзии. М.
— 2002: Наследие символизма и акмеизм // Критика русского пост-символизма. Составитель О. А. Лекманов. М., 20–25.
ГУСЕВ, В. М. 1955: Сочинения в двух томах. Том I. Под редакцией Н. Крюкова. М.
ДАНИЛЕВСКИЙ, Р. Ю. КОЧЕТКОВА, Н. Д., ЛЕВИН, Ю. Д. 1996: Глава IV // Schöne Literatur in russischer Übersetzung. Von den Anfängen bis zum 18. Jahrhundert. Teil II. Drama und Lyrik. Hrsg.: Ju. D. Levin. Köln — Weimar — Wien, 140–188.
ДЕРЖАВИН, Г. P. 1958: Стихотворения. Составление, вступительная статья и комментарии А. Я. Кучерова. М.
ДУТЛИ, Р. 1995: «Нежные руки Европы». О европейской идее Осипа Мандельштама // ОМВ, 15–23.
— 2005: Век мой, зверь мой. Осип Мандельштам. Биография. СПб.
ДЫМШИЦ, А. Л. 1973: Поэзия Осипа Мандельштама // Мандельштам, О. Э.: Стихотворения. БП. Л., 5–54.
ЕСЕНИН, С. А. 1990: Собрание сочинении в двух томах. Том 1. Стихотворения. Поэмы. М.
ЖИВОВ, В. М. 1992: Космологические утопии в восприятии большевистской революции и антикосмологические мотивы в русской поэзии 1920–1930-х гг. // Сборник статей к 70-летию проф. Ю. М. Лотмана. Тарту, 411–433.
ЖИРМУНСКИЙ, В. М. 1914: Немецкий романтизм и современная мистика. СПб.
— 1922: Проблема «Фауста» // Гете, И. В.: Фауст. Ч. I. Перевод Н. А. Холодковского. Пб., М., 7–41.
— 1932: Гете в русской поэзии // Литературное наследство. Т. 4–6. М., 505–650.
— 1937: Гете в русской литературе. М.
— 1977: Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л.
— 1982: Гете в русской литературе. Л.
— 1996: Немецкий романтизм и современная мистика. СПб.
ЖУКОВСКИЙ, В. А. 1980: Сочинения в трех томах. Составление, вступительная статья и комментарии И. М. Семенко. М.
ЗОРИН, А. Л. 1997: Батюшков и Германия // Arbor mundi. Вып. 5. РГГУ. М., 144–164.
ИВАНОВ, Вяч. И. 1904: Ницше и Дионис // Весы, 1904, № 5.
— 1905: Вагнер и дионисово действо // Весы, 1905, № 2.
— 1912: Гете на рубеже столетий // История зарубежной литературы (1800–1910): Эпоха романтизма. Т. 1. Гл. 2. Под ред. Ф. Д. Батюшкова. СПб., 112–156.
— 1915: Сыны Прометея. Пг.
— 1919: Прометей. Поэма. Пг.
— 1991: Наш язык // Вехи. Из глубины. Приложение к журналу «Вопросы философии». М., 354–360.
— 1994: Родное и вселенское. Составление, вступительная статья и примечания В. М. Толмачева. М.
ИВАНОВ, Вяч. И., ГЕРШЕНЗОН, М. О. 1971: Переписка из двух углов. Letchworth // Репринт издания 1921 г. Пб.
ИВАНОВ, Вяч. Вс. 1990: «Стихи о неизвестном солдате» в контексте мировой поэзии // ЖТМ, 356–367.
ИЛЮШИН, А. А. 1990: Данте и Петрарка в интерпретациях Мандельштама // ЖТМ, 367–382.
КАРАМЗИН, Н. М. 1984: Письма русского путешественника. ЛП. Издание подготовили Ю. М. Лотман, Н. А. Марченко, Б. А. Успенский. Л.
КАРПОВИЧ, М. 1995: Мое знакомство с Мандельштамом // ОМЕВ, 40–43.
КАТАЕВ, В. П. 2005: Сочинения в четырех томах. Т. 2. Трава забвения. М.
КАЦ, Б. А. 1991а: В сторону музыки. Из музыковедческих примечаний к стихам О. Э. Мандельштама // ЛО, № 1, 68–76.
— 1991b: Вступительная статья и комментарии // Мандельштам, О. Э: «Полон музыки, музы и муки…» Л., 7–54, 110–139.
КАЦ, Б. А., ТИМЕНЧИК, Р. Д. 1989: Анна Ахматова и музыка. Л.
КАЦИС, Л. Ф. 1991: Мандельштам и Байрон: к анализу «Стихов о неизвестном солдате» // ССОМ, 436–453.
— 1994: Эсхатологизм и байронизм позднего Мандельштама: к анализу «Стихов о неизвестном солдате» // СМ, 119–135.
— 2000: Русская эсхатология и русская литература. М.
— 2002: Осип Мандельштам: мускус иудейства. Иерусалим, М.
КОБЫЛИНСКИЙ, Л. Л. 1910: Русские символисты. Константин Бальмонт. Валерий Брюсов. Андрей Белый. М.
КОВАЛЕВА, И. И., НЕСТЕРОВ, А. В. 1995: Пиндар и Мандельштам (к постановке проблемы) // МА, 163–170.
КОНЕВСКОЙ, И. И. 1971: Стихи и проза. Посмертное собрание сочинений // Собрание сочинений. München. Репринт издания 1904 г. М.
КОПЕЛЕВ, Л. 3. 1966: Брехт. М.
КОРГАНОВ, В. Д. 1909а: Бетховен. Биографический этюд. СПб., М.
— 1909b: Моцарт. М.
КОТОВА, М. А., ЛЕКМАНОВ, О. А. 2004: В лабиринтах романа-загадки. Комментарий к роману В. П. Катаева «Алмазный мой венец». При участии Л. М. Видгофа. М.
КОЦ, А. Я. 1968: Переводы // Мастера русского стихотворного перевода. БП. Вступительная статья, подготовка текста и примечания Е. Г. Эткинда. Книга вторая. Л., 160–165.
КРУЧЕНЫХ, А., ХЛЕБНИКОВ, В. 2002: Слово как таковое // Критика русского постсимволизма. Составитель О. А. Лекманов. М., 233–236.
КУЗИН, Б. С. 1–999: Воспоминания. Произведения. Переписка. Н. Мандельштам. 192 письма к Б. С. Кузину. СПб.
КУЗМИН, М. А. 1923: Нездешние вечера. Пг., Берлин.
— 1978: Собрание стихов II. Послереволюционные книги стихов. Hg. von John Е. Malmstad und V. Markov. München.
КУЗЬМИНА-КАРАВАЕВА, E. Ю. 1912: Скифские черепки. СПб.
КУШНЕР, А. 2000: Потому что наскучил вымысел… // Знамя, № 7, 45–49.
КЮХЕЛЬБЕКЕР, В. К. 1967: Избранные произведения в двух томах. БП. Том I. М.
ЛАЗАРЕВ, В. Н. 1922: Освальд Шпенглер и его взгляды на искусство. М.
ЛАНГЕРАК, Т. 2001: Поэт о музыке («Я в львиный ров и в крепость погружен…» О. Мандельштама) // СБП, 101–109.
ЛАППО-ДАНИЛЕВСКИЙ, К. Ю. 1995: О «Разговорах с Вячеславом Ивановым» М. С. Альтмана // Альтман М. С.: Разговоры с Вячеславом Ивановым. СПб., 109–121.
ЛЕВИН, Ю. Д. 1980: Оссиан в русской литературе. Л.
ЛЕВИН, Ю. И. 1972: Разбор двух стихотворений Мандельштама // RL, № 2, 38–48.
— 1975: Заметки о «крымско-эллинских» стихах О. Мандельштама // RL, № 10/11, 5–31.
— 1979: Заметки о поэзии Мандельштама 30-х гг.: «Стихи о неизвестном солдате» // SH, Vol. IV, 185–213.
— 1998: Избранные труды. Поэтика. Семиотика. М.
ЛЕВИНТОН, Г. А. 1977: «На каменных отрогах Пиэрии…»: материалы к анализу // RL, № 2, 123–170.
— 1994: Мандельштам и Гумилев. Предварительные заметки // СМ, 30–43.
— 2001: Романия и романистика у Мандельштама // Res Philologica — II. Филологические исследования. Сборник статей памяти Г. В. Степанова. СПб., 203–213.
ЛЕВИНТОН, Г. А., ТИМЕНЧИК, Р. Д. 2000: Книга К. Ф. Тарановского о поэзии Мандельштама // Тарановский, К. Ф.: О поэзии и поэтике. М., 404–416.
ЛЕЖНЕВ, А. 1927: Современники. Литературно-критические очерки. М.
ЛЕКМАНОВ, О. А. 1995: «То, что верно об одном поэте, верно обо всех» (вокруг античных стихотворений Мандельштама) // МА, 142–153.
— 2000: Книга об акмеизме и другие работы. Томск.
— 2004: Мандельштам. М.
— 2006а: О трех акмеистических книгах. М. Зенкевич, В. Нарбут, О. Мандельштам. М.
— 2006b: «Стихи о неизвестном солдате»: Повод // Стих. Язык. Поэзия. Памяти М. Л. Гаспарова. М., 305–308.
ЛЕНИН, В. И. 1948: Сочинения. Том 18. М.
ЛЕРМОНТОВ, М. Ю. 1957–1958: Собрание сочинений в четырех томах. Под общей редакцией И. Л. Андроникова, Д. Д. Благого, Ю. Г. Оксмана. М.
ЛИВШИЦ, Б. К. 1989: Полутораглазый стрелец. Стихотворения. Переводы. Воспоминания. Л.
ЛИПКИН, С. И. 1994: «Угль, пылающий огнем…» // Мандельштам О. Э.: Собрание сочинений в четырех томах. Том третий: Стихи и проза 1930–1937. М., 7–32.
— 1995: Угль, пылающий огнем // ОМЕВ, 294–311.
ЛОТМАН, Ю. М. 1994а: Тезисы к семиотике русской культуры // Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. Составление А. Д. Кошелева. М., 407–416.
— 1994b: Беседы о русской культуре. СПб.
— 1997: Ю. М. Карамзин. СПб.
— 2002: История и типология русской культуры. СПб.
ЛУКНИЦКАЯ, В. К. 1991: Мандельштам в архиве П. Н. Лукницкого // ССОМ, 111–148.
ЛЮБАРСКИЙ, Г. Ю. 2004: Гетевские идеи в русской биологии XX века // Гете в русской культуре XX века. М., 325–336.
МАГОМЕДОВА, Д. М. 1991: О. Мандельштам и И. Дмитриев: проблема внутреннего и внешнего адресата стихотворения // ССОМ, 408–413.
— 2001: Мотив «пира» в поэзии О. Мандельштама // СБП, 134–143.
МАЙЕРС, Д. 1994: Гете и Мандельштам: два эпизода из «Молодости Гете» // СМ, 86–98.
МАНДЕЛЬШТАМ, Е. Э. 1995: Воспоминания// НМ, № 10, 119–178.
МАНДЕЛЬШТАМ, Н. Я. 1990а: Комментарий к стихам 1930–37 гг. // ЖТМ, 189–312.
— 1990b: Вторая книга. М.
— 1999: Воспоминания. М.
МАНДЕЛЬШТАМ, О. Э. 1925: «Верден». Из Бартеля // Красный журнал для всех, № 3.
— 1990а: Камень. ЛП. Под редакцией Л. Гинзбург, А. Меца, С. Василенко, Ю. Фрейдина. Л.
— 1990b: Сочинения в двух томах. Составление П. М. Нерлера. Подготовка текста и комментарии А. Д. Михайлова и П. М. Нерлера. М. Том первый: Стихотворения. Переводы. Том второй: Проза. Переводы.
— 1993–1997: Собрание сочинений в четырех томах. Издание подготовлено Мандельштамовским обществом. Составители: П. Нерлер, А. Никитаев. М. Том первый: Стихи и проза 1906–1921. Том второй: Стихи и проза 1921–1929. Том третий: Стихи и проза 1930–1937. Том четвертый: Письма.
— 1995: Полное собрание стихотворений. Вступительные статьи М. Л. Гаспарова и А. Г. Меца. Составление, подготовка текста и примечания А. Г. Меца. НБП. СПб.
— 2001: Стихотворения. Проза. Под редакцией М. Л. Гаспарова. М.
МАТВЕЕВА, Ю. 1999: Природа у Мандельштама и Новалиса // Osip Mandel’štam und Europa. Herausgegeben von Wilfried Potthoff. Heidelberg, 205–215.
МАЯКОВСКИЙ, В. В. 1955–1961: Полное собрание сочинений в тринадцати томах. М.
МЕРЕЖКОВСКИЙ, Д. С. 2000: Стихотворения и поэмы. НБП. Под редакцией К. А. Кумпана. СПб.
МЕСС-БЕЙЕР, И. 1991: Эзопов язык в поэзии Мандельштама 30-х годов // RL, XXIX, 243–394.
МЕЦ, А. Г. 1994: О теме власти патриарха в стихах О. Мандельштама 1917–1918 годов (предварительное сообщение) // СМ, 249–254.
— 1995: Комментарии // Мандельштам, О. Э.: Полное собрание стихотворений. СПб., 513–681.
— 2005: Осип Мандельштам и его время. Анализ текстов. СПб.
— 2007: Ральф Дутли. «Век мой, зверь мой». Рецензия // ВЛ, май-июнь, 362–365.
МИКУШЕВИЧ, В. Б. 2001: Эстетика Осипа Мандельштама в «Разговоре о Данте» // СБП, 144–154.
МИХАЙЛОВ, А. Д.; НЕРЛЕР, П. М. 1990: Комментарии // Мандельштам, О. Э.: Сочинения в двух томах. Том первый: Стихотворения. Переводы. М., 441–611.
МОРОЗОВ, А. А. 1999: Примечания // Мандельштам, Н. Я.: Воспоминания. М., 469–526.
— 2002: Примечания // Мандельштам, О. Э: Шум времени. М., 227–301.
— 2006: К истории «Стихов о неизвестном солдате» О. Мандельштама // Стих. Язык. Поэзия. Памяти М. Л. Гаспарова. М., 425–441.
МУСАТОВ, В. В. 2000: Лирика Осипа Мандельштама. Киев.
НАЙДИЧ, Э. Э. 1957: Примечания // Лермонтов М. Ю.: Собрание сочинений в четырех томах. Под общей редакцией И. Л. Андроникова, Д. Д. Благого, Ю. Г. Оксмана. Том I. Стихотворения. М., 333–399.
НЕМИРОВСКИЙ, А. И. 1990: Обращение к античности // ЖТМ, 452–464.
— 1995: Поговорим о Риме // МА, 129–141.
НЕРЛЕР, П. М. 1989: Осип Мандельштам в Наркомпросе в 1918–1919 годах // ВЛ, № 9, 275–279.
— 1990: «Мне Тифлис горбатый снится…». Осип Мандельштам и Грузия // Мандельштам, О. Э.: Стихотворения. Переводы. Очерки. Статьи. Тбилиси, 376–386.
— 1994: Осип Мандельштам в Гейдельберге. М.
— 1995: «К немецкой речи». Попытка анализа // ОМВ, 177–193.
— 2004: Гете и Мандельштам: заметки к теме // Гете в русской литературе. М., 180–183.
ОДОЕВЦЕВА, И. В. 1988: На берегах Невы. М.
ОРЛИЦКИЙ, Ю. Б. 2001: Стиховое начало в прозе Осипа Мандельштама (к постановке проблемы) // СБП, 174–181.
ОСПОВАТ, А. Л., РОНЕН, О. 1999: Камень веры (Тютчев, Гоголь, Мандельштам) // Тютчевский сборник II. Тарту, 48–55.
ОСПОВАТ, К. А. 2007: О концепции оды у Тынянова: заметки к теме // Пушкинские чтения в Тарту. № 4. Пушкинская эпоха: Проблемы рефлексии и комментария. Тарту, 408–419.
ОШЕРОВ, С. А 1984: «Tristia» Мандельштама и античная культура // Античность в культуре и искусстве последующих веков. М., 337–353.
ПАВЛОВ, Е. 2003: «Тем звучащим слепком формы…»: опыт Мандельштама // НЛО, № 63. М., 59–82.
ПАЛЛАС, П. С. 1788: Путешествия по разным провинциям Российского государства. СПб.
ПАНОВА, Л. Г. 2001: Метафора движения в поэзии О. Мандельштама // СБП, 182–189.
ПАПЕРНО, И. 1991: О природе поэтического слова. Богословские источники спора Мандельштама с символизмом // ЛО, № 1, 29–36.
ПАСТЕРНАК, Б. Л. 1920: Два стихотворения из Фаустова цикла // Булань. М., 24–25.
— 1922: Сестра моя жизнь. М.
— 1923: Темы и вариации. Берлин.
— 1989: Собрание сочинений в пяти томах. Т. 1. Стихотворения и поэмы. 1912–31. М.
ПАСТЕРНАК, Е. Б. 1997: Борис Пастернак. Биография. М.
ПИГАРЕВ, К. В. 1957: Примечания // Тютчев, Ф. И. 1957: Стихотворения. Письма. М., 491–588.
ПИСАРЕВ, Д. И. 1956: Сочинения в четырех томах. Т. IV. М.
ПУМПЯНСКИЙ, Л. В. 2000: Классическая традиция. Собрание трудов по истории русской литературы. М.
ПУРИШЕВ, Б. И. 1968: Брюсов и немецкая культура XVI века // Брюсовские чтения 1966 года. Ереван, 452–472.
ПУШКИН, А. С. 1956–1958: Полное собрание сочинений в десяти томах. Под редакцией Б. В. Томашевского. М.
ПЯСТ, В. А 1995: Встречи (фрагменты) // ОМЕВ, 105–108.
РАНЕВСКАЯ, Ф. Г. 2005: «Судьба-шлюха». Дневник. М.
РЕЙФИЛД, Д. 1995: «Полный брожения и аромата сосуд»: грузинская поэзия в переводах Мандельштама // ОМВ, 287–297.
РЕФОРМАТОРСКАЯ, Н. В. 1956: Примечания//Маяковский, В. В.: Полное собрание сочинений. Том второй. 1917–1921. М., 487–512.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, В. А. 1994: Воспоминания о Н. С. Гумилеве. Публикация М. В. Рождественской // НТ, 398–426.
РОГОВ, К. Ю. 1997: Декабристы и «немцы» // НЛО, № 26, 105–126.
РОНЕН, О. 1979: К сюжету «Стихов о неизвестном солдате» // SH, Vol. IV, 214–222.
— 1991: Осип Мандельштам // ЛО, № 1, 3–18.
— 1994: О «русском голосе» Осипа Мандельштама // Тыняновский сборник. Пятые Тыняновские чтения. Рига, М., 180–197.
— 2000а: Лексический повтор, подтекст и смысл в поэтике Осипа Мандельштама // СМР, 242–264.
— 2000b: К. Ф. Тарановский и «раскрытие подтекста» в филологии // Тарановский, К. Ф.: О поэзии и поэтике. М., 420–425.
— 2002: Поэтика Осипа Мандельштама. СПб.
РОЗАНОВ, М. Н. 1901: Поэт периода «бурных стремлений» Якоб Лени, его жизнь и произведения. Критические исследования. М.
РУДАКОВ, С. Б. 1999: Из писем 1935–1936 годов // Мандельштам, О. Э.: Воронежские тетради. Воронеж, 276–356.
СВАСЬЯН, К. А. 1993: Освальд Шпенглер и его реквием по Западу // Шпенглер, О.: Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Том I. М., 5–122.
СВЯТОПОЛК-МИРСКИЙ, Д. П. 2000: Хлебников // Мир Велимира Хлебникова. Статьи и исследования 1911–1998 гг. Составители: Вяч. Вс. Иванов, З. С. Паперный, А. Е. Парнис. М., 224–226.
СЕГАЛ, Д. М. 1987: «Сумерки свободы»: о некоторых темах русской ежедневной печати 1917–1918 гг. // Минувшее, № 3.
— 1998: Осип Мандельштам. История и поэтика. SH. Vol. VIII–IX. Jerusalem-Berkeley.
СЕМЕНКО, И. М. 1970: Мандельштам — переводчик Петрарки // ВЛ, № 10, 153–169.
СЕРМАН, И. 3. 1939: Поэзия К. Н. Батюшкова // Ученые записки ЛГУ. Вып. 3. Л., 256–260.
СОЛОВЬЕВ, В. С. 1895: Поэзия Ф. И. Тютчева // Вестник Европы, № 4, 735–752.
СОЛОВЬЕВ, С. М. 1908: Новые сборники стихов // Весы, № 10,87–92. СОЛОГУБ, Ф. 1979: Стихотворения. Под редакцией М. И. Дикман. БП. Л.
СТЕПУН, Ф. А. 2002: Освальд Шпенглер и «Закат Европы» // Бердяев, Н. А: Смысл истории. Новое средневековье. М., 314–342.
СТРУВЕ, Г. П., ФИЛИППОВ, Б. А. 1964: Примечания // Мандельштам, О. Э.: Собрание сочинений в двух томах. Под ред. проф. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Том первый. Вашингтон, Париж, 341–509.
СУРАТ, И. З. 2006: Опыты о Мандельштаме. М.
ТАГЕР, Е. О. 1988: Избранные работы о литературе. М.
— 1995: О Мандельштаме // Осип Мандельштам и его время. М., 227–244.
ТАРАНОВСКИЙ, К. Ф. 1972: Два «Молчания» Осипа Мандельштама// RL, № 2, 126–131.
— 2000: О поэзии и поэтике. Сост. М. Л. Гаспаров. М.
ТИМЕНЧИК, Р. Д. 1986: Тынянов и некоторые тенденции эстетической мысли 1910-х гг. // Тыняновский сборник. Вторые Тыняновские чтения. Рига, 59–70.
— 1987: Николай Гумилев и Восток // Памир, 1987, № 3, 123–136.
— 1989: Музыка и музыканты на жизненном пути Ахматовой (заметки к теме) // Кац Б. А., Тименчик Р. Д.: Анна Ахматова и музыка. Л., 17–74.
— 1994: Еврейские мотивы в русской поэзии начала XX века (Три предварительные заметки) // Тыняновский сборник. Пятые Тыняновские чтения. Рига, М.
ТИХАНЧЕВА, Е. П. 1973: В. Брюсов о русских поэтах XIX века. Ереван.
ТИХОНОВ, Н. С. 1922: Брага. Вторая книга стихов. 1921–1922. М., Пб.
— 1958: Собрание сочинений в шести томах. Т. 1. Стихотворения. М.
ТОДДЕС, Е. А. 1974: Мандельштам и Тютчев. Lisse.
— 1986: Мандельштам и опоязовская филология // Тыняновский сборник. Вторые Тыняновские чтения. Рига, 78–102.
— 1988: Статья «Пшеница человеческая» в творчестве Мандельштама 20-х годов // Тыняновский сборник. Третьи Тыняновские чтения. Рига, 184–213.
— 1991: Поэтическая идеология // ЛО, № 3, 30–43.
— 1994: К теме: Мандельштам и Пушкин // Philologia. Вып. 1. Рига, 75–81.
ТОДДЕС, Е. А., ЧУДАКОВА, М. О., ЧУДАКОВ, А. П. 1987: Комментарии // Эйхенбаум, Б. М.: О литературе. Работы разных лет. М., 459–539.
ТОЛЛЕР, Э. 1922: Человек-масса (фрагмент). Перевод О. Мандельштама // Московский понедельник, 1922, № 2, 26 июня.
— 1923а: Человек-масса. М., Пг.
— 1923b: Человек-масса. Перевод и предисловие А. Пиотровского. М., Пг.
ТОПОРОВ, В. Н. 1990: Заметки о поэзии Тютчева // Тютчевский сборник. Под общей редакцией Ю. М. Лотмана. Таллинн, 32–107.
ТРИБЛ, К. 1995: Поиски единства и цельности у Гете и Мандельштама // ОМВ, 103–115.
— 1999: Синергизм Иудео-Христианства и Ислама (Размышления Мандельштама, навеянные чтением творчества Гете // Osip Mandel’štam und Europa. Herausgegeben von Wilfried Potthoff. Heidelberg, 345–356.
ТУРАЕВ, С. В. 2004a: Страницы советской гетеаны // Гете в русской культуре XX века. М., 371–381.
— 2004b: Гете в творчестве Мариэтты Шагинян // Гете в русской культуре XX века. М., 184–189.
ТЫНЯНОВ, Ю. Н. 1921: Достоевский и Гоголь (К теории пародии). Пг.
— 1922: Тютчев и Гейне // Книга и революция, № 4, 13–16.
— 1924а: Проблема стихотворного языка. Л.
— 1924b: Промежуток // Русский современник, № 4, 209–221.
— 1927: Ода как ораторский жанр // Поэтика. Временник Отдела словесных искусств ГИИИ. Выпуск III. Пг.
— 1930: О Маяковском. Памяти поэта // Владимир Маяковский (однодневная газета), 1930, 24 апреля.
— 1969: Пушкин и его современники. М.
— 1977: Поэтика. История литературы. Кино. М.
— 1986: Кюхля. Рассказы. М.
— 1993: Литературный факт. М.
ТЮТЧЕВ, Ф. И. 2002–2004: Полное собрание сочинений в шести томах. М.
ФЛАКЕР, А. 1984: Путешествие в страну живописи: Мандельштам о французской живописи // Wiener Slavistischer Almanach. Sond. 14, 167–178.
ФЛЕЙШМАН, Л. С. 1981: Борис Пастернак в двадцатые годы. München.
— 1984: Борис Пастернак в тридцатые годы. Jerusalem.
— 2005: Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. СПб.
ФОМИН, Д. В., ЛОПАТИНА, Н. И. 2004: Гетевские торжества 1932 года в письмах и документах // Гете в русской культуре XX века. М., 382–402.
ФРАНК, С. Л. 1990: Сочинения. М.
— 2002: Кризис западной культуры // Бердяев, Н. А. Смысл истории. Новое средневековье. М., 343–363.
ФРЕЙД, 3. 1912а: Психологические этюды. М.
— 1912b: Психопатология обыденной жизни. М.
— 1912с: Леонардо да Винчи. М.
— 1923: Основные психологические теории в психоанализе. Сборник статей. М.
— 1925а: Психология масс и анализ человеческого «я». М.
— 1925b: Остроумие и его отношение к бессознательному. М.
ФРЕЙДИН, Ю. Л. 2001: «Просвечивающие слова» в стихотворениях Мандельштама // СБП, 235–241.
ХАЗАН, В. 1991: О. Мандельштам и С. Есенин: К вопросу о типологических творческих параллелях // Воронежский период в жизни и творчестве О. Э. Мандельштама. Воронеж.
ХАНЗЕН-ЛЁВЕ, О. А. 1998: Текст — текстура — арабески. Развертывание метафоры «ткани» в поэтике О. Мандельштама // Тыняновский сборник № 6–7–8. Под редакцией Е. А. Тоддеса. Москва, 241–269.
ХАРДЖИЕВ, Н. И. 1973: Примечания // Мандельштам, О. Э.: Стихотворения. БП. Л., 249–316.
ХЛЕБНИКОВ, В. 1986: Стихи. Ерусалим. Репринт издания 1922 г. М.
— 1986: Творения. М.
ЦВЕТАЕВА, М. II, 1994–1995: Собрание сочинений в семи томах. Составление, подготовка текста и комментарии А. Саакянц и Л. Мнухина. М.
ЧААДАЕВ, П. Я. 1991: Полное собрание сочинений и избранные письма. Т. I. М.
ЧУКОВСКАЯ, Л. К. 1997: Записки об Анне Ахматовой в трех томах. М.
ШАГИНЯН, М. С. 1923: Путешествие в Веймар. М., Пг.
— 1950: Гете. М.
ШАРЫПКИН, Д. М. 1972: Скандинавская тема в русской романтической литературе // Ранние романтические веяния. Л., 96–167.
ШВЕЙЦЕР, В. А. 1995: К вопросу о любовной лирике О. Мандельштама // МА, 154–162.
ШЕРВИНСКИЙ, С. В. 1964: Ранние встречи с Брюсовым // Брюсовские чтения 1963 года. Ереван.
ШКЛОВСКИЙ, В. Б. 1970: Тетива. О несходстве сходного. М.
— 1974: Собрание сочинений в трех томах. Т. III. М.
ШОШИН, В. А. 1994: Н. Гумилев и Н. Тихонов (Фрагменты книги «Повесть о двух гусарах») // НГ, 201–235.
ШПЕТ, Г. 1922: Эстетические фрагменты. Пб.
— 1989: Сочинения. М.
ШТРАЙХ, С. Я. 1976: Редакция и примечания // Лунин, М. С.: Сочинения. Нью-Йорк. Перепечатка с книги «Декабрист М. С. Лунин. Сочинения и письма». Пг. 1923 г.
ШТЕМПЕЛЬ, Н. Е. 1995: Мандельштам в Воронеже // ОМЕВ, 369–390.
ЭЙДЕЛЬМАН, Н. Я. 1987: Лунин и его сибирские сочинения // Лунин, М. С.: Письма из Сибири. ЛП. М., 301–352.
— 1990: Первый декабрист. М.
ЭЙХЕНБАУМ, Б. М. 1929: Мой временник. Словесность. Наука. Критика. Смесь. Л.
— 1969: О поэзии. Л.
— 1987: О литературе. Работы разных лет. М.
— 2001: Мой временник. М.
ЭПШТЕЙН, М. Н. 2006: Слово и молчание. Метафизика русской литературы. М.
ЭРЕНБУРГ, И. Г. 1990: Люди, годы, жизнь. Воспоминания в трех томах. Том первый. М.
— 2002: Портреты русских поэтов. ЛП. СПб.
ЭТКИНД, Е. Г. 1998: Материя стиха. СПб. Репринтное издание: Etkind, Е.: La matière du vers. Bibliothèque russe de l’institute d’etudes slaves. Tome XLVIII. Paris 1985.
ЯЗЫКОВ, Н. М. 1959: Стихотворения. Сказки. Поэмы. Драматические сцены. Письма. М., Л.
ЯКОБСОН, Р. / СВЯТОПОЛК-МИРСКИЙ, Д. 1975: Смерть Владимира Маяковского. Mouton, The Hague, Paris.
ЯКОБСОН, P. О. 1919: Задачи художественной пропаганды // Искусство, № 8, 5.9.1919.
— 1921: Новейшая русская поэзия. Набросок первый. Прага.
— 1987: Работы по поэтике. Составление и общая редакция М. Л. Гаспарова. М.
ALBRECHT, G., BÖTTCHER, К., GREINER-MAI, Н., KROHN, P. G. 1974: Lexikon deutschsprachiger Schriftsteller. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Band 2. VEB Bibliographisches Institut. Leipzig.
ANGRES, D. 1970: Die Beziehungen Lunačarskijs zur deulschen Literatur. Berlin.
AVERINCEV, S. 2006: «Die fremde Sprache sei mir eine Hülle…». Osip Mandel’štam denkt an Ewald von Kleist // DD20, 830–850.
BAINES, J. 1976: Mandelstam: the Later Poetry. Cambridge.
BARLETT, R. 1995: Wagner and Russia. Cambridge.
BARTHEL, M. 1917: Freiheit! Neue Gedichte aus dem Kriege. Jena.
— 1920a: Lasset uns die Welt gewinnen. Hamburg — Berlin.
— 1920b: Arbeiterseele. Werke von Fabrik, Landstraße, Wanderschaft, Krieg und Revolution. Jena.
BOELE, Otto. 1996: The North in Russian Romantic Literature. Amsterdam — Atlanta.
BROWN, Cl. 1973: Mandelstam. Cambridge.
BROYDE, St. 1975: Osip Mandel’štam and his Age. A Commentary on the Themes of War and Revolution in the Poetry 1913–1923. Cambridge.
ČIŽEVSKIJ, D. 1927: Tjutčev und die deutsche Romantik // ZfslPh, № 4, 299–323.
DORZWEILER, S. 1992: Boris Pasternak und Deutschland. Kassel.
DUTLI, R. 1985: Ossip Mandelstam — Dialog mit Frankreich. Zürich.
— 1991a: Kommentar // Mandelstam, Ossip: Gesammelte Essays. In 2 Bänden. Zürich.
— 1991b: Ein Fest mit Mandelstam. Über Kaviar, Brot und Poesie. Ein Essay zum 100. Geburtstag. Zürich.
— 1995: Europas zarte Hände. Essays über Ossip Mandelstam. Amman Verlag. Zürich.
— 1999: «Das bin ich. Das ist der Rhein» // Osip Mandel’štam und Europa. Hrsg. von Wilfried Potthoff. Heidelberg, 61–82.
— 2003: Meine Zeit, mein Tier: Ossip Mandelstam. Eine Biographie. Zürich.
ECKERMANN, J. P. 1836: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. 1823–1832. Erster Theil. Leipzig.
EVANS-ROMAINE, К. 1997: Boris Pasternak and the Tradition of German Romanticism. München.
FLICKINGER, B. 1983: Faust — der Künstler. Inspiration und Rationalität im Symbolismus Bijusovs // Faust-Rezeption in Russland und in der Sowjetunion. Fünfzehn Aufsätze mit einer Einführung. Hrsg. von G. Mahal. Faust-Museum Knittlingen, 70–75.
FORERO-FRANCO, O. 2003: Die Metapherin Osip Mandel’štams lyrischem Frühwerk. Heidelberg.
GOETHE, J. W. 1887–1918: Werke in 55 Bänden. Herausgegeben im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen. Weimar.
GRÜBEL, R. 2003: Zauber und Abwehr — Wassilij Rosanows ambivalente Deutschlandbilder // Traum und Trauma. Russen und Deutsche im 20. Jahrhundert. Hrgs. von Dagmar Herrmann und Astrid Volpert. München, 60–115.
GRÜBEL, R./ SMIRNOV, I. 1997: Die Geschichte der russischen Kulturosophie im 19. und 20. Jh. // Mein Russland. Literarische Konzeptualisierung und kulturelle Projektionen, Wiener Slawistischer Almanach, № 44, 5–18.
HEINE, H. 1911–1915: Sämtliche Werke in zehn Bänden. Unter Mitwirkung von Jonas Fränkel, Ludwig Krähe, Albert Leitzmann und Julius Petersen. Leipzig.
HESSE, P. 1989: Mythologie in moderner Lyrik: Osip E. Mandel’štam. Bern, Frankfurt, New York, Paris.
HEXELSCHNEIDER, E. 1984: Noch einmal: A. N. Radiščevs «Žuravli» nach Ewald von Heist. Zu einem Berührungspunkt zwischen Radiščev, Kleist und Herder // Zeitschrift für Slawistik, № 29, 511–521.
HÖLDERLIN, F. 1953: Sämtliche Werke (Stuttgarter Hölderlin-Ausgabe). Hrsg. Von F. Beissner. B. 2. Stuttgart.
IVANOV, V. 1994: Mandelstam and Biology // CM, 280–298.
JAKOBSON, R. 1979: Selected Writings. V. On Verse, its Masters und Explorers. The Hague, Paris, New York.
KAMMER, H., BARTSCH, E. 1992: Nationalsozialismus. Begriffe aus der Zeit der Gewaltherrschaft 1933–1945. Hamburg.
KEGEL, P. D. 1994: Ethnicity in the Poetry and Prose of Osip Mandelstam. Ann Arbor.
KISSEL, W. St. 1998: Zur Poetik der Memoiren Nadežda Mandel’štams. Biographische Rekonstruktion nach dem Kulturbruch der Stalin-Zeit // Welt hinter dem Spiegel. Zum Status des Autors in der russischen Literatur der 1920er bis 1950er Jahre. Herausgegeben von Klaus Städke. Berlin, 269–296.
KLEIST, E. Ch. 1771: Sämtliche Werke. B.l. Berlin.
KLINGER, F. M. 1791: Fausts Leben, Taten und Höllenfahrt. Sankt-Petersburg.
KLUGE, R.-D. 1967: Westeuropa und Russland im Weltbild Aleksandr Bloks. Ein Überblick über den Verlauf der Rezeption seines Werks. München.
— 1998: Richard Wagner in Russland // WS XLIII, 271–284.
— 2006: Aleksandr Blok — Dichter der Zeitenwende // DD20, 727–752.
KOENEN, G. 1998: «Indien im Nebel». Die ersten Reisenden ins «neue Rußland». Neun Modelle projektiver Wahrnehmung // DRR, 557–615.
KÖRNER, R. 1975: Die russische Rezeption von Ewald Christian von Kleists Fabel «Der gelähmte Kranich» // Festschrift für Alfred Rammelmeyer. Hrsg. von H. B. Harder. München, 111–122.
KRAUS, H.-Ch. 1998: «Untergang des Abendlandes». Rußland im Geschichtsdenken Oswald Spenglers // DRR, 277–312.
LACHMANN, R. 1981: Zur Frage der Wertung poetischer Verfahren (am Beispiel einer Lomonosov-Ode) // Colloquium Slavicum Basiliense. Gedankschrift für H. Schroder. Hrsg. von H. Riggenbach. Bern, 361–385.
— 1990: Gedächtnis und Literatur. Intertextualitat in der russischen Moderne. Frankfurt.
LAUER, R. 2001: Mandel’štams Poetik aus dem Geiste des Akmeismus // Literarische Avantgarde. Festschrift für Rudolf Neuhäuser. Hrsg.: Horst-Jürgen Gerigk. Heidelberg, 97–108.
MEYER, H. 1991.: Eine Episode aus Mandel’štams «stummen Jahren»: Die Max-Barthel-Übersetzungen // WS, XXXVI. N. F. XV, 72–98.
— 1999: Das Übersetzen des «chaos iudejskij» in Osip Mandel’štams Rauschen der Zeit // Juden und Judentum in Literatur und Film des slavischen Sprachraums. Herausgegeben von Peter Kosta, Holt Meyer und Natascha Drubek-Meyer. Wiesbaden, 193–226.
MILTCHINA, V. 1998: Germaine de Stäels «De l’Allemagne» in Russland // DD19, 604–625.
MOßMANN, W., SCHLEUNING, P. 1978: Alte und neue politische Lieder. Reinbek.
MYERS, D. 1992: «Hellenism» and «Barbarism» in Mandel’shtam // Symbolism and after. Essays on Russian Poetry in Honour of Georgette Donchin. London, 85–101.
NERLER, P. 1993: Mandelstam und Deutschland // Ossip Mandelstam 1891–1938. «Ich muß nun leben, war schon zweifach tot». Hrsg.: «Literaturwerkstatt» und «Leipziger Bibliophilen-Abend» e. V. Katalog zur Ausstellung: Berlin — Freiburg i. Br. — Heidelberg — Frankfurt a. M. — Leipzig, 122–139.
NESBET, A. 1988: Tokens of Elective Affinity: The Uses of Goethe in Mandel’štam // The Slavic and East European Journal, № 32, I, 109–125.
NILSSON, N. Å. 1974: Osip Mandelstam: Five Poems. Stockholm.
NÖLDEKE, E. 1986: Boris Leonidovič Pasternak und seine Beziehung zur deutschen Kultur. Tübingen.
OBOLENSKAJA, S. 1998: Offiziere erzählen… Aufzeichnungen russischer Teilnehmer am Befreiungskrieg // DD19, 137–155.
PLOTNIKOV, N.; KOLEROV, M. 2003: «Den inneren Deutschen besiegen» // Traum und Trauma. Russen und Deutsche im 20. Jahrhundert. Hrgs. von Dagmar Herrmann und Astrid Volpert. München, 15–59.
POLLAK, N. 1983: The Obscure Way to Mandel’štam′s Armenia. Ann Arbor.
PRZYBYLSKI, R. 1964: Arkadia Osipa Mandelsztama // Slavia Orientalis, 13, № 3, 243–262.
ROGOV, K. 1998a: Erben und Gegner — die Dekabristen // DD19, 181–208.
— 1998b: Russische Patrioten deutscher Abstammung // DD19, 551–603.
RONEN, O. 1977: A Beam upon the Axe // SH, Vol. I, 158–176.
— 1983: An Approach to Mandel’štam. Jerusalem.
ROTHE, H. 1968: N. M. Karamzins europäishe Reise: Der Beginn des russischen Romans. Bad Homburg, Berlin, Zürich.
— 1975: Mandel’štam «Der Dekabrist» // Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen. Band 212, 95–115.
— 1994: Mandelstam and Motifs from Classical Antiquity // CM, 308–317.
SCHICKELE, R. 1914: Die Leibwache. Gedichte. Berlin.
SCHLOTT, W. 1981: Zur Funktion antiker Göttermythen in der Lyrik Osip Mandel’štams. Frankfurt am Main, Bern.
— 1988: Das Hohelied der deutschen Sprache — Osip Mandel’štam // Deutsche und Deutschland in der russischen Lyrik des frühen 20. Jahrhunderts. Hrsg. von D. Herrmann und J. Peters. München, 275–293.
SEE, K. v. 2006: Ideologie und Philologie. Aufsätze zur Kultur— und Wissenschaftsgeschichte. Heidelberg.
SIMONEK, St. 1993a: Mandel’štam und Mozart. Zur Neubewertung einer literarischen Figur // WS, XXXVIII. N. F. XVII, 12–27.
— 1993b: Im Blindflug durch die Wiener Moderne. Osip Mandel’štam als Übersetzer Arthur Schnitzlers // Sprachkunst, XXIV, I, Wien, 41–50.
— 1994a: Osip Mandel’štams Dialog mit Ewald Christian von Kleist (Zu Mandel’štams Gedicht «К nemeckoj reči» // ZfslPh, L1V. Heidelberg, 62–88.
— 1994b: Mit Mandel’štam und Goethe auf dem Eise // Wiener Slavistisches Jahrbuch, Band 40, 105–112.
SIPPL, C. 1997: Reisetexte der russischen Moderne. Andrej Belyj und Osip Mandel’štam im Kaukasus. München.
SPENGLER, O. 1924: Der Untergang des Abendlandes. München.
TARANOVSKY, K. 1974: The Jewish Theme in the Poetry of Osip Mandelstam // RL, Vol. 7–8, 133–158.
— 1976: Essays on Mandel’štam. Harvard Slavic Studies. Volume VI. Cambridge, Mass.
TERRAS, V. 1966: Classical Motives in the Poetry of Osip Mandel’štam // Slavic and European Journal, Vol. X, № 3, 251–267.
— 1999: Mandelstam and Novalis // Osip Mandel’štam und Europa. Herausgegeben von Wilfried Potthoff. Heidelberg, 327–343.
TOLLER, E. 1978: Gesammelte Werke. Band 2. Dramen und Gedichte aus dem Gefängnis (1918–1924). Hrsg: J. M. Spalek und W. Frühwald.
UFFELMANN, D. 1999. Die russische Kulturosophie. Logik und Axiologie der Argumentation. Frankfurt am Main et al.
WACHSMANN, С. 2001: Der sowjetische Heine. Die Heinrich-Heine-Rezeption in den russischsprachigen Rezeptionstexten der Sowjetunion (1917–1953). Berlin.
WERBERGER, A. 2005: Postsymbolistisches Schreiben. Studien zur Poetik des Akmeismus und Osip Mandel’štams. München.
WERFEL, F. 1967: Gesammelte Werke in Einzelbanden. Gedichte aus den Jahren 1908–1945. Herausgegeben von K. Beck.
WEST, D. M. 1980: Mandelstam: The Egyptian Stamp. Birmingham.
ZORIN, A. 1998: Sehnsucht nach dem Süden — Konstantin Batjuškov // DD19, 504–527.
Примечания
1
Произведения О. Мандельштама цитируются по: Мандельштам 1993–1997: I–IV. Первая, римская, цифра означает номер тома, вторая, арабская, — страницы. В текстологически и библиографически проблемных случаях — по: Мандельштам 1995. Случаи цитации по другим источникам специально отмечаются. Курсив, в том числе и в цитатах, — наш. Курсив цитируемых авторов специально маркируется или оговаривается.
(обратно)2
О генезисе формулы «тоски по мировой культуре» см. подробнее в главах 2.3.4.2 и 4.1.
(обратно)3
Под культурософией, в отличие от культурологий, Р. Грюбель и И. Смирнов (Grübel / Smirnov 1997: 5) понимают оценочное мышление о культуре (культурах). Понятие культурософии закрепилось в научной литературе после работы Дирка Уффельманна о логике аргументации в русской культурософии XIX века (Uffelmann 1999). Мандельштамовская философия культуры, которую также можно было бы назвать европософией, развивается в дискурсивном пространстве между культурософией и собственно культурологией с ее презумпцией вне-нахождения мыслителя по отношению к описываемой культуре (культурам).
(обратно)4
Вслед за Тарановским (2000: 77) мы в большинстве случаев употребляем выражения немецкая образность и немецкая (или любая другая национальная) тема без кавычек.
(обратно)5
Подавая в 1929 году заявку на несостоявшуюся повесть «Фагот» о поисках «неизвестной песенки Шуберта», поэт намеревался «дать в историческом плане музыкальную тему (Германия)» (II, 603). См. концовку главы 2.2.5 настоящего исследования.
(обратно)6
В переработанном и дополненном виде статья вошла в: Тарановский 2000: 77–105.
(обратно)7
Наука о литературе «обречена» на использование метафор вообще и терминологических метафор смежных гуманитарных (и естественно-научных) дисциплин в частности. Оглядываясь на опыт перенесения музыкально-музыковедческих понятий в литературоведение, хочется указать не только на такие проблемные случаи, как полифония и мелодика (стиха), но и напомнить, какими работоспособными оказались — при должном переосмыслении — такие поэтологические и стиховедческие понятия, как мотив, ритм и др.
(обратно)8
Свое прочтение еврейской компоненты в творчестве Мандельштама предложил и Л. Ф. Кацис (2002). Но уже в предисловии к своей монографии он заявил, что не ставит перед собой «задачу изучения еврейской темы у Мандельштама в рамках истории русской литературы»; по словам исследователя, «само еврейство» Мандельштама его интересует исключительно с позиций иудаики (2002: 13). Кацисом был проведен «анализ жизненной позиции Мандельштама и ее трансформаций на фоне еврейских биографических стратегий» (2002: 18). Еврейской теме в творчестве Мандельштама посвящена работа Патрика Кегеля (Kegel 1994). Деконструктивистскую трактовку еврейской темы в «Шуме времени» представил в своей статье Хольт Майер (Meyer 1999).
(обратно)9
См. работы Р. Пшыбыльского (Przybylski 1964), В. И. Терраса (Terras 1966), К. Тарановского (1972), Н. А. Нильссона (Nilsson 1974: 35–46), С. А. Ошерова (1984), Ю. И. Левина (1975), Г. А. Левинтона (1977), М. Л. Гаспарова (1986) и П. Хессе (Hesse 1989). В 1990-е годы появились новые работы, касающиеся античной темы у Мандельштама (Аверинцев 1995; Лекманов 1995; Немировский 1990 и 1995; Швейцер 1995; Ковалева / Нестеров 1995; Павлов 1995 и др.).
(обратно)10
У истоков исследования итальянской темы в творчестве Мандельштама стоят текстологически-поэтологические разыскания И. Семенко (1970). Среди последних работ по этому вопросу — исследование С. Гардзонио (2006: 68–82), которое косвенно затрагивает и нашу тему. Подробнее об этом см. главу 4.1 настоящей работы.
(обратно)11
См. биобиблиографические и поэтологические работы П. Нерлера (1990); Р. Дутли (Dutli 1995: 101–116); Н. Поллака (Pollak 1983), К. Зиппль (Sippl 1997), Рейфилд 1995.
(обратно)12
См. также короткие заметки А. Флакера (1984) и Г. А. Левинтона (2001). Левинтон бегло обозначил романскую тему у Мандельштама, при этом частично затронув и немецкую тему.
(обратно)13
Между тем текстологические, поэтологические и историко-литературные открытия 1990-х годов сделали необходимым пересмотр многих положений Дутли. И все же, несмотря на частые эссеизмы, несоблюдение хронологии и определенные идеологические натяжки (работа Дутли была написана в 1985 году), сама установка на анализ отдельно взятой национальной темы в творчестве Мандельштама оказалась плодотворной.
(обратно)14
С результатами исследований Тарановского был знаком участник его семинара С. Бройд. В своем исследовании революционной и военной темы у Мандельштама Бройд существенно расширил начатое Жирмунским исследование немецкой линии в стихотворении «Декабрист» (Broyde 1975: 33–46).
(обратно)15
П. М. Нерлер также исследовал биографические связи Мандельштама с Германией и написал очерк о пребывании поэта в Гейдельберге (1994).
(обратно)16
Этому же стихотворению посвятил свои рассуждения С. С. Аверинцев (Averincev 2006). Судя по всему, статья, опубликованная уже после смерти автора, до конца дописана не была. Ср. нетипичную для известного культуролога «оборванную» почти на полуслове концовку статьи.
(обратно)17
Некоторых аспектов немецкой тематики у Мандельштама (протестантизм, Бах, Бетховен) косвенно коснулся Д. Сегал (1999). Отдельные примеры немецкой образности были отмечены в комментариях А. Д. Михайлова и П. М. Нерлера (1990), Р. Дутли (Dutli 1991а), А. Г. Меца (1995), М. Л. Гаспарова (2001а). О немецкой теме в стихотворении «Лютеранин» писали в своих статьях Е. А. Тоддес (1974), А. Л. Осповат и О. Ронен (1999). Множество находок, касающихся немецкой темы у Мандельштама, содержатся в фундаментальном труде Ронена (Ronen 1983).
(обратно)18
Мандельштам родился в один год с В. М. Жирмунским (1891–1971) и Л. В. Пумпянским (1891–1940); он почти ровесник В. Б. Шкловского (1893–1984), Ю. Н. Тынянова (1894–1943), Б. М. Эйхенбаума (1886–1959) и Р. О. Якобсона (1896–1982).
(обратно)19
О взаимосвязи поэтологических установок Мандельштама и теоретических положений опоязовцев см. подробнее у Е. А. Тоддеса (1986: 78–79). Р. Д. Тименчик, в свою очередь, затронул проблему акмеистических увлечений Тынянова (ср. Тименчик 1986: 59–63). Ср. также важные дополнения к статье Тименчика у К. А. Осповата (2007).
(обратно)20
К. Ф. Тарановский пришел к исследованию семантики Мандельштама через наблюдения над метрикой поэта. Штудии Тарановского наследуют исследованиям по «грамматике поэзии» Р. Якобсона и стиховедческим изысканиям А. Белого, Г. Шенгели, Б. В. Томашевского, представителей Пражского лингвистического кружка и московского формализма. Подробнее об истории метода Тарановского см. работы очных и заочных учеников Тарановского — М. Л. Гаспарова (2000а), О. Ронена (2000b), Г. А. Левинтона / Р. Д. Тименчика (2000).
(обратно)21
Для проблемы изучения иноязычной интертекстуальности не потеряли своей актуальности методико-теоретические положения Ю. Н. Тынянова о влияниях и заимствованиях, изложенные в статье «Тютчев и Гейне»: при переводе иноязычный текст по определению попадает в лексико-стилистический строй другой литературы (1977: 29–37).
(обратно)22
Совершенно иными путями и методами, привлечение которых нарушило бы методическую гомогенность настоящей работы, шла школа интертекстуальности, отталкивающаяся не от формалистов, а от бахтинских концепций диалогичности. О теории и практике «диалогической» интертекстуальности подробнее см. в книге Р. Лахманн «Память и литература» («Gedächtnis und Literatur», Lachmann 1990).
(обратно)23
Не случайно исследователи и последователи интертекстуального метода, пытаясь оценить вклад книги К. Ф. Тарановского в мандельштамоведение, «обнаружили, что получается статья о Мандельштаме», а не о методе Тарановского (Левинтон/Тименчик 2000: 404). И это не случайно — особенности метода Тарановского связаны с особенностями поэтики Мандельштама. А значит, этот метод можно только с большой осторожностью применять при изучении других авторов. Ср. в связи с этим: Баран (1993: 10, 69, 75, прим.1). Речь идет не об узурпации метода, а о необходимости корректировки его положений в зависимости от особенностей поэтики исследуемого автора (Пастернака, Хлебникова и др.).
(обратно)24
Мы надеемся, что если выбор исследовательского инструментария для настоящей работы кому-нибудь и покажется методическим или методологическим архаизмом, то в опоязовском смысле: «архаисты — новаторы». Как известно, В. Шкловский предлагал для книги Тынянова «Архаисты и новаторы» другое название, «которое выразило бы его (Тынянова. — Г.К.) мысль еще ясней: „Архаисты — новаторы“» (Шкловский 1974: 608). По мнению В. Шкловского, «для нового построения модели могут понадобиться переосмысленные элементы старых систем. Системы сопрягаются, спорят, пародируют друг друга… приобретают новые мотивировки» (1974: 614). Опоязовская модель литературной эволюции переложима и приложима к пост-постструктуралистской ситуации современных гуманитарных дисциплин вообще и литературоведения в частности. Порой по ходу исследования нам приходилось «обнажать» этот методический прием, а порой он, став минус-приемом, говорил сам за себя.
(обратно)25
Важнейшим шагом для преодоления такой практики явилась «Книга об акмеизме» О. А. Лекманова, в которой, в частности, была сделана наиболее успешная попытка историко-литературной дифференциации понятия «акмеизм» и его персонализации (2000: 9–16), а также рассмотрено участие А. А. Ахматовой в формировании «акмеистических» мифов, деформировавших и деформирующих работу «акмеизмоведов» (2000: 141–154).
(обратно)26
В другую, более опасную ловушку попадают вследствие ходячего неразличения акмеизма как маски поэтологически-культурософских манифестов поэтов гумилевского круга и «акмеизма» как ярлыка, которым пользовались критики Мандельштама 1920–1930-х годов. В этом смысле многие «акмеизмоведы» 1960–1980-х годов просто переняли пролеткультовский ярлык Мандельштама, в соответствии со своими политическо-эстетическими пристрастиями поменяв советский минус на антисоветский плюс. В результате этого произошла инструментализация как Мандельштама, так и самого мандельштамоведения в соответствии с идеологическими нуждами холодной войны, исследовательские рефлексы которой ощущаются до сих пор. Некоторых аспектов этой инструментализации мы коснулись, рассматривая эдиционные и исследовательские практики мандельштамовских переводов из М. Бартеля (2.3.4).
(обратно)27
Сходную интерпретацию мандельштамовского крещения дал в поэтической форме А. Кушнер: «Тянут руки к живым обреченные дети. / Будь я старше, быть может, в десятом году / Ради лекций в столичном университете / Лютеранство бы принял…» (2000: 49).
(обратно)28
С. С. Аверинцев в своих рассуждениях о мотивах крещения смещает акценты: «Мандельштам хотел креститься, так сказать, в „христианскую культуру“ (выражение, употребленное им еще в 1908 году в письме бывшему учителю В. Гиппиусу)» (1991: 291). Между тем в письме Гиппиусу Мандельштам как раз и не уверен, «христианская ли» эта религиозность. Ослышка Аверинцева попала и в интерпретации других исследователей (ср. Гаспаров 1995: 329; Лекманов 2004: 39).
(обратно)29
Исключения немногочисленны: «церковные хоры и монастырские вечера» в стихотворении «В холодных переливах лир…» (1909), описание католической церкви в «Когда мозаик никнут травы…» (1910), «взор византийца» в посвященном православному С. Каблукову «Я помню берег вековой…».
(обратно)30
Помимо этого Аверинцев описывает мандельштамовское отношение к протестантизму в момент крещения (май 1911 года) на основании поэтических высказываний 1912–1913 годов, при этом игнорируя принадлежность «Лютеранина» и «Баха» к фазе полемики акмеистов и символистов.
(обратно)31
Проблема выбора (а точнее, синтеза) между католичеством и православием стояла не перед Мандельштамом, а перед Вячеславом Ивановым, который и был главным объектом рефлексии и частичной самоидентификации Аверинцева. Ср. Аверинцев (2002: 107–109).
(обратно)32
Ср. случай Ю. Г. Оксмана (Эйдельман 1990: 162).
(обратно)33
В сонете «Шарманка» того же года герой стихотворения — «бродяга»-пешеход — испытывает «сентиментальное волненье» (I, 77). В «Лютеранине» сантиментам места уже нет.
(обратно)34
В «Шуме времени» Мандельштаму вспомнится, что «в Майоренгофе, у немцев, играла музыка — симфонический оркестр в садовой раковине — „Смерть и просветление“ Штрауса („Tod und Verklärung“. — Г.К.). Пожилые немки с румянцем на щеках, в свежем трауре, находили свою отраду» (II, 364). Последнее предложение — реминисценция образа «заплаканных дам» из стихотворения «Лютеранин». В то же самое время упоминание румяных немок в «свежем трауре» — невольное указание на возможный курляндский источник образности «Лютеранина». Подробнее см. главу 2.4.1.
(обратно)35
См. в связи с этим стихотворения 1909 года: «Пилигрим», «Ты улыбаешься кому…» и «Озарены луной ночевья…».
(обратно)36
Г. Морев указал на возможную связь стихотворения «Лютеранин» с программным и очень популярным в начале XX века стихотворением Д. Мережковского «Дети ночи» (ср. Мец 1995: 530): «Устремляя наши очи / На бледнеющий восток, / Дети скорби, дети ночи / Ждем, придет ли наш пророк. / <…> Мы неведомое чуем / И с надеждою в сердцах / Умирая мы тоскуем / О несозданных мирах / Дерзновенны наши речи, / Но на смерть осуждены / Слишком ранние предтечи / Слишком медленной весны» (Мережковский 2000: 470). Помимо сходств в лексике обращает на себя внимание идентичное употребление местоимения «мы». Мандельштам полемизирует с Мережковским и другими символистами и отмежевывается от некоторых констант символистского понимания роли человека и поэта как участника теургического действа. Ср. также у А. Вербергер (Werberger 2005: 212).
(обратно)37
Даже если Мандельштам и не преследовал такой далеко идущей подтекстуальной стратегии, «подводный камень веры» — лишнее свидетельство неопределенности религиозных чувств поэта в начале 1910-х. Героя Мандельштама страшит именно тот «подводный веры камень», о котором говорит Тютчев. Вера влечет и одновременно настораживает, ведь она может привести к опасной самонадеянности и самовозвеличиванию. В стихотворении «Отчего душа так певуча…», также имеющем морскую метафорику, программно противопоставляется самозабвение: «Я забыл ненужное „я“» (I, 68). «Ненужное „я“» — противоположность апофеозу «человеческого я», которое Тютчев вменяет в вину протестантизму. Развернутый комментарий других подтекстов тютчевско-мандельштамовского «камня веры» см. Осповат / Ронен (1999: 48–55).
(обратно)38
С одной стороны, данное предположение еще раз указывает на то, что формалисты во многом черпали свои идеи из современной литературной полемики, и, с другой стороны, косвенно подчеркивает метапоэтическую направленность стихов Мандельштама 1912–1913 годов.
(обратно)39
Воспоминание словоформул лермонтовского текста в рамках интертекстуального «диалога» с Тютчевым — подтекстуально мотивировано. По-видимому, поэтическая память Мандельштама зафиксировала сходство между зачином у Лермонтова «Не верь, не верь…» (1957: I, 27) и тютчевской строкой «Не верь, не верь поэту, дева…» (2002:1, 186). Стихотворение Лермонтова было включено в сборник 1840 года, где датировано 1839 годом (Найдич 1957: 347). В свою очередь, тютчевское «Не верь, не верь поэту, дева…» вышло в журнале «Современник» в 1839 году (Пигарев 1957: 516), реминисцирование со стороны Лермонтова более чем вероятно. В любом случае, Лермонтов, по нашему предположению, в рифмовке первой строфы избыток — напиток реминисцирует рифмы тютчевского стихотворения «В душном воздуха молчанье…», опубликованного в 1836 году. Таким образом Мандельштам в своем смешении тютчевского и лермонтовского текстов «угадал» их интертекстуальность. Забегая вперед, хочется отметить, что именно стихотворение «В душном воздуха молчанье…» станет центральным объектом подтекстуальной немецкой «тютчевианы» Мандельштама. См. главу 2.3.3.5 настоящего исследования. Вполне возможно, что стихотворение Лермонтова отложилось в памяти Мандельштама еще и потому, что его предваряет эпиграф из любимых Мандельштамом «Ямбов» О. Барбье.
(обратно)40
Тютчев интертекстуально сталкивает «высокое ученье» протестантизма («Я лютеран люблю богослуженье…») с речью «ученого» пастора («И гроб опущен уж в могилу…»), положительно коннотированное ученье и иронически-скептически поданную ученость.
(обратно)41
Ср. с высказыванием С. С. Аверинцева о том, что «путь Мандельштама к бесконечному — …через принятие всерьез конечного как конечного, через твердое полагание некоей онтологической границы» (1996: 203).
(обратно)42
Различия в «протестантских» стихотворениях Тютчева и Мандельштама подтверждают предположение Д. М. Сегала о том, что «всюду, где Мандельштам говорит о Тютчеве», «скрыта глубокая и всегда очень плодотворная полемика» (1998: 640).
(обратно)43
По-видимому, начало канонизации Тютчева в символизме положила статья Владимира Соловьева «Поэзия Ф. И. Тютчева» (1895), положения которой были развиты в статье A. Л. Волынского «Философия и поэзия» (1900: 225–235) и И. И. Коневского «Мистическое чувство в русской лирике» (1971: 199–219). Статья последнего вышла в 1904 году, в период мандельштамовского увлечения Коневским. Ср. метонимическую привязку Тютчева и Коневского в главе «Эрфуртская программа» «Шума времени» (II, 376) (подробнее см. в главе 2.4.1.2). С тютчевскими текстами в 1890–1910-е годы работали практически все символисты; наиболее разножанрово, от идентификационных генеалогических конструкций предтеч символизма до собственно историко-литературного тютчеведения — В. Я. Брюсов. О поэтической и эссеистической тютчевиане Брюсова см. статьи В. В. Абашева (1988) и Е. П. Тиханчевой (1973: 5–42).
(обратно)44
Кроме «Айя-Софии» и «Notre Dame» ср. описание евхаристии в стихотворении 1915 года «Вот дароносица, как солнце золотое…» (I, 114–115).
(обратно)45
Само слово «разноголосица» не однозначно. Оно может указывать и на диссонанс, и на многоголосие. В стихотворении «В разноголосице девического хора…», посвященном московским церквям, Мандельштам употребляет это слово во втором значении; в «Бахе» же «разноголосица» не гармоничная полифония, а разлад.
(обратно)46
Еще более очевидно смешение православной и католической обрядности в стихотворении 1915 года «Вот дароносица, как солнце золотое…» (I, 114–115).
(обратно)47
В связи с появлением образа Баха в акмеистической полемике с символистами ср. также двух «стариков» — «предтеч» акмеизма: «несговорчивого старика» Баха и Верлена в стихотворении «Старик» (I, 86).
(обратно)48
Ср. у Л. В. Пумпянского, еще не учитывавшего опыт модернизма: «Тютчев был, вероятно, последним поэтом, знавшим это слово (орган. — Г.К.) и получившим его из музыкальной лексикологии Державина» (2000: 249). И здесь Мандельштам оказывается продолжателем Тютчева.
(обратно)49
По Гумилеву (1990: 175), Мандельштам полюбил «северную пристойность» и «суровость обыкновенной жизни»: немецко-тютчевские образы самого Мандельштама (суровость, пристойность) перекодируются Гумилевым в поэтологические характеристики.
(обратно)50
Характеристика Гумилева может показаться не совсем точной: в «Бахе» описывается не «концерт», а лютеранское богослужение, частью которого и является музыка Баха. Причина гумилевской «неточности» не в невнимательном прочтении, а в знании биографического подтекста стихотворения. Вероятно, впечатления от концерта Баха наложились у Мандельштама на впечатления от протестантского богослужения. Косвенным подтверждением тому служит первый стих другого стихотворения — «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа…».
(обратно)51
Ср. также Лекманов 2006а: 91.
(обратно)52
О некоторых других аспектах «богословского» спора акмеистов с символистами (имяславие) см. Паперно (1991: 32).
(обратно)53
Композиционные особенности поэтического сборника Мандельштама косвенно подметили еще его современники. Вот как И. Эренбург начал разговор о Мандельштаме периода «Камня»: «„Мандельштам“ — как торжественно звучит орган в величественных нефах собора» (2002: 82). «Орган» — из «протестантского» «Баха», «нефы собора» — из «католического» «Notre Dame». Проблема композиции мандельштамовских сборников стихов и прозы требует дальнейшего изучения. Мы затронули лишь один из примеров композиционных стратегий Мандельштама.
(обратно)54
Графическим выражением «карьеры» отдельного слова у символистов было его написание с заглавной буквы. Отдельного разговора заслуживает влияние немецкой традиции написания существительных с большой буквы на эту символистскую и досимволистскую (!) практику.
(обратно)55
Ср. Голлербах 1994: 581 (или 1998:121); Лившиц 1989: 521; Шошин 1994: 213.
(обратно)56
См. не только статью Вяч. Иванова о Гете (1912), но и фрагмент лекции А. Белого о символизме (1908: 39), а также размышления о гетеанстве других символистов в «Арабесках» (1911: 60–61, 64–73, 225–226, 246–247, 442–443, 449, 459–460). См. также у Л. Л. Кобылинского (1910: 234–235, 248–264). «Фауст» был главным объектом гетеаны В. Брюсова. Ср. «гетевские» места у Брюсова («Во дни великого страдания…»; 1933: 640; 1955: I, 300–301, роман «Огненный ангел» и перевод «Фауста»), О связи Брюсова с «немецкой культурой» Средневековья писал Б. И. Пуришев (1968).
(обратно)57
Сходную полемику с гетеанскими идеалами символизма можно заметить и у футуристов. Ср. эпатажное сравнение В. Маяковского в поэме «Облако в штанах»: («гвоздь у меня в сапоге / кошмарней, чем фантазия у Гете!»: 1955: 1, 183), а также нападки на концепции гетеанствующих символистов о «вечно женственном» в манифесте «Слово как таковое» (Крученых / Хлебников 2002: 235).
(обратно)58
О роли Вагнера в культуре начала XX века см. также работы А. А. Гозенпуда (1990), Р. Барлетт (Barlett 1995) и Р.-Д. Клюге (Kluge 1998). Наш анализ «Валкирий» не дает нам повода присоединиться к мнению Клюге, пришедшего к выводу, что Мандельштам был вагнерианцем (ср. Kluge 1998: 279). На фоне общесимволистского вагнеризма выделяется скептическая позиция В. Розанова. Подробнее см. Grübel 2003: 89–91.
(обратно)59
Ср. в данном случае и «Валкирии» Ап. Майкова. Ср. также отказ от смягчения л в написании «Валгаллы» в стихотворении «Когда на площадях и в тишине келейной…», отсылающем к батюшковской Валкале в стихотворении «На развалинах замка в Швеции» (Батюшков 1978: 203). Подробнее см. в главе 1.4.2. Этот и другие случаи (особенно когда речь заходит о мире или мiре, ср. подробнее в главах 1.3.3 и 2.3.4.3) еще раз убеждают в необходимости публикации дореволюционных текстов в дореволюционной и шире — авторских текстов в авторской орфографии, имеющей интертекстуальное значение. То же требование касается и пунктуации.
(обратно)60
Начальные главы «Онегина» уже служили для Мандельштама объектом реминисценций. Ср. лексическо-ритмически адекватные «Да обретут мои уста» из мандельштамовского «Silentium» с пушкинскими «С ней обретут уста мои / Язык Петрарки и любви» (Пушкин 1957: V, 30). Ср. и «морское» обрамление обоих отрывков: «адриатические волны» у Пушкина и рождение Афродиты из морской пены у Мандельштама.
(обратно)61
Подстрочный перевод: «Занавес падает. Представление закончилось. Дамы и господа расходятся по домам. Понравилось ли им представление? Мне кажется, я слышал, как шумели аплодисменты».
(обратно)62
За стихотворением Гейне «Valkyren» следует в сборнике «Romanzero» стихотворение «Karl I», мотивы которого позднее появятся у Мандельштама (см. главу 1.4.5).
(обратно)63
Пик этой полемики — публикации акмеистических манифестов Гумилева и Городецкого — приходится как раз на 1913 год, время создания «Валкирий».
(обратно)64
Трезвым сопоставлением историко-литературных фактов анализ О. Лекманова особенно выделяется на фоне пространных интерпретаций и оценок «Валкирий». Так, для К. Брауна «Валкирии» являются «не более чем словесной игрой» (Brown 1973: 195), В. В. Мусатов увидел в образах «Валкирий» предзнаменование будущего разочарования поэта «театральностью» петербургской культуры (2000: 124). В другой интерпретации «конец „громоздкой оперы“ включается в широкий круг ассоциаций на тему „конца“, ощущаемого в воздухе истории» (Тагер 1988: 452).
(обратно)65
Мандельштаму мог запомниться этот сюжет и благодаря его привязке к российскому контексту той эпохи (начало XIX в.), которая стояла в центре поэтической рефлексии Мандельштама. Подробнее см. главу 1.4.1.
(обратно)66
Ср. Schlott (1981: 91–97). Обзор исследований на эту тему см. в примечаниях А. Меца (1995: 537).
(обратно)67
В. Шлотт указывает на интертекстуальное родство мандельштамовского «огня» и «огнепоклонничества» с образами стихотворений Иванова «Beethoveniana», «Missa solemnis», «Sogno Angelico» и «Творчество» из сборника «Кормчие звезды» (Schlott 1981: 86–87). Вполне возможно, что не только некоторые тематические линии (дионисийство), но и конкретные образные детали Иванова попали в поле зрения Мандельштама при написании «Оды Бетховену».
(обратно)68
Здесь подхватывается символистский пафос «горения», с которым Мандельштам полемизировал в «Лютеранине». В связи с топикой огнепоклонничества у символистов ср. также «Огонь» Бальмонта: «Огнепоклонником я прежде был когда-то, / Огнепоклонником останусь я всегда» (Бальмонт 1980: 213).
(обратно)69
Ср. в связи с этим мысли Д. Бурлюка о «единой эстетической России» в сборнике «Весеннее контрагентство муз» (1915: 101–106), а также совместный сборник футуристов и символистов «Стрелец» (1915). Уже в новой пост-революционной ситуации позиция такого поэтологического соглашательства была раскритикована Р. Якобсоном (1919).
(обратно)70
Выражением «серьезная пародия» вслед за Тыняновым оперировал и сам Мандельштам. В эссе «Литературная Москва», критикуя М. Цветаеву и А. Радлову, он говорит о том, что «на долю женщин в поэзии выпала огромная область пародии, в самом серьезном и формальном смысле этого слова» (II, 257). Подробнее о перекличках поэтологических воззрений Мандельштама с концепциями опоязовцев см. у Е. А. Тоддеса (1986).
(обратно)71
Типология подтекстов, сформулированная К. Ф. Тарановским, кстати, при разборе подтекстуальных связей Мандельштама и Вяч. Иванова, различала четыре вида подтекста: 1) импульс к созданию образа; 2) «заимствование по ритму и звучанию»; 3) текст, раскрывающий значение позднейшего текста; 4) текст, к которому поэт относится полемически (Taranovsky 1976: 18). В случае с «Одой Бетховену» ивановские статьи выступают в первом и четвертом значениях подтекста.
(обратно)72
Вспомним хотя бы М. Цветаеву с ее развитием неосимволистского пафоса безграничности, «безмерности в мире мер» (1994: II, 186).
(обратно)73
Так, в письме Ю. Тынянову от 21 января 1937 года Мандельштам еще раз сказал о необходимости смешения «важного с пустяками» (IV, 177). Игровой момент — неотъемлемая часть мандельштамовского высказывания. Поэтому не так уж и неправомерно видеть в «Оде Бетховену» пусть и серьезную, но игру в дионисийствующего художника.
(обратно)74
Характерно, что С. С. Аверинцев высказал гипотезу о пародийности стихотворения «В белом раю лежит богатырь…», а не «Оды Бетховену», содержащей цитаты из Вячеслава Иванова, почитаемого исследователем. С. С. Аверинцева не смутила не только пародийная цитатность «Оды», но и характер ее «одичности», идущий вразрез с замечаниями исследователя: по мнению Аверинцева, мандельштамовская «„одичность“ тона не мотивирована ни по старинке — выбором „высокого“ предмета, ни на более новый символистский манер — патетическим мифом о поэте и квазисакральным статусом поэзии» (Аверинцев 1996: 207). Меж тем все антихарактеристики мандельштамовской «одичности», данные ученым, справедливы по отношению к «Оде Бетховену». Вопрос о пародийном «рецидиве» подтверждается и другими текстами 1914 года. Ср. появление образа паломника-пилигрима в «Посохе» после «пешеходных» акмеистических стихотворений.
(обратно)75
Трофейную офицерскую немецкую каску (ст. 1–2) Мандельштам видел в доме литератора Александра Александровича Попова (Мец 1995: 647).
(обратно)76
Многочисленные представители российской культурной общественности выступили в печати со своей оценкой произошедшего. Так, в 40-м номере «Нивы» были собраны многочисленные отклики на случившееся. Выступавшие единодушно осуждали германское «варварство». Формулировки были различны — от «бомбардировки варваров-германцев» (надпись под фотографией разрушенного Реймса) до «Лебединой песни старого собора» Б. Никонова: «Горе тебе, народ-насильник! Горе тебе, Германия!» (Нива, 1914: № 40, 764; указано Д. Сегалом 1998: 260–261). Об образе немца (германца) в русской культурософской публицистике военных лет см. Plotnikov / Kolerov 2003.
(обратно)77
На временность помешательства указывает выбор глагола позабыть. Ср. семантические различия глаголов позабыть и забыть. Позабыть значит забыть не навсегда, а на определенный отрезок времени.
(обратно)78
Ср. «чудовищность» готики в «Утре акмеизма» (I, 179).
(обратно)79
В связи с мотивом спроса-укора среди мандельштамовских стихотворений, связанных с «Реймсом и Кельном», выделяется написанное в 1910 году «Когда укор колоколов…», где, как и в стихотворении «Реймс и Кельн», колокола укоряющие: «Когда укор колоколов / Нахлынет с древних колоколен, / И самый воздух гулом болен, / И нету ни молитв, ни слов — / Я уничтожен, заглушен…» (I, 53–54). Конечно, речь здесь совсем о другом — звон колоколов воспринимается поэтом как укор в безверии. Но образ тот же. Из этого стихотворения в «Реймс и Кельн» вместе с колоколами перешел и мотив молитвы. Ср. лексическую перекличку: «и нету ни молитв, ни слов» с «Епископ все молитвы прочитал».
(обратно)80
О поэтологичности готической метафорики раннего Мандельштама см. также у Ханзен-Лёве (1998: 247–253).
(обратно)81
Так и в более позднем стихотворении о московских церквях («В разноголосице девического хора…», 1916) Мандельштам не забывает вспомнить об их итальянских зодчих: «пятиглавые московские соборы с их итальянскою и русскою душой».
(обратно)82
Ср. интертекстуальные находки у О. Ронена (Ronen 1983: 21–29) и историко-контекстуальные — у Д. М. Сегала (1998: 345–395).
(обратно)83
Ср. также и другие сравнения и поэтологические проекции Мандельштам — Державин в мемуарах Цветаевой (1994: V, 440).
(обратно)84
Выбор слова «эфир» призван вызвать воспоминания об античных корнях оды. Мандельштам опирается на традицию русской поэзии, быстро ассимилировавшей понятие эфира. Может быть, можно было «вдохнуть» и в славянское слово «воздух» весь семантический ореол «эфира», но слово «воздух» плохо поддается рифмовке, «эфир» же рифмуется с такими важными ключевыми словами патетической лирики XVIII века, как «пир», «лира», «мир» и «мiр».
(обратно)85
Во многих «архитектурных» стихотворениях Мандельштама поднимается тема преодоления камнем своей тяжести. Ср., например: «Кружевом, камень, будь / И паутиной стань» («Я ненавижу свет…»: I, 71).
(обратно)86
В качестве одного из подтекстов «Зверинца» Ронен называет стихотворение «К Рейну» Языкова (Ronen 1983: 22). Лирический герой Языкова передает Рейну, берега которого должен покоить «благословенный мир», привет от Волги: «Несметных данников и данниц величавой, / Державной северной реки, / Приветы я принес тебе!.. Теки со славой, / Князь многих рек, светло теки! / Блистай, красуйся, Рейн! Да ни грозы военной, / Ни песен радостных врага / Не слышишь вечно ты; да мир благословенный / Твои покоит берега!» (Языков 1959: 248).
(обратно)87
Д. Сегал полагает, что «мандельштамовский текст с его пророчеством грядущего мира, в котором будет место для всех ныне враждующих держав в рамках предвечной классической Европы, полемически борется с тютчевской фантастической мечтой (в стихотворении „Русская география“. — Г.К.) о грядущем вселенском русском царстве» (Сегал 1999: 373). Интертекстуальная полемика с Тютчевым, которая прослеживается начиная с самых первых «немецких» стихов Мандельштама («Лютеранин»), присутствует и здесь.
(обратно)88
Ср. также «заклинание» именем Гете в антивоенном выступлении В. Брюсова «Во дни великого страдания…» (1933: 640), функционально аналогичное цветаевскому.
(обратно)89
Подробнее о российской публицистике революционных годов, посвященной декабристам, см. Сегал (1998: 426–431).
(обратно)90
См. Broyde 1975: 38, 212, прим. 13.
(обратно)91
Не исключено, что Мандельштам читал воспоминания о Лунине Ипполита Оже (Сегал 1998: 431–432). В 1905 году был снят запрет и на сочинения самого Лунина — вышло несколько переизданий герценовских публикаций. Подробнее об изданиях Лунина см. у Н. Я. Эйдельмана (1987: 348–349) и С. Я. Штрайха (1976: 116–121).
(обратно)92
Ср. у Гершензона (1989: 113).
(обратно)93
Такого же мнения придерживался и Гершензон, который писал о «влиянии, оказанном на нашу молодежь полуторагодичным пребыванием в Германии и Франции во время войны с Наполеоном» (Гершензон 1989: 114). Ощущение исторического перелома, «триумфального поворота» истории, замешенное на радости победы над Наполеоном, пережили как немецкие, так и русские участники освободительных войн 1813–1815 годов. Многие будущие декабристы вернулись домой в эйфории грядущей вольности. Из протоколов допросов заговорщиков видно, что многие декабристы ориентировались на немецкие тайные союзы. Многие положения и руководства Тугендбунда легли в основу декабристских уставов и прожектов (Рогов 1997: 111–117). О немецком контексте декабризма см. также: Obolenskaja (1998), Rogov (1998а) и Rogov (1998b). Конечно, исторические исследования связей декабристов с «немцами» к моменту написания стихотворения только начинались; тем знаменательнее, что историко-филологическая интуиция не подвела Мандельштама. Цепочка мандельштамовских ассоциаций могла быть такой: декабристы вызывают воспоминания о Лунине на бестужевской картинке — Лунин (с чертами Чаадаева) — участник антинаполеоновских войн (ср. военный фон революции 1917 года) — отсюда подтекстуальные ассоциации со стихами Батюшкова, Языкова, Кюхельбекера и темой встречи на Рейне. Не исключено, что в литературных ассоциациях, которые привели к тому, что восстание оказалось связано с германскими событиями, участвовало и стихотворение Тютчева «Вас развратило самовластье…», посвященное декабристам. В тютчевском анализе декабризма немецкого исторического фактора нет, но сам «немец» Тютчев у Мандельштама непроизвольно задавал немецкую перспективу.
(обратно)94
К тому же для читателя начала XX века Кюхельбекера впервые по-настоящему раскрыл Ю. Н. Тынянов в работах 1920-х годов, то есть уже после написания «Декабриста». Немаловажно и то, что если Языкова, Батюшкова и Чаадаева поэт интенсивно изучал, то свидетельств его интереса к личности и стихам Кюхельбекера у нас нет.
(обратно)95
Возможны и аллюзии к шумящему дубу из концовки «Выхожу один я на дорогу…» М. Лермонтова, вдохновленного Г. Гейне (указано Л. М. Видгофом в личной беседе). Среди немецких подтекстов образа шумящих дубов возможны, но необязательны образы дрожащих дубов из стихотворения Гейне «Karl I» из первой части «Romanzero», через одно после «Valkyren» (Heine 1913: 111, 22). Как было указано выше, стихотворение Гейне «Karl I» будет реминисцироваться в «заговорщицком» цикле 1921 года. См. главу 1.4.5.
(обратно)96
У Пушкина в «Медном всаднике» формула «сто лет…» восходит к стихотворению «Сто лет минуло, как тевтон…», написанному в марте 1828 года. Подтексты самого Пушкина (Бобров, Селявин, Мерзляков и др.) см. у Л. В. Пумпянского (2000: 165–166).
(обратно)97
Характерно, что топос пира вообще и «чаши радости» в частности пришел в русскую поэзию в пору ее увлечения оссианизмом и скандинавизмом. Подробнее см. у Ю. Д. Левина (1980: 40).
(обратно)98
Отмежевание от Ап. Григорьева понятно: в 1916 году выходят «Стихотворения Аполлона Григорьева» под редакцией А. Блока. Не только сами стихи Григорьева (давно не переиздававшиеся), но и полемическое предисловие Блока вызвало огромный интерес к книге со стороны художественной и научной общественности, от З. Гиппиус и В. Княжнина до В. М. Жирмунского и Ю. Айхенвальда. См. библиографический обзор рецензий и реакций на статью А. Блока у Т. Н. Бедняковой (1989: 456).
(обратно)99
Лермонтовский эпитет мог отложиться в сознании Мандельштама благодаря тому, что немцы названы «глубокомысленными» в произведении Лермонтова, носящем немецкое название: «Menschen und Leidenschaften».
(обратно)100
В то же время при столь очевидной вагнеровской коннотации кольца нам кажется слишком смелой попытка Ронена найти в образе кольца отголоски ницшевского «Ring der Ringe» и талисмана из гетевского «Дивана» (Ronen 1983: 87, 89). Мандельштам если и знал Ницше, то понаслышке от символистов, а «Западно-восточный Диван» прочитал гораздо позднее.
(обратно)101
Возможно, Мандельштам заметил, что его характеристики Германии слишком близки пафосу цветаевского послания «Германии»: «Нет ни волшебней, ни премудрей / Тебя, благоуханный край, / Где чешет золотые кудри / Над вечным Рейном — Лорелей» (Цветаева 1994: I, 232).
(обратно)102
О правомерности и даже авторской интенции паронимического прочтения мандельштамовских текстов уже много писалось. Среди наиболее актуальных существенных дополнений к «паронимически-анаграммным» открытиям О. Ронена 1980–1990-х годов укажем на статью Ю. Л. Фрейдина «„Просвечивающие слова“ в стихотворениях О. Мандельштама», в которой изучается эдиционная практика опечаток в текстах Мандельштама, а также суммируется опыт «чувствительности исследователей к фонетико-трансформационному потенциалу мандельштамовской поэзии» (Фрейдин 2001: 238), который связывается с «принципом сохранности черновиков» самого поэта (там же: 240): «связывая подлинное слово с просвечивающим, реконструируя их взаимодействие, мы обогащаем смысл текста дополнительными микросемантическими обертонами, получая, по сути, нечто аналогичное тому, что происходит при выявлении подтекстов» (там же: 241). Среди подтекстов стихов 21 и 23 ср. также словоформулу «все перепуталось» в статье С. Л. Франка «„Этика нигилизма“ (К характеристике нравственного мировоззрения русской интеллигенции)» (1990: 108), вошедшей в прочитанные Мандельштамом «судьбоносные» «Вехи».
(обратно)103
По В. В. Мусатову, мандельштамовская Лета — «символ спасительного беспамятства, тот пушкинский „холодный ключ забвенья“, который „слаще всех жар сердца утолит“» (2000: 176–177).
(обратно)104
М. Л. Гаспаров называл подобные строчки Мандельштама «семантическими эмоциями» (1995: 347).
(обратно)105
Лета в соединении с холодом — одно из самых частотных образов поэзии Баратынского. Ср. стихотворение «Лета» (1982: 20).
(обратно)106
Последним опытом перевода гейневской «Лорелеи» на русский язык был блоковский («Не знаю, что значит такое…»). Блок даже включил его в свой сборник «Ночные часы» (1911). Блоковский подтекст был для Мандельштама актуален: ср. еще не отмечавшееся исследователями сходство начала третьей строфы блоковского перевода («На страшной высоте…») с идентичным зачином мандельштамовского стихотворения «На страшной высоте блуждающий огонь…» 1918 года. Ср. в связи с этим и блоковский перевод второй строфы «Лорелеи»: «прохладой сумерки веют» (Блок 1960: III, 378).
(обратно)107
В. Мусатов отмечает, что «мотивы соблазнительного и опасного зова, связанного с путешествием по воде, и опасности, исходящей от подводных рифов, уже звучали в стихотворении Мандельштама „В изголовьи Черное Распятье…“, только функцию „рифов“ там выполнял тютчевский „подводный камень веры“» (Мусатов 2000: 177). В дополнение можно только сказать, что о «подводный веры камень» у Тютчева разбивается «утлый челн» Наполеона, а Наполеон — незримый персонаж мандельштамовского «Декабриста». Подтекстуально-ассоциативный мир мандельштамовской образности тесен.
(обратно)108
Можно поспорить с интерпретацией М. Л. Гаспарова: «Россия — это Лорелея, сидящая над Летой, и кто идет на яркий подвиг ради нее, тот обречен забвению» (1995: 223). В данном толковании не учитывается «германская» окрашенность образа Лорелеи. По нашему мнению, образ Лорелеи метонимически вбирает в себя разобранные мотивы роковой встречи на Рейне. Поэтому Лорелея — Германия.
(обратно)109
Ср. синтез скандинавской и шотландской тем в стихотворении «Я не слыхал рассказов Оссиана…».
(обратно)110
Ср. также образ «ахейских мужей» в стихотворении «За то, что я руки твои не сумел удержать…» (I, 150).
(обратно)111
По мнению О. Фореро-Франко, в образности мандельштамовских «Tristia» «смысловое содержание метафоры „холода“ (и ее семантических дериватов) охватывает семантическое поле смерти» (Forero-Franco 2003: 207).
(обратно)112
«Студеная зима» из написанного позднее стихотворения «Чуть мерцает призрачная сцена…» вбирает в себя и «зиму», и «стужу» стихотворения «Когда на площадях и в тишине келейной…» (I, 148).
(обратно)113
Ср. также замечание О. Ронена о «Сумерках свободы» как парафразе «Сумерек богов» Ф. Ницше (2002: 130–131).
(обратно)114
Современники косвенно увидели связь пафоса мужества в стихах 1917–1918 годов с поэтическими установками и темами «Камня», в том числе и «немецкими». Так, И. Эренбург в 1920 году отметил, что другие «поэты встретили русскую революцию буйными вскриками, кликушескими слезами, плачем, восторженным беснованием, проклятьями. Но Мандельштам… один понял пафос событий… постигнув масштаб происходящего, величие истории, творимой после Баха и готики, прославил безумье современности» (2002: 83).
(обратно)115
Относительно подтекста строки «Янтарь, пожары и пиры» см. элегию Батюшкова «На развалинах замка в Швеции», где лирический герой погружается в мир северных преданий и сказаний: «уж скальды пиршество готовят» и «грады в зареве пожаров» (Батюшков 1978: 204–205).
(обратно)116
Со своей стороны, нам бы хотелось отметить, что «пиршественные» образы имеют в стихах 1917 года и допушкинские корни: всю оссианическую и скандинаво-германскую традицию русской поэзии, от Кострова и Державина до Карамзина и Батюшкова.
(обратно)117
О правомерности кавказских семантических ассоциаций для Мандельштама говорит и перекличка образных комплексов немецкой и кавказской тем в мотиве «пира». Так, в статье «Кое-что о грузинском искусстве» поэт говорит о «пиршественной пьяности» Грузии (II, 233). Характерно и то, что на «пиршественные» определения Мандельштам выходит в контексте разговора о пушкинском видении Кавказа.
(обратно)118
Влияние идей де Сталь на формирование батюшковской оппозиции Южной и Северной Европы (куда входят Германия и Россия) было впоследствии убедительно доказано исследователями: И. З. Серман (1939: 256–260) и A. Л. Зорин указали у Батюшкова на почти дословный перенос оценок де Сталь с немецкого языка на русский (1997: 148). Ср. также: Miltchina (1998) и Zorin (1998).
(обратно)119
Уже ставшее топосом русской словесности противопоставление европейских Севера и Юга, или, в другой редакции, — германского и романского начал, было частью поэтологической полемики акмеизма с символизмом, особенно со стороны Гумилева. Но Мандельштам, в отличие от последнего, радикально не размежевывал германское и романское. Среди предтеч акмеистической поэтики Мандельштам называет как старофранцузскую литературу, так и готику, и Баха. В стихотворении «Реймс и Кельн» романское и германское не столько противопоставляются, сколько связываются, в «Зверинце» романское («источник речи италийской») и славяно-германское («славянский и германский лён») вместе образуют воспеваемое «вино времен». В этом смысле Мандельштам скорее следует концепциям Вяч. Иванова, но (в духе акмеизма) отказывается от приторного мессианского пафоса и парарелигиозной претензии.
(обратно)120
Совмещая пласты германского и скандинавского, Мандельштам следует русской оссианической традиции, в первую очередь Батюшкову. Вспоминается, к примеру, смешение скандинавской, макферсоновской и германской тем в стихотворении «Переход через Рейн», находящемся в подтекстуальном потенциале «Декабриста». Ср. в связи с наблюдением над смешением скандинавской темы и оссианизма в русской поэзии конца XVIII — начала XIX века работы Ю. Д. Левина (1980: 36, 94–96) и Д. М. Шарыпкина (1972). Ср. также о «северной» топике в русской литературе у Беле (Boele 1996).
(обратно)121
Через несколько лет Мандельштам коснется проблематики этого стихотворения (преодоление пропасти между «варварством» и «эллинством») в своих статьях. Так, в докладе «Государство и ритм» он воспользуется даже метафорикой разобранного нами стихотворения: «Над нами варварское небо, и все-таки мы эллины» (I, 210). Ср. не только образную параллель (варварское небо — чужое для северных скальдов небо Средиземноморья), но и саму лексико-риторическую рамку противительной конструкции «и все-таки».
(обратно)122
«Скифской болезнью» сам Мандельштам к этому времени уже переболел, причем в легкой форме символистского образца 1908 года. М. Карпович вспоминал, как Мандельштам в 1908 году в Париже «с упоением декламировал» «Грядущих гуннов» Брюсова (1995: 41).
(обратно)123
Платок — «ложноклассическая шаль» А. Ахматовой (см. стихотворение «Ахматова») — олицетворение старой культуры и классицизма. Отдаленный подтекст стихотворения — «Кассандра» Ф. Шиллера в переложении В. А. Жуковского — название, тема гадания и лейтмотивное: «Вижу, вижу: окрыленна / Мчится Гибель на Пергам» (Жуковский 1980: II, 14). Е. А. Тоддесом (1991: 35, прим. 27) было убедительно доказано наличие реминисценций из «Кассандры» Жуковского в стихотворениях Ахматовой, ставшей адресатом мандельштамовской «Кассандры» (1917), что косвенно подтверждает актуальность текстов Жуковского/Шиллера для Мандельштама и Ахматовой конца 1917 года в период их интенсивного общения.
(обратно)124
В «Кассандре» вновь появляется мотив чумы (ст.12). Здесь в сочетании со скифским празднеством, оказавшимся благодаря метонимическому переносу варварским, северным, появляется тема «пира во время чумы», которая теперь станет и частью «немецкой темы», то есть метонимически перейдет со скифства на германство. Среди главных контекстов к «Кассандре», релевантных для темы нашего исследования, — стихотворение «От легкой жизни мы сошли сума…» 1913 года, где появляются и «нежная чума», и утреннее вино, и вечернее похмелье — константные «немецкие» образы (I, 96). В этом же стихотворении есть и факелы, и волк: «Мы смерти ждем, как сказочного волка». В 4-й строфе «Кассандры» выступающий с броневика пугает факелами (горящими головнями) волков — народ, «сходящий с ума на площадях». Волчье, звериное объединяет в образно-тематическом блоке варварского пира русское и германское начала. Ср. также образ «волков революции» в агитационной, антикадетской «Сказке о красной шапочке» Маяковского 1917 года (1955: 1, 142).
(обратно)125
Это косвенно подтверждает предположение первой главы данного исследования, что в основе стихотворения «Бах» лежали впечатления от концерта, наложенные на медитации о протестантском богослужении.
(обратно)126
Отдельного исследования заслуживает тема Финляндии как эквивалента (русского) Севера, своего рода Шотландии и Ирландии русского оссианизма.
(обратно)127
Наряду с И. Анненским «проводником» темы двойничества в русской литературе начала XX века, причем снова «по мотивам» Гейне, был Блок: стихотворения «Ты совершил над нею подвиг трудный…», «Вот моя песня — тебе, Коломбина…», «Однажды в ноябрьском тумане…» и переводы из «Книги песен» Гейне, в том числе «Двойник» («Тихая ночь, на улицах дрема…») и «Лорелея», о чем мы говорили при разборе «Декабриста».
(обратно)128
Судя по всему, это стихотворение Баратынского Мандельштам впоследствии (1932) вспомнил при написании стихов о русских поэтах, в частности «Батюшкова» (III, 65–66): ср. мотив «вечных снов» — «возвратных» образов и тем поэзии. Именно на них, а не на Ницше Мандельштам опирается при разработке темы «вечного возвращения» поэтического слова.
(обратно)129
Такие «рецидивы», которые в то же время прокладывают путь в будущее, для Мандельштама не редки. Так, стихотворение «Умывался ночью на дворе…» 1921 года, не имея ничего общего с поэтикой театральных и одических стихотворений 1920-х годов, напоминает поэтику быта «Камня» и одновременно предвосхищает «земляную» суровость армянского цикла и многих стихотворений воронежского периода.
(обратно)130
В стихотворении мая 1918 года «Когда в теплой ночи замирает…» «с полночного пира» возвращается «возбужденная играми чернь» (I, 136) — она возбуждена грубыми играми-игрищами северных скальдов. Часть этого пиршественного сна — «буйный торг на Сухаревке хлебной» и «страшный вид» «разбойного» Кремля («Все чуждо нам в столице непотребной…», I, 136), напоминающего пожары германских дружин (из стихотворения «Все чуждо нам в столице непотребной…» мая — июня 1918 года, созданного непосредственно перед написанием «Телефона»).
(обратно)131
В заключение разговора о «Телефоне» нам бы хотелось вмешаться в текстологическую дискуссию по поводу стихотворения «Что поют часы-кузнечик…». А. Г. Мец датирует его 1917 годом на основании исправления даты с 1918 года на 1917-й в экземпляре Ахматовой (Мец 1995: 549). П. М. Нерлер датирует его 1918 годом, ссылаясь на исправление даты в авторском экземпляре «Стихотворений» 1928 года (1990: I, 482). Он же приводит еще один убедительный аргумент, обращая внимание на перекличку стиха «И на дне морском простит» (I, 134) с концовкой 5-й строфы «Телефона» — «На дне морском цветет: прости!» (ст.20). В дополнение нам хотелось бы отметить, что завершающий стихотворение «Что поют часы-кузнечик…» образ «соловьиной горячки», скорее всего, связан с шубертовским переживанием («В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа…»): «Потому, что смерть невинна, / И ничем нельзя помочь, / Что в горячке соловьиной / Сердце теплое еще» (I, 134). «Горячка соловьиная» корреспондирует с «безумной яростью» лесного царя, раскачивающего «соловьиные липы». Мы оспариваем только датировку Ахматовой и Меца, а не то, что адресатом стихотворения является Ахматова, — действительно, на концерте Шуберта Мандельштам был вместе с Ахматовой, отсюда и метонимическая привязка «соловьиной горячки» к ее болезни (Ахматова 1989: 194–195). В своем авторском экземпляре «Стихотворений» Мандельштам переправил ошибочную дату с 1917-го на 1918 год, видимо вспомнив о шубертовском концерте или о стихотворении «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа…», которое он точно датировал январем в альбоме В. И. Кривича-Анненского (Мандельштам 1990: I, 481). Таким образом, прав, по-видимому, Нерлер.
(обратно)132
Само слово «заговор» имело у раннего Мандельштама позитивную окраску. Ср. пассаж о «заговоре против пустоты и небытия» в «Утре акмеизма» (I, 180).
(обратно)133
Ср. стих 14 («рогоже голодать») и вариант ст. 20 «и где рогожу взять…» (Мандельштам 1995: 463) с «рогожей роковой» из стихотворения «На розвальнях, уложенных соломой…» (I, 120).
(обратно)134
Маловероятно, что Мандельштам в Тифлисе в 1921 году мог актуализировать в своей памяти текст «Карла I», если он его вообще читал. Знание же «Книги отражений» Анненского — неоспоримый факт. Ср. другие подтексты из Анненского в стихотворениях «Умывался ночью на дворе…» и «Кому зима — арак и пунш голубоглазый…» (Гаспаров 2001b: 341) и гейневско-анненский подтекстуальный колорит в «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа…», с которым анализируемое стихотворение контекстуально связано.
(обратно)135
У термина «промежуток» в русском литературоведении оказалось большое будущее. Ср. концептуализации тыняновского понятия в тартуском структурализме (Лотман 1994а: 408, 409, 412).
(обратно)136
Эти слова взяты из некролога Тынянова Маяковскому (1930). Именно этот текст Мандельштам реминисцировал в своем знаменитом письме Тынянову 1937 года. Ср. у Тынянова: «Он (Маяковский. — Г.К.) молчаливо проделывал какую-то трудную работу, сначала невидную для посторонних и только потом обнаруживавшуюся в изменении хода стиха и даже области поэзии» (1977: 196) и у Мандельштама: «Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию; но вскоре стихи мои с ней сольются… кое-что изменив в ее строении и составе» (IV, 177). Характеристика поэтической работы Маяковского идейно-лексически совпадает с самоопределением подводящего итоги Мандельштама.
(обратно)137
7 марта 1922 года Мандельштам прочел в Киеве лекцию «Акмеизм или классицизм», а весной 1923 года была предпринята попытка организовать семинар по поэтике под руководством Мандельштама для членов Московского лингвистического кружка.
(обратно)138
Ср. наблюдение Д. Святополка-Мирского о том, что в 1920-е годы «филологи стали передовыми двигателями художественного вкуса» (2000: 224).
(обратно)139
Характерно в связи с этим замечание Мандельштама о том, что «Чаадаев, утверждая свое мнение, что у России нет истории… упустил одно обстоятельство, — именно: язык. Столь высоко организованный, столь органический язык не только дверь в историю, но и сама история» («О природе слова», I, 222). Конечно, языковой фактор не учитывал не столько Чаадаев, сколько сам Мандельштам 1910-х годов.
(обратно)140
Ср. в связи с этим метафорику «геологических сдвигов» в «Промежутке» Ю. Н. Тынянова (1977: 176) — по нашему предположению, Тынянов заимствовал для своей работы образы Мандельштама. Предположение — небезосновательное, если учитывать, что львиная доля «Промежутка» посвящена Мандельштаму, с которым Тынянов в период создания статьи интенсивно общался и работы которого перечитывал. Не исключено и взаимовлияние: известно, что Тынянов печатал свои работы, первоначально «обкатывая» их на докладах и диспутах.
(обратно)141
О занятиях Мандельштама Кантом в Гейдельбергском университете см. Brown (1973: 46), Нерлер (1994: 37).
(обратно)142
Не совсем ясно, имеет ли кантовскую подоплеку мандельштамовская мысль о том, что «хаотический мир ворвался — и в английский home, и в немецкий Gemüt» («Гуманизм и современность», II, 287). Не случайно Мандельштам пишет Gemüt по-немецки, подчеркивая непереводимость немецкого понятия. Отказываясь от перевода немецкого слова, например, как «душевность» или с помощью других производных от «души», Мандельштам хотел избежать ложных ассоциаций (с «душою» и т. д.) у русского читателя. Учитывая соседство немецкого Gemüt с английским home, не исключено, что Мандельштам вкладывал в Gemiit смежное значение искомой «домашности», о которой он говорил в статьях 1920-х годов. Контекст home и «домашности» заставляет предположить, что в понятие Gemüt Мандельштам вчитывал и значение слова Gemütlichkeit (уют): оба слова в немецком этимологически связаны.
(обратно)143
Так, в стихотворении «Премудрость» А. Белый описывает, как «N.N., и увлекательный, и строгий» «отравил» героя стихотворения (читай — самого А. Белого) философией Когена, «творца сухих методологий» (1966: 303), а в стихотворении «Мой друг» описывается реальный или воображаемый разговор с марбургским философом: «На робкий роковой вопрос / Ответствует философ этот, / Почесывая бледный нос, / Что истина, что правда… — метод… / <…> „Жизнь, — шепчет он, остановясь / Средь зеленеющих могилок, — Метафизическая связь / Трансцендентальных предпосылок“» (там же: 304–305).
(обратно)144
Влияние «Урны» Белого на Мандельштама еще недостаточно изучено. В подтекстах названия мандельштамовских «Tristia» не только книга скорбных элегий Овидия, но и реминисценции ее названия в поэзии символистов. Следующий за «Философической грустью» раздел «Урны» озаглавлен как «Тристии». Название «Tristia» Мандельштаму предложил М. Кузмин (Лекманов 2004: 93). Не исключено, что, избрав латинское написание «Tristia», бывший символист Кузмин хотел избавить читателя мандельштамовских стихов от возможных ассоциаций со стихами Белого, сразу отсылая к элегиям Овидия.
(обратно)145
Учащение гетевских аллюзий наблюдается и у других современников Мандельштама. В 1921 году выходит «Klassische Valpurgisnacht» (так! — Г.К.) В. Брюсова. Ср. также «Возвращение Мефистофеля» набиравшего популярность Н. Тихонова (1922: 15–16) и «фаустовские» стихи Пастернака (1920а: 24–25 и 1922: 111–113). См. также сегодня подзабытую книгу Гете в переводах Пастернака (1922), на которую откликнулся Блок (1962: VI, 468–469).
(обратно)146
Ср. также доминирующую «фаустовскую» линию в «Переписке из двух углов» Вяч. Иванова и М. Гершензона (1971: 13, 14, 19, 28). В 1922 году выходит первая часть «Фауста» в переводе Н. Холодковского с предисловием В. М. Жирмунского (Гете 1922b).
(обратно)147
Речь идет о рецепции первого тома «Заката Европы», в котором Шпенглер не касался русской культуры. О шпенглеровской концепции России (во втором томе и статьях 1920-х годов) см. Kraus (1998).
(обратно)148
Ср. также замечания Мандельштама о Шпенглере в воспоминаниях Э. Герштейн (1998: 46) и ее высказывание о том, что о главном шпенглеровском противопоставлении между культурой и цивилизацией она узнала из лекций Бердяева (1998: 395).
(обратно)149
Отголоски этой главы (подглавы 15–16) в творчестве Мандельштама можно расслышать в стихах о буддийской Москве 1931 года, напр.: «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето…» Ср. и полемику со Шпенглером в «Разговоре о Данте». См. главу 3.3.1.
(обратно)150
В любом случае Мандельштаму не могла прийтись по душе шпенглеровская концепция «фаустовского человека», в котором современное расчетливое предпринимательство сочетается с сокровенной тягой к безмерному и бесконечному. Мы помним о негативном отношении Мандельштама ко всему чрезмерному по «Оде Бетховену»: декадентские концепции Шпенглера слишком напоминали Мандельштаму символистскую культурософию, а на любые новые проявления символизма Мандельштам в 1920-е годы реагировал аллергически; символизм-модернизм стал в устах Мандельштама бранным словом, печатью безвкусицы и спекулятивности, что, правда, не исключало и объективной оценки отдельных символистов. В немецком контексте достаточно вспомнить выпады против «символики мюнхенского модерна» в статье о Толлере («Революционер в театре», II, 284) или «символических и мистических запросов» «германского модернизма», «грошового символизма» в лице Г. Гауптмана (II, 323). Подробнее см. главу 2.3.2.
(обратно)151
Так, неприятие Фрейда (прочитанного или известного по пересказам) было неотъемлемой частью самоопределения многих диссидентских кругов вообще и околоахматовских в частности, причем как раз в период создания «Воспоминаний». Ср. антифрейдовские пассажи в воспоминаниях Н. Я. Мандельштам (1999: 159). О культурном контексте и поэтике мемуаров Надежды Мандельштам см. также: Kissel 1998. Отдельного исследования заслуживает влияние (участие) Ахматовой (наряду с православными диссидентскими кругами, например, под воздействием протоиерея А. Меня) на формирование негативного отношения к Фрейду в среде советской оппозиционной интеллигенции. Ср. в данном случае эволюцию ахматовского антифрейдизма от амбивалентного отношения в предвоенные годы (задокументированного Л. К. Чуковской (1997:1, 39 и 143–144)) до признания «Фрейд — мой личный враг» 1955 года (1997: II, 149). Ср. также «антифрейдовские» выпады Ахматовой в воспоминаниях Фаины Раневской (2005: 69). Негативное отношение к Фрейду Ахматова передала по наследству шестидесятникам, в том числе и И. Бродскому.
(обратно)152
Так, по воспоминаниям вдовы поэта: «в Харькове нам (Мандельштамам. — Г.К.) рассказывали про новинки, уже ставшие достоянием широкого круга. До России дошли задержавшиеся из-за войны слухи о теории относительности и о Фрейде» (Н. Мандельштам 1990b: 67). Если о теории Эйнштейна российская публика действительно узнала с опозданием, то Фрейд — «новинкой» никак не был. Знакомство русского читателя с Фрейдом состоялось раньше: в 1912 году в России были переизданы «Психологические этюды» (1912а) и переведены две относительно новые книги Фрейда «Психопатология обыденной жизни» (1912b) и «Леонардо да Винчи» (1912с). В последней Фрейд ссылался, в частности, на «Воскресших богов» Д. Мережковского (1912с: 18, 69, 80). Самого Фрейда Мандельштам мог и не читать, но с идеями австрийского ученого по пересказам и слухам был знаком еще до войны и революции. В первой половине 1920-х годов на русском языке были изданы другие книги Фрейда (1923; 1925а; 1925b) и началось их обсуждение, но в это время Мандельштам был занят другими, литературными, филологическими и бытовыми, проблемами и вряд ли интересовался психоанализом.
(обратно)153
Ср. мысли Шпенглера о смерти европейской музыки, в качестве воплощения которой Ф. Степун приводит имена Баха, Бетховена, Глюка, Вагнера (Степун 2002: 330, 333), с мандельштамовским «глюковским» циклом и баховской темой, которую Мандельштам вновь разрабатывает в стихах 1920-х годов.
(обратно)154
Знаменателен тот факт, что единственный русский поэт, которого цитирует в своем фундаментальном 120-страничном эссе-предисловии к «Закату Европы» современный переводчик Шпенглера философ-германист К. А. Свасьян, — Мандельштам (Свасьян 1993: 13, 118), причем (дважды) завершающую строфу «немецкого» «Декабриста» и «немецкую», «моцартовскую» строфу стихотворения «Ламарк». «Пророчества» Мандельштама выступают как русский эквивалент прогнозов Шпенглера. Стихи и прозу Мандельштама в качестве иллюстраций-параллелей к мыслям Шпенглера приводит и С. С. Аверинцев (1968: 145, 152).
(обратно)155
О связи мандельштамовских культурософских утопий 1920-х годов с поэтологическими манифестами периода акмеизма см. Lauer 2001.
(обратно)156
Знаменательно, что само понятие перевода употребляется Мандельштамом как ругательное: таков Бальмонт, «самый нерусский из поэтов, чужестранный переводчик эоловой арфы, каких никогда не бывает на Западе: переводчик по призванию, по рождению, в оригинальнейших своих произведениях» («О природе слова», I, 225). Бальмонт переводит, а согласно Мандельштаму, надо по-пушкински и по-блоковски синтезировать.
(обратно)157
Ср. филологизм мандельштамовской фразы с неосимволистским поэто- и языкопоклонством у Цветаевой 1923 года: «Поэт издалека заводит речь — поэта далеко заводит речь» (Цветаева 1994: II, 184).
(обратно)158
Характерно, что свою мысль о необходимости «установления литературного генезиса поэта, его литературных источников, его родства и происхождения» («А. Блок», II, 252) Мандельштам формулирует именно в контексте рассуждений о Блоке. Связано это не столько с тем, что Блок представлял в связи с этим благодатный материал и сам рефлексировал о своем «литературном генезисе», но и с тем, что Мандельштам накладывает на Блока собственные представления о поэтической преемственности. Случаи такой частичной самоидентификации-авторефлексии на чужом материале у Мандельштама постоянны: в 1910-е годы — Вийон, Чаадаев, в 1930-е — Данте, Пушкин, Гете. В начале 1920-х в роли такого самоидентификационного «мерила» выступает Блок.
(обратно)159
«Германство» Блока было тематизировано современниками. Ср. высказывание С. Соловьева о том, что «единственной его (Блока. — Г.К.) стихией нам все-таки кажется германизм. Потенциально весь Блок в Гейне и отчасти — в Гете» (1908: 88). О европейской теме в творчестве Блока см. Kluge (1967; 2006).
(обратно)160
Примером блоковско-мандельштамовских перекличек, выходящих за рамки немецкой темы, может послужить начало статьи Блока: утверждения григорьевского «вопроса о нашей самостоятельности» корреспондируют с мандельштамовскими поисками принципов единства русской культуры (и литературы). Ср. также григорьевские цитаты о «домашнем очаге», приведенные в статье Блока (1989: 284), с мыслями о «домашнести» и европейскости Блока у Мандельштама («А. Блок», II, 252), а также и с выработкой концепции эллинского домашнего тепла.
(обратно)161
У Ап. Григорьева, по Блоку (1989: 281), «профиль Шиллера» и «голубые глаза» — клише-сигналы германскости. Прокравшийся в церковь и что-то нашептывающий Григорьеву Фет сравнивается с Мефистофелем, сам Григорьев — с Маргаритой (Блок 1989: 282).
(обратно)162
Не это ли имел в виду в своей рецензии В. М. Жирмунский, говоря, что статья Блока «представляет чрезвычайно ценный документ не только для характеристики творчества и мировоззрения Ап. Григорьева, но также как изложение взглядов самого автора статьи»? (Цит. по: Блок 1989: 456). По истории блоковского прочтения Ап. Григорьева см. также Благой (1979: 492–520).
(обратно)163
И здесь видны переклички с блоковской статьей об Ап. Григорьеве. По Блоку, Ап. Григорьев — бесприютный сын того поколения 1840-х (во главе с «белым генералом» В. Белинским), которое опечатало Грибоедова и Пушкина. Те, в свою очередь, «заложили твердое основание зданию истинного просвещения» (Блок 1989: 278).
(обратно)164
В статье Жирмунского содержится и идея о формальном ученичестве футуристов у символистов, в первую очередь у Блока — как на уровне метафорического, так и ритмического построения поэтического текста (1977: 216–217, 237). Мандельштаму эта характеристика Жирмунского могла запомниться еще и потому, что в числе учеников-продолжателей метафоризма Блока наряду с футуристами и имажинистами назван сам Мандельштам: «Что касается новейших поэтов, то некоторые из них, как Мандельштам, или Маяковский, или имажинисты, пошли еще дальше Блока в раскрепощении метафорического построения от норм логически-понятной и последовательной практической речи, но тем не менее — в основном — они всецело являются его учениками» (Жирмунский 1977: 216). То, что мысль Жирмунского о Мандельштаме как ученике Блока (метафоризм) нашла отклик в размышлениях самого Мандельштама, подтверждается тем, что «Письмо о русской поэзии» заканчивается едкой критикой метафоризма московских имажинистов (II, 240), а в эссе «Литературная Москва», воздав должное заслугам «русской науки о поэзии… окрепшей в формальной школе Эйхенбаума, Жирмунского и Шкловского», Мандельштам переходит к критике метафоризма московской женской поэзии (II, 257).
(обратно)165
В рамках немецкой темы достаточно упомянуть ту же оссианистскую линию русской поэзии, на которую Мандельштам опирался при разработке «немецкой» образности в стихотворениях 1917–1918 годов.
(обратно)166
Ср. деформацию фразеологизма «светлая память» в «светлое значение», в память о европейской культуре.
(обратно)167
Ср. также миньоновские аллюзии в стихотворении «Флоренция» П. Вяземского (1986: 252).
(обратно)168
По мнению М. Гаспарова, классицизм в глазах Мандельштама «оказался недостаточно глубоким слоем культуры, чтобы, опираясь на него, цивилизовать „жестоковыйный век“» (1995: 349).
(обратно)169
Важная для Мандельштама оппозиция классицизма и романтизма частично корреспондирует с положениями опоязовцев. Сами опоязовцы этой оппозиции противопоставили впоследствии пару «архаисты — новаторы». Сходное понимание классицизма и романтизма, без соединяющего и разъединяющего «и», которому Тынянов собирался посвятить целую статью, присуще и Мандельштаму. О некоторых других историко-литературных нюансах дихотомии «классицизм — романтизм» см. у А. Вербергер (Werberger 2005: 241–244) и у Р. Лахманн, частично продолжающей линию Тынянова (Lachmann 1990: 299).
(обратно)170
Блок в своих последних статьях также размышляет о романтизме, но как о духовно-литературном движении и/или типе поэтического мышления и мировосприятия. При этом Блок не работает с противопоставлением «классицизм — романтизм».
(обратно)171
Ср.: «Классический поэт имеет перед собой задание объективное: создать прекрасное произведение искусства, законченное и совершенное, самодовлеющий мир, подчиненный своим особым законам. Как искусный зодчий, он строит здание… если здание укрепилось по законам художественного равновесия, цель поэта достигнута, он создал произведение искусства, прекрасное и совершенное» (Жирмунский 1977: 134). Описывая классического поэта, Жирмунский намекает на «архитектурные» стихотворения Мандельштама, в первую очередь на «Notre Dame» (ср. «прекрасное создам», мотив завершенности и цельности, подчеркнутый в одной из версий «Реймс и Кельн», пафос равновесия) и «Айя-Софию» (мотив зодчего). В то же самое время такое почти цитатное переложение косвенно подчеркивает программную поэтологичность мандельштамовской лирики периода акмеизма. Ср. в связи с этим и фонетическое сходство поэтического «задания» и «здания» («Айя-София»), по-видимому, участвовавшее в конструкции ассоциативной цепочки Жирмунского.
(обратно)172
Характерно, что свою статью о «Tristia» Жирмунский заканчивает цитатой из «Камня», причем из «немецкого» стихотворения «Бах» (1977: 141).
(обратно)173
Не исключено, что Мандельштам приписывал Шенье поэтические и биографические черты Гумилева.
(обратно)174
Знаменательно, что наброски к «Заметкам о Шенье» содержат, помимо вошедших в канон сборника «О поэзии» культурологически-филологических рассуждений, чисто литературоведческие разборы александрийского стиха Шенье (II, 550–553). При этом выводы об «эпиграмматичности» Шенье перекликаются с выводами об эпиграмматичности поэзии Мандельштама у Жирмунского (1977: 141).
(обратно)175
«Преодоление» — слово из поэтологических полемик 1910-х годов. Еще недавно Мандельштам иронизировал по этому поводу, а теперь сам взял его на вооружение. По-видимому, оно передавало самоощущение поэта в это время.
(обратно)176
Поэтологические вопрошания получают в связи с Шенье и политическую актуальность. Ср.: «Пушкин объективнее и бесстрастнее Шенье в оценке французской революции. Там, где у Шенье только ненависть и живая боль, у Пушкина созерцание и историческая перспектива» (II, 279–280). К пушкинской «объективности и бесстрастности» на фундаменте историзма стремится Мандельштам и в оценке политических событий своей эпохи. Пушкинская позиция наблюдателя, близкая поэтике Мандельштама (вспомним в связи с этим о «холодном» мандельштамовском взгляде «со стороны», который отмечали в своих рецензиях на «Камень» современники поэта), оказывается золотой серединой и при оценке революционной действительности. Мандельштам, с одной стороны, не может или не хочет слышать блоковскую неоромантическую «музыку революции», с другой — он не разделяет «ненависть» Шенье.
(обратно)177
Ср. упоминание имен Гете, Шиллера и Гердера в «Шуме времени» (II, 356, 357, 362).
(обратно)178
Возможно, Мандельштам учитывал в своей проекции и параллели между «Бурей и натиском» как духовным предвестником-зачинателем немецкого национального движения («Deutsche Bewegung») и расцветом модернизма 1910-х годов как поэтическим прецедентом русской революции.
(обратно)179
Этот метафорический ход от бури к наводнению, скорее всего, — из «Медного всадника». Напомним, что «Медный всадник» — постоянный источник идейно-образных подтекстов Мандельштама, начиная со стихотворения 1912 года «Петербургские строфы». В связи с немецкой темой можно вспомнить «Декабриста».
(обратно)180
Ср. «Письмо о русской поэзии», II: 238; «Пшеница человеческая», II: 251; «Девятнадцатый век», II: 270; «Конец романа», II: 274.
(обратно)181
Ср. воспоминания Э. Ф. Голлербаха (1994: 582). Сравнения и параллели, конечно, носили в среде акмеистов скорее полуигровой характер, часто они играли роль дружеской литературной шутки или шаржа: в связи со Златозубом-Мандельштамом стоит сказать о запомнившейся современникам пародии М. Лозинского на шиллеровский «Кубок» в переводе Жуковского. Ср. воспоминания современников, например, В. Рождественского (1994: 422–423) и В. Пяста (1995: 107).
(обратно)182
Возможно, брюсовское самоотождествление с Гете начиналось, косвенно, с проекций на Гете Тютчева в очерке о Тютчеве (Брюсов 1955: II, 222).
(обратно)183
Сравнения участников литературной жизни 1910–1920-х годов с фигурами из истории немецкой литературы прижились и в русской филологии. Так, выстраивая эволюцию модернизма от Хлебникова до Пастернака, Р. Якобсон в 1934 году назвал Маяковского «воплощением эпохи „Бури и натиска“» (Jakobson 1979: 418).
(обратно)184
В файле — полужирный — прим. верст.
(обратно)185
Блок цитирует Гонеггера по русскому изданию 1867 года: (Гонеггер 1867).
(обратно)186
См. в связи с тютчевской грозой (громом-бурей) разбор стихотворения «Опять войны разноголосица…» в главе 2.3.3.
(обратно)187
По теме «Пастернак и Германия» см. работы Nöldeke (1986), Dorzweiler (1992), Evans-Romaine (1997).
(обратно)188
Мандельштам назвал «Вульгатой» (латинский перевод Библии) — лютеровскую Библию. Автору указали на эту ошибку, и при переиздании статья стала называться «Заметками о поэзии».
(обратно)189
Прецеденты такой полемической реакции Мандельштама на идеи Вяч. Иванова имеются — «Утро акмеизма» как ответ на «Мысли о символизме». О возможном непроизвольном пародировании статей Иванова в «Оде Бетховену» уже говорилось. Бывший ученик в последний раз посетил бывшего учителя в июне 1921 года в Баку и поставил ему «диагноз» — «священный катаракт» (у Мандельштама муж. рода. — Г.К.). Вяч. Иванов «ничего не знает, не понимает, не видит» (цит. по: Альтман 1995: 69). Первый полемический выпад против Вяч. Иванова, содержащий и подтекстуальные колкости, содержится в «Письме о русской поэзии», второй — в разбираемом нами тексте.
(обратно)190
Вяч. Иванов, желая пристыдить секуляризаторов русской речи, говорит об их «вожделении сузить великое вместилище нашей русской славы». Мандельштама «присовестить» не удается. В «Разговоре о Данте» поэт скажет: «Великолепен стихотворный голод итальянских стариков, их зверский юношеский аппетит к гармонии, их чувственное вожделение к рифме — il disio» (III, 218).
(обратно)191
Мотив находящейся в бреду совести культуры, тематизированный в «Кассандре» и в рецензии на Штробля, впоследствии будет подхвачен в «Восьмистишиях». Ср. также определение акмеизма как «совести поэзии» в письме к Л. В. Горнунгу (IV, 33).
(обратно)192
Ср. мандельштамовские описания «прочно налаженной» связи между «меньшевичкой и врангелевской контрразведкой» и Константинополем («Меньшевики в Грузии», II, 318, 320) и характеристики меньшевистской Грузии как государства, «выросшего на чужой крови» (там же: 319).
(обратно)193
См. подробнее в главе 2.4.1.
(обратно)194
Самые очевидные и для Мандельштама релевантные примеры составляют стихи Маяковского «Германия» (1957: IV, 49–52), «Солидарность» (1957: V, 94–95), «Уже» (1957: V, 96–97), а также «Германия» Н. Тихонова (1958: 88–89). В своем стихотворении Н. Тихонов также реминисцирует мотивы из стихотворений Мандельштама «Когда на площадях и в тишине келейной…» и «Декабрист» (ср. Тихонов 1958: 88).
(обратно)195
Ср. также описание Германии, «придавленной версальскими печатями сургучными», в поэме «Пятый интернационал» (Маяковский 1957: IV, 113).
(обратно)196
О путешествиях М. Бартеля по России см. Koenen (1998).
(обратно)197
Единственная известная нам работа, в которой исследовались связи А. Луначарского с немецкой литературой («Die Beziehungen Lunačarskijs zur deutschen Literatur»), была проведена более 35 лет назад (Angres 1970). Хронологически структурированное исследование восточно-германской исследовательницы носит фактобиографический характер и может служить солидной отправной базой для дальнейших штудий по советско-германским литературно-политическим связям первых послереволюционных лет. «Ренегат» Бартель (там же: 131) по понятным причинам упомянут в работе лишь бегло. Отдельного исследования заслуживает роль Луначарского в запоздалой презентации русскому читателю Ф. Гельдерлина.
(обратно)198
О работе Мандельштама в Наркомпросе см. Нерлер (1989).
(обратно)199
Характерно, что это место из статьи Мандельштама цитирует в своих воспоминаниях И. Эренбург (1990: 310), который, как было показано выше, оказался наиболее чутким к «немецкой» мужественной образности «Тристий». Знаменательно, что в восприятии И. Эренбурга мандельштамовский пафос мужественности оказывается созвучен блоковскому в «Двенадцати» и «Скифах» (2002: 216–217). Таким образом, трагический скепсис Мандельштама по поводу скифско-германских пиршеств (см. разбор стихотворения «Кассандре») в 1920-е годы потерял всякую актуальность.
(обратно)200
Упрек в символистской кукольности опять же напоминает критику «Валкирий». Может быть, памятуя о баварском прошлом Вагнера, Мандельштам вкладывал в понятие мюнхенского «модерн-символизма» не только школу Ш. Георге с ее стилизованным эстетизмом и жреческим профетизмом, но и постановки Вагнера. Рецензируя книгу Франка Тиса «Врата в мир» (F. Thiess: «Das Tor zur Welt»), Мандельштам охарактеризовал идеологию книги как «дешевое ницшеанство плюс мюнхенский эстетизм» (II, 589). Как видно из рецензии на «Повесть о детях» Клауса Манна («Kindemovelle»), даже и утонченный эстетизм остается для Мандельштама «безвкусным» (II, 591).
(обратно)201
П. Хессе указывает в связи с этим на выход в 1919 году поэмы Вяч. Иванова «Прометей» (Hesse 1989: 248–249), по-видимому, актуализировавшей в сознании Мандельштама культурологемы бывшего учителя. Со своей стороны, укажем и на книгу Вяч. Иванова «Сыны Прометея», вышедшую в 1915 году, то есть в период мандельштамовского «рецидива» символистской культурософской риторики.
(обратно)202
Пьеса Маяковского уже в 1920 году была включена в репертуар театра Мейерхольда. Одно из представлений состоялось 24 июня 1921 года на немецком языке в честь делегатов III конгресса Коминтерна (Реформаторская 1956: 508–509).
(обратно)203
Характерно, что в качестве примера удаленности от политики и удобной позиции из безопасного «далёка» Мандельштам приводит сцену из «Фауста»: «Хорошо бюргерам в „Фаусте“, на скамеечке, покуривая трубку, рассуждать о турецких делах. Землетрясение приятно издалека, когда оно не страшно» («Пшеница человеческая», II, 249). В последнем предложении уже упрек самому Гете: намек на переживания Гете, когда он услышал о землетрясении в Лиссабоне. И пусть даже весть о португальском бедствии и перевернула сознание Гете, сам он не находился в районе землетрясения, в отличие от Мандельштама, ощущающего себя в эпицентре политического землетрясения.
(обратно)204
Разбор газетной хроники как политического фона ОВР см. Сегал (1998: 751–756) и Broyde (1975: 120–122).
(обратно)205
Ср. «волчью» метафорику в описаниях толпы скифско-германского праздника в стихотворении «Кассандре».
(обратно)206
Впервые Мандельштам косвенно указывает на связь Баха и готической монументальности в статье «Утро акмеизма» (I, 178), то есть в период создания «Лютеранина» и «Баха». В 1920-е годы готика из архитектурного императива акмеистической поэтики, утрачивая свою поэтологичность, превращается в символ социальной архитектуры, точнее, противосимвол, альтернативу ассирийско-советской социальной архитектуре. Ср. статью «Гуманизм и современность» (II, 287).
(обратно)207
Интересно, что в том же 1923 году М. Цветаева пишет стихотворение «Прокрасться…», в котором «А может — лучшая потеха / Перстом Себастиана Баха / Органного не тронуть эха? / Распасться, не оставив праха» (1994: II, 199). Взаимовлияние исключается. Однако ср. рифмовку Баха — праха, взятую, по всей вероятности, из мандельштамовского «Баха» 1913 года.
(обратно)208
Следующим доказательством актуальности тютчевско-гейневских ассоциаций может служить «Грифельная ода». По мнению Ронена (Ronen 1983: 141), образ «пестрого дня» пришел из тютчевского «Если смерть есть ночь…», представляющего собой свободный перевод гейневского «Der Tod ist kühle Nacht…».
(обратно)209
Подробный разбор «немецких» реалий «Шума времени» см. в главе 2.4.1.
(обратно)210
Образно-цветовая гамма кровавой зари (ст. 30, 34) — общее место революционной метафорики. В вышеупомянутой «социалистской» главе «Шума времени», написанного, как и ОВР, в 1923 году, Мандельштам напишет о «красной полоске марксистской зари» (II, 375).
(обратно)211
Актуальность тютчевско-гетевских ассоциаций, возможно, подтверждает один из подтекстов «Грифельной оды». Уже первый стих («Звезда с звездой — могучий стык») имеет, по мнению Ронена (Ronen 1983: 62), не только лермонтовский («Выхожу один я на дорогу…» с темой одинокого пути поэта и «кремнистой» образностью), но и, вероятно, гетевский подтекст: это стихи из 2-й части «Фауста» (стихи 4642–4643): «Nacht ist schon hereingesunken, / Schließt sich heilig Stem an Stern» (Goethe 1888: XV, 4). Как всегда в случаях иноязычных подтекстов, такие критерии подтекстуальности, как лексико-семантический повтор, не работают. Гетевский образ не обозначает автоматического использования редкого слова «стык». Идея, высказанная Роненом, кажется нам довольно убедительной, но окончательной уверенности здесь быть не может.
(обратно)212
О том, что «одическое» мышление было характерно для Мандельштама периода создания ОВР, свидетельствует любопытный эпизод из воспоминаний Н. Вольпина: «Однажды после длительного перерыва Осип Эмильевич с Надей приходят ко мне. Мой мальчик — ему уже два года — лежит в кроватке. Поэт наклоняется над ним. — Узнаешь меня? — Да! — Врешь. Как меня зовут? — Ты дядя О! — Мандельштам радостно рассмеялся. — Верно! Верно! Это одическое „О“! Оно мне присуще. Я — Ода!» (Вольпин 1991: 86–87). Воспоминание это относится к 1924–1925 годам, то есть ко времени, наступившему непосредственно после «одического» 1923 года. Напомним, что в 1923 году помимо ОВР Мандельштам написал «Грифельную оду». Было бы интересно сопоставить развитие оды от предвоенных лет до середины 1920-х годов в творчестве Мандельштама и Маяковского.
(обратно)213
Это замечание к вопросу о влиянии «литературного быта» не только на поэтов, но и на филологов 1920-х годов и очередное подтверждение связи мандельштамовской поэзии 1920-х годов со штудиями формалистов. В связи с Л. В. Пумпянским и формалистами хотелось бы отметить, что опоязовцы артикулировали существование взаимозависимости между ними и поэтическими запросами современности яснее и трезвее участников Невельского литературоведческого кружка. Осознание того, что стало источником их научного вдохновения, с одной стороны, давало им новые импульсы для развития собственных концепций и постановки очередных историко-литературных и теоретических задач. С другой стороны, в погоне за одическими параллелями между XVIII веком и футуристами происходили натяжки, как, например, в работе Якобсона (1921), впоследствии раскритикованной В. Виноградовым. Ср. в связи с этим: Lachmann (1981).
(обратно)214
Ср. в связи с этим: Пумпянский (2000: 248).
(обратно)215
Ср., к примеру, репрезентативные определения Бартеля в Словаре немецкоязычных писателей («Lexikon deutschsprachiger Schriftsteller») (Albrecht et al. 1974: 36).
(обратно)216
Ср. свидетельство Н. Мандельштам (1990а: 241). Кроме того, переводы из Петрарки возникли в совершенно ином литературно-историческом и политическом контексте, в период «позднего» Мандельштама.
(обратно)217
Ср.: Nerler 1993: 139, прим. 17; Simonek 1994а: 85.
(обратно)218
Ср. Dutli 1985: 257–262. То, что Мандельштаму поденщина не была чужда, убедительно показал Ш. Симонек в своем разборе мандельштамовских переводов из А. Шнитцлера (Simonek 1993b). Но это касается переводов прозы. Переводя поэзию, Мандельштам халтурить не умел.
(обратно)219
Ср.: Dutli 2003: 265; Averincev 2006: 832–833.
(обратно)220
Ср. интертекстуально-библиографические указания на Бартеля у О. Ронена, мимо которых проходили последующие исследователи (Ronen 1983: 84, прим. 28, 132, 136, 138, 141, 154, 190, прим. 146).
(обратно)221
Во многих отношениях предвзятый подход к переводам из Бартеля, к сожалению, многое определил и в собственно поэтологической части исследования X. Майера. Так, X. Майер стремится «в любом случае навязанных дифирамбах видеть тихую (и для цензуры, судя по всему, слишком тонкую) иронию» «auf jeden Fall gezwungenen Lobgesänge… auch eine leise (für die Zensur wohl zu subtile) Ironie sehen» (1991: 80). Остается неясным, кто заставлял Мандельштама писать «гимны» и почему тогдашняя цензура, в отличие от современного исследователя, не заметила в них никакой иронии, хотя это входило в ее прямые обязанности. Поиски иронии привели к частичной деформации поэтологических выводов работы. Так, X. Майер, убежденный в существовании «напряжения между ожиданием заказчика и поэтической совестью великого поэта» («Spannung zwischen den Erwartungen des Auftraggebers und dem poetischen Gewissen des großen Dichters» (1991: 89)), приходит при анализе одного из переводов к выводу, что Мандельштам «доводит политическую поэтику официальной большевистской госпоэзии до абсурда» («die politische Poetik der bolschewistischen Staatsdichtung ad absurdum führt»), а во многих переводах находит «почти закономерную и оправданную несерьезную установку Мандельштама по отношению к поэзии Бартеля» («in vielen Übersetzungen eine fast gesetzmäßig — und durchaus berechtigt — unemste Haltung gegenüber der Dichtung Barthels» (1991: 93)). При этом исследователь не говорит, кто «заказчик», и не приводит образцы «большевистской поэзии».
(обратно)222
Пожалуй, самым курьезным выражением антисоветской традиции в мандельштамоведении можно считать доклад Ю. Левина на лондонской конференции к 100-летию Мандельштама (1991). Московский исследователь-структуралист, известный своими «аполитичными», структуралистскими имманентными разборами мандельштамовской лирики, объявил публике, что больше не будет заниматься Мандельштамом, поскольку запрет на Мандельштама снят и он уже «не ворованный воздух» (Левин 1998: 153–155).
(обратно)223
В тени острых дискуссий об (анти-) советскости Мандельштама, к сожалению, остались фундаментальные исследования «поэтической идеологии» послереволюционного Мандельштама, проведенные Е. Тоддесом (1988 и 1991). Кроме того, работы Е. Тоддеса по связям Мандельштама с опоязовцами (1986) не нашли, по нашему впечатлению, должного отклика и продолжения в мандельштамоведении.
(обратно)224
О генезисе формулы «тоска по мировой культуре» см. подробнее главу 4.1.
(обратно)225
В файле — полужирный — прим. верст.
(обратно)226
Ср. также двойное отрицание «никогда, никогда» из «Актера и рабочего» с зачином стихотворения «Нет, никогда, ничей я не был современник…», в котором Мандельштам дистанцируется от прежнего Мандельштама, своего «соименника» из дореволюционных лет.
(обратно)227
К сожалению, нам, так же как и X. Майеру, не удалось найти бартелевский оригинал «Карла Либкнехта». Не исключено, что Бартель вообще не являлся автором этого стихотворения, что легко представимо, учитывая издательско-переводческий хаос первой половины 1920-х годов: так, некоторые переводы из Бартеля по ошибке печатались без указания автора («Звезда», 1925: № 12, 84), то же происходило с некоторыми переводами из Э. Толлера («Звезда», 1924: № 2, 109–110). Возможно, оригинал «Карла Либкнехта» будет найден в одной из многочисленных антологий или их перепечаток, курсировавших в начале 1920-х годов. Перипетиям немецко-советского культурного обмена 1920-х годов мы надеемся посвятить отдельное исследование.
(обратно)228
Цифры означают номер стихотворения во втором томе Собрания сочинений Мандельштама 1993–1997 годов.
(обратно)229
Полный список прототипов «вождя» «Сумерек» см. у Ронена (2002: 131).
(обратно)230
Ср. также паронимически-семантическую связь русских слов проповедь и пропаганда, которая для Мандельштама — мастера метафорической ослышки — могла оказаться релевантной.
(обратно)231
Ср. в переводе Толлера: «И человечество, разбухнувшее мощью, / Воздвигнет мира купол невесомый — / Красное знамя…» (IV, 304).
(обратно)232
Так, в «Поруганном лесе» у Бартеля есть stürmender Abend — не только ураганный, но и штурмующий, атакующий ветер. В чисто метеорологическом смысле правильнее было бы stürmischer (прилагательное) Abend, в оригинале же stürmender (причастие) Abend. Оба варианта метрически идентичны: если бы Бартель хотел однозначности, он бы оставил первый вариант, но он выбрал второй. Мандельштам остановил свой выбор на «буре», возможно, «просмотрев» полисемичность оригинала.
(обратно)233
Оба стихотворения Тютчева оказывались в лирике самого Мандельштама объектом реминисценций: в одноименном «Silentium» (I, 50) и в тютчевской загадке: «Дайте Тютчеву стрекозу — / Догадайтесь почему!» (III, 65). Единственным упоминанием стрекозы в творчестве Тютчева является стихотворение «В душном воздуха молчанье…». Стрекоза — метонимия грозы. Подробнее см. у О. Ронена (2002: 32–33).
(обратно)234
По-видимому, некоторые формулы вышеуказанных стихотворений Тютчева, Пастернака и Бартеля восходят к одному (немецкому) источнику «грозовой» образности четырехстопного ямба.
(обратно)235
Ср. о лермонтовских подтекстах «Грифельной оды»: Ronen (1983: 81, 220); Гелих (1995: 73–75).
(обратно)236
На словесные формулы мандельштамовского перевода не исключено и влияние стихотворения И. Бунина «Лес шумит…», написанного 5-стопным хореем и продолжающего лермонтовскую традицию.
(обратно)237
Об арийском мифе в европейском культурном пространстве см. See 2006: 9–54.
(обратно)238
Косвенно, через культурософские хиазмы, еврейское — немецкое и Шиллер — Библия, Мандельштам тематизирует взаимодополняющие каналы культурообмена, сложное сплетение судеб христианской Европы и иудейской традиции.
(обратно)239
В пользу «русского» разграничения говорит и тот факт, что в следующем предложении своего эссе Мандельштам как раз и переходит к русской литературе середины XIX века: к Тургеневу и Достоевскому — то есть к литературе «чужой», после 1837 года. С другой стороны, Мандельштам считал Гете и Шиллера «близнецами», подобно Тургеневу и Достоевскому: «Внешность у них одинаковая, как у братьев» (II, 357). Разгадку того, где же Мандельштам проводит границу «своего» и «чужого», усложняет само сплетение воспоминаний о детских полубессознательных наложениях (Гете — Шиллера и Тургенева — Достоевского) и, как нам представляется, более поздней рефлексии — поиска собственной поэтической генеалогии. Мандельштамовская поэзия до 1920-х годов действительно подтекстуально больше связана с Державиным, Батюшковым, Пушкиным, Тютчевым, нежели с поэтами послепушкинской поры. В то же самое время 1922–1923 годы — время интенсивных интертекстуальных обращений к Лермонтову («Грифельная ода»). То же самое можно сказать и о Гете, которого Мандельштам также начал «приобщать» к своему поэтическому миру в 1920-е годы. Здесь Мандельштам еще разграничивает, сужает «родное» и «чужое»: в метапоэтических стихотворениях 1930-х годов «родной» станет вся русская поэзия XIX века.
(обратно)240
«Латыши» в этом противостоянии и слиянии культурных элементов не участвуют: они «сушат и вялят камбалу» (II, 363) и т. д. Мандельштам помещает латышей в пушкинский топос «убогого чухонца» из «Медного всадника».
(обратно)241
Воспоминания об этих событиях Мандельштам актуализировал в своей памяти в очерке «Меньшевики в Грузии» (II, 317).
(обратно)242
«Марксистские Пропилеи» наслаиваются на образ позвоночника века, взятый из стихотворения «Век», написанного во время работы над «Шумом времени».
(обратно)243
Обращаясь к сатире, Мандельштам идет в ногу со временем: адекватное понимание «Египетской марки» возможно лишь при рассмотрении всего контекста юмористической и сатирической советской литературы 2-й половины 1920-х годов. Напомним, что в 1927 году, когда Мандельштам работал над «Египетской маркой», И. Ильф и Е. Петров пишут «Двенадцать стульев», Ю. Олеша — «Зависть», М. Булгаков — после «Дьяволиады» и «Роковых яиц» (1925) — «Зойкину квартиру», М. Зощенко — «Нервных людей».
(обратно)244
Из этого признания можно вновь почерпнуть важные сведения о раннем, детском знакомстве Мандельштама с немецкой письменностью, а значит, и с немецкой литературой в библиотеке отца. Ср. разобранные выше «типографические» ассоциации в «Шуме времени» там, где Мандельштам говорит об отце.
(обратно)245
Здесь наша интерпретация сходна с толкованием Д. М. Вест, согласно которому Гете также имеет репрезентативную функцию (West 1980: 70), и не совпадает с интерпретацией Ш. Симонека (Simonek 1994b: 106–107): Симонек связывает таянье Гете и конькобежную тему с одой Клопштока «Der Eislauf»; ссылаясь на воспоминания Надежды Мандельштам, он говорит о знакомстве Мандельштама с Клопштоком и об упоминании его в гетевском контексте в «Молодости Гете». Но «Молодость Гете» была написана в 1935 году, тогда как «Египетская марка» — в 1928-м: взрыв интереса к Гете произошел позднее, во время путешествия в Армению (см. главу 3.1.1). Конкретных (лексических) интертекстуальных совпадений австрийский исследователь не приводит, говоря о тематических параллелях (1994b: 109). Однако косвенно Симонек, как нам кажется, точно обратил внимание на некоторую амбивалентность самого образа таянья — оттепели у Мандельштама. Среди возможных интертекстов — вошедшее в поговорку Гераклитово «Все течет. Все изменяется». На место Гераклитова течения-изменения в русской, чаадаевской интерпретации пришло течение-исчезновение: «все течет, все исчезает, не оставляя следов ни вовне, ни в вас» (Чаадаев 1991: 324). Чаадаевская формула из Первого философического письма была на слуху у современников Мандельштама: так, ее процитировал Якобсон в своей инвективной статье «О поколении, растратившем своих поэтов». Ср. Якобсон / Святополк-Мирский (1975: 12).
(обратно)246
Уже в статье «Армия поэтов» (1924) в сжатом описании «благородного духа германской романтики» присутствует «шубертовская голубая дымка в глазах» (II, 340), подхватывающая образ «голубоглазого хмеля» из «шубертовского» стихотворения 1918 года. В «Армии поэтов» она косвенно связывается с центральным символом-образом йенского романтизма — «голубым цветком» Новалиса. В ненаписанной повести «Фагот», согласно плану Мандельштама, должны были происходить «поиски неизвестной песенки Шуберта», что дало бы возможность «дать в историческом плане музыкальную тему (Германия)» (II, 603).
(обратно)247
На вопрос, почему у Мандельштама «ленивый Шуман развешивает ноты, как белье для просушки, а внизу ходят итальянцы, задрав носы» (II, 481), наиболее трезво и исчерпывающе на сегодняшний день ответил Б. Кац: на открытке, которую Мандельштам собирался отправить из Детского Села в Ленинград пианистке И. Д. Ханцин, «выписана рукой Мандельштама нотная цитата из… Второй сонаты Шумана… Взглянув на начало Второй сонаты Шумана, даже не знакомый с нотной грамотой читатель может, думаю, убедиться, что ноты мелодии (на верхних строчках двустрочной фортепианной записи) далеко отстоят друг от друга, словно размещали их и впрямь с ленцой, а повторяющиеся на нижних строчках фигуры аккомпанемента вполне могут ассоциироваться с поднятыми кверху носами. При чем здесь итальянцы? Видимо, при том, что в несколько измененном виде использованные Шуманом фигуры аккомпанемента известны в теории музыки под названием „альбертиевы басы“ — по имени итальянского композитора Доменико Альберти (1717–1740). В отличие от классических „альбертиевых басов“ в шумановской сонате вторая нота каждой фигуры чересчур высоко вздымается над первой. И если ноты мелодии, объединенные сверху дугообразной линией лиги, превращены поэтом в белье, развешанное на веревке, то почему бы находящимся внизу „альбертиевым басам“ не превратиться в итальянцев, задирающих носы?» (1991а: 69). Нельзя, однако, упускать и более бытовое объяснение. Ср. итальянскую «традицию» сушить белье, натягивая веревки высоко между домами.
(обратно)248
В заключение хотелось бы упомянуть концовку «Четвертой прозы»: «Ходит немец шарманщик с шубертовским лееркастеном (шарманкой. — Г.К.) — такой неудачник, такой шаромыжник. <…> Ходят армяне из города Эривани с зелеными крашеными селедками. Ich bin arm — я беден. А в Армавире на городском гербе написано: собака лает — ветер носит» (III, 179). Образ подтекстуально отсылает к шарманщику из «Зимнего путешествия» («Winterreise») Шуберта и контекстуально — к образу бродяги-неудачника в собственном стихотворении «Шарманка» (Кац 1991а: 76). Характерна последняя фраза, повторенная по-немецки и по-русски, да еще от первого лица: «Ich bin arm — я беден», паронимически обыгрывающая фоническую цепочку «arm — армяне — шарманка — Армавир» (III, 179). Немецкий макаронизм усиливает абсурдный сюрреализм московских картинок «Четвертой прозы».
(обратно)249
О влиянии идей Гете-естествоиспытателя на Б. Кузина см. Любарский (2004).
(обратно)250
Н. Поллак (Poliak 1983: 119–122) предполагает даже более широкую подтекстуальность «Итальянского путешествия» для «Путешествия в Армению» (натуралистская тематика).
(обратно)251
Идентификации с Гете параллельно и смежно моделирование собственного литературного поведения по пушкинскому образцу: Мандельштам вписывает свое «Путешествие в Армению» в топику пушкинских поездок на юг, в первую очередь «Путешествия в Арзрум». Ср. также причины бегства Пушкина в 1829 году (цензурные конфликты, попытки «приручения» и т. д.), о которых Мандельштам мог знать из тыняновских «арзрумских» штудий 1927–1930 годов (Тынянов 1969: 192–208). Об истории создания тыняновских комментариев к «Путешествию в Арзрум», начиная с доклада 1927 года, на котором, по нашему предположению, мог присутствовать Мандельштам, см. Грушинин / Чудаков (1969: 399–400). Тем не менее хотелось бы отметить, что уже само количество эксплицитных отсылов к Гете в тексте «Путешествия в Армению» позволяет говорить о доминирующей «гетевской» линии мандельштамовских идентификационных моделирований.
(обратно)252
Не только Мандельштам обращал особое внимание на естественнонаучную сторону деятельности Гете. В связи с этим укажем лишь на релевантного для Мандельштама 1932–1933 годов А. Белого, который к гетевскому юбилею выступил с докладом об открытии Гете нового жанра научно-поэтического очерка. Стенограмма доклада Белого (23 ноября 1932 года) была напечатана в «Новом мире» (Белый 1933: 270–272).
(обратно)253
М. Шагинян была гетеанкой. В 1914 году она совершила паломничество по гетевским местам, впоследствии описанное в «Путешествиях в Веймар» (1923). Результатом гетевских увлечений Шагинян стала монография «Гете» (1950). Не исключено, что во время армянского путешествия Мандельштам продолжил гетевские беседы с М. Шагинян, начатые, по свидетельству вдовы поэта, уже в 1925 году (Н. Мандельштам 1990b: 183). Ср. поздние издевки Н. Я. Мандельштам над М. Шагинян, которая размышляла, как «совместить Ленина с христианской душой и гетеанскими устремлениями» (Н. Мандельштам 1990b: 128, 287). О Гете в творчестве М. Шагинян см. Тураев (2004b).
(обратно)254
В связи с ямщицкой скукой российских ландшафтов, с их «однообразностью, приводившей наших поэтов то в отчаяние, то в унылый восторг», Мандельштам исторически не совсем корректен: идеализация (и идеологизация) скуки российских пейзажей в русской литературе относится к более позднему времени, чем палласовские описания.
(обратно)255
Ср. вышеупомянутый доклад А. Белого (1933: 270–272).
(обратно)256
Ср. другие паронимические ходы стихотворения «Ночь на дворе…»: потоп — потом (III, 45).
(обратно)257
Волк — символ храбрости, мужественности. Вспоминается и древняя германская традиция шить мальчикам обувь из волчьей кожи. Знакомство Мандельштама с этими мифологическими фактами — возможно, но вряд ли доказуемо.
(обратно)258
Мандельштам пишет по старинке «нюренбергская», сегодня пишут «нюрнбергская».
(обратно)259
В связи с кларнетом ср. возможную зрительно-интертекстуальную ассоциативную цепочку: кларнет — флейта — флейта-позвоночник — позвонки.
(обратно)260
Ср. лексико-ритмическую перекличку в рифменной позиции между словосочетаниями «сословий вал» в «Рояле» и «девятый вал» в «Стихах о русской поэзии».
(обратно)261
В связи с возможными кунсткамерными подтекстами «нюренбергской пружины» вспоминается и фигура Органчика из «Города Глупова» Салтыкова-Щедрина, также образно восходящая к топике механической куклы позднего романтизма.
(обратно)262
Мы поделились своими трудностями при интерпретации «Рояля» с М. Л. Гаспаровым, который также считал «Рояль» одним из самых тяжелых для толкования стихотворений Мандельштама первой половины 1930-х годов: проясняются только детали, связная интерпретация текста не удается.
(обратно)263
Биографический контекст герценовских ассоциаций: в январе 1931 года бесприютные Мандельштамы переезжают в Москву, где живут на квартирах родственников и знакомых, через год после переезда они получают крохотную комнатушку в писательском Доме Герцена.
(обратно)264
Ср. воспоминания Э. Герштейн (1998: 8). Правда, из контекста не совсем ясно, к каким временам относятся воспоминания Э. Герштейн: к 1928 году или к 1930-м годам, когда образ Моцарта нашел свое место в стихотворениях поэта. Биографическая деталь: в 1932 году Мандельштам «в необычно быстром темпе», с трагически-стремительной интонацией исполнил в присутствии Э. Герштейн «сонатину Моцарта» (Герштейн 1995: 278).
(обратно)265
Ср.: «Какой Бах, какой Моцарт варьирует тему листа настурции?»: III, 194; «Паллас насвистывает из Моцарта»: III, 388; «Кто не любит Гайдна, Глюка и Моцарта — тот ни черта не поймет в Палласе» — Паллас «перенес на русские равнины» «телесную круглость и любезность немецкой музыки»: III, 201.
(обратно)266
То, что сцена «У ворот» была для Пастернака особенно важной, подтверждается тем, что Пастернак, переводя и готовя к публикации «Фауста» (Гете 1950: 422–530; полностью — Гете 1953), в качестве пробы отдал в «Новый мир» именно перевод сцены «У ворот» (1949).
(обратно)267
Важность мотива прогулки в творчестве Мандельштама в рамках немецкой темы мы обговаривали на примере стихотворения «Лютеранин».
(обратно)268
Подробнее об истории возникновения «Сестры моей — жизни» см. Е. Пастернак (1997: 267–287).
(обратно)269
Оба стихотворения вышли под общим заголовком «Два стихотворения из Фаустова цикла» еще в 1920 году в сборнике «Булань» (1920: 24–25). Гетевская интертекстуальность Пастернака была замечена современниками. Ср. упоминания фаустовских аллюзий Пастернака у А. Лежнева (1927: 36–37, 46, 48, 51).
(обратно)270
Ср. лексико-семантическую перекличку «бурности» Герцена с «Бурей и натиском».
(обратно)271
Ср. переклички темы казни самозванца в «На розвальнях, уложенных соломой…» с мотивом казни заговорщиков в стихотворениях 1921 года.
(обратно)272
Ср. также сюжетную линию, связанную с Домом Герцена у Булгакова.
(обратно)273
Ср. также лексико-синтаксические переклички словосочетания «Все мечется» с «Все перепуталось» в «Декабристе» и «Все тает. И Гете тает» в «Египетской марке» (II, 489).
(обратно)274
Отмечено Д. Майерс (1994: 88). В связи с этим укажем лишь на обширное исследование «Гете в русской поэзии», заказанное в 1932 году журналом «Литературное наследство» В. М. Жирмунскому (1932) и впоследствии выросшее в книгу «Гете в русской литературе» (1937). Март 1932 года проходит в стране под знаком Гете. Почти ежедневно заметки к столетию Гете публикуют не только литературные издания, но и центральные газеты — «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «Красная звезда», «Вечерняя Москва» и др. Перечень других изданий и мероприятий к столетней годовщине смерти Гете см. Тураев (2004а: 372–376) и Фомин / Лопатина (2004).
(обратно)275
Ср. Schlott 1988: 290; Nerler 1993: 133; Simonek 1994а: 62; Нерлер 1995: 181
(обратно)276
Опыт такого анализа оправдал себя в мандельштамоведении, как никакой другой. Книга О. Ронена «Approach to Mandel’štam» (1983), фундаментальная для мандельштамоведения, выстраивалась как построчный разбор двух стихотворений Мандельштама. Конечно, при разборе HP мы сможем сконцентрироваться лишь на главных интертекстах.
(обратно)277
В связи с этим мы присоединяемся к текстологически-библиографическому решению А. Меда, опубликовавшего сонет «Христиан Клейст» в разделе «Варианты». Даже если «Христиан Клейст» и возник как самостоятельный текст, после написания HP он получил статус черновика, а не двойчатки.
(обратно)278
Ср.: «Вспомним отношение Карамзина и Тютчева к земле Запада, к европейской почве. И тот и другой сильнее всего чувствовали почву Европы там, где она вздыбилась горами, где она хранит живую память геологической катастрофы. Здесь в Швейцарии Карамзин пролил сентиментальные слезы русского путешественника» (II, 251).
(обратно)279
Восприятию Э. X. Клейста в русском литературном пространстве уже посвящались некоторые исследования (Körner 1975; Hexelschneider 1984; Данилевский / Кочеткова / Левин 1996: 163–165).
(обратно)280
Э. Герштейн полагала, что «Надежда Мандельштам [в своих мемуарах. — Г.К.] стремится умалить значение друзей в жизни ее мужа» (1998: 89). Характерно, что в качестве вопиющего примера такого принижения Э. Герштейн приводит отношение Н. Мандельштам к Б. Кузину.
(обратно)281
В ходе разбора стихотворение цитируется по: Мандельштам 1995: 221–222.
(обратно)282
Во всех мандельштамовских стихотворениях, написанных пятистопным ямбом с женскими рифмами, присутствует обращение. В трех, не относящихся к немецкой теме, повторяется даже зачин обращения, ср. «О, небо, небо, ты мне будешь сниться», «О, Цезарь, Цезарь» в «У моря ропот старческой кифары…», «О, горбоносых странников фигурки! / О, средиземный радостный зверинец!» в «Феодосии». Это к вопросу о семантическом ореоле пятистопного ямба с женскими рифмами в творчестве Мандельштама.
(обратно)283
Противоречивость — одна из главнейших констант мандельштамовского мышления. Характерно, что это отрефлектированное поэтом свойство было замечено современниками. Так, А. Ахматова говорила П. Лукницкому, что «Мандельштам восстает прежде всего на самого же себя, на то, что он сам делал и больше всех» (цит. по: Лукницкая 1991: 128).
(обратно)284
Ср. в связи с травлей 1929–1930 годов письмо поэта жене от 13 марта 1930 года, в которое Мандельштам вводит немецкую автореминисценцию из «Четвертой прозы»: «Я один. Ich bin arm» (IV, 136).
(обратно)285
Ср. также образно-лексическую перекличку «гробов» армянского цикла и HP.
(обратно)286
На более отдаленном подтекстуальном фоне проступают образные контуры тютчевского стихотворения «Тени сизые смесились…», непосредственно связанного с гетевско-гафизовским мотыльком: «Мотылька полет незримый / Слышен в воздухе ночном… / Час тоски невыразимой!.. / Всё во мне, и я во всём!.. / Сумрак тихий, сумрак сонный, / Лейся в глубь моей души, / Тихий, томный, благовонный, / Все залей и утиши, — / Чувства мглой самозабвенья / Переполни через край!.. / Дай вкусить уничтоженья, / С миром дремлющим смешай!» (Тютчев 2002:1, 159). Не случайно и в тютчевском, и в мандельштамовском стихотворении появление в момент утешительно-губительного откровения и самопознания ночного гетевского мотылька из уже упомянутого стихотворения «Блаженное томление». Напомним также, что в 1932 году выходит первый полный перевод «Дивана», сделанный С. Шервинским и М. Кузминым (Гете 1932).
(обратно)287
Версия представлена М. Л. Гаспаровым в устном сообщении (осень 2004 года). О гетеанстве (фаустовских мотивах) самого Брюсова см. Flickinger (1983).
(обратно)288
По смелой и важной, но труднодоказуемой догадке П. Нерлера (1995: 188–190), под уходом в чужую речь подразумевается намерение Мандельштама заняться переводами из Гете. Напомним, что Мандельштам раскритиковал намеченное издание Гете. Бегство из родной речи в чужую оказывается тем самым не простой метафорической абстракцией и приобретает твердое биографическое основание. Будем надеяться, что со временем появятся свидетельства современников (архив М. Шагинян), которые подтвердят или не подтвердят предположение П. Нерлера.
(обратно)289
Ср. оксюморонизацию топики «пира» в стихотворениях 1931–1932 годов: от «пира отцов» к «пиру во время чумы».
(обратно)290
Сказано это в той главе «Египетской марки», где мандельштамовский герой пытается отмежеваться от своего двойника Парнока (II, 481). В HP поэт делает попытку отделить от себя ту свою часть, которая способна на роковой компромисс с наступающим бесчестьем.
(обратно)291
По мнению Ю. М. Лотмана, «идеал, который создает себе дворянская культура (XVIII–XIX веков. — Г.К.), подразумевает полное изгнание страха и утверждение чести как основного законодателя поведения» (1994b: 164).
(обратно)292
Об актуальности чаадаевских ассоциаций и темы «свободы выбора» говорит стихотворение «О, как мы любим лицемерить…», написанное за несколько месяцев до HP. В нем молчанию противопоставляется правота свободного выбора: «Но не хочу уснуть, как рыба, / В глубоком обмороке вод, / И дорог мне свободный выбор / Моих страданий и забот» (III, 61).
(обратно)293
Первый известный случай такого возвращения — М. Ломоносов, последний — А. Солженицын. Ср. в связи с этим и сознательное не-возвращение И. Бродского, пытавшегося сломать эту модель.
(обратно)294
В стихотворении «Сегодня можно снять декалькомани…», написанном незадолго до HP, поэт размышлял о недостаточной развитости русской культуры-архитектуры. Кремль был назван разбойником, которого следовало бы отправить доучиться: «А в недорослях кто? Иван Великий — / Великовозрастная колокольня — / Стоит себе еще болван болваном / Который век. Его бы за границу, / Чтоб доучился… Да куда там! Стыдно!» (III, 59). Русская культура — фонвизинский недоросль и недоучка, который, может быть, и хочет, но — то ли из гордыни, то ли из-за своей неразумности («болван болваном») стыдится учиться. Призыв Мандельштама поучиться серьезности и чести (который звучит утопически на фоне «разбойничьего» Кремля) относится как к себе, так и ко всей русской культуре. Фонвизин — герой стихотворения Пушкина («Тень Фонвизина»), в котором появляется Батюшков — русский Клейст и Анакреон.
(обратно)295
Ситуация обращения в черновике усиливалась через эпиграф из Клейста, также являющийся обращением. Уже у Клейста обращение к другу и одновременно разговор с самим собой.
(обратно)296
Не обязательным, но возможным подтекстом может оказаться журнальная редакция стихотворения «Наступление» из «Колчана» Гумилева, диалог с которым, по словам поэта, не прерывался никогда: «О, как белы крылья Победы! / Как безумны ее глаза! / О, как мудры ее беседы, / Очистительная гроза!» (1988: 503). Поэзии полезны «очистительные грозы». У самого Гумилева также реминисценции из Тютчева: ср. беседа и гроза.
(обратно)297
Легитимность вчитывания в текст стихотворения именно тютчевского Гете подтверждается не только многочисленными контекстуальными отсылками, но и тем фактом, что в своей радиопьесе «Молодость Гете» Мандельштам воспользовался именно тютчевскими переводами немецкого поэта. Пантеистическая «гроза» Гете в тютчевской интерпретации развивается Мандельштамом дальше в написанном им год спустя после HP «Разговоре о Данте»: «в основе композиции решительно всех песен „Inferno“ лежит движение грозы, созревающей как метеорологическое явление, и все вопросы и ответы вращаются, по существу, вокруг единственного: …быть или не быть грозе. Точнее — это движение грозы, проходящей мимо и обязательно стороной» (III, 403).
(обратно)298
Сходное значение, совмещающее устоявшуюся метафорику грозы, обнаруживается и в мандельштамовских переводах из Бартеля. Бартелевское «Im Sturm erst recht» Мандельштам перевел как «Гроза права» (II, 177): от правоты грозы до ее полезности и актуальности — шаг небольшой. С HP «Гроза права» из Бартеля связывает не только образ очищающей, наводящей порядок грозы, но и мотивы «студеных погребов», и тема молчания. Концовка бартелевского перевода («Я счастья полновесный слиток / В колодезь горный уронил; / О, расточи блаженных сил избыток / И промолчи — кто б ни спросил!») связывается с судьбой молчаливого Пилада из HP, грозой как «преизбытком жизни» у Тютчева и «полновесными слитками» ночей в гетевском контексте в позднем стихотворении «Римских ночей полновесные слитки / — Юношу Гете манившее лоно». Связь обоих стихотворений подтверждается упоминанием «лона» в другом переводе из Бартеля («Хоть во сне с тобой да побуду…»).
(обратно)299
У Э. X. Клейста, возможно, был предтеча: в «Шуме времени» (II, 356) в ряду немецкого книжного строя был назван К. Т. Кернер (Carl Theodor Körner, 1791–1813) — немецкий романтик, поэт-офицер, выросший в гете-шиллеровской среде. Отец поэта, Христиан Готфрид Кернер, был другом и почитателем Шиллера. Возможно, эта информация стояла в предисловии к изданию Кернера из отцовской библиотеки Мандельштама. Карл Теодор Кернер погиб в августе 1813 года в бою против французов и считается главным певцом освободительных антинаполеоновских войн, вокруг которых выстраивается поле «германского» в мандельштамовском «Декабристе». Правда, остается неясным, какого Кернера Мандельштам конкретно имеет в виду. «Кернер» — русская транслитерация как для Körner, так и для Kerner. Поэтому под Кернером может скрываться и Юстиниус Кернер (Justinus Kerner; 1786–1862), также немецкий поэт-романтик.
(обратно)300
П. Нерлер предполагает (1994: 37, 73), что в образе немецкого офицера замешана и судьба Эмиля Ласка, гейдельбергского доктора философии, лекции которого Мандельштам посещал в зимнем семестре 1909/10 года). Э. Ласк погиб на русском фронте в 1915 году. Предположение исследователя проблематично: у нас нет свидетельств о том, что Мандельштам знал о судьбе Ласка или даже интересовался им.
(обратно)301
Возможный подтекст — стихотворение Клейста «Тоска по покою» («Sehnsucht nach Ruhe»), где цветы противопоставляются стали как символу войны (ср.: Simonek: 1994а, 72–73).
(обратно)302
В связи с топикой плодородия ср. не только «Пшеницу человеческую» и близлежащую урожайную образность, но и статью «Слово и культура»: «Поэзия — плуг, взрывающий время так, что глубинные слои времени, его чернозем, оказываются сверху» (I, 213).
(обратно)303
Интересным, но проблемным кажется нам, однако, мнение исследовательницы относительно «Крошки Цахеса» как подтекста 3-й части «Стихов о русской поэзии». Мемуарных свидетельств о знакомстве Мандельштама с этой сказкой Гофмана у нас нет, а приведенные исследовательницей параллели между стихами Мандельштама и текстом перевода гофмановской сказки 1967 (!) года не кажутся до конца убедительными (ср. Месс-Бейер 1991: 259–261). Как уже указывалось ранее, более вероятным подтекстом «уродов» мы, не настаивая, полагаем «Восковую персону» Тынянова.
(обратно)304
Ср. в связи с этим воспоминания Валентина Катаева (2005: 166–167). О взаимоотношениях Мандельштама и Катаева см.: Котова / Лекманов 2004: 34–35.
(обратно)305
В одном из вариантов было: «И прямо в гроб, с виньетки альманаха» (Мандельштам 1995: 485). Вероятно, Мандельштам в процессе работы над стихотворением вспомнил о «виноградных» виньетках на немецких книгах из отцовской библиотеки, которые он описал в «Шуме времени» (II, 356).
(обратно)306
В связи с этой константой мышления Мандельштама С. С. Аверинцев указывает на строки «На всех готовых жить и умереть» в «Оде» и на «К жизни и смерти готовые» из стихотворения «С примесью ворона — голуби…» (Аверинцев 2001Ь: 23).
(обратно)307
У самого Гете формула «stirb und werde» («умри и будь») — от Мейстера Экхарта.
(обратно)308
Двумя годами позже, уже после самоубийственной «эпиграммы» на Сталина, в «Стихах памяти Андрея Белого» будет сказано: «Часто пишется казнь, а читается правильно — песнь» («Голубые глаза и горячая лобная кость…», 1995: 234).
(обратно)309
См. подтекстуальное «участие» Батюшкова и Языкова в сюжетном строе «Декабриста».
(обратно)310
Ср. паронимические потенции роковой — роговой мантии в «Ламарке».
(обратно)311
Уже К. Тарановский указал на контекстуальное родство стихов HP и «Батюшков» (2000: 14). Исследователь убедительно показал, что в стихотворении о Батюшкове Мандельштам повторяет свою идею о переливании «вечных» «блуждающих» снов поэзии из стихотворения «Я не слыхал рассказов Оссиана…».
(обратно)312
См. выше синтаксические нестыковки, фразеологические смещения и т. п.
(обратно)313
Не случайно в своих «Воспоминаниях» вдова поэта, говоря о чувстве внутренней правоты, которое постоянно искал и отстаивал Мандельштам, определила кредо поэта формулой Лютера (в редакции стихотворения 1914 года) — «Здесь я стою — я не могу иначе», тем самым косвенно подчеркнув важность и легитимность лютеровского интертекста (Н. Мандельштам 1999: 207).
(обратно)314
Появление в нашем анализе христианских формул мотивировано не только псалмодическим пафосом стихотворения («укрепи меня в вере моей»), но и такими лексико-семантическими деталями-мелочами, как дословное понимание имени героя стихотворения — Христиана Клейста, т. е. христианина Клейста. Конечно, такое буквальное прочтение имени Клейста не стоит выделять в качестве одного из смыслообразующих звеньев стихотворения, но принять к сведению, пусть и со всеми оговорками, можно. О топике «фарисейства» мы уже говорили в связи с шестым стихом HP.
(обратно)315
Сам Гейне пародировал, по нашему предположению, не только или не столько Евангелие от Иоанна, сколько парафразы евангельской формулы в «Фаусте» Гете (стихи «Фауста» 1224–1237; Goethe 1887: XIV, 62–63).
(обратно)316
Не исключено, что стихотворение Гейне в сознании Мандельштама освежил Тынянов. Так, его цитирует Тынянов в работе «Тютчев и Гейне» (1977: 391). При жизни Тынянова монография «Тютчев и Гейне» не была опубликована, но более чем вероятно, что Тынянов, который, как известно, сначала «обкатывал» свои идеи на компетентной аудитории, в 1920-е годы, то есть в период создания статьи и интенсивного общения между Мандельштамом и опоязовцами, внедрял цитату из Гейне в свои доклады по Тютчеву. Ср. также статус Тынянова как эксперта по Гейне, окончательно сложившийся к началу 1930-х годов.
(обратно)317
Указано В. Кошмалем.
(обратно)318
В связи с этим обращает на себя внимание фоноритмическая близость несостоявшейся рифмы разряды — рулады в одном из вариантов HP («Бог Нахтигаль! Дай мне твои рулады…», 1995: 485) с пастернаковскими «разрядами».
(обратно)319
В связи с этим оксюморонной подтекстуальной ассоциацией оборачивается реминисценция из державинской «Фелицы» в стихе «Поэзия, тебе полезны грозы» — как раз за «Фелицу» Державин был в 1782 году награжден 500 золотыми червонцами и был приглашен во дворец — «завербован».
(обратно)320
См. об учащении реминисценций из «Пира во время чумы» в стихах 1931–1933 годов: Тоддес (1994) и Сурат 2006: 17–19.
(обратно)321
Ср.: «Мне с каждым днем дышать все тяжелее…» («Сегодня можно снять декалькомани…»).
(обратно)322
В связи с этим обращает на себя внимание стихотворение Гейне из «Новых стихов» с зачином «Gesanglos war ich und beklommen / So lange Zeit — nun dicht ich wieder!» («Беспесен был я и скован долгое время, и вот я снова пишу стихи»), В поэтическом пробуждении гейневского героя участвуют германские дубы и соловьи — постоянные атрибуты метасюжета немецкого романтизма у Гейне (Heine 1912: II, 80).
(обратно)323
Даже в 1935 году, когда Мандельштам уже в совершенстве владел итальянским и переводил Данте на ходу, без словаря, он не расставался с немецким подстрочным переводом Комедии. Ср. Герштейн (1998: 105). Русских подстрочных переводов всего Данте не существовало.
(обратно)324
Исключение — архитектура, общеевропейское достояние и достижение; в связи с предметом наших исследований достаточно вспомнить «германо-романскость» мандельштамовской готики.
(обратно)325
Баховское чудище органа связывается с готикой — привязка, знакомая по формулам «Утра акмеизма»: «То, что в XIII (веке. — Г.К.) казалось логическим развитием понятия организма — готический собор, — ныне эстетически действует как чудовищное» (I, 179). Знаменательна не только лексическая перекличка «чудовищное» — «чудище», но и сама биологическая метафорика при описании готики и органа в «Утре акмеизма» и написанном двадцать лет спустя «Разговоре о Данте».
(обратно)326
Впоследствии, в 1940-е годы, когда вдова поэта начала работать в школе и преподавать немецкий язык, она читала своим ученикам вслух именно «Лесного царя» Гете (Герштейн 1998: 275) — влияние вкусов мужа.
(обратно)327
Отдельного исследовательского разговора, выходящего за тематические рамки настоящей работы, заслуживает мандельштамовское применение и метафоризация формалистского термина «сдвиг». Ср. прецедент «сдвига»: «здесь пишет сдвиг» в «Грифельной Оде» 1923 года — то есть в период интенсивного вбирания Мандельштамом идей опоязовцев.
(обратно)328
Подтекстуальных следов Новалиса в творчестве Мандельштама нами не обнаружено. Примеры, приведенные в статьях Ю. Матвеевой (1999) и В. Терраса (Terras 1999), показались нам недостаточно убедительными.
(обратно)329
Конечно, Мандельштам помнил и о пародировании понятий Канта и неокантианства в «Урне» А. Белого, которое он отметил в своей статье «Буря и натиск» (II, 291). Ср. по теме Мандельштам — Белый: Dutli (1995: 61–80); Кацис (2000: 301–327); Орлицкий 2001. Проблемным и требующим дополнительной аргументации представляется нам предположение Меца (2007: 365), что стихотворение «Вермель в Канте был подкован…» написано Б. Кузиным.
(обратно)330
См. Илюшин 1990, Глазова 2000, Микушевич 2001.
(обратно)331
Ср. ритмические совпадения «Бабочки» со многими стихами об Армении (с их гафизовской линией) — трехстопный амфибрахий.
(обратно)332
Ср. и барочный жанр «музыки на воде», музыки на открытие фонтанов, например, у Генделя (отмечено Мецем: 1995: 596).
(обратно)333
Образ «волшебной трости» в стихотворении «Батюшков» в сочетании с мандельштамовским обращением к поэту («гуляка» — ср. в пушкинском «Моцарте и Сальери» о Моцарте: «гуляка праздный»), возможно, содержит отсылку к опере Моцарта «Волшебная флейта»; ср. разновидность флейты — тростевая флейта (устное наблюдение О. А. Лекманова).
(обратно)334
Несущественные контраргументы: если допустить, что Мандельштам прочитал книгу о Моцарте, то когда? Тогда же, когда он прочитал коргановскую биографию Бетховена, то есть в первой половине 1910-х годов? Но тогда Моцарт раньше дал бы о себе знать в стихах поэта. Однако Моцарт — позднее музыкальное увлечение Мандельштама. В статье о природе слова Моцарт появляется вместе с Сальери в пушкинском контексте и служит лишь для иллюстрации акмеистических установок. В «нотных страницах» «Египетской марки» Моцарта нет. Значит, если Мандельштам и знал биографию Моцарта, то читал ее уже в 1930-е годы, причем не обязательно коргановскую.
(обратно)335
Гете как пример близости художника к «толпе» использовался и позднее. Ср. соображение другой современницы Мандельштама, Л. Я. Гинзбург, о том, что «большие поэты не думали о „самовыражении“. Они слишком полны тяжестью общего, которую приходится им нести». В качестве примеров названы Пушкин, Блок и Гете (Гинзбург 2002: 275).
(обратно)336
Ср. также упоминание Гамлета и Фауста «на одном дыхании» в стихотворении Пастернака «Елене», в котором герои и сюжетные ходы пьес Шекспира переплетаются с образами «Фауста» («Фауста, что ли, Гамлета ли…»). А в «Темах и вариациях» стихотворение «Шекспир» следовало сразу за стихотворениями «Маргарита» и «Мефистофель». Ср. также цитату Гете о Шекспире, приведенную в книге Тынянова «Проблема стихотворного языка» (1993: 25), — напомним, что, именно отталкиваясь от этой книги Тынянова, Мандельштам развивал свои положения в «Разговоре о Данте», написанном одновременно с «Восьмистишиями». О гетевской трактовке «Гамлета» задумывался уже Блок (1963: VII, 438–439).
(обратно)337
Белый сам писал по образцу «Итальянского путешествия» Гете. Ср. у Белого (1921: 71–73, 88–90).
(обратно)338
В связи с этим вспоминается и «Патмос» Гельдерлина, герой которого переходит через горы времени. Но различие существеннее, чем сходство: у Гельдерлина герой отправляется из Европы в Азию, у Мандельштама же — в обратном направлении.
(обратно)339
Прецедентом-прологом интеграционных стихов 1935 года можно считать разобранное нами стихотворение «И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме…».
(обратно)340
В Москве гостят оппозиционные политики и художники Германии, в том числе Б. Брехт (с 20 марта), о чем подробно пишут газеты. Вечер, устроенный в честь Брехта (которого в июне 1935 года лишат немецкого гражданства), прошел в клубе имени Э. Тельмана, где собирались немецкие политические эмигранты в Москве. См. Копелев (1966: 233). Косвенным выражением антинемецких настроений 1935 года можно считать и так называемое дело по Большому немецко-русскому словарю, в ходе которого в марте 1935 года были арестованы многочисленные филологи и переводчики (А. Г. Габричевский, М. А. Петровский, Д. С. Усов, Г. Г. Шпет, Б. И. Ярхо и др.). Главный пункт обвинения — сочувственные настроения к фашистской Германии. Ср. воспоминания Г. Г. Шпета (1989: 7).
(обратно)341
О подготовке советской делегации к парижскому конгрессу и участии в нем Пастернака см. Флейшман (2005: 313–360).
(обратно)342
Из репрезентативных примеров назовем лишь стихи поэта и будущего автора сценариев фильмов «Свинарка и пастух» и «В шесть часов вечера после войны» В. Гусева «Сердце земли», опубликованные в «Правде» 6 января 1935 года с их антифашистской концовкой и выражением солидарности с товарищем Тельманом (Гусев 1955: 129).
(обратно)343
При подготовке книги у нас, к сожалению, уже не было возможности учесть важные дополнения, касающиеся газетного фона стихотворений 1930-х годов, содержащиеся в статье Олега Лекманова «„Я к воробьям пойду и к репортерам……“ Поздний Мандельштам: портрет на газетном фоне». Toronto Slavic Quarterly, N25/2008: .
(обратно)344
Среди пассивных подтекстов не исключается — часто реминисцированный Мандельштамом «Карл I» Г. Гейне с его образом палача (Heine 1913: III, 22–23).
(обратно)345
О сравнениях Сталина с садовником в советской поэзии см. также: Месс-Бейер (1991: 277).
(обратно)346
«Стансы» Пушкина в 1930-е годы послужили отправной точкой и для так называемых «Стансов» Пастернака («Столетье с лишним — не вчера…»). О пастернаковских «Стансах» см. подробнее у Д. Л. Быкова (2007: 442–443).
(обратно)347
Помимо ритмических наблюдаются и некоторые идейные совпадения между обоими стихотворениями: «Еще мы жизнью полны в высшей мере, / Еще гуляют в городах Союза / Из мотыльковых, лапчатых материй / Китайчатые платьица и блузы» (III, 96) — все движется к смерти, к казни, но мы еще живы. Если в 1932 году Мандельштам черпает свободу («какой свободой вы располагали») из чувства принадлежности к поэтическому братству (немецкие поэты в HP), то в 1935 году — из приобщения к общественно-политической воле советского народа. Личное поэтизированное «я» сменяется всеобъемлющим общественным «мы». Жизнь исполняется по «высшей мере». «Китайчатые», читай: буддийские платьица и блузы жителей Союза сделаны из «мотыльковых» материй — ткани гетевско-гафизовских мотыльков, которые летят на огонь полночный, «себя губя, себе противореча» (HP).
(обратно)348
В том же переводе из Бартеля доминировали оттенки красного: «Петербург! Багряный факел / Всем народам полыхает. / Петербург! Народ в России, / Как стихи, судьбу слагает» (II, 165). Судьбу слагают, пишут, как поэзию. Образ — смежный писанию кровью — лиловыми чернилами. Таким образом, лиловый гребень Лорелеи — кровавый.
(обратно)349
Ср.: «Если бы не война и не русская революция, мы бы никогда не увидели Бартеля во весь рост. История оставит за ним имя поэта германского „Марта“, поэта 19-го года, подобно тому, как Барбье был вынесен на гребне революции 1830 года» (II, 422).
(обратно)350
Дополнительное предположение с нашей стороны: может быть, лиловый цвет — выцветший красный нацистской геральдики: красно-лиловое обрамление свастики?
(обратно)351
Ср. также «немецкую» тему возмужания, которой Мандельштам уже оперировал в политических стихотворениях о «приятии» (частично в «Когда на площадях и в тишине келейной…», сильнее в «Сумерках свободы», в предисловии к Толлеру и т. д.).
(обратно)352
См. статьи Вяч. Вс. Иванова (1990), Л. Кациса (1991; 1994), В. М. Живова (1992) и др. Из актуальных «солдатоведческих» работ обращают на себя внимание заметка О. Лекманова (2006b) и статья А. Морозова (2006).
(обратно)353
Ср. Гаспаров (1996: 19).
(обратно)354
Среди вероятных, но труднодоказуемых подтекстов — русские переводы-переложения из Цедлица: (Кацис 1994: 121–126; Rothe 1994: 316, прим. 10). Среди возможных подтекстов оптовых смертей и черепа — хлебниковское «И когда знамена оптом / Пронесет толпа, ликуя, / Я проснуся, в землю втоптан, / Пыльным черепом тоскуя» («Иранская песня»; Хлебников 1986: 49). Возможные иконографические подтексты: «Апокалипсис» Дюрера, о котором Мандельштам писал в «Разговоре о Данте», и антивоенная живопись и графика немецкого экспрессионизма, О. Дикса и других художников, воспроизводившаяся в советских изданиях 1930-х годов (ср. Левин 1979; Гаспаров 1996: 21).
(обратно)355
Пик работы над ней приходится на конец июня — начало июля, о чем говорят июльские записи (письма) С. Рудакова и, косвенно, упоминание Гете (и Тютчева) при критике Заболоцкого (Рудаков 1999: 298–299).
(обратно)356
Ср. также франкфуртскую «скамью почтенных бюргеров» в «Молодости Гете» (III, 281) с «отцами-купцами» HP и упоминаниями сцены «У ворот» из «Фауста».
(обратно)357
Противопоставление Гете Клопштоку в «Молодости Гете» — не редкость в русской гетеане. Ср., например, статью 1936 года «Традиции Маяковского» И. Эренбурга (2002: 241) и характеристику Клопштока как поэта «тяжелого», «с распаленным воображением», которую дает Л. Тик в разговоре с В. Кюхельбекером в «Кюхле» Ю. Тынянова (1986: 95).
(обратно)358
Эти сведения Мандельштам мог почерпнуть из любой хрестоматии или хотя бы из книги В. М. Жирмунского «Немецкий романтизм и современная мистика» (1996: 92, 102).
(обратно)359
Напомним, что роман Клингера «Жизнь Фауста, его деяния и гибель в аду» («Fausts Leben, Taten und Höllenfahrt»), вошедший в обширную фаустиану штюрмерства, впервые вышел в Санкт-Петербурге (1791).
(обратно)360
По мнению М. Н. Розанова, «Карамзин слышал из уст Ленца много рассказов об его жизни. Ему известны и лифляндские его родственные отношения, и дружба с Виландом и Гете, и то, что Ленц подружился с Гете в Страсбурге» (Розанов 1901: 486). Дополнения к книге Розанова о дружбе Ленца и Карамзина см. у X. Роте (Rothe 1968: 70) и Ю. М. Лотмана (1997: 52–53, 99).
(обратно)361
Песня Шуберта закономерно появляется в четвертом эпизоде радиопьесы, описывающем встречу с прототипом Гретхен (III, 287–288).
(обратно)362
Мандельштам знал и ценил и другого Штрауса, Рихарда. По воспоминаниям М. Карповича, он и Мандельштам в 1908 году в Париже присутствовали «на симфоническом концерте из произведений Рихарда Штрауса под управлением самого композитора»: «Мы оба… были потрясены „Танцем Саломеи“, а Мандельштам немедленно же написал стихотворение о Саломее» (1995: 41). По замечанию Тименчика, «Иоканаан, отсылающий к „Саломее“ О. Уайльда, для ближайших современников Ахматовой был связан с опусом Рихарда Штрауса» (1989: 60). По воспоминаниям Г. Адамовича (1995: 184), Р. Штраус бывал в петербургском кафе «Бродячая собака», завсегдатаем которого был Мандельштам.
(обратно)363
Б. Кац также выяснил, что «за Паганини длиннопалым» бегут знаменитые скрипачи: чех Ян Кубелик, о котором поэт писал в «Шуме времени», Кароль Липиньский и Йозеф Иоахим (1831–1907), родившийся в Венгрии, но живший в Германии. О нем, помимо музыковедов, писал и Гейне. «Иоахим был близким другом Брамса и автором скрипичных переложений его „Венгерских танцев“» (Кац 1991а: 74).
(обратно)364
По предположению исследователя, у «Мандельштама карнавал — „мучной“, возможно, потому, что первым персонажем шумановского цикла является Пьеро, чье лицо вымазано мукой, а „потный“, видимо, в результате непрерывного танцевального движения. Второе сочинение Шумана, менее известное, имеет русское название „Венский карнавал“ („Faschingsschwank aus Wien“)» (Кац 1991а: 74).
(обратно)365
В стихотворении «Тянули жилы…» описывается негативное впечатление от концерта Бетховена. Бетховен — «полузлодей», глухота немецкого композитора переносится на полупустой зал (возможно, имеются в виду майские концерты под открытым небом, входившие в программу первомайских праздников). Вряд ли есть смыслоприбавляющие точки пересечения между впечатлением от первомайского концерта Бетховена и «врагами», празднующими Первое мая в отрывке «Это — я. Это — Рейн…», разве что германство Бетховена.
(обратно)366
Музыкальные переживания, связанные с игрой К. Шваба, преломившись, возможно, и через «Волшебную флейту» Моцарта, составляют контекст стихотворения «Флейты греческой…» (Н. Мандельштам 1999: 218). 27 октября 1935 года Мандельштам и С. Рудаков были на концерте в воронежском Музтехникуме, где «на 2-х роялях» исполняли Моцарта и Грига (Рудаков 1999: 309).
(обратно)367
К. К. Шваба арестовали в декабре 1935 года по делу о воронежских музыкантах, якобы слушавших по радио речи Гитлера и распространявших фашистскую пропаганду (Морозов 1999: 498).
(обратно)368
Здесь уже просматриваются и будущие пути рецепции мандельштамовской интертекстуальности: в 1950–1980-е годы, когда «архаизм» будет восприниматься как антисоветская культурная память.
(обратно)369
Картина ночного Рима уводит и к тютчевскому стихотворению «Рим ночью».
(обратно)370
Более подробный разбор стихотворения с гипотезами по поводу репертуара М. Андерсон см. Лангерак 2001: 104–106.
(обратно)371
Самым актуальным исследовательским вкладом в «итальянскую» версию «тоски по мировой культуре» является статья С. Гардзонио (2006: 43–52).
(обратно)372
Характерно, что немецкоязычные исследователи (Dutli 1985: 314; Werberger 2005: 73) выходили при переводе «мировой литературы» на «естественные» ассоциации с гетевским понятием «Weltliteratur». Но цели их работ были другие, поэтому они ограничивались лишь констатацией факта. Отдельного исследовательского разговора, выходящего за рамки настоящей работы, заслуживает генетическая и эволюционная связь понятия «мировая литература» (Weltliteratur) с такими словоформулами, как «мировая скорбь» (Weltschmerz), «мировая душа» (Weltseele), «мировая воля» (Weltwiile), центральными как для немецкого романтизма, так и для его рецепции в русской религиозно-эстетической мысли конца XIX–XX века.
(обратно)373
Одно из сильнейших издательств молодой советской республики называлось, в соответствии с термином Гете, «Всемирная литература». В этом издательстве Мандельштам работал в первые пореволюционные годы.
(обратно)374
Противопоставление Гете и Гейне в русской традиции начинается, судя по всему, у А. И. Герцена в контексте разговора о немецком романтизме (1954: I, 65). Социальную компоненту оно получает у Д. И. Писарева (1956: 223–224). Дальнейшего изучения заслуживает противопоставление Гете — Гейне в идентификационных стратегиях и моделях литературного поведения русских поэтов. Аллитерационное сходство имен Гете и Гейне (в русском языке), по-видимому, «поэтически» усиливало оппозицию. Другим объектом изучения может стать восприятие в русском культурном пространстве Гете как романтика, а не как классициста.
(обратно)375
С открытием гейневского подтекста «нахтигаля» в HP С. С. Аверинцев в момент написания своей статьи (1990) знаком не был. Но и впоследствии, уже зная и цитируя находку Ронена, по старой привычке, он не изменил своего мнения относительно роли Гейне в творчестве Мандельштама. Ср.: Averincev (2006: 842).
(обратно)376
Странно, однако, что в своем исследовании Л. Кацис практически проходит мимо обсуждения находок и «гейневских» интертекстуальных гипотез Ронена, сосредотачивая свое внимание на текстах Гейне, подтекстуальный характер которых имеет гораздо более спорный характер.
(обратно)377
Ср. тонкий контрастивный анализ поэтических и мировоззренческих установок Брентано и Гейне у С. С. Аверинцева (1996: 278–280).
(обратно)378
О восприятии и использовании Гейне в советском литературном и культурно-идеологическом пространстве см. диссертацию К. Ваксманн (Wachsmann 2001). Интересные соображения по поводу причудливой функциональности Гейне у некоторых символистов см. у М. Л. Гаспарова (1997: II, 435–436). Для Мандельштама могла оказаться актуальной более ранняя, блоковская рецепция Гейне, тематизировавшая специфическую еврейскую позицию Гейне (ср. Wachsmann 2001: 64–65). По нашему предположению, именно «еврейских» проекций и хотел избегнуть Мандельштам.
(обратно)379
Более чем вероятно знакомство Мандельштама со статьей Тынянова «Тютчев и Гейне» (1922), где на примере тютчевских переводов из Гейне исследователь разграничивал понятия генезиса и традиции.
(обратно)380
В связи с этим интересным становится возможное подтекстуальное отталкивание Мандельштама (с его лозунговой формулой «Тютчев и Верлен») от брюсовского, программного соединения Гейне и Верлена (Брюсов 1973: I, 565). Место Гейне, столь значимого для Брюсова, Анненского и Блока, занял у Мандельштама другой «немец» — Тютчев.
(обратно)381
Место русской прозы в концепциях Мандельштама заслуживает отдельного разговора.
(обратно)382
Запоздалая и парадоксальная рецепция Гельдерлина в России, от Луначарского до Аверинцева, заслуживает дополнительного изучения.
(обратно)383
Исследование немецких влияний и заимствований Тютчева, от штудий Ю. Н. Тынянова (1977: 29–37, 350–395) и Д. Чижевского (Čiževskij 1927) до В. Н. Топорова (1990), все еще носит эпизодический характер. Системному интертекстуальному анализу во многом мешает неразработанность проблемы семантического ореола метра в германистике.
(обратно)
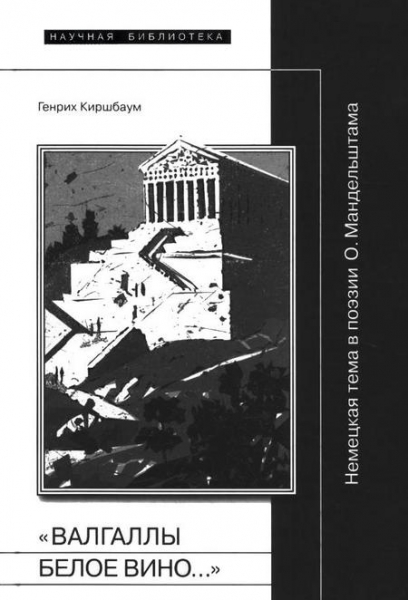




Комментарии к книге ««Валгаллы белое вино…»», Генрих Киршбаум
Всего 0 комментариев