Карл Теодор Дрейер О кино
© Новое издательство, 2016
* * *
От составителя
В основе настоящей книги – прижизненный сборник статей Дрейера «О кино» (1959; второе издание – 1964). Материалы сборника дополнены несколькими статьями и интервью, вошедшими в его французское издание («Размышления о моей профессии», 1983, и пр.), и другими текстами. За помощь в работе издательство искренне благодарит Датский киноинститут и сотрудницу его библиотеки Биргит Гранхой Дам.
Первый раздел книги дает представление о Дрейере-журналисте и кинокритике, второй объединяет статьи и интервью, в которых Дрейер рассказывает о собственной работе, третий посвящен теоретическим проблемам кинематографа, в частности переходу к звуковому и цветному кино, в четвертый раздел вошли материалы, связанные с работой над последним, нереализованным замыслом Дрейера – фильмом о Христе.
1
Шведский кинематограф
Состоялась премьера нового шведского фильма «Сандомирский монастырь», и, наконец-то, появился повод осуществить мою давнишнюю заветную мечту подробнее разобраться в шведском художественном кино и объяснить его значимость датской публике; но сделать это возможно, лишь проводя параллели с датским и американским кинематографом.
Печальная участь датского кинематографа заключалась в бесконечном перемалывании тех тем, о которых весь мир давным-давно уже забыл. Всем тем, кому было что сказать, никогда не хватало мужества замахнуться на что-то новое, а это в свою очередь связано с тем, что ведущие кинематографисты Дании никогда не осознавали ответственности своего положения или не понимали тех задач, к которым оно их обязывало.
На всем пути развития датского кино нет ничего фундаментального, ничего, что свидетельствовало бы о том, что именно в этой точке датская культура предлагает мировому кино новые пути развития. Если бы и стоило что-то отметить, то это было бы напоминанием о тех днях, когда игристое белое вино было повседневным напитком деятелей кинематографа, а хорошая одежда – единственным правом актеров кино. Это было золотое время! Но увы! – не все то золото, что блестит. Самая слабая царапинка обнажала весьма неблагородный металл.
Это были времена «графского» кинематографа.
Эпоха эта заслуживает внимания также благодаря несметному количеству новых кинофабрик, которые росли, как грибы после дождя. Да, именно: фабрики! Поскольку в Дании фильмы всегда фабриковали. А когда появился Беньямин Кристенсен, человек, который не фабриковал свои фильмы, а заботливо продумывал их и тщательно прорабатывал каждую мелочь, – это стало буквально сенсацией. Его считали весьма странным человеком. Развитие событий показало, что именно он заглянул в будущее.
В потоке плохих фильмов, вышедших за этот период с конвейеров датских кинофабрик, погибли все надежды датского кинематографа. Благоприятные обстоятельства открыли датскому кино мировой рынок, и плюс ко всему имелся капитал, нужен был лишь человек, обладающий необходимыми полномочиями, которые дают культура и наличие вкуса, который поднял бы кинематограф на более высокий уровень. Но такой человек так и не появился. За датским кинематографом все еще сохраняется весьма сомнительная репутация, так что вся интеллигенция продолжает обходить его стороной, и репутация настолько прочно закрепившаяся, что публика в более привередливых соседних странах до сих пор воротит нос, едва завидев рекламный плакат с анонсом датского фильма.
И это еще мягко сказано, поскольку если датское кино надеется когда-нибудь достичь мирового уровня, непременным условием для этого является понимание своего положения и желание смотреть правде в глаза, какой бы эта правда ни была.
Даже ради тех, кто не следил за развитием кинематографа в последние годы, но продолжает с презрением смотреть на него, даже ради них необходимо сказать правду. Изменить к себе отношение других можно лишь через признание собственных ошибок, особенно в тех случаях, когда другие правы. С теми, кто утверждает, что датские фильмы в целом рассчитаны на любите лей «романов с продолжениями», таких как «В часы досуга» или «Ник Картер», к сожалению, нельзя не согласиться.
Лучшие американские фильмы дали три важных нововведения: съемка крупным планом, типажи и кино как слепок реальности.
Фиксация камеры на объекте, укрупнение, чтобы показать значимый момент, были известны всегда, но никто не осмеливался использовать этот прием из боязни нарушить привычное спокойствие. Американцы научили нас обращаться к крупному плану для разнообразия, а не для нарушения спокойствия. Совсем несложно продемонстрировать значение этого небольшого нововведения. На общем плане актеры должны были утрировать жесты и мимику. А съемка крупным планом, при которой можно разглядеть мельчайшие детали, заставляла актеров играть честно и естественно. Время гримас прошло. Кинематограф нашел путь к изображению человека.
Эта реформа в некотором роде связана с сознательными усилиями американцев придать своим фильмам черты реальности, чего они стремились достичь любой ценой. Все их усилия были направлены на то, чтобы даже малейшая деталь фильма казалась достоверной. Но они пошли еще дальше. На каждую конкретную роль наметанным глазом они подбирали именно тот типаж, который соответствовал всем представлениям об образе персонажа, и совершенно неважно, был это исполнитель главной роли или же второстепенной. Ведь зачастую именно эпизодические персонажи навсегда остаются в памяти. Кто не помнит, например, жандарма из фильма «Рождение нации»?
Благодаря всем этим особенностям можно поверить, что американское кино безупречно, и все же! – как будто чего-то недоставало. Все было таким правдоподобным, настоящим и достоверным, а тем не менее в происходящее на экране не верилось. Это кино всегда заинтересовывало, часто производило сильное впечатление, но редко захватывало. Дьявол нашептывал на ухо: разве все это не просто техника?
Душа – вот чего не хватало!
Невозможно говорить о шведском кино, не упомянув имя Виктора Шёстрёма, основателя шведского художественного кинематографа.
В какой-то момент, когда у нас процветали «графские фильмы», Шёстрём сошел с проторенной дорожки и взялся за картины «Терье Виген» и «Горный Эйвинд и его жена» – совершенно невероятные для того времени задачи. Мудрые деятели кинематографа, всегда единодушные в своих суждениях, если речь идет о чем-то новом, в один голос заявили, что это сущее безумие. Но Шёстрём наметил себе курс и следовал ему, не реагируя на раздававшиеся со всех сторон предупреждения. В любом деле он находил в себе силы идти против течения. Возможно, он первым в Скандинавии понял, что фильмы нельзя фабриковать, поскольку они должны обладать хоть какой-то культурной ценностью. До сих пор в шведском и датском языках используются разные выражения, характеризующие диаметрально противоположные представления того времени. По-шведски говорят «записывать фильм», а по-датски – «фотографировать». В Дании вся работа фокусируется на щелкающем киноаппарате, в Швеции – на том, что находится перед объективом, на тех актерах, чье искусство должно быть запечатлено на целлулоидной пленке.
Кроме того, Шёстрём понял, что кинематограф может удерживать зрителя в напряжении и без револьверов, прыжков с пятого этажа и тому подобных приемов. Он понял, что настоящее напряжение заключено в любом хорошем драматическом материале, и начал искать его среди самых знаменитых произведений. Своих актеров он также выбирал по совершенно новому принципу. В датской практике утвердилось странное правило, в соответствии с которым все актеры и актрисы делились на две группы по принципу – подходят они в картину по внешнему виду или нет. О таланте и способностях никто не спрашивал. Шёстрём выбирал исключительно по типажу, а одного таланта и известности было для него недостаточно. Короче говоря, Шёстрём ставил такие же условия и предъявлял такие же требования к кинокартине, как и к любому другому произведению искусства.
Тем, кто ежедневно сталкивается с искусством в самых его различных проявлениях, может показаться странным, что мы делаем акцент на вещах, которые кажутся теперь совершенно естественными – но когда-то это были революционные моменты развития. Не стоит также забывать, что мы имеем дело с особой личностью – с человеком, который вынужден был сам наблюдать и учиться на собственных ошибках, для которого все было новым и неизведанным.
Благодаря работе Шёстрёма кинематографу удалось найти обетованную землю искусства, но этот режиссер не остался одинок в своем убеждении, что хорошая литература должна восторжествовать над бульварным романом, хорошее актерское искусство – над театром марионеток, а атмосфера – над техникой. Шведское кино приобрело мировую известность, и ряд лучших деятелей искусства Швеции, такие режиссеры, как Гуннар Клинтберг, Йон Бруниус, Иван Хедквист, сейчас следуют по стопам Шёстрёма. Кроме них, следует назвать Морица Стиллера, поставившего известные картины «Песнь об огненно-красном цветке» и «Деньги господина Арне». Действуя в тех же широких рамках, что и Шёстрём, Стиллер создал совершенно особую форму.
Шведское художественное кино вобрало в себя все самые хорошие качества американского кино и отказалось от всех дурных, а свою оригинальность оно проявило, правдиво и жизненно изображая человека. Все персонажи лучших шведских фильмов кажутся настолько живыми, что возникает ощущение, будто даже слышишь биение их сердец. На этих фильмах лежит печать бессмертия. Точно так же как хорошие книги с наслаждением читает поколение за поколением, а пожелтевшие страницы и витиеватый язык придают этим книгам в глазах новых читателей лишь дополнительный шарм, так же и лучшие шведские фильмы, как ценные свидетельства культуры, навсегда сохранят к себе интерес.
Шведы подняли искусство кино еще на одну ступеньку вверх, они сделали кинематограф еще более действенным и значительным в культурном смысле; развитие кино на этом не заканчивается, но кто будет следующим, предугадать невозможно. Одно можно сказать точно: сейчас у Швеции есть все шансы, чтобы в течение длительного времени сохранять то ведущее положение, которое она отвоевала себе в честном бою. До сих пор многие не могут принять кинематограф, но большая заслуга шведского кино именно в том, что таких людей с каждым днем становится все меньше. Только таким образом кино и может постепенно завоевать право стать одним из видов искусства.
1920
Новые идеи в кино
Беньямин Кристенсен и его идеи
Сама мысль написать о Беньямине Кристенсене кажется очень привлекательной, поскольку из всех деятелей кино в Скандинавии он самый большой идеалист и к своей работе подходит со священной серьезностью. Но в то же время писать о нем совсем не просто, поскольку существующий материал, на основании которого можно судить о нем как о деятеле искусства, крайне скуден.
Что касается двух его ранних кинокартин, то сам Беньямин Кристенсен первым бы возразил против того, чтобы его художественное мастерство оценивали на основании этих фильмов. Конечно же, в то время они означали гигантский шаг вперед, но самым поразительным была блестящая, разработанная до мельчайших деталей техника, на фоне которой сценарии выглядели весьма посредственными. Времена изменились. Сейчас все признают, что сценарий – это главное условие для создания хорошего фильма, и очевидно, что если снова выпустить фильмы «Таинственный Икс» и «Ночь мщения» на экраны, они покажутся совершенно бесцветными.
Но за этими двумя картинами просматривалась личность, незаурядная среди деятелей кино, или по крайней мере необычная для того времени: это был человек, который точно знал, чего он хочет, и который шел к своей цели настойчиво, упрямо, невзирая ни на какие препятствия. Все были поражены тем, что на создание одного фильма он потратил полгода (нормой в то время было 8–10 съемочных дней). Все недоуменно пожимали плечами, считая его сумасшедшим. Но все последующее развитие событий показало, что именно ему удалось заглянуть в будущее.
Тот фильм, который он, наконец, завершил этой осенью, превзойдет все, что было сделано раньше. Говорят, что на съемку фильма ушло более двух лет, – однако это не совсем верно. Год был потрачен только на реконструкцию киностудии в Хеллерупе, проведение отопления и т. д. Сами съемки, строго говоря, заняли чуть более семи месяцев, а из полутора миллионов крон, в которые, по слухам, обошелся фильм, около половины ушло на ремонт студии.
Огромное количество времени и средств ушло на технические эксперименты, и нет никакого сомнения в том, что фильм «Ведьмы» принесет много нового с технической точки зрения. Похоже, Беньямину Кристенсену удалось последовательно использовать общий и крупный планы таким образом, чтобы стало возможным показать одновременно причину и следствие. Этот технический прогресс имеет очень большое значение, поскольку чем совершеннее станет кинематограф технически, тем лучше он сможет решать задачи, от которых вынуждены отказываться театральные сцены, лишенные возможности создания иллюзий.
Однако оценить эту новаторскую работу специалисты смогут гораздо лучше, чем публика. Для публики главным образом важно значение отраженной на экране ожившей мысли – содержание фильма, то есть его сценарий.
Долгое время никто не говорил вслух о том, что в основе сюжета фильма «Ведьмы» – средневековые гонения на ведьм, в связи с чем напрашиваются параллели с сексуальной распущенностью в женских монастырях тех времен и истериками современных женщин. Но при этом неизвестно, был ли задуман фильм как научно-популярный или же его содержание – вымысел. Если речь идет о научно-популярной картине, то Беньямин Кристенсен вновь покажет себя новатором, у которого хватает мужества привнести культурно-историческую тему в фильм ради самой лишь темы фильма, и поскольку тут не существует никаких ограничений для фантазии, то есть все основания ожидать от этой попытки чего-то необыкновенного. Если это удастся (и если это будет того стоить), то появятся и подражатели. Появится бесчисленное количество других исторических и культурно-исторических картин (с похожей тематикой). Кинематограф выйдет на новые рубежи[1].
Возможно, Беньямин Кристенсен придал своему фильму форму новеллы, и тогда значение фильма измеряется только по его способности развлекать, поскольку сколь бы изысканно он ни был экранизирован, широкая публика инстинктивно никогда не заинтересуется новой и чуждой для нее средой, если только ее не увлечет и не захватит истинно жизненный сюжет. Другое дело, если фильм раскрывает Беньямина Кристенсена не только как режиссера от Бога, но и как писателя для кино, которого с нетерпением ждет мир, и тогда он точно окажется на вершине мировой славы… или обретет ореол мученика.
В одном датском журнале Беньямин Кристенсен недавно высказал ряд соображений, которые стали бурно обсуждаться в кинематографических кругах. Его взгляды выглядят примерно так: «Деятели киноискусства во всем мире все еще видят свою задачу в пересказе старых романов. Но этому надо положить конец. Режиссер должен сам писать свой сценарий. Деятель киноискусства (режиссер) должен в будущем, как и всякий другой художник, показать нам свою личность в своем собственном произведении».
Беньямин Кристенсен прав в первом: экранизация романов – это переходная стадия, от которой мы уже совсем скоро должны отойти. Но очевидно, что в другом он совершенно неправ, поскольку задача кино была и остается той же, что и у театра, а именно передавать и истолковывать мысли других, а задача режиссера – следовать тому автору, которому он служит. Если режиссер сам является личностью, то мы обязательно почувствуем ее за его произведением. Примерами тому служат и Гриффит, и Рейнхардт.
Вместо того чтобы стоять особняком, кинематографу, напротив, необходимо неустанно стремиться черпать вдохновение за пределами самого себя, и тогда, следуя здоровому инстинкту, кино возвратится к первоисточнику любого искусства, создаваемого человеком, – к творцу. А пока в основном снимают фильмы по романам своей страны или – еще лучше – по всемирно известным романам. Сейчас на экране только повторяют уже известные всем фразы. Это положение изменится только тогда, когда кинематограф уловит мысль писателя прежде, чем она дойдет до редактора издательства. Те писатели, у которых в принципе есть возможности для этого, должны писать сразу для кино, и это совсем не так сложно, как считают многие, заинтересовавшиеся понятием «сценарий фильма». Тех страшных монстров, которые в прежнее время именовались «сценариями фильма», больше нет.
В основном современные сценарии к фильмам пишутся в форме романов или новелл, не отягощенных излишними подробностями, где действие сосредоточено на главной драматической линии. Писатель имеет полную свободу в трактовке отдельных эпизодов (сцен). Точности ради приведу один пример из литера туры, в частности из романа Йенса Петера Якобсена, потому что его по крайней мере нельзя упрекнуть в том, что он поддался влиянию кино. Каждый, кто привык смотреть хорошие фильмы, увидит, что приведенная ниже сцена из романа «Фру Мария Груббе» полностью описывает то, что могло бы быть показано на экране и в полном объеме передает такое же настроение:
Однажды вечером в застольной лили свечи. Мария стояла у кадки с соломой, в которую была опущена медная льячка, и обмакивала в нее фитили, а пивоварка Анэ Триннеруп, двоюродная сестра Сёрена, давала салу стечь с них каплями в желтую глиняную миску. Повариха подносила и уносила черенки с фитилями, подвешивала их к свечной стойке и убирала свечи, когда они становились достаточной толщины. У людского стола сидел Сёрен и наблюдал за работой. Он был в красной суконной шапке с золотыми галунами и черным плюмажем. Перед ним стояла серебряная кружка с брагой. Складным ножом отрезал он кусочки от огромного куска жаркого, лежавшего на маленькой оловянной тарелке. Ел он весьма степенно, прихлебывая из кружки и время от времени отвечая Марии на ее улыбки и кивки неторопливым признательным движением головы.
Она спросила, удобно ли ему сидеть.
Да не шибко-то.
Тогда, пожалуй, не лучше ли будет, чтобы Анэ сходила в девичью и принесла ему подушку?
Анэ так и сделала, не преминув, однако, за спиной у Марии настроить рож и наподмигивать другой служанке.
Не отведает ли Сёрен пирожного?
Да, оно бы не худо.
Мария взяла светец и пошла за пирожным, но позамешкалась. Не успела она выйти за дверь, как обе девки, будто по уговору, принялись хохотать во все горло.
Сёрен сердито покосился на них[2].
Этой цитатой я лишь хотел показать, что если писатель намерен сразу создать сценарий для фильма, то речь не идет о том, чтобы приводить свой материал в соответствие со стереотипами или следовать нехудожественным правилам, которые для него в новинку или претят ему. Кинематографу не нужно, чтобы он шел на сделку со своей совестью художника. Напротив, писатель должен быть таким, каков он есть, со всеми своими индивидуальными особенностями стиля и формы. Изображение окружающей среды, отражение настроения, исчерпывающее психологическое толкование деталей не просто допустимо, но и является необходимым условием. Собственно, главным образом требуется то, чтобы писатель при подготовке своего материала принимал во внимание потребности кинематографа. Из этого в свою очередь следует, что его «кинороман» вполне может быть опубликован и в виде книги, что принесет автору не только творческое удовлетворение, но и финансовую прибыль.
Главное – начать такое сотрудничество, и писатели быстро к нему приспособятся. В связи с этим я хочу привести один характерный пример: однажды весной я убедил Йоханнеса В. Йенсена зайти посмотреть один фильм. Когда я через несколько дней навестил его (он как раз дописывал «Колумба»), он признался, что ему не понравился фильм, и пояснил почему. «Но, – добавил он, – странно, что в последние дни я уже который раз ловлю себя в работе на том, что вижу сцены, которые описываю, как живые картины». Именно так и должно быть. Если писатели будут более снисходительны к кинематографу, то они очень быстро освоятся с его природой и скрытыми от посторонних глаз правилами его создания.
Необходимо привлекать писателей к созданию произведений непосредственно для кино, только в этом случае «с экрана можно будет поведать миру что-то новое». Но писателям кинематограф нужен еще и для того, чтобы донести свои мысли и слова до тех слоев общества, представители которых никогда в жизни не откроют их книги! Если кино и литература раньше не встречались друг с другом, то причина тому, кроме всего прочего, и в том, что писатели раньше не хотели связываться с кинематографом. Однако сейчас самое время изменить свою позицию. Раньше случалось и такое, что хорошие театральные актеры морщили нос при упоминании о кино. Сейчас же большинство из них снимается в кино, поскольку они убедились, что и кинематограф дает возможность совершенствовать мастерство; ведь никто не станет отрицать, что мимика – это тоже искусство.
Еще одна важная причина, по которой кинематограф и писатели продолжают оставаться чуждыми друг другу, заключается в том, что кинокомпании с самого начала своего существования отказывались выплачивать писателям гонорары, сопоставимые с той ролью, которую сценарий играет для фильма. В то время как Псиландер получал плату в размере 100 тысяч крон в год, некоторые фильмы с его участием приносили авторам сценариев к ним всего лишь 100 крон, а то и меньше. За последние годы ситуация существенно изменилась в лучшую сторону, но все же не окончательно, и кинокомпаниям необходимо разобраться в системе тантьем[3], которая заинтересует писателей в прибыли от фильма.
Наши кинокомпании должны заручиться согласием восьмидесяти писателей, о которых в принципе в этой связи может идти речь, на те произведения, которые эти писатели закончат в ближайшее время. Тогда начало будет положено. И только представьте, какой толчок в развитии получит кинематограф, когда у него появятся своя Сельма Лагерлёф, свой Джек Лондон, свой Генрик Ибсен!
Таким образом, эти замечания опять возвращают меня к исходной точке вышеизложенных «общих соображений». Предположение Беньямина Кристенсена о том, что должен, дескать, появиться новый тип режиссера – «автор кинообразов», звучит абсурдно. «Мухи отдельно, котлеты отдельно», как говорят посетители кафе! Конечно же, бывает и так, что режиссер и писатель соединяются в одном человеке, подобно тому как в мире театра знаменитый актер может написать пьесу с главной ролью для себя, но такие примеры весьма редки, и хотя «Ведьмы» показывают, что Беньямин Кристенсен не просто потрясающий техник и режиссер, но еще и новое литературное дарование, его при этом нельзя считать типичным случаем, он – явление уникальное.
1922
Французский кинематограф
Несколько недель назад в доме № 14 на бульваре Капуцинок во время большого официального торжества была открыта мемориальная доска. Надпись на ней напоминает о том, что именно здесь тридцать лет назад состоялся первый показ фильма на аппарате, изобретенном братьями Люмьер. Кроме президента и мэра, в этом событии принимало участие большое количество господ в высоких цилиндрах, представители обществ и синдикатов кинематографа. Мероприятие было организовано на высшем уровне – а я, наблюдая за происходящим, мечтал лишь о том, чтобы здесь внезапно появился и Чарли Чаплин в своем костюме…
Братья Люмьер положили начало кинематографу, и наступило время французского кино, которое очень скоро стало ведущим в мире. Оно было основано на традициях французского театра, и все шло замечательно, пока американцы со своим чувством реальности не нашли путь к сущности кино. По сравнению с фильмами о прериях с ковбоями и дикими скачками на лошадях французское костюмное кино казалось уже тусклым и ненастоящим, оно было дискредитировано, а война и вовсе его прикончила.
Однако в последнее время оно стало оживать. Опасаясь создавать костюмные фильмы, французы впали в другую крайность: часто французское кино – это чистой воды искусство фотографии – искусство в значении «искусность». Начались бесконечные эксперименты с фотоаппаратом: перед объективом помещали призму, чтобы картинка искажалась, экспериментировали с фокусом, чтобы создать ощущение, что все плывет перед глазами[4]. Устанавливали камеру на колеса и на гончарный круг, чтобы изображение скользило или вращалось перед глазами несчастных зрителей[5]. Но весь этот фокус-покус уже даже сейчас кажется устаревшим; стало понятно, что публике нельзя долго выдавать камни за хлеб, и началась работа над тем, как передать настроение и чувства человека.
С фильмом работают не только на практике – его разбирают по косточкам и в теории. Известный киноидеалист, директор театра Жан Тедеско (живое доказательство того, что в кино можно быть практичным и вдобавок сохранять идеализм) предоставляет каждую неделю на один вечер свой «Театр старой голубятни» (известный своим серьезным репертуаром) для проведения лекций. Здесь зародилась киноакадемия. На лекциях известных писателей, критиков и философов, интересующихся этим новым видом искусства, проводится тщательный анализ седьмого вида искусства, в то время как профессионалы из кино рассказывают о художественных, технических и коммерческих возможностях кинематографа.
Действительно, очень многое делается для того, чтобы поднять французское кино на его прежнюю высоту, а поскольку тут все основано на энтузиазме, я уверен, что все получится. Сейчас ситуация во Франции не та, какой она была несколько лет назад в Германии. Там тоже произошел мощный скачок в развитии киноиндустрии, но движущей силой были лишь желание и мечта понравиться и поразить. Ни один из фильмов того времени, который сопровождался рекламной шумих ой, не вошел в историю. Для этого они были слишком жестокими, лишенными сердца и чувств. А «Варьете» Дюпона, которое недавно снискало столь огромный успех, несмотря на это, не принадлежит к тому жанру кино, в котором немецкому кинематографу суждено победить.
Среди тех работ, на которые возлагаются большие надежды во Франции, – фильм «Кармен» режиссера Жака Фейдера (до этого он поставил «Кренкебиль») и «Наполеон», которого ставит режиссер Абель Ганс – безусловно, величайший мастер французского кино. «Наполеон» станет не просто лучшим фильмом, когда-либо созданным во Франции, но, вероятно, лучшим фильмом во всем мире, поскольку эта грандиозная киноэпопея состоит из восьми больших серий, представляющих важнейшие события из жизни Наполеона, начиная с его юности и до ссылки на остров Святой Елены. Невозможно подсчитать, сколько миллионов будет стоить этот фильм, но известно, что он выйдет на экраны не раньше, чем через два-три года. Этот масштабный проект финансируется компанией Société géné rale de Films, президентом которой является кинопромышленник Шарль Пате, а также несколькими патриотически настроенными богатыми людьми, которые вложили свои деньги не ради прибыли (для со стоятельных датчан это пример, достойный подражания).
Я очень хотел посмотреть, как работает Абель Ганс, и пресс-атташе Хельге Вамберг совершенно бескорыстно помогла мне и художнику Адольфу Халльману попасть на киностудию Ганса в Бийянкуре. Я не жалею об этом визите. Мне говорили, что французские киностудии с технической точки зрения очень скромные, но, по правде говоря, киностудия Ганса по технике ушла далеко вперед даже по сравнению с лучшими студиями в Берлине и уж точно стоит на одном уровне с Америкой.
Всего я был на трех съемках, все три дня снимались массовые сцены, в которых было занято от 500 до 800 статистов. В первый день Ганс снимал сцену в клубе Кордельеров (события июня 1792 года), где Наполеон впервые услышал Марсельезу, исполненную Руже де Лилем. Это очень эффектная сцена, но все же она не дает полного представления о потрясающем таланте Ганса. Возможно, он плохо себя чувствовал, ведь незадолго до этого был ранен при взрыве и все еще ходил с перевязанной рукой.
Во время вторых съемок несколькими неделями позже Ганс показал себя абсолютным виртуозом как техник и организатор. Должна была сниматься сцена одного из сражений Наполеона. Вся киностудия представляла собой дикий и пустынный лесной ландшафт. Из камней и земли была создана холмистая местность, из леса привезли высоченные ели, на переднем плане было устроено небольшое болото с настоящим тростником. Несколько офицеров держат совет на холме, напротив которого на другом холме Ганс с кинооператорами разбили свой лагерь. Невероятное количество камер напоминает каких-то странных больших насекомых. Сам же Ганс сидит среди них на складном стуле и негромко раздает приказания, которые его ассистенты тут же выполняют. Спокойный и величественный, он сам напоминает Наполеона. Наконец-то все готово к съемке и Ганс подает знак, что можно начинать. Все действия были настолько четко продуманы заранее, что хватило одного-единственного дубля. Здесь все взаправду! Огромные ветряки создают «бурю», и от их шума лошади встают на дыбы; из оросителя, поднятого над съемочной площадкой, льет проливной дождь, так что за несколько секунд офицеры промокают до нитки. К третьим съемкам ландшафт изменился. Холм должны штурмовать и захватить. Все поле боя, где будет происходить сражение, усеяно «мертвыми» солдатами и «мертвыми» лошадьми. Так же как и во второй съемочный день, Ганс подготовил все настолько тщательно, что «сражение» можно было снимать сразу, без многочисленных дублей. В сражении задействовано не меньше 800 человек, офицеры, стоящие на холмах, вскакивают на коней. Знамена развеваются, генерал падает на землю, пушки из дальнего укрепления изрыгают огонь, а в самой гуще битвы знаток может разглядеть солдата с замаскированной на животе кинокамерой. Спрятанный провод соединяет камеру с мотором за пределами «поля боя» – этот мотор вращает съемочный механизм, который обычно приводит в движение оператор при помощи рукоятки. Сцену заливает сильный искусственный ливень, ветряки раздувают пороховой дым над массой людей, которые бьются между собой с переменным успехом, сверкают молнии – все это просто ошеломляет.
Выходя в нервном возбуждении из киностудии, я вижу в фойе всех собравшихся «раненых». Пыл сражения настолько захватил солдат, что у многих – царапины, порезы и глубокие раны. Здесь льется кровь. Две медсестры ходят между ранеными и накладывают повязки, в одном из кабинетов директора врач осматривает пострадавших. Сам же Ганс, похоже, даже не думает о них. Помню, однажды я читал рекламную брошюру к фильму Гриффита «Нетерпимость». После долгих перечислений, сколько именно миллионов долларов было потрачено, сколько километров декораций было построено, сколько сотен тысяч метров пленки было израсходовано и сколько десятков тысяч статистов было задействовано, в конце коротко говорилось: Во время съемок никто не пострадал.
И только после описанной выше сцены лазарета эта фраза приобрела для меня глубокий смысл.
1926
«Пер Гюнт» в кинотеатре «Палас»
Немцы сняли фильм по гениальному произведению Генрика Ибсена[6].
Что это за картина?
Когда я вчера вечером сидел в кинотеатре «Палас», я вспомнил рефрен Оффенбаха, вот этот:
Я слышу топот сапог, сапог, сапог…[7]
Больно слышать звук всех тех сапог, которые тяжело шагали и топали, с трудом шли и ковыляли по всему произведению Ибсена, вытаптывая все психологические тонкости и ломая каждый маленький цветок поэзии.
Где был Пер Гюнт Ибсена – тот Пер, который не способен к действию и поэтому убегает в свои мечты… мечтатель, любящий фантазировать, и который врет и сочиняет, не зная, где начинается одно и заканчивается другое.
Ханс Альберс, человек, проживший по крайней мере не менее полувека, конечно же, не мог хорошо сыграть в сценах, где герои молоды, так же как и Мария-Луиза Клаудиус не обладала тем истинным очарованием, без которого Сольвейг – не Сольвейг.
Нет никакой необходимости говорить дольше об этом фильме, у которого с бессмертным творением Ибсена общее лишь название, да некоторые отрывки из мелодий Грига.
«Я слышу топот сапог, сапог, сапог…»
1936
«Гулливер»
Чтобы дать справедливую оценку этому русскому фильму[8], о котором так много говорят, следует рассматривать форму и содержание по отдельности.
Давайте сначала поговорим о содержании.
В России все находится под контролем государства: фабрики, сельское хозяйство и… искусство. Время от времени можно услышать о советских деятелях искусства, которые, шагая не в ногу, вызывали недовольство руководства. Режиссеру этого фильма, господину Птушко, в этом смысле бояться нечего: он изрядно покрасовался, высказав надежду, что создал фильм, который понравится людям (при этом, конечно, никто из зрителей не заметит, что его в то же самое время пичкают советской пропагандой).
Фильм основан на ядовитой и желчной сатире Джонатана Свифта, в которой он высмеял современное ему английское общество. Он не пощадил никого, ни высоких, ни низких. Русские вновь разлили яд и желчь по сюжету, но на сей раз желчь скорее «красная», чем зеленоватая.
В отличие от сатиры Свифта, направленной против общества в целом, фильм обращен против монарха, парламентаризма и граждан и прославляет рабочих, из которых одни – благородные, другие же представлены слабоумными или же бездельниками и дармоедами. Рабочие в картине словно высечены скульптором Константином Менье, а все остальные словно бы сошли с рисунков замечательного графика Георга Гросса.
Такое одностороннее искажение несовместимо с требованием объективности, которое предъявляют к любому виду искусства. Господин Птушко тем самым заранее дисквалифицировал свое собственное творение, сколь интересным оно бы ни было по другим параметрам.
А теперь перейдем к форме.
Сначала мы видим ряд увлекательных иллюстраций к жизни русского бойскаута: советскому мальчику Пете, члену морского отряда пионеров, снится, что он, подобно Гулливеру, оказался в стране лилипутов, и тут начинается часть фильма, снятая без участия актеров. Мы видим лишь кукол с двигающимися частями тела и меняющимися мимическими выражениями лица. Надо откровенно признать, что таким прогрессивным методом Птушко добился нового и совершенно поразительного эффекта, который указывает путь к совершенно новому типу кино.
Почему эти сцены действуют столь ошеломляюще и так волнуют зрителя? Не потому ли, что любой жест или движение человека, заставляющие нас подумать о механической кукле, сами по себе вызывают смех? И чем дальше, тем лучше мы чувствуем невидимую механику! Чем более совершенна комбинация человек-кукла, тем более комичным выглядит действие.
В этом секрет искусства Чаплина-комика. Его движения, позы и жесты суть движения механической куклы – он человек, но вместе с тем и кукла.
Совсем другое в случае с актерами фильма «Гулливер». Здесь движения, позы и жесты механических кукол показаны как можно более человечными, хотя в карикатурном виде. Они куклы, но в то же время и люди, и поэтому при их виде невозможно не улыбнуться.
Это была невероятно кропотливая работа. В фильме «играло» более двух тысяч кукол. У всех «главных персонажей» был большой выбор голов, лица которых выражали разные эмоции. У одного только короля было 250 голов с различными мимическими выражениями лица.
С технической точки зрения фильм удался, с художественной – оказался весьма посредственным, потому что он изначально был идеологизирован.
1936
Фильм Яннингса
Когда в Германии к власти пришел новый режим, первым делом начали чистить немецкий кинематограф и немецкий театр от неарийской крови. Когда все чистки закончились, остались одни опилки. Фильмы, вышедшие с тех пор на экраны, оказались совершенно мертвыми, без живой крови и без нерва – просто мешки с опилками!
Фильм Яннингса[9], премьера которого состоялась вчера в кинотеатре «Гранд Театр», – такой же мешок с опилками, как и все остальные, причем дырявый мешок, из которого опилки понемногу высыпаются, пока, наконец, он не опустеет совсем. Опилки – это бесконечные (и пустые) диалоги и незначительные разговоры в маленьком городишке, очень поверхностно касающиеся конфликта, который оставляет нас абсолютно равнодушными, ведь главные герои картины – это плоды авторского воображения, страшно далекие от жизни. Если охарактеризовать этот фильм одним словом, то его можно было бы назвать радиопьесой, потому что изображение здесь совершенно излишне. В этом 2000–2500-метровом фильме настоящего кино максимум на 20–30 метров в конце последней сцены фильма. Все остальное – труха.
Яннингс играл, как в театре, порой даже очень эффектно, производя глубокое впечатление – но… только лишь как актер театра!
Разумеется, о настоящей режиссуре не могло быть и речи, поскольку функция режиссера в соответствии с духом сценария здесь сводилась к тому, чтобы, аккуратно встряхивая мешок, высыпать опилки ровной струйкой. В данном случае мешок встряхивал один из ветеранов немецкого кинематографа Карл Фрёлих.
1936
Об актерской игре
В связи с фильмом Яннингса
Один читатель упрекает меня в письме (впрочем, крайне вежливом), что я в своей рецензии на фильм Яннингса, показанный в «Гранд Театре», не воздал должного великому немецкому актеру.
Я с удовольствием поясню свою позицию.
Исходя из своего опыта, я считаю, что актеров можно разделить на две категории: на тех, кто строит свои роли, начиная с внешнего, и на тех, кто строит их изнутри.
Первые лепят свою роль, как скульптор, который покрывает деревянную основу глиной, пока она не при обретет человеческие очертания. Актер такого рода обращает большое внимание на детали облика и костюма, оснащает образ всевозможными «характерными» чертами и жестами – например, в ход идут особая осанка, характерное движение рук, определенное положение очков на носу, особая манера походки, своеобразная дикция. Все здесь делается с умыслом, хорошо продумано, взвешено, отрепетировано. После длительной работы с «глиной» образ становится жизнеподобным, способный актер этой категории старается, чтобы все эти многочисленные детали соединились в одно целое. Но «я» этой роли никогда не станет «я» самого актера. Даже в самые напряженные драматические моменты его собственное «я» стоит в стороне и хладнокровно наблюдает, готовое внести исправления, если сценическое «я» выпадет из роли.
Такой актер продумывает свою роль. Он играет.
Актер второй категории начинает с того, что вживается в образ, который он собирается представить, он не успокоится, пока его сердце не забьется в унисон этому образу. Он чувствует роль, он и есть тот другой, и поэтому не может не убедить нас. Все, что весомо для актера первой категории, для этого актера второстепенно. Он может играть только лицом, и мы поверим ему, потому что мимика, черты, осанка, походка и жесты идут изнутри. В качестве примера можно привести Эльсе Скоубо в роли Норы.
Яннингс всегда относился к актерам из первой категории. Вспоминая длинный ряд его значимых ролей в кино, я не могу найти ни одного исключения, разве что несколько сцен из фильма «Патриот»[10], где он в ряде незабываемых эпизодов достиг пика творческого самоощущения, потому что его внезапно увлекла… не роль, но то, что он сам чувствовал. Он забыл все обдумать и отдался своим чувствам.
Когда речь идет о способностях или уме такого актера, как Яннингс, то, конечно же, возможно, что его построенная извне работа по чувству и темпераменту может приблизиться к спонтанно проявившемуся искусству интуитивного актера, но всегда будет оставаться то различие, которое существует между правдивым и неправдивым, настоящим и ненастоящим, между искусством и подобием.
Я не могу отказаться от такого восприятия, оно крепко сидит во мне, но, чтобы не получилось так, будто читатель написал свое письмо напрасно, я с удовольствием признаю, что игра Яннингса в «Traumulus», возможно, является его самой успешной и совершенной актерской работой на сегодняшний день.
1936
«За бульварами Парижа»
Режиссер Бернар Дешан – птица невысокого полета. Он не тонет в пучине чувств, не поднимается до вершин поэзии. Его приземленные наблюдения с горем пополам нанизываются на очень тонкую красную нить, которая становится сюжетом его фильмов. Кропотливая работа, скрупулезное собирание воедино сотен мелочей, которые одновременно радуют и печалят нас. Итоговый результат весьма скромен, и это потому, что слагаемые величины незначительны. Получается фильм-мелодрама, который претендует на то, чтобы быть куском жизни, но не становится им, потому что режиссер впадает в сентиментальность.
Фильм «За бульварами Парижа» состоит из двух частей. Действие второй части разворачивается 10 или 12 лет спустя, и это моментально снижает драматичность сюжета.
Первая часть повествования пронизана иронией, которая действует благотворно, уравновешивая серьезность и фарс. Зритель с удовольствием наблюдает за двумя прекрасными детьми – уже ради них одних стоит посмотреть этот фильм, – а у Дешана появляется возможность показать свою руку в зарисовках парижского мелкобуржуазного общества.
Но эти способности подводят его во второй части фильма, когда действие переходит в драматическое русло и требуется раскрытие человеческих отношений. Здесь Дешан полностью сдает свои позиции и становится банальным и заурядным.
Начало у фильма хорошее и многообещающее, но в итоге чувствуешь разочарование, ведь кроме замечательной игры детей, особенно мальчика, фильм не дарит нам ничего нового. Пьер Ларке неплох в том, что касается актерской игры, но он не может заставить зрителя сочувствовать ему в тот момент, когда взрослые дети уезжают и его героя охватывает чувство одиночества.
Создавая датский текст, Пол Роймот сделал фильм совсем уж датским. Не сомневаюсь, что он превосходно знает французский язык, но всем давным-давно известно, что для хорошего переводчика важнее разбираться в тонкостях родного языка, нежели иностранного. Роймот перевел «Guignol»[11] как «Dukketeater»[12]. Не правильнее было бы использовать здесь «Mester Jakel»[13]? И зачем нужно было уходить от прямого перевода сленгового «marrant»[14]? Датский уличный мальчишка в подобной ситуации сказал бы либо «sjov»[15], либо «spy»[16]. Французское «zut»[17] также звучит намного сильнее, чем «saa!»[18] у Роймота. Здесь, скорее, был бы уместен его ближайший эквивалент в датском: «saa for pokker»[19].
1936
«Анна Каренина»
Фильм по «Анне Карениной» представляет собой лишь бледное подобие романа Толстого. Сценарий писался тремя авторами. Эти три господина прошли по тексту знаменитой книги на высоких ходулях. Стремясь не упустить ничего существенного, они упустили единственную по-настоящему важную деталь: дух книги. Его здесь попросту нет. Все основные сцены сохранились, но они приглажены и укорочены, лишены глубины и изящества.
Мало того что содержание фильма свелось к крат кому пересказу книги, так еще и действующие лица из живых и страдающих людей превратились в манекены.
Если экранизация романа Толстого не преследует иной цели, кроме как идеально передать обстановку и костюмы соответствующей исторической эпохи или изобразить правильное исполнение мазурки, при котором танцоры попадают в такт, то режиссера фильма Кларенса Брауна не в чем упрекнуть. Но если он видел свою задачу в том, чтобы заставить актеров забыть, кто они, если он хотел добиться от них такого глубокого погружения в образ, когда они бы слились с персонажами романа, плакали и смеялись вместе с ними, – в этом случае он потерпел неудачу.
Что игра актеров пуста и банальна, ясно сразу; тяжелые веки, затылки, губы, кривящиеся в улыбке или презрительной усмешке, глаза с поволокой – все это в фильме есть. Но в нем нет жестов, нет эмоций, которые заставили бы нас поверить, что мы стали невидимыми свидетелями реальных событий. Актеры играют: они далеки от нас. Их скованность, их страх перед камерой и микрофоном отнюдь не идут на пользу фильму; на язык просится выражение «актеры, застегнутые на все пуговицы». Вина за несколько чудовищных режиссерских «находок», явленных нам в этом фильме, – вроде кадров с обеденным столом, уставленным яствами (в начале картины), или с бальной залой, снятой через струны арфы, – лежит, вероятно, не только на режиссере, но в равной степени и на операторе. И кого же винить, как не оператора, за несколько крайне неудачных крупных планов, на которых Грета Гарбо предстает костлявой худышкой, – тем более что в иные моменты он умеет показать ее в чрезвычайно выгодном свете? Грета Гарбо, как и все другие артисты, играет «по-голливудски». Ее роль не находит отклика в сердцах зрителей. Даже когда ее возлюбленный падает с лошади, она остается чопорной и холодной; в сцене с сыном она не способна изобразить хоть какое-то подобие материнской нежности.
В книге по мере чтения события становятся все более и более драматичными; в фильме же зритель с каждым новым кадром теряет интерес к действию. Последняя четверть фильма состоит из бесконечных диалогов, которые тянутся мучительно медленно. Даже конец лишен какого бы то ни было драматизма. Граф Вронский вспоминает Анну Каренину и смотрит на фотографию Греты Гарбо, заключенную в рамку. Таков последний кадр фильма. В Голливуде решили не идти дальше. Или, может быть, вернулись к тому, с чего начинали?
1936
Новые пути развития датского кино, а также о Хансе Кристиане Андерсене
Существует мнение, что если и снимать фильм о Хансе Кристиане Андерсене, то это следует делать непременно в Дании. Все также согласны с тем, что бюджет у этого фильма должен быть большим и что работа должна быть выполнена блестяще – с тем чтобы картина могла дать полное представление о великом датском поэте и послужить пропагандой датской культуры и искусства.
Эта высокая цель оправдывает себя, и стоит надеяться, что всякий, кто осмелится взять на себя эту задачу, отдает себе отчет в том, что она сложна и предполагает большую ответственность.
Основная цель «андерсеновского» фильма, который будет выпущен в свет с благословения датского народа, – психологически правдивое и достоверное описание жизни поэта, его подлинной биографии, воссозданной в кинокартине, благодаря чему зритель сможет ощутить естественное присутствие Андерсена как человека и как личности. Жизнеописание это должно быть простым, незамысловатым и честным. В этой работе следует руководствоваться только соображениями художественными и эстетическими.
Вот почему нужно заранее отказаться от мысли построить сюжетную линию фильма на вымышленных романтических отношениях между Андерсеном и Йенни Линд, которые не подтверждены фактами[20]. Вы можете сказать, что фактами биографии можно пренебречь, и привести такой довод: «В первую очередь речь здесь идет о фильме, который должен стать картиной, которую захотят смотреть зрители. Поэтому в основу фильма должна быть положена история любви – ведь, как показывает опыт Голливуда, фильм без такого сюжета не будет иметь перспектив в мировом прокате».
Но раз уж этот фильм должен создать достойный образ нашего национального поэта, наверно, будет не совсем уместно согласиться с вышеизложенными соображениями? Разве не следует освободить фильм о Хан се Кристиане Андерсене от сексуального подтекста? Во всяком случае можно назвать много разных фильмов, которые имели успех и без любовного сюжета, например «Повесть о Луи Пастере». Было бы ошибочно думать, что мы поможем продвижению нашего фильма за границей, если он будет похож на заграничное кино. Напротив, мы бы привлекли намного больше внимания к фильму, если бы показали национальный характер, а не гнались за чуждой нам модой. Мы не должны создавать национальное кино с оглядкой на вкусы остального мира. Необходимо создать национальное кино в соответствии с нашими собственными идеалами, следует снять фильм, который имеет своей главной задачей только одно – увековечение памяти Ханса Кристиана Андерсена. В данном случае возможен только один из двух подходов: либо мы снимаем простой, общедоступный и правдивый фильм об Андерсене, либо мы решаем снять кассовое кино, не принимая во внимание сентиментальную память о писателе и ожидания датчан. Если фильм о Хансе Кристиане Андерсене должен создаваться по голливудскому рецепту, то разумнее всего предоставить это американцам. С такой задачей они, несомненно, справятся лучше нас.
Но если мы хотим решить сразу две проблемы: психологическую и национально-патриотическую, то люди, которые будут вкладывать деньги в этот фильм, должны заранее понимать, что обязательно дадут о себе знать два обстоятельства. Во-первых, такой фильм получится очень затратным, из-за того что филигранная режиссура требует времени, времени и еще раз времени, а время – это деньги, деньги и еще раз деньги. Во-вторых, потребуются чрезвычайно большие траты на производство нескольких версий фильма, помимо датской, предназначенных для аудитории разных стран. Ведь без этих версий с иностранными актерами наш фильм не сможет достичь своей цели: пропагандировать датскую культуру за рубежом. Даже если мы возьмемся за производство только двух иностранных версий (например, английской и французской), в дополнение к датской, то те 300 тысяч крон, которые могут показаться достаточным бюджетом, в действительности составят ничтожную часть суммы, которая будет необходима для производства всех трех версий. При трезвом рассмотрении оказывается, что такая идея изначально может быть осуществима только с привлечением иностранного капитала.
Есть и другие сложности, которые стоит иметь в виду, если берешься снимать фильм-биографию Андерсена. В их числе исполнение роли писателя. Проблема эта ведь никоим образом не решается простым приглашением на роль самого талантливого актера. В кино это называется «быть или не быть». Здесь будет недостаточно одного лишь внешнего сходства с Андерсеном, потребуется актер со схожим характером, темпераментом, близкий к писателю по психике, по складу ума. Кинообъектив безжалостен. Он умеет видеть сквозь костюм, грим и жесты. Хрупкая женоподобная фигура никогда не станет на экране силуэтом работяги, а болезненный человек не сможет выглядеть крепким и здоровым парнем. Камера, особенно беспощадная на крупных планах, обязательно выдаст внутреннее несоответствие, и зритель почувствует дисгармонию и неестественность в исполнении роли. Именно поэтому на особенные роли режиссеры часто предпочитают брать актеров, которые похожи на героя характером – в этом случае они могут просто «играть самих себя». И наоборот, не выбирают тех актеров, которые должны подстраиваться под персонажа, используя внешние средства. Репутация Ханса Кристиана Андерсена в фильме будет зависеть от исполнителя главной роли, а актера-датчанина, который мог бы просто более или менее достойно представить на экране образ писателя, на данный момент попросту нет.
Экранизация биографии Андерсена, как мы уже выяснили, влечет за собой ряд проблем и трудностей, которые не стоит недооценивать. Лучше разобраться в этих проблемах, чем оставить их без внимания.
И как бы там ни шел процесс создания фильма про Ханса Кристиана Андерсена, весь мир с нетерпением ждет и другого фильма, связанного с писателем.
Чем раньше мы возьмемся за него, тем лучше, причем с экономической точки зрения это будет намного менее затратно, чем съемка биографической картины.
Существует мнение, что нет лучшего способа рассказать о личности нашего поэта, как с помощью образов оживить одну или несколько его сказок. Это, конечно, верно, если только мы не подразумеваем экранизацию сказок с игрой актеров и раскадровкой, как в обычном фильме. Объектив кинокамеры прекрасно ухватывает действительность, но он плохой помощник, когда дело касается передачи иллюзорного и нереального. Камера не сможет уловить тончайшую, словно паутинка, поэзию сказки. Чтобы отразить на пленке загадочное изящество сказки, фильму нужно прибегнуть к другим изобразительным средствам. Настоящий фильм по сказке Ханса Кристиана Андерсена должен быть нарисован датским художником.
Когда много лет назад вышел первый мультипликационный фильм, прогрессивно мыслящие люди предсказывали, что однажды появится «рисованный» фильм в противовес «игровому» кино – помимо «ожив шей картины» появится еще и «оживший рисунок». Скептиков того времени охватывали сомнения. Но если сегодня они снова примутся брюзжать, то пускай лучше посмотрят «Белоснежку»[21].
Зачастую можно угадать, что произойдет в будущем, если оглянуться назад и посмотреть в прошлое. В этом случае можно заметить, что помимо чисто развлекательных целей анимация как жанр всегда стремилась достичь и определенных художественных высот. Некоторые из этих попыток были чисто символического и экспериментального характера. В этой связи мне приходит на ум Фишингер, чьи динамические рисунки часто представляли из себя пучки параллельных линий, которые под какой-нибудь музыкальный аккомпанемент ритмично двигались в такт музыке, то высоко поднимаясь, то мягко изгибаясь, то собираясь вместе, то снова расходясь. Это была своего рода музыка линий.
Может создаться впечатление, что эти эксперименты были интересны только специалистам. Но факт остается фактом – те законы, которые Фишингер открыл в ритмичном танце своих линий, тайно или явно действуют и в любом другом анимационном фильме.
Голландский экспериментатор Виллем Бон предпринял несколько похожих абстракционистских попыток поиграть с динамикой цвета, и эти опыты, несомненно, оказали влияние на цветную анимацию.
И наконец, следует назвать также и имя Лотте Райнигер, которая много лет назад представила ряд совершенно очаровательных картин с использованием техники силуэтной анимации – одна из них, насколько я помню, представляла собой двухсерийный фильм по одной из сказок из книги «Тысячи и одной ночи». Это была мультипликация с человеческими фигурами и настоящим сюжетом – еще одна попытка внести что-то новое в мультипликационный жанр.
Мы наблюдали, как развлекательный мультфильм под воздействием художественных стимулов извне медленно раскрывал свой потенциал – до тех пор пока он не распустился великолепным цветком в фильме «Белоснежка и семь гномов». Кажется, что настоящий художественный мультфильм затаился где-то и выжидает подходящего момента, чтобы появиться. Теперь этот момент настал, и если мы захотим, то появление этого мультфильма окажется для нас очень благоприятным и мы сами извлечем из этого много выгод.
Мы просто придем к тому, что «нарисованный» фильм с технической стороны постепенно будет становиться все более и более совершенным и разовьется до фильма-«картины», который уже сможет шагнуть за рамки гротеска или сказки. К этому новому жанру кино будут принадлежать все те произведения, которые по причине их поэтической формы или фантастического содержания не покорялись кинокамере. Дело в том, что даже самый четкий объектив не может с достаточной силой запечатлеть все мастерство и фантазию художника. Конечно, этих будущих художников ждет ряд очень серьезных задач – прежде всего нужно будет вдохнуть новую жизнь как в сказки Андер сена, так и в сказки нашего северного соседа Асбьёрнсена, здесь также можно иметь в виду и поэтические истории Сельмы Лагерлёф. Именно «Белоснежка» доказала нам, что и мультфильм способен затронуть серьезные и возвышенные темы – взять хотя бы сцену смерти главной героини, во время которой, уверен, было пролито немало слез.
Вслед за сказками на очереди более серьезные проекты: «Старшая и Младшая Эдда», жития святых, средневековые баллады, а затем – фантастические рассказы Эдгара Аллана По и Э.Т.А. Гофмана. Возможно, для анимации подойдет и «Пер Гюнт».
Анимационный фильм будет шаг за шагом отступать от своего искусственного стиля и приближаться к уровню высокохудожественного кино, в ту сферу, где индивидуальность режиссера сможет проявить себя в полной мере, а его работа будет естественным отражением его внутреннего мира.
Это достижение художественного фильма необходимо с радостью приветствовать, поскольку любой отказ от конвейерного продукта и стремление к производству авторского кино принесут только пользу.
Впрочем, «рисованное» и «игровое» кино будут, как сестры, существовать параллельно и процветать каждое по-своему. Они поделят между собой литературные сценарии по тому принципу, который отделяет выдумку от реальности, лирическую фантазию и сверхъестественное – от натурализма и реалистической прозы. Разделение будет таковым, что останется нейтральная зона, в которой и то и другое кино примерно в одинаковой степени смогут показать, на что они способны. Но давайте вернемся к обсуждению «Белоснежки».
По меркам искусства этот фильм не представляет собой ничего особенного. При том что он полон веселых и захватывающих моментов, в нем есть ряд изъянов: особенно это касается кукольной психологии главных персонажей, их громкого смеха, режущего слух, а также заурядного и скучного выбора палитры. Уолт Дисней – безусловно, знаток своего дела, изобретательный мультипликатор, который создает развлекательное кино, но его нельзя назвать великим художником.
Очевидно, что мультипликация в стилистическом отношении и в плане литературной основы не должна вечно гнаться за детскими комиксами. Не менее очевидно, что в наших силах возвысить существующие мультипликационные техники до вершин искусства. Здесь Дания как раз сможет внести свой вклад, который принесет еще большую пользу датскому искусству и кинематографу.
Мы, датчане, являемся обладателями одного из крупнейших литературных сокровищ в мире – сказок Ханса Кристиана Андерсена. У нас также есть ряд прекрасных художников, которые, в отличие от своих коллег из других стран, родились на одной земле и дышали одним воздухом с Андерсеном. Кто, как не датчане, должны создать анимационный фильм, взяв за основу сказки поэта, и опыт «Белоснежки» нам в этом очень поможет.
Чтобы убедить вас в своей правоте по отношению к «Белоснежке», попрошу вас мысленно представить, что Вильгельм Педерсон создал рисунки к фильму по какой-либо сказке Андерсена или что Теодор Киттель-сен проиллюстрировал произведения Асбьёрнсена. Конечно, никто не станет отрицать, что оба художника имели дело с фантазией, которой и Дисней может похвалиться, но скандинавское творчество намного более чувственное, утонченное, отражает тепло человеческих отношений и сострадание, скрытое за комической маской. Эти рисунки похожи на хорошую музыку.
Задумав сегодня снимать рисованный фильм по сказкам Андерсена, мы в первую очередь должны были бы отыскать современного датского художника, который при помощи современной техники смог бы «воссоздать» на экране выбранное нами произведение.
Если бы мы устроили конкурс, то художников, которые бы отлично справились с задачей, наверняка оказалось намного больше, чем мы могли предположить изначально. Дело в том, что душа любого датского художника находится в негласном союзе с внутренним миром андерсеновских сказок. Художники, без сомнения, использовали бы всю многогранность своей души, чтобы между их собственной изобразительной манерой и нуждами фильма не было разногласий и что бы их ожившие рисунки, не теряя связи с традицией, смогли увлечь современного зрителя.
Конечно, если мы будем сейчас называть имена художников, это будут чистой воды предположения.
Но ведь ни у кого не вызывает сомнений, что мягкий, грациозный почерк Акселя Нюгорда и восхитительная цветовая гамма его работ дают ему полное право работать со сказками Андерсена и выразить присущий им лиризм. Теплота и грация кисти Моэнса Зилера также позволяют нам предположить, что он способен вдохнуть жизнь в такие тончайшие сказки, как «Пастушка и трубочист», «Новое платье короля» или «Принцесса на горошине». Можно также высказать догадку, что на роль иллюстраторов веселых сказок «Маленький Клаус и Большой Клаус» или «Огниво» подойдут Арне Унгерманн, Ханс Бендикс и Йенсениус. Что же касается драматических сказок «История одной матери», «Дорожный товарищ» или «Дикие лебеди», то уж, несомненно, среди художников Дании, начиная с Ларсена Стевнса и заканчивая Хансом Шерфигом, найдется немало тех, кто сможет увековечить эти сказки на пленке и показать их национальный характер, – ведь это уже удалось Фрицу Сибергу с его иллюстрациями к «Истории одной матери».
Как только мы приступим к работе со сказками, мы будем удивлены тем количеством новых задач, которые возникнут перед нами. В этой связи я бы упомянул здесь драму «Однажды» Хольгера Драхмана. Это удивительная датская пьеса, поставленная на самую что ни на есть датскую музыку Ланге-Мюллера! Разве мы не должны создать фильм, который будет нести определенный посыл для остального мира?
Будет удивительно, если в Дании не найдется киностудии, которая бы не соблазнилась таким лакомым кусочком, идущим ей прямо в руки. Задача лежит на поверхности и довольно проста по сравнению со съемками полнометражного и высокозатратного игрового фильма. Полсотни цветных изображений будет достаточно, чтобы мы смогли судить о том, способны ли они превратиться в фильм. Будет ли в дальнейшем заинтересованный производитель снимать картину здесь, в Дании, пригласив иностранных технических специалистов (склонен думать, что и датские техники по уровню ничуть не уступают иностранным), или будет искать партнеров в Англии или Америке, вопрос второстепенный. Важным является то, что люди хотят увидеть «рисованный» фильм по мотивам сказок Андерсена и что датскому кинематографу нужно незамедлительно браться за эту работу. Не стоит сидеть сложа руки и ждать, пока национальное достояние ускользнет у нас из-под носа. Риск просчитаться минимален, так как изначально мы точно знаем, на что идем, и можем шаг за шагом осуществить задуманное. К тому же опыт «Белоснежки» показал, что мультфильм без каких-либо больших трудностей дублируется на другие языки.
Производственные издержки на технически изощренный цветной и музыкальный мультфильм составляют в Дании примерно 60 крон за метр пленки. Раз уж речь идет о фильме-сказке, давайте проявим щедрость и увеличим бюджет картины в два раза. Мы увидим, что полнометражный мультфильм на 2000–2400 метров[22] обойдется нам дешевле производства одной-единственной датской версии биографии Андерсена. В то время как мультфильм мы сможем дублировать на другие языки и выпустить в прокат за границей, фильм-биография с датскими актерами будет иметь ценность только для нашего местного проката.
Когда наши сказки обретут своих киноблизнецов, возможно, мы захотим взяться за еще одну биографическую историю – изящно нарисованное воскрешение самой человечной из сказок Андерсена, а именно «Сказки моей жизни» – нежно и очаровательно вплетенной в рассказ о гадком утенке, который превратился в прекрасного лебедя. Я представляю этот фильм в красных пастельных тонах, а создателем его должен будет стать великий датский художник. Труд но представить себе более благородный жест в память о Хансе Кристиане Андерсене, который может сделать Дания.
Эта рисованная форма, помимо всего прочего, поможет нам показать все вехи жизненного пути нашего поэта – с момента его рождения и до самого пика его славы. В игровом кино показать это было бы невозможно просто из-за того, что ни один актер не смог бы исполнить роль и ребенка, и подростка, и взрослого мужчины, и Андерсена в ранге обер-гофмейстера. Деликатному и тонкому художнику будет намного легче, чем актеру, сделать так, чтобы зритель отнесся к наивной и чудаковатой фигуре нашего писателя с терпением и симпатией.
Поэтому стоит заметить, что если мы решим снимать фильм по «Сказке моей жизни», то стоит обратить внимание на сборник цветных иллюстраций художника Ларсена Стевнса, который недавно выставлял в галерее Den Frie[23] свои работы, покорившие публику удивительным чувством драмы. Несмотря на то что эти иллюстрации не предназначались для целей кинематографа и мы не можем их оценивать как подготовительную работу к фильму, возможно, они могут подсказать нам, куда стоит двигаться дальше.
После возникновения звукового кинематографа датское кино утратило свои перспективы в мировом прокате. Если всерьез задуматься над идеей создания мультфильма, которую я попытался вкратце изложить, то она, возможно, даст нам шанс воссоздать национальную киноиндустрию и укрепиться на международной арене.
1939
О технике кинопроизводства и режиссерских сценариях
Несколько замечаний в адрес Кьеля Абеля
Два господина, Кьель Абель и Арне Вииль, на днях вступили в словесный поединок в газете Politiken. Причиной разногласия послужило то, что писатель Хэри Сёберг критически высказался в адрес датского кинематографа. Я не буду участвовать в их споре, но хотелось бы обратить ваше внимание на одно заблуждение, в котором пребывает как Кьель Абель, так, вероятно, и многие другие люди. Я имею здесь в виду режиссерский сценарий (то есть готовый сценарий, c которым впоследствии режиссер работает у себя в студии).
«Кто же у нас в Дании способен написать настоящий режиссерский сценарий?» – задает вопрос Кьель Абель и утверждает, что это, скорее, дело писателей. Он считает, что такой сценарий должен предшествовать совместной работе режиссера и писателя.
Здесь я могу ответить, что режиссерский сценарий следует разрабатывать только режиссеру, и никому другому. Безусловно, это задача одного лишь режиссера. Литературный сценарий можно и нужно создавать совместными усилиями, но что касается режиссерского сценария – за него одному режиссеру и отвечать. Именно он является посредником между текстом и пленкой. Он должен дать экранную жизнь мыслям писателя. Ему необходимо представлять себе совокупность кадров фильма; и видеть не просто отдельные картины, а также и то, в какой последовательности они должны сменять друг друга. Только он может задать нужное настроение фильму, связав воедино подходящие мотивы. Составление режиссерского сценария по праву может считаться частью работы режиссера, и если он закрывает глаза на то, что кто-то другой вмешивается в этот процесс, то он просто не понимает свои должностные обязанности.
Доверить другим составление режиссерского сценария – это все равно что дать художнику чужую законченную картину и попросить его что-нибудь на ней дорисовать. В сознании художника цвета и линии на его картине являются неделимым целым – ровно так же и для кинорежиссера последовательность планов и разыгрываемая перед камерой история представляют единое целое.
Поэтому режиссерский сценарий имеет не «технический», а в высшей степени «художественный» характер. В этом сценарии режиссер проявляет свои художественные способности. Отсюда опять же следует, что участие режиссера в разработке литературного сценария не просто желательно, а строго необходимо. Дело в том, что только режиссер способен включить в свой сценарий элементы рукописи писателя, ведь именно режиссер – тот единственный человек, в уме которого сплетаются воедино все части будущего фильма.
Речь здесь идет не о «технике и еще раз технике» – как пишет Кьель Абель. Творческая интуиция и непосредственное ощущение гармонии изо браже ний – вот что нужно, когда литературный сценарий переносится на пленку. По сути, это то, чем ты внутренне богат (если в тебе это есть изначально), а не «техника», которой можно научиться. Сотрудничество писателя и режиссера в кино может состояться лишь в том случае, если и режиссер также является художником – в кино это качество редкое и весьма ценное.
Но я согласен с Кьелем Абелем в том, что кино не должно представлять собой сфотографированный театр, а должно оставаться самим собой. В основе кинофильма лежит потребность говорить правду, поэтому он должен избегать преувеличений и недосказанностей.
1939
Провал двух пьес
Виноват ли в неудаче режиссер?
«Мать» Карела Чапека в последний раз шла на сцене Театра Бетти Нансен. Две значительные пьесы с мировой славой в течение нескольких недель потерпели театральную неудачу. Первой из них была не менее выдающаяся драма Роберта Эммета Шервуда «Восторг идиота», которую ставили в Народном драматическом театре. Обе пьесы необычайно актуальны и несут зрителю определенное послание в наше неспокойное время.
Если мы попробуем отыскать причину провала столь интересных театральных постановок, то следует без лукавства признаться, что немалая доля вины лежит и на самих театрах.
Возьмем сперва «Восторг идиота». Мне кажется, что причиной прохладного отношения зрителя является, несомненно, та чудовищная интерпретация концовки, которую преподнес нам Народный драматический театр.
Как известно, пьеса заканчивается взрывом бомбы в санатории, где и происходит все действие. Сцена открыта – раздается душераздирающий грохот взрыва, затем мрак и безмолвие, как будто все вокруг стерто с земли, – и под конец медленно опускается занавес.
Взрыв шокирует своей неожиданностью, невольно думаешь, что бомба и правда угодила в здание театра. Первые несколько секунд зрители охвачены неподдельным страхом, который ослабевает только тогда, когда в зале снова зажигают свет.
Последствия вечернего представления можно было увидеть на лицах людей, сидящих в зале. Вымученная улыбка, выражающая неловкость и смущение. Публика досадовала на то, что позволила так с собой обойтись. Чувство испуга сменилось обидой. Люди практически считали себя жертвами отвратительной насмешки. Подобно декорациям, уничтоженным взрывом, реальный испуг, который испытали зрители, уничтожил их возрастающий интерес к сюжету, от которого невозможно было оторваться благодаря великолепной игре Эльcе Скоубо и Эрлинга Шроедера в двух последних актах пьесы.
Режиссер-постановщик нарушил здесь основное правило драматургии. Чем разительнее и мощнее оказывается какой-либо театральный эффект, тем тщательнее его необходимо проработать, чтобы избежать нежелательных последствий. Вместо одного всеразру-шающего взрыва можно было использовать шесть-семь звуков взрыва, которые каждый раз становятся все громче – как если бы бомбардировщик бил все ближе и ближе. Параллельно звучит все менее различимый диалог Айрин и Хэрри, а предпоследняя бом ба в это время должна задеть электрический кабель. И вот сцена погружается во мрак – страх смерти охватывает наших героев – прямо над их головой слышен гул самолетного двигателя – вдруг сам санаторий оказывается мишенью противника – кто-то кричит – это умирающий напрасно взывает о помощи – мы слышим стенания – и, наконец, произносится слово, одно-единственное, последнее слово. Это финал представления.
Если бы сцена была поставлена так, как я здесь описал, то резко возрастающее волнение от просмотра постепенно и естественным путем сошло бы на нет. Но получилось так, что концовка с корнем вырвала сложившееся воодушевление от постановки вместо того, чтобы поддержать эмоциональную линию пьесы.
В постановке захватывающей драмы Чапека, которую мы могли видеть на сцене Театра Бетти Нансен, также случилось нечто подобное с концовкой, однако основной недостаток здесь я вижу в другом. Сколь грандиозным и трогательным было воплощение фру Бетти Нансен в роли матери, столь нелепым оказалось ее видение предстающих перед ней умерших.
Пожилая мать становится ясновидящей, и она может видеть мертвых. Но видеть их может только она одна. Так уж задумано, что зритель не должен иметь этого дара. Мы просто подразумеваем, что они рядом, ощущаем их как нечто потустороннее, проплывающее через зал на сцену, как цветные нечеткие фигуры, которые места себе не находят в надежде снова оказаться в месте своего упокоения. У призраков нет лиц, их внешность расплывчата. Так как мертвые привыкли находиться в одиночестве в мрачных могилах, они избегают дневного света и нехотя идут на контакт лишь с теми, кто был им близок в мирской жизни.
Проблема с мертвецами фру Нансен заключается в том, что они выглядели достаточно живыми.
Призраки фру Нансен зачастую оказывались освещенными светом лампы или даже ярким лучом «специально» установленного прожектора. Лишь волей случая они попадали в тень, но ведь как раз там они и должны были бы находиться бóльшую часть времени. Лучше бы их голоса доносились до зрителя из полумрака, а еле заметные очертания их фигур лишь изредка попадали под свет ламп. Такой эффект мы могли наблюдать за несколько секунд до конца второго акта, и это вызвало очень сильные впечатления у зрителей.
Фру Нансен сорвала со своих мертвых вуаль нереальности, поэтому исчезло то особое настроение, которое подразумевалось Чапеком в качестве мотива драмы. Многие сцены казались мучением, и публике трудно было их воспринимать.
Когда речь идет о таких сложных сценических эффектах, как появление призраков, то тут следует обойтись лишь намеками и надеяться на то, что фантазия зрителя сделает все остальное. Зрительское воображение порой заменяет не менее дюжины технических приспособлений – вот почему театр никогда не имел такого влияния на умы, как во времена керосиновых ламп или в те дни, когда рампа была оборудована сальными свечами.
Фру Нансен посчитала, что в случае с ее постановкой можно обойтись без фантазии, или почти без нее. Мертвые были настолько близки к зрителю, что он даже мог разглядеть, какого цвета у них носки.
Для любого театра, который ставит своими задачами культурное просвещение и искусство, всегда важно осознавать, что он соответствует своим требованиям. Если какая-либо постановка проваливается, то театр по крайней мере пытается выйти из этой ситуации с честью. Но в нашем случае, как Народный драматический театр, так и Театр Бетти Нансен выглядели не в лучшем свете. Они не до конца выполнили свою культурную задачу, что, по сути, очень печально.
Ведь в нынешних обстоятельствах мы просто не можем себе позволить роскошь терять пьесу, которая содержит в себе культуру и идеи, которые мы разделяем.
Жизнь мертвых на сцене
Ответ Моэнса Дама
Уважаемый г-н Карл Т. Дрейер!
В газете BT от 4 апреля Вы берете на себя роль судьи двух постановок, о которых прекрасный театральный критик уже названной газеты Ханс Брикс давно высказался, и, по крайней мере что касается «Матери», отзывы его были довольно восторженными. Естественно, у Вас с Хансом Бриксом могут быть разные точки зрения. Другое дело, что Вы строите предположения о том, почему пьеса Чапека «провалилась», – однако это всего лишь ваша точка зрения. Я обязан возразить Вам, поскольку ваши предположения в корне неверны.
Вы пишете: «Сколь грандиозным и трогательным было воплощение фру Бетти Нансен в роли матери, столь нелепым оказалось ее видение предстающих перед ней умерших. Пожилая мать становится ясновидящей (мне кажется, Вы не очень поняли здесь значение слова «synsk»[24], господин Дрейер!), и она может видеть мертвых. Но видеть их может только она одна. Так уж задумано, что зритель не должен иметь этого дара. Мы просто подразумеваем, что они рядом, ощущаем их как нечто потустороннее, проплывающее через зал на сцену, как цветные нечеткие фигуры, которые места себе не находят в надежде снова оказаться в месте своего упокоения. У призраков нет лиц, их внешность расплывчата. Так как мертвые привыкли находиться в одиночестве в мрачных могилах, они избегают дневного света и нехотя идут на контакт лишь с теми, кто был им близок в мирской жизни».
Здесь Вы прямо противоречите писателю. Мертвые не желают попасть обратно в свои могилы, они также охотно приближаются к живым. Чапек сам не делает никаких заявлений по поводу того, где обитают души мертвых, но дает возможность одной из них объяснить, что призраки не могут найти успокоения и возвращаются в те места, где они когда-то жили, а кроме того, делают все, чтобы живущие не забывали их. Давайте посмотрим, насколько сильно Вы заблуждаетесь в своей критике! Вы продолжаете следующим образом:
Проблема с мертвецами фру Нансен заключалась в том, что они выглядели достаточно живыми. Призраки фру Нансен зачастую оказывались освещенными светом лампы или даже ярким лучом «специально» установленного прожектора. Лишь волей случая они попадали в тень, но ведь как раз там они и должны были бы находиться бóльшую часть времени. Лучше бы их голоса доносились до зрителя из полумрака, а еле заметные очертания их фигур лишь изредка попадали под свет ламп. <…>
Фру Нансен сорвала со своих мертвых вуаль нереальности, поэтому исчезло то особое настроение, которое подразумевалось Чапеком в качестве мотива драмы. Многие сцены казались мучением, и публике трудно было их воспринимать.
Кроме этого, сердце в пятки уходит при одной мысли о привидениях, которых Вы описываете в предполагаемой постановке, крадущихся в полумраке призраках, – героев дилетантских комедий на сценах домашних театров. Призраков с зелеными лицами и костями вместо рук, одетых в длинные белые простыни. Наверное, образ скелета здесь бы тоже был кстати? В этой связи хотел бы спросить, откуда Вы так бесцеремонно и самонадеянно позаимствовали высказывание о «том особом настроении, которое подразумевалось Чапеком в качестве мотива драмы». Вероятно, Вы говорили на эту тему с почившим писателем или вычитали что-то подобное в сценарии?
Нет, на самом деле Вы не делали ни того, ни другого! Невероятно, что в предисловии к сценарию писатель высказывает свое мнение как раз по поводу этого спорного момента. И его точка зрения идет вразрез с Вашей! В самом начале сценария «Матери» Карел Чапек пишет свои пожелания. Это не указания режиссера в скобках, а настойчивая просьба, требующая уважения. Вот слова писателя:
Автор просит только, чтобы мертвых, собирающихся вокруг матери, изображали на сцене не в ви де страшных привидений, а как простых и добрых живых людей: в привычной домашней обстановке, при свете уютной лампы они ведут себя самым обыкновенным образом. Они точь-в-точь такие же, какими были при жизни, потому что такими навсегда остались для матери; разница лишь в том, что она не может больше дотронуться до них рукою, да еще, пожалуй, в том, что они производят немного меньше шума, чем мы, живые[25].
Я бы хотел подчеркнуть, что фраза писателя «потому что такими навсегда остались для матери» говорит сама за себя. Неужели матери и супруге необходимо становиться «ясновидящей», чтобы жить с памятью о своих умерших родных и близких? Писатель показал нам, что можно обойтись без фальшивой игры света и тени, а также использования иллюзий призраков.
Вы, конечно, можете считать себя умнее писателя, но факт остается фактом: фру Нансен со своей хорошо продуманной и захватывающей постановкой «Матери» попала в самое яблочко.
Трудно ответить на вопрос, почему зрителей у такой красивой и интересной пьесы оказалось меньше, чем ожидалось. Это печальный факт, и ни Вы, ни Ваши коллеги по цеху не могли бы справиться с постановкой этой пьесы лучше.
Моэнс Дам
Когда мертвые превращаются в живых
Ответ по существу на критику Моэнса Дама
Дорогой господин Моэнс Дам!
Я тронут тем, что Вы вступили со мной в дискуссию по поводу постановки «Матери» в Театре Бетти Нансен. Но я также огорчен тем, что Вы абсолютно субъективны в своих суждениях. Нет и намека на объективность, когда Вы пытаетесь упрекнуть меня в том, что я желал бы видеть мертвых в этой пьесе как «крадущихся в полумраке призраков… с зелеными лицами и костями вместо рук, одетых в длинные белые простыни». В моей статье нет и тени подобных высказываний. А написал я следующее. Я упрекаю фру Нансен в том, что она позволила мертвым находиться в свете рампы и прожектора и лишь изредка уводила их в тень. Мы видели перед собой живых людей, но от зрителя требовалось, чтобы он поверил в то, что они мертвы. Я подчеркнул, что было бы лучше, если бы их голоса долетали до нас из полумрака. Их фигуры должны были быть едва различимы, и они должны были лишь изредка выходить на свет. Именно так я и написал, ни слова не сказав о тех белых простынях, зеленых лицах или костях вместо рук, которые Вы язвительно пытаетесь приписать мне.
Говоря по существу, я до сих пор придерживаюсь того мнения, что фру Нансен, будучи режиссером, должна была заставить зрителя увидеть мертвых такими, какими их видела мать. Иными словами, таких мертвых, какими бы они виделись и нам, если бы мы, как героиня, обладали даром ясновидения. Если мы, в принципе, обратим внимание на определение слова «мертвый», то разве мы не можем видеть в реальной жизни те образы, что приходят к нам во снах: бесплотные, эфемерные и ускользающие? Разве не так?
Это мое восприятие Вы считаете «в корне неверным», приводя в доказательство вступительную речь писателя к сценарию. Но, к несчастью для Вас, восприятие писателя «невероятным» образом перекликается с моим. Его мертвые должны быть такими, какими они были при жизни, только они производят немного меньше шума, чем мы, живые. В этом предложении я вижу явное определение того, чего мне очень не хватало в постановке, а именно вуали нереальности. Чапек не хочет, чтобы мертвые тревожили наши чувства. Поэтому при помощи тишины можно создать пространство, дистанцию и отстраненность между живыми и мертвыми. Но тишина – сестра-близнец сумрака. Тьма заостряет тишину, а в условиях полной тишины сгущается беспросветная тьма. Как тьма, так и тишина возбуждают фантазию зрителя. Поэтому, насколько я могу судить, фру Нансен не пошла бы против воли писателя, если бы для создания требуемой им потусторонней тишины она бы использовала приглушенный свет лампы и окутала своих мертвых вуалью тени. Таким образом, эти мертвые предстали бы перед зрителем теми, кем они являются: феноменами из сферы подсознания. Вот такими мы и должны их видеть – едва заметными, спроецированными на темно-серый экран вечности. Они должны представать перед нами такими же, как при жизни, – и все же другими. Находясь рядом, они все равно должны оставаться от нас вдалеке.
Мне кажется, что фру Нансен не удалось дать зрителю ощущение этой нереальной реальности, которой требовал от режиссера Чапек. Ее мертвые были скорее похожи на живых, и только на живых (за исключением разве что фигуры летчика, у которого практически получилась роль мертвого человека). Изобразив таким образом мертвых, фру Нансен заглушила зрительскую фантазию вместо того, чтобы дать ей проявить себя, сбила ее с пути, хотя могла направить ее в правильное русло. Получилось так, что зритель полностью теряет связь с произведением автора и уходит из театра неудовлетворенным, однако задача инсценировки как раз и заключается в том, чтобы подстегнуть зрительское воображение. Ни один поход в театр не перерастет в душевное переживание без участия фантазии.
Простите меня за мои слова, но Ваше (а также фру Нансен) толкование проблемы имеет скорее литературную, нежели театральную подоплеку.
С уважением, Ваш Карл Т. Дрейер
1939
Как снимают кино в Дании[26]
Важно не только качество пищи, но и сервировка стола. В этом отношении (как и во многих других) датский кинематограф может поучиться у американского, как заставить зрителя съесть неаппетитное угощение, подав его на серебряном блюде.
Но, возразите вы, у датского кинематографа нет средств на серебряную утварь. В данном случае вы не правы. Люди склонны приписывать «технической» стороне создания кино бóльшую роль, чем та, которую она на самом деле играет. Что действительно имеет значение, так это оператор, который работает с камерой. Дайте хорошему фотографу мыльницу за восемь крон, и он сделает превосходные снимки. У непрофессионала, что с фотоаппаратом фирмы Leica, что с Zeiss Ikon, результат оставит желать лучшего. Сюжеты заурядного кинооператора вряд ли станут красивее от того, что он будет пользоваться мощной камерой, в то время как настоящий талант выйдет из трудной ситуации и с простым аппаратом, достигнув поразительного успеха.
Нет, в данном случае не обойтись одной только «техникой». Огромную роль здесь играет и сам оператор. В его власти сделать так, чтобы зритель поверил запечатленному на пленке. Он может поддержать настроение режиссера либо же поставить крест на его замыслах. Он острее чувствует связи в том, что происходит на съемочной площадке, так что ему под силу создать особую атмосферу картины при помощи освещения и затемнения деталей. В процесс вовлекаются и другие элементы, задающие темп кино. Таким образо м, вместе с игрой света и тени они образуют основную движущую силу фильма, которую зритель ощущает, но не может понять тайну ее рождения. В последние несколько недель состоялись премьеры сразу трех датских фильмов, поэтому есть повод провести их сравнительный анализ и, в общем, составить мнение о съемочном процессе у нас на родине.
Фильм «Осторожней на повороте в Сольбю» радует глаз своими светлыми, полными чувства статичными планами, которые затем еще больше оживают благодаря искусному использованию подвижной камеры. В этой картине есть много кадров, задающих настроение, – в частности, я имею в виду две вечерние сцены в саду священника и сцену с костром у озера в ночь накануне Иванова дня. К сожалению, теплая атмосфера летней ночи в этих сценах обрывается сменяющими их крупными планами, что нарушает сложившуюся гармонию вместо того, чтобы развить ее. Жаль также, что в большинстве пейзажных зарисовок мы видим лишь тусклое, бесформенное, бледно-серое небо. Куда же подевались облака? Стоило бы выделить их, используя желтый фильтр. Несколько планов с видами леса (если не обращать внимания на небо) буквально зачаровывают.
В интерьерных зарисовках прослеживается чрезмерное осветление фона. Нельзя забывать, что задача изображения – при помощи правильной постановки света привлечь внимание зрителя к основному сюжетному действию, то есть к игре актеров. Если чрезмерно осветить позолоченный багет, то даже малейший его отблеск будет непременно отвлекать взгляд зрителя от главных действующих лиц на картине. Фон должен присутствовать на уровне ощущений, а не бросаться в глаза. Между тем фигуры актеров в фильме часто освещаются стоящими впереди прожекторами, что делает их лица белыми и похожими на маски. Однако я заметил немало удачных кадров, снятых крупным планом.
Если взглянуть на другой фильм, который называется «Ребенок», то по сравнению с солнечным настроением «Осторожней на повороте…» здесь нас ждет серая и пасмурная картина. Фильм выдержан в мрачной, холодной гамме, и, вообще, складывается впечатление, что многие кадры накладываются друг на друга. Просматривая фильм, встречаешь невообразимые ляпы. На следующих друг за другом кадрах крупным планом, с одного ракурса снимают одного и того же актера, при этом фон оказывается то ярко освещенным, то таким темным, что хоть глаз выколи. В павильоне с потолочным освещением тени почему-то поднимаются вверх по стенам, а в павильоне с настольным светом, напротив, падают вниз. В одном из планов мы четко видим тень человека на стене, по левую сторону от него, хотя в кадре главным источником света является настольная лампа, стоящая впереди и слева от актера, то есть, по сути, между ним и стеной. В целом этот фильм явно не страдает от недостатка теней. Есть там и такой момент, когда актер заходит в дверной проем в сопровождении целой свиты своих теней. Не могу с уверенностью сказать, сколько их было, так как я не успел все их сосчитать.
В фильме также есть добротные, четкие кадры – ответственно и красиво выполненная работа – но все они почему-то ускользнули из памяти. Перед глазами так и стоят эти неточности в работе с освещением. В затемненных комнатах, которые освещены лишь тусклым светом настольной лампы, мы все же замечаем, что сверху на героев изливаются потоки света, как будто над нами горит полуденное тропическое солнце. Иногда даже кажется, что волосы Лис Смед объяты пламенем.
Что касается съемок этого кино, то я в первую очередь почувствовал отсутствие у оператора художественной идеи, перед ним не было поставлено определенной задачи, к решению которой он бы осознанно шел.
О третьем фильме, «В старые добрые времена», стоит сказать, что основным мотивом для него взяли тему натурализма. Мы видим много хороших кадров с удачным использованием световых эффектов, особенно мне запомнились зарисовки конюшни, но также и ряд других сюжетов. Изображение людей здесь выше всяких похвал: свет правильно подчеркивает пластичность актеров и делает акцент именно на их игре. Разочаровывает лишь то, что камера оставляет нерешенной художественную задачу, которая здесь очевидно присутствует. Дело в том, что с помощью особой техники съемки нужно было погрузить зрителя в иллюзию, напомнить ему, что картинка на экране – это не реальная жизнь, а скорее, сон, фантазия. Например, осознанно искажая изображение, оператор мог бы сделать действие менее реалистичным и перенестись в область пародии.
В заключение своего разбора могу предположить, что в распоряжении датского кинематографа имеются способные и ответственные кинооператоры. Им просто не хватает смелости экспериментировать со стилем и придерживаться его от первого до последнего кадра в каждом отдельно взятом фильме.
1940
2
Среди русских художников-эмигрантов в Берлине[27]
Когда оператор складывает свою технику и сообщает, что на сегодня съемки закончены, ему бессмысленно возражать. Мы, конечно, можем сказать, что, дескать, еще рано заканчивать работу, солнце еще не зашло, но он категорично утверждает, что уже не видно ни зги, и подкрепляет свое заявление длинной лекцией о степени освещенности и о фиолетовых лучах – все это побеждает последние возражения оппозиции.
Сентябрьский вечер у Эльбы. В серой воде отражаются облака, которые плывут по небу, предвещая ночной дождь. Мы открываем двери местного трактира, приютившегося в подвале. С порога в нос бьет застарелый запах пива и застоявшийся табачный дым – так что начинаешь прямо-таки хватать ртом воздух. Но подобное следует лечить подобным. Зажигаются сигары, сигареты и трубки, а маленькая графиня Пековская, исполняющая в фильме главную женскую роль, неожиданно для нас ставит на стол две бутылки кавказского вина, которые она привезла с собой из Берлина. Постепенно убывающий дневной свет пронизывает сизое облако табачного дыма. С реки доносятся удары весел по воде.
Судьба свела здесь совершенно разных людей. Назову некоторых из них – вслед за вспыхивающими огоньками сигарет. Вот осветилась физиономия Виктора Богдановича. Он похож на Ленина, это мой главный консультант по России. Очень милый человек. Порядочный и добрый, он ведет себя словно большое дитя и может внезапно рассердиться из-за какой-нибудь ерунды. По образованию он художник, в начале войны попал на курсы авиаторов. Он и немецкий оператор Вайнман, также служивший летчиком во время войны, одновременно находились на одном и том же участке фронта. Они частенько с удовольствием обращаются к воспоминаниям о тех днях, когда преследовали друг друга на крутых виражах и у каждого из них была лишь одна цель – уничтожить врага. А теперь они подружились! Когда большевики захватили власть в России, Виктор Богданович находился в Москве. Вместе с четырьмя другими офицерами он попытался добраться до Крыма. Переодевшись рядовыми, они сели на советский поезд, но четверых его товарищей опознали и по пути буквально вытащили через окно. Ему же удалось целым и невредимым доехать до Крыма, где у него были собственное имение и мастерская. В Крыму он обнаружил, что дом его разграблен, даже фруктовые деревья куда-то исчезли, и – это поразило его более, чем все остальное, – большевики превратили в кашу все его тюбики с красками, дважды пропустив их через мясорубку. За окном облака собираются в непроницаемую завесу, и под звуки дождя русские обмениваются воспоминаниями о тех опасностях и сложностях, которые сопровождали их отъезд из большевистской России. Охотнее всего они вспоминают забавные эпизоды – ведь, как и в любой трагедии, в приключениях русских присутствуют и комические моменты. Доктор Дуван-Торцов – в прошлом мультимиллионер, владевший когда-то театрами в разных городах от Киева до Одессы и гостиницами в Крыму, – сейчас снимает фильмы за 2000 марок в день, и Иван Булатов, признанный актер старой школы, – оба они пережили массу интересного, но пережитое ими меркнет по сравнению с тем, что может рассказать о своем бегстве Михаил Чернов. Чернов – комик, он так толст, что рядом с ним Оскар Стрибольт показался бы недоедающим студентом. Самую известную свою роль он сыграл в пьесе «Тетка Чарлея», в этой роли он выходил на сцену несколько тысяч раз. Все слушатели в полном восторге, когда он рассказывает о том, что проходил пограничный контроль большевиков в костюме тетки Чарлея. И когда его спросили, кто он, он ответил, указав на сопровождавшего его племянника: «Это Чарлей, а я – тетка Чарлея!»
Но восторженных восклицаний становится еще больше, когда свою историю рассказывает Мориц Михаэлович. Ему и его жене удалось купить билеты на последний поезд с беженцами, уезжающими из России на юг. В каждое купе, рассчитанное на четверых или шестерых человек, набивалось от двадцати до тридцати человек, а в дороге при этом они пробыли около четырех суток. На какой-нибудь станции поезд мог простоять полдня, но о том, чтобы оставить свое место, не могло быть и речи – назад бы уже не пустили. Все пассажиры были крупными фабрикантами, директорами банков и дипломатами, они везли с собой огромные сокровища, золотые рубли и украшения. Когда поезд приблизился к кавказской границе, стало известно, что большевики, узнавшие о том, что из страны вывозятся колоссальные ценности, отправили в погоню поезд с вооруженными солдатами, которым был дан приказ арестовать всех пассажиров и конфисковать содержимое их багажа.
Чтобы как-то вселить бодрость в машиниста паровоза, был устроен сбор денег на подарок ему: 20 тысяч золотых рублей. Он растроганно поблагодарил и пообещал ехать как можно быстрее. Но увы! Когда поезд должен был перевалить через довольно высокий холм, машина отказалась повиноваться, и поезд скатился назад. Был объявлен новый сбор средств, и машинисту передали 50 тысяч золотых рублей, а он изъявил полную готовность попытаться преодолеть гору. Но, к сожалению, и на этот раз ничего не вышло! Поезд снова откатился назад. Однако видя, что машинист готов прийти им на помощь, все пассажиры чрезвычайно взволновались и, поскольку большевики следовали за ними по пятам, опять наперегонки стали собирать последнее, что у них осталось, для машиниста поезда. Когда машинист увидел гору денег и украшений, общая стоимость которых была примерно полмиллиона рублей, он лукаво ухмыльнулся и сообщил, что теперь ему уж точно удастся преодолеть гору. И оказался прав – действительно, все у него получилось!
Пришел черед рассказа графини Пековской. Она делает последнюю затяжку и просто, без прикрас, рассказывает о том, как на ее глазах расстреляли мужа – убили, словно скот. Ей самой удалось избежать той же судьбы лишь потому, что у бандитов закончились патроны. В ожидании, когда подвезут боеприпасы, Пековскую с маленьким сыном посадили в тюрьму, но ей удалось сбежать. Много дней ей пришлось брести по проселочным дорогам – а вот теперь она участвует в съемках фильма в Берлине и берет уроки вокала, развивая свой красивый голос. Мы замолкаем. Она отбрасывает окурок и начинает напевать. Все громче и громче, и вот уже отчетливо слышны слова. Она поет один из тех печальных украинских романсов, которые русские беженцы редко могут слушать без слез. Виктор Богданович, чья чуткая душа всегда бурно реагирует, разражается рыданиями.
Когда замирают звуки песни, Александр Нелидов наклоняется ко мне и спрашивает, что я понял. И тут же старается перевести мне текст – насколько это возможно. До войны Нелидов был управляющим Императорского театра в Санкт-Петербурге. Теперь он вместе со своей женой, знаменитой и талантливой мадам Гзворской, проживает в третьеразрядном пансионе на Курфюрстенштрассе. Вместе с другом Владимиром Гайдаровым, бывшим актером Московского художественного театра, они тайно выбрались из большевистской России. Деньги и ценности, которые им удалось вывезти, пришлось по пути потратить на подкуп должностных лиц. Измученные и ограбленные, они добрались до Берлина – хорошо хоть в целости и сохранности!
Начинаешь понимать, как велика Россия, когда сравниваешь Владимира Гайдарова с Ричардом Болеславским. Оба они по внешнему виду самые настоящие русские – и все же совершенно непохожи друг на друга. У Гайдарова огромные, блестящие, печальные глаза и тонкие, чувственные губы. Трепетное, одухотворенное лицо, на котором отражаются малейшие изменения настроения и состояния. И сравните его с Болеславским! Вот он стоит у окна, вглядываясь в сумерки. Время от времени на небе сверкает молния, очерчивая его профиль огненным контуром. На поясе у него висит огромный складной нож и кисет с табаком. Он сам делает себе сигареты, тем же способом, что и дворник в Санкт-Петербурге: обрывок бумаги (все равно какой, можно кусок газеты, за неимением лучшего) сворачивается в трубочку не более той, в которую во времена нашего детства умещались «сладости на 1 эре». Трубочка набивается табаком и загибается кончик – вот и готова сигарета. Когда смотришь на него, высокого, широкоплечего, с высоко вскинутой головой, трудно поверить в то, что он актер. Гораздо легче представить его стоящим у руля – на барже, идущей по Волге.
Скандинавов в нашей компании четверо: Йохан-нес Майер из театра «Дагмар», молодой Торлайф Райс из Национального театра в Христиании, архитектор Йенс Г. Линд и ваш покорный слуга. Нам было очень интересно работать с русскими эмигрантами. Когда в течение многих месяцев приходится искать духовную пищу в немецком театре, где неестественность и погоня за внешними эффектами (в настоящее время Бассерман в «Кине» развлекает публику тем, что проходит на руках вдоль рампы с одной стороны сцены до другой, – и срывает бурные аплодисменты), ты вдвойне благодарен судьбе за возможность познакомиться с некоторыми из лучших представителей русской актерской школы. И мы заговариваем о том, что большая труппа актеров Московского художественного театра собирается в ноябре приехать в Берлин. Болеславский, один из режиссеров труппы (он среди прочего поставил «Гамлета», и постановка эта вызвала фурор в Праге и Вене), интересуется, нет ли возможности приехать на гастроли в Скандинавию. Мы ничего не можем на это ответить и лишь обещаем передать его вопрос Йоханесу Нильсену или Скорупу.
Долгое время мы сидим молча. В тишине слышно только шипение тлеющих сигарет.
Вскоре хозяйка заведения открывает двери в соседнее помещение, где накрыт стол к ужину. «Gott sei Dank!»[28] – говорит Виктор Богданович и быстро идет к столу. Но мы, скандинавы, с трудом поднимаемся с мест, словно долго путешествовали по странам, доселе нам незнакомым.
1921
Воплощенная мистика
Орлеанская дева и все, что было связано с ней вплоть до самой ее смерти, начало меня интересовать, когда канонизация этой пастушки в 1924 году вновь заставила всю общественность не только во Франции, но и за ее пределами, обратиться к этим событиям и процессу. Наряду с иронической пьесой Бернарда Шоу большой интерес вызвало также и научное исследование Анатоля Франса[29]. Чем больше я знакомился с историческим материалом, тем важнее становилась для меня попытка воссоздать в киноформе самые важные эпизоды из жизни этой девственницы.
Я заранее знал, что проект потребует особого подхода. Если бы тема могла быть решена в традиции костюмных фильмов, это, вероятно, помогло бы воссоздать культурную атмосферу XV века, но и привело бы лишь к тому, что этот век стали бы сравнивать с другими. Моей задачей было погрузить зрителя в прошлое; и новых средств в моем распоряжении было предостаточно.
Требовалось тщательно изучить документы процесса реабилитации; я не занимался костюмами и прочими атрибутами того времени, поскольку мне казалось, что столетие, о котором идет речь, не столь важно само по себе – не столь важна и историческая дистанция, которая отделяет наши дни от этих событий. Я хотел воспеть торжество души над жизнью. И поэтому совершенно не случаен выбор крупных планов, столь завораживающе действующих на зрителя. Все эти кадры показывают не только характер персонажа на экране, но и сам дух времени. Для большего правдоподобия я отказался от «приукрашивающих» средств; своим актерам я запретил пользоваться декоративной косметикой и даже пудрой. Я изменил и порядок строительства декораций: попросил построить все сразу, в самом начале съемок и приготовить все необходимое; от первой и до последней сцены все снималось в хронологическом порядке[30]. Кинооператор Рудольф Мате знал, как нужно снимать сцены психологической драмы, для которой столь важна съемка крупным планом, и он сумел воплотить в жизнь мои желания, мои чувства и мысли – он воплотил мистику.
Сняв Фальконетти в роли Жанны, я нашел то, что, вероятно, смело могу позволить себе назвать «реинкарнацией мученицы».
1929
Человек, который ждет и которого ждем мы
Беседа с Кристианом Умарком
Карл Т. Дрейер, режиссер, снискавший себе всеобщее признание в мире кино, также известен как журналист: он работает постоянным сотрудником нашего издания (под псевдонимом «Томмен»[31]). Сегодня он празднует свое пятидесятилетие.
Манерами, речью Дрейер немного напоминает сдержанного, застегнутого на все пуговицы чиновника. Но стоит в нем пробудиться киношнику, как все его жесты, все реплики выдают опытного режиссера, знающего, как произвести нужный эффект на аудиторию. Чело век, чье имя находится в одном ряду с мировыми знаменитостями, порой прячется за напускной скромностью.
– С чего начался ваш творческий путь?
– Спасибо, что говорите о кино как о творчестве. Двадцать лет назад я снял свой первый фильм, «Председатель суда», по знаменитому роману Карла Эмиля Францоза; однако лучшими своими картинами я считаю «Жанну д’Арк» и «Вампира». В «Жанне д’Арк» мне удалось добиться того, чтобы все актеры играли одними глазами, мимикой лица – при этом без всякого грима (за всю историю мирового кинематографа я сделал это первым). Во время работы над предыдущими фильмами я осознал, что в основе любой кинокартины должен лежать принцип подлинности происходящего. Нынешнее состояние кино представляется мне завершением того цикла, который когда-то начался с новостных репортажей. Сего дня цель драматического фильма должна заключаться в том, чтобы предельно точно очертить реальность – это нужно для того, чтобы зрители поверили, что действие происходит в обычном доме, среди обычных людей. Думаю, если кинематограф и развивается, то именно в этом направлении. У людей, сидящих в зале кинотеатра, должно создаться впечатление, что они стали незримыми свидетелями происходящего на экране. Но для достижения этой цели нужно отказаться от всех тех средств, какие принято использовать в театре: от накладных усов и бород, от театральной манеры речи.
– Что вы называете «театральной манерой речи»?
– В театре особая манера говорить; все дело в размере зрительного зала. Чтобы актера слышал весь зал – от партера до галерки, – ему приходится говорить неестественно громко, хотя зрители приучены воспринимать это как нечто совершенно естественное. На экране актеров показывают крупным планом, как будто они находятся вблизи от зрителей, так что здесь естественная манера говорить не только возможна, но и необходима.
– Как проходит обучение ваших актеров тому, что вы называете «естественной манерой говорить»?
– Когда я работаю с актерами, я с самого начала им внушаю, что не надо кого-то изображать, надевать на себя маску: я учу их открывать в себе самих, в своем характере те свойства, которых требует роль.
– И вам удается?
– Да, удается, даже у нас в Дании. Мне кажется, в фильме «Чти жену свою» Матильда Нильсен, Карин Неллемос и Астрид Хольм сумели избавиться от театральности и перевоплотиться в персонажей, которых они должны были сыграть.
– Почему вы, сняв дома и за рубежом так много фильмов высокого художественного достоинства, больше не работаете в кино?
– Не знаю. Сейчас я собираю материал для будущих фильмов – надеюсь, что когда-нибудь мир еще вспомнит о режиссере, который каждую свою работу делал с любовью, доходящей до безумия. Клянусь, это правда.
– Считаете ли вы, что вас недооценивают?
– Нет, но меня удивляет, что в нашу эпоху, когда все силы должны бы были объединиться ради защиты демократии и борьбы с расовыми предрассудками, никому не нужен человек, чье искусство заключается именно в том, чтобы отстаивать идеи.
– Вам исполняется пятьдесят. Какие у вас планы на будущее?
– Буду ждать, не найдется ли и мне где-нибудь место. За те семь или восемь лет, пока я не снимал кино, у меня было достаточно времени подготовить материал для следующего фильма, хотя я даже не знаю, в какой стране и на каком языке он будет сниматься. Для задач, которые я перед собой ставлю, больше всего подходит Америка: в других странах их будет трудно осуществить.
– А какие задачи вы перед собой ставите?
– Меня совершенно не интересуют развлекательные картины, да и психологические фильмы на отвлеченные темы не очень актуальны сейчас, когда в мире происходит столько важных событий. Лично меня просто завораживают, захватывают глобальные конфликты, которые, подобно землетрясениям, сокрушают целые страны. В моих будущих фильмах действие должно разворачиваться на политическом или социальном фоне.
– Не связан ли ваш интерес к политическим и социальным вопросам с теми ежедневными репортажами из зала суда, которые вы пишете для нашего издания?
– Нет, нет. Он связан с ежедневным чтением прессы. Мое политическое сознание пробудилось в 1933 году. Его пробудили «желтые листки»[32].
– Насколько для вас важна «Судебная хроника», которую вы ведете?
– «Судебная хроника» дает мне возможность ежедневно встречаться с людьми и знакомиться с людскими судьбами. Она нужна мне как средство лучше узнать жизнь, волю рока, участь человека; кино для меня тоже одно из таких средств (хотя его я люблю все-таки больше).
– Вы пишете под псевдонимом «Томмен». Вы взяли его из природной скромности или из самоуничижения?
– Из скромности.
– Может быть, исследуя судьбы других, вы и в себе самом открываете новые черты?
– Это происходит само собой. В других не найти того, чего не было бы в нас самих.
– Золотые слова!
– Простите, но эти слова принадлежат не мне, а Гёте: чем гениальнее человек, тем больше в нем противоречий!
– Хотите что-нибудь рассказать о себе?
– Да, могу охарактеризовать себя одним словом: терпение…
1959
Письмо в редакцию газеты Politiken
Мы получили следующее письмо от режиссера Карла Т. Дрейера, содержащее просьбу его напечатать. Вот оно:
Реплика фру Бетти Нансен о том, что она «обдумывает» возможность привлечь меня в качестве «технического специалиста» для своего нового кинопроекта, заставила меня написать ей это письмо. Я хотел бы сообщить ей, что не стоит обращаться ко мне с та ким предложением. Меня нельзя нанять в качестве «технического специалиста», я могу представить себя только в роли режиссера, который будет полностью отвечать за художественное содержание фильма. В та ком амплуа фру Нансен вряд ли захочет со мной сотрудничать, тем более если она услышит, что я лишь в кошмарном сне могу представить ее в роли Девы Марии[33].
К тому же я рад приглашению студии «Палладиум», где я вскоре надеюсь всерьез приступить к работе над своей новой картиной «День гнева».
Копенгаген, 5 января 1943
Моя единственная великая страсть
Беседа с Карлом Роосом
На английских солдат, присутствующих на суде над Жанной д’Арк, я надел стальные каски, и некоторые критики никак не могли с этим согласиться. Но на самом деле солдаты в XV веке действительно носили стальные шлемы, как две капли воды похожие на каски английских солдат времен Первой мировой войны. Те же самые критики возмущались, что один из монахов в фильме носит очки в роговой оправе, которые тогда, в 1927 году, как раз вошли в моду. Но я мог бы показать им миниатюры, подтверждающие, что в XV веке носили очки в роговой оправе, ничем не отличающиеся от тех, которые были популярны во времена создания фильма. Благодаря этим миниатюрам мы также нашли стиль интерьеров, который лишь указывал на эпоху, не будучи при этом навязчивым. Таким же подходом я руководствовался на съемках «Дня гнева» и собираюсь руководствоваться в фильме о Христе. Поскольку реализм сам по себе нельзя признать искусством и поскольку, с другой стороны, в картине должно быть соответствие между подлинностью чувств и подлинностью предметов, я стараюсь представить реальность в упрощенной и сжатой форме, чтобы тем самым достичь того, что я называю психологическим реализмом.
– Несмотря на «вневременной» характер ваших фильмов, существует ли связь между ними и тем временем, в которое мы живем?
– Про фильмы «Жанна д’Арк» и «День гнева» я могу сказать, что самому человеку очень трудно судить о том, что происходит в его подсознании, однако если говорить о фильме про Христа, то в ваших словах определенно есть доля истины. Впервые я задумался о Евангелиях как о материале для фильма через некоторое время после окончания работы над «Жанной д’Арк». Затем в течение многих лет я пытался найти новый, отличный от традиционного, угол зрения, под которым можно было бы взглянуть на этот материал. Через несколько дней после 9 апреля 1940 года[34] я вдруг понял, что евреи в Палестине должны были чувствовать себя так, как мы сами себя чувствовали в годы оккупации, только на месте римлян теперь оказались немцы, а на месте Пилата – Ренте-Финк. При ближайшем рассмотрении обнаружились и другие параллели, например у евреев тоже было подпольное сопротивление: это были молодые и патриотически настроенные евреи – зелоты, которые нападали на отдаленные римские гарнизоны и поджигали дома и поля евреев-коллаборационистов.
О НЕПРЕДВЗЯТОСТИ В КИНО
– …И в «Жанне д’Арк», и в «Дне гнева» я совершенно сознательно стремился к непредвзятости. Да, священники в обоих фильмах приговаривают и Жанну, и ни в чем не повинную старую колдунью к сожжению на костре, но это происходит вовсе не потому, что эти священники были злыми и жестокими людьми. Они просто не могли освободиться от предрассудков и религиозных представлений своего времени. Мучая своих жертв, чтобы вырвать у них признание, они лишь желали обеспечить им жизнь вечную.
О ЗРИТЕЛЯХ
– Конечно же, я изо всех сил стараюсь подать материал так, чтобы зрителям было легко его воспринять, – однако следует признаться, что за исключением этого я ни минуты не думаю о публике. Сознательно я не предпринимаю ничего, чтобы «угодить» публике. Единственное, о чем я думаю, так это о том, чтобы найти решение, которое удовлетворит мою совесть художника. Можно ли работать как-то иначе? Мне кажется, нельзя. Во всяком случае, мой опыт подсказывает, что в тех отдельных случаях, когда я под чьим-то давлением или по собственному желанию отказывался от своих принципов, это лишь причиняло мне большой вред.
– Чем же вас как режиссера привлекает трагедия?
В трагедии мне проще воплотить мою индивидуальность и мои взгляды на жизнь, легче показать то самое «нечто», что заставляет людей прислушиваться, то «нечто», что выходит за рамки фильма, то «нечто», что – извините за банальность – люди «унесут с собой домой».
– Следующий вопрос – есть ли в фильме об Иисусе некая главная линия?
– Да, в известной степени, ведь я надеюсь, что этот фильм может помочь сгладить противоречия между христианами и евреями. В частности, я планирую, что роль Иисуса сыграет еврей. Множество людей представляют себе Иисуса как белокурого арийца. Мне кажется, это ошибочное представление стоит искоренить.
– Должен ли режиссер сам писать сценарий?
– Несомненно, в идеале режиссер сам должен писать сценарий. Он становится в полном смысле этого слова художником-творцом (в противоположность воспроизводящему художнику), лишь когда берется за сценарий сам. В этом случае он уже не просто иллюстрирует чужие взгляды. Сценарий картины возникает из внутренней потребности создать именно конкретный фильм, а не какой-нибудь или вообще любой. И поскольку такой режиссерский сценарий создает одновременно и содержание, и форму для фильма, этим самым он обеспечивает драматическое и психологическое единство в самой картине.
– Что для вас значит кино?
– Это моя единственная великая страсть.
1951
Экранизация пьесы «Слово»
Беседа с Йоханнесом Алленом
– Когда вам впервые пришла в голову мысль об экранизации «Слова»?
– Однажды вечером, двадцать два года тому назад, когда я оказался на премьере этого спектакля в Театре Бетти Нансен. Меня увлекла пьеса и потрясла та смелость, с которой Кай Мунк ставил одну проблему за другой. Я не мог не восхищаться той удивительной легкостью, с которой автор представлял свои парадоксальные утверждения. Выходя в тот вечер из театра, я уже точно знал, что эта пьеса может стать прекрасным материалом для фильма.
– А когда был написан сценарий?
– Через пару десятков лет. Я увидел идеи Кая Мунка в другом свете. Потому что за это время так много всего произошло. Новая наука, последовавшая за теорией относительности Эйнштейна, привела доказательства того, что кроме трехмерного мира, который мы можем ощущать всеми своими чувствами, имеется еще и четвертое измерение – время, а кроме того, и пятое измерение – пространство психики. Было доказано, что можно пережить события, которые еще не произошли. Открываются новые перспективы, которые заставляют нас признать глубинную связь между точной наукой и верой, которая опирается на интуицию. Приближая нас к более глубокому пониманию божественного, новая наука сможет вскоре дать естественное объяснение сверхъестественным явлениям. Образ Йоханнеса у Кая Мунка следует в наше время рассматривать под новым углом зрения. Кай Мунк уже предчувствовал это в 1925 году, когда в своей пьесе предположил, что безумный Йоханнес может находиться ближе к Богу, чем окружающие его верующие христиане.
– Трудно ли было сделать из пьесы Мунка фильм?
– Оказалось, что это не так-то уж просто. Нужно было одновременно сохранить дух Кая Мунка и в то же время освободиться от него. Следовало постоянно помнить о том, что Кай Мунк хотел сказать своей пьесой, и стараться воплотить это в фильме. Но одновременно нужно было помнить и о том, что Кай Мунк писал для театра и что в театре главенствуют совсем иные законы, нежели в кино. Ситуации и реплики, которые «работают» на сцене, часто оказываются губительными для кино. При экранизации пьесы что-то нужно придумать, а что-то – упростить. Можно говорить о том, что при переносе театральной драмы на экран происходит своего рода очистка, поскольку все, не имеющее отношения к основной идее, должно быть удалено. Текст частично сокращается, а действие становится более сжатым. Диалоги, вошедшие в фильм, составляют не более трети исходных диалогов пьесы. Можете представить себе, сколь осторожным должен быть этот процесс упрощения. Реплика, которая звучит с экрана, но не воспринимается мгновенно в ту же секунду, вредит фильму, потому что затормаживает его действие. Зрителю приходится остановиться, чтобы осмыслить сказанное. Вот почему в фильме не следует использовать труднопроизносимые слова. В качестве примера приведу выражение из пьесы: «Во имя Иисуса Христа, разверзающего могилы». Было бы ошибкой включить в фильм такое выражение, как «разверзающий могилы». В театре всегда есть время подумать, но в кино времени на это нет. Пока зритель фильма успеет понять, что именно Кай Мунк имел в виду, используя выражение «разверзающий могилы», фильм уже дойдет до последней сцены без всякого участия зрителя.
– Во время съемок вы неуклонно придерживаетесь сценария?
– Сценарий фильма – это всего лишь набросок, с которым актеры и режиссер могут продолжать работать на площадке. Процесс сжатия и сокращения продолжается и во время самих съемок. Ты постоянно находишь предложения, которые являются повторением того, что уже было сказано прежде, – что является совершенно обычным явлением для театра, но не годится для кино. И если требуется переложить произведение Кая Мунка для кино, то целью, вероятно, должно стать превращение его в кинематографически целостное произведение. И поэтому отправной точкой для работы со «Словом» Кая Мунка всегда было и остается следующее положение: сначала основательно усвоить Кая Мунка, а потом забыть про него. Следует одновременно сохранить его и освободиться от него. К счастью, я встретил полное понимание со стороны фру Лисе Мунк – ведь для моей работы были совершенно необходимы сокращения. Мы с ней пришли к общему выводу, что сам Кай Мунк, несомненно, предпочел бы законченный фильм по Каю Мунку, а не экранную версию пьесы. Что у меня из этого получилось, покажет время, ведь фильм еще не закончен.
– А актерский состав?
– Это действительно очень важный момент. Если правильно распределить роли, то фильм уже наполовину удался. Важно не только то, чтобы каждый актер подходил для своей роли, нужно еще и чтобы все актеры вместе подходили друг другу. Зрители должны поверить в то, что отец и сын, муж и жена действительно связаны между собой. Вот почему, как мне кажется, не следует преувеличивать значение внешнего сходства между персонажем и актером. Важнее всего внутреннее сходство – а именно сходство в смысле душевного склада, характера и темперамента. Мне кажется, что в этом фильме мне здорово повезло с исполнителями всех ролей. Здесь нет ни одной роли, в которой мне хотелось бы использовать другого актера.
– Расскажите о декорациях в этом фильме.
– Когда мне случилось побывать у Северного моря, я обнаружил, что жители хуторов в прибрежном районе чрезвычайно заинтересовались фильмом и с редкой самоотверженностью взялись помогать. В частности, они разрешили нам воспользоваться той мебелью, которая на этих хуторах служила нескольким поколениям, а кроме того, они предоставили и кар тины, которые так часто встречаются в этих краях. Все эти вещи были использованы в декорациях на киностудии. Позднее часть этих вещей мы убрали, чтобы еще больше упростить изображение, – мы решили оставить лишь те предметы, которые могли дополнительно охарактеризовать людей, о которых рассказывает фильм.
– Ваши фильмы славятся еще и искусной операторской работой.
– Мне всегда везло с талантливыми операторами – они понимали мои замыслы, полностью разделяли их и воплощали в жизнь. Сам я ничего не смыслю в операторской работе. Я ничего не понимаю ни в освещенности, ни в величине диафрагмы, ни в негативах и позитивах. Однако меня очень интересует проблема расстояния от объектива до объекта и композиция кадра, и я думаю, что в принципе для создания хорошего кино необходимо тесное сотрудничество оператора и режиссера. В этом фильме я работаю вместе с молодым и очень талантливым оператором Хеннингом Бенгтсеном. Мы оба пришли к выводу, что нам недостаточно просто хорошей съемки, но мы будем стремиться к тому, чтобы создать нужное настроение. В прежнее время кинооператоры говорили о «постановке света». Сегодня говорят о том, что важна и «постановка света», и «постановка тени». И последнее, в самом деле, столь же важно, как и первое. Лицо, находящееся в тени, может при определенных обстоятельствах произвести большее впечатление и стать более выразительным, чем если бы оно было освещено полностью.
– Стиль операторской работы – это то же самое, что стиль фильма?
– Стиль – это не только операторская работа. Есть много взаимодействующих факторов, которые все вместе складываются в стиль, в том числе очень важны темп и ритм. А общий ритм фильма, в свою очередь, представляет собой слияние многочисленных ритмов – от движения камеры до манеры актерской игры.
– Что касается актерской игры – вы много работаете с актерами?
– В целом не так уж и много. Что касается «Слова», то здесь мне чрезвычайно повезло, что актеры сами находят верный по моему мнению тон и настрой, и, конечно же, так и должно быть. Творческий акт должен происходить в душе самих актеров. Задача же режиссера, как мне кажется, главным образом заключается в том, чтобы выстроить игру актеров, создав композиционную целостность.
– Со времен фильма «День гнева» у вас изменился взгляд на ритм фильма?
– На самом деле нет, хотя я и продолжал двигаться в том направлении, которое я начал, снимая «День гнева». А именно: я снимаю длинные, подробные сцены, в которых всего несколько планов, а не сцены, которые построены на основе множества коротких крупных планов. В период работы над «Днем гнева» я назвал эту съемку с движения «подвижным крупным планом», и я до сих пор высоко ценю этот стиль. Но в целом мне кажется, что не стоит утверждать, что ритмическая форма лучше какой-нибудь другой. Все формы могут найти применение, если их привести в соответствие с характером сцен, в соответствие с собственным ритмом действия и среды и интенсивностью самого драматического напряжения. И вообще, следует с осторожностью говорить о старомодном и современном ритме, потому что старомодное при определенных обстоятельствах может оказаться самым что ни на есть современным.
1954
Встреча с Карлом Т. Дрейером
Беседа с Лотте Г. Айснер
В одном из номеров La revue du cinéma за 1928–1930 годы (в то время журнал редактировал наш дорогой друг, ныне покойный Жан-Жорж Ориоль) появилась замечательная статья, в которой «черной магии» деструктивных немецких фильмов противопоставлялась «белая магия» скандинавских кинокартин. И действительно: есть что-то нереальное, почти мистическое в Копенгагене с его четко прорисованными контурами зданий, где темно-красный кирпич стен мешается со светло-зеленой медью крыш и башен, а прозрачное северное небо только подчеркивает резкость их линий. Но ирреальность соседствует в Копенгагене с буржуазной практичностью, и вот любопытный пример подобного симбиоза: создатель завораживающего и неоднозначного фильма «Ведьмы. История колдовства» Беньямин Кристенсен владеет где-то на окраине датской столицы уютным кинотеатром, и режиссер, снявший столь чарующую и мрачную картину, как «Вампир», – Карл Теодор Дрейер – в то же время служит директором «Дагмар Театрет», одного из самых изысканных кинозалов города. В Дании маститые режиссеры получают от правительства в награду за свои заслуги лицензию на кинотеатры, подобно тому как в патерналистской Франции отставные военные и чиновники (или их вдовы) получают во владение табачные лавки.
И вот я иду в «Дагмар Театрет», где у себя в кабинете, который почти ничем не отличается от любого другого чиновничьего кабинета с дорогой, но строгой обстановкой, меня ждет великий режиссер, столь любимый нами, создатель «Страстей Жанны д’Арк». С 10 января в «Дагмар Театрет» идет новый фильм Дрейера – «Слово»; критики от него в восторге, не иссякает поток зрителей. Только в 1954 году Дрейер поставил фильм, о котором давно мечтал; в отличие от многих других режиссеров, ему не приходится жить на доходы от своих картин, и он снимает лишь тогда, когда подворачивается интересный сюжет. С 1920 года по сей день он снял не больше дюжины фильмов; между его последней заметной картиной «День гнева», вышедшей в 1943 году, и «Словом» пролегает интервал в десять с лишним лет. Сюжет для «Слова» Дрейер позаимствовал из одноименной пьесы Кая Мунка, повторив опыт шведского режиссера Густава Муландера, который уже ставил по ней фильм в 1943 году. Пьеса Мунка, приходского священника из Ютландии и в то же время пылкого поэта и бесстрашного борца с нацистами, убитого ими в 1944 году, получила широкую известность во всех скандинавских странах. В первый раз ее поставили на сцене в 1932-м, и Дрейер рассказывает мне о своем видении этой религиозной драмы. Мунк показал нам немолодого богатого фермера, который всю жизнь хранит приверженность христианской вере, понимаемой им как радость и свет, и противопоставляет свою веру религиозному фанатизму местного портного, собравшего вокруг себя таких же непримиримых фанатиков, как он сам (напомним, что действие происходит в стране, где общение с Богом не является привилегией одного только духовенства). Но хотя небеса благоволят старому фермеру, наградив его плодородной землей, ему, как и библейскому Иову, предстоят суровые испытания. Один из его сыновей, «покинувший Бога», лишается любимой жены, Ингер, которая умирает во время родов; второй, верящий слишком истово, сходит с ума и объявляет себя Иисусом Христом; третий, совсем молодой и легко поддающийся чужим влияниям, влюбляется в дочь фанатика-портного. В этой религиозной драме настоящая, непоколебимая вера побеждает все: безумный Йоханнес[35], обретя рассудок, перед гробом Ингер укоряет скорбящих родственников в маловерии и произносит слово Иисуса: «Воскресни, женщина!» Ингер открывает глаза и восстает из гроба. Дрейер сдержан: поначалу о чуде воскресения мы узнаем лишь по доверчивому лицу маленькой веснушчатой девочки; ее озабоченная, напряженная мордашка медленно расцветает, озаряется, глаза и рот расплываются в счастливой улыбке. Дрейер сдержан: он показывает нам тень сомнения на лице врача, его удивление при виде покойной, черты которой не тронуты тленом. Что это – пробуждение после припадка каталепсии или чудесное воскресение? Дрейер, чья глубокая религиозность не вызывает сомнений, оставляет каждому из зрителей, в зависимости от степени его скептичности, самому ответить на этот вопрос, не давая всей сцене превратиться в лубок или заезженный штамп.
Поговорим об этой ключевой сцене, в которой есть все, за что мы так любим Дрейера. В большом зале зажжены свечи, но их пламя тонет в дымке, почти такой же плотной и таинственной, как в фильме «Вампир»; в этом темном зале с множеством занавешенных окон черные фигуры, сидящие на черных стульях, притягивают к себе свет. Все разнообразие белого, серого и черного, вся цветовая палитра, которую Дрейер столь виртуозно использовал в фильме «День гнева», представлена здесь во всевозможных оттенках и сочетаниях. Долго, очень долго – секунды кажутся вечностью – Дрейер показывает изголовье гроба и лицо покойной, причем в таком ракурсе, что мы видим нижний край подбородка и припухшую шею; вспоминается сцена с Дэвидом Греем в стеклянном гробу, где съемки тоже производились с низкой точки.
Я признаюсь Дрейеру, что в первый раз (если не считать кинотрилогии Ганса «Наполеон», напоминающей мощную органную фугу) почувствовала, насколько необходимы, насколько впечатляющи широкоэкранные фильмы. Ведь «Слово» изначально, из эстетических соображений, задумывалось как широкоэкранная картина; в ней нет ни капли фальши – выразительные композиции, эпический, торжественный ритм повествования, медленное движение камеры, умелое сочетание средних и дальних планов, которое Дрейер любит называть «подвижным крупным планом». Фигурам героев, которые порой застывают, как статуи, наделенные особой пластикой, а порой теряют объем и как будто превращаются в гравюры а-ля Мазерель, требуется простор, широта. До недавнего времени считалось, что широкоэкранный формат предназначен главным образом для натурных съемок; для Дрейера широкий экран необходим даже тогда, когда камера снимает гостиную на ютландской ферме, большую комнату с тяжелой мебелью: он необходим ему, чтобы мы увидели во всех деталях обстановку крестьянского дома, где эпика, героика рождаются из «психологического» конфликта, который медленно разворачивается у нас на глазах, и где напряженные, запутанные отношения, связывающие персонажей, сдержанность душ (а душой здесь, кажется, наделен каждый человек и предмет) нуждаются в широком, почти необозримом, фоне. И когда в одном из таких интерьеров один из героев идет навстречу другому или неторопливо выходит из комнаты, а зрители с замиранием сердца следят за ними, чувствуется такое напряжение, такой саспенс, какие и не снились создателям триллеров.
Стоит ли удивляться, что и натурные съемки (Дрейер объясняет, что они проходили в деревне Ведерсё, приходе Кая Мунка, среди бескрайних дюн, где носится ветер, колыша высокие стебли травы) оставляют у зрителя ощущение безграничного простора. Незабываемая деталь: резко, как выстрел, и в то же время пугающе медленно, занимая весь экран, появляется и исчезает катафалк: он едет меж высоких колосьев, похожих на волнующееся море, под небом, покрытым белыми облаками, – черный, низкий, какой-то удлиненный, с парой лошадей и безликим кучером в темном облачении, согнувшимся в странной позе: он как брат-близнец похож на кучера призрачного экипажа из фильма «Носферату». Наступает решительный момент: от этого образа, показанного во весь экран, у нас перехватывает дух.
Дрейер рассказывает мне о подобных приемах, об умелом соединении разных планов – искусстве, в котором он старался добиться такого совершенства, чтобы его видение мира непосредственно передавалось зрителям. Если «Вампир» снимался в самом обычном доме с самым обычным амбаром – оба в полуразрушенном состоянии, – то на этот раз режиссер решил произвести на настоящей ютландской ферме только натурные съемки.
С той фермы, – говорит он, – я взял только мебель. Потом мы вместе с Эриком Оэсом, художником, с которым я обычно работаю (он сотрудничает также с Кавальканти), стали просматривать старые, тридцатилетней давности, журналы, выходившие в то время, когда разворачивается действие фильма. Я нашел там фотографии тогдашних ютландских домов.
Желание добиться исторической достоверности было у Дрейера столь велико, что он отказался производить съемку в современном интерьере, даже стилизованном под старину. Поэтому он повторил то, что уже делал в «Дне гнева»: поставил каждый из предметов мебели в определенное, только ему отведенное место, проявив безупречное чувство композиции (в хорошем смысле слова: он ничего не стилизовал).
Мне хочется, чтобы в композиции кадра все гармонировало, чтобы все было на своем месте. Я люблю ярко-белый свет, с помощью которого можно подчеркнуть некоторые полутона.
Вот ключ к одному из секретов режиссера. Впрочем, его давно интересуют проблемы цвета.
Вот уже много лет я мечтаю снять фильм про Христа в Палестине. Сначала я хотел сделать его черно-белым, но, конечно, в том смысле, какой я сам вкладываю в это понятие: в нем должны были быть все возможные оттенки серого, и он должен был напоминать гравюру на дереве – большую гравюру, написанную широкими мазками. Сегодня я думаю сделать его цветным.
Дрейер протягивает мне английский перевод его статьи, где он излагает свою теорию.
Не следует использовать цвет в так называемой натуралистической манере. Ведь в природе безграничное количество оттенков цвета, полутонов, которые человек замечает, сам не отдавая себе в этом отчета, а эти фильмы с «натуралистическими» цветами никак их не передают. Кто, кроме японцев, обращал внимание на эмоциональное воздействие цвета, на то, что я назвал бы «созвездиями цветов», «ритмом цвета»? Нужно также понимать, какую роль играет движение: когда используешь подвижные планы, цвета смешиваются. Нужно уметь по-новому применять цвета в фильме – так, чтобы не нарушить их гармонии[36].
Дрейер вновь заставляет говорить о себе как о великом мастере художественных эффектов, каким мы ви де ли его в «Страстях Жанны д’Арк», где крупные планы сочетались с динамизмом, сравнимым по силе только с фильмами Мурнау. В «Слове», как и в «Дне гнева», Дрейер добивается почти статичной, даже в движении, композиции, что делает атмосферу гораздо напряженнее. Я еще вспомню о его врожденном чувстве гармонии через несколько дней, в Эльсиноре, в замке Кронборг, куда никогда не являлась тень отца Гамлета. Здесь, в этих огромных, длинных залах с идеальными пропорциями, где вся красота сосредоточена в гармонической соразмерности вереницы боковых арок с заключенными в них окнами и где ровная белизна стен соответствует идеально ровной линии темных балок – единственного украшения необозримых комнат, которое оттеняет их чистый белый цвет, – здесь я буду размышлять о правилах гармоничного сочетания темного и светлого, сформулированных Дрейером.
Если я буду снимать в Израиле своего «Христа», то думаю ограничиться всего лишь несколькими цветами; никогда нельзя забывать, что в цветном фильме преобладающими должны оставаться черный и белый. В сочетании с другими цветами белый будет казаться еще более белым, черный – еще более черным. И поэтому в моем фильме краски будут сдержанными, как на гравюрах по дереву. Не хочу, чтобы фильм превратился в Öldruckmanier, лубок: опасность такая есть, сюжет к тому располагает.
Я пытаюсь поговорить с Дрейером о композиции его фильма «Вдова пастора» (1920), который, как мне кажется, уже содержит ту совершенную гармонию между персонажами, предметами обстановки и гладкими стенами, когда все находится в полном равновесии, «на своем месте». Дрейер ничего не хочет слышать о своих ранних работах – ни об этом фильме, ни о другом, «Чти жену свою» (1925), также исполненном тонкого юмора: теперь они для него мало что значат. Единственный фильм (из вышедших до «Жанны д’Арк»), который он хотел бы пересмотреть, – это «Микаэль», снятый в 1924 году в Германии по роману Германа Банга, писателя, отмеченного странной меланхолией: мне всегда казалось, что его книги проникнуты такой же печалью, как фильмы Стиллера и Мурнау.
«Микаэль» был настоящим Kammerspielfilm[37]; хотелось бы знать, окончательно ли он потерян?
Дрейер расспрашивает о моих впечатлениях относительно звуковой версии «Страстей Жанны д’Арк».
Я знал, что заданный мною ритм будет нарушен – он не похож на музыкальный ритм произведений Баха или Бетховена[38]. Меня пугает, что текст субтитров, основанный на материалах суда над Жанной, перестал служить «ритмической паузой»: в немом кино титры не просто поясняли происходящее на экране, они были органической частью фильма, колоннами, подпирающими все здание. Мне хочется, чтобы в синематеке сохранился хоть один экземпляр моего фильма в немом варианте – ведь именно та ким он задумывался – хоть одна первоначальная версия.
Но Дрейер не любит стоять на месте.
Мне хочется поэкспериментировать с «Cинемаскопом». Но кто сказал, что этот формат требует цвета? Разве он не подходит и для черно-белых фильмов?
По-видимому, Дрейер говорит о картинах того типа, какие привык снимать сам.
1955
Между небом и землей
Беседа с Мишелем Делаэ
Последний фильм Дрейера «Гертруда» и обстоятельства, сопровождающие его премьеру (холодный прием у критики и постепенное, растущее признание), показали, что беседа с режиссером, потребность в которой ощущалась уже давно, теперь совершенно необходима. Однако Дрейер не просто питает глубокое отвращение к пустословию – он из тех, кто, обладая способностью сказать все самое важное своими работами, мало что может к этому добавить. Но, несмотря ни на что (и, в частности, на необходимость вести беседу на французском, который он, правда, неплохо знает – в этом читатели вскоре смогут убедиться – но на котором ему не часто выпадает случай поговорить), Дрейер крайне любезно согласился на интервью и отвечал на вопросы с такой находчивостью и темпераментностью, каким впору позавидовать многим молодым. Итогом беседы стал своеобразный комментарий Дрейера к своему творчеству: режиссер умеет на примере анекдота показать глубинный смысл того или иного из использованных им приемов и с той же легкостью находит для этого приема строгое определение – в нескольких словах заключена квинтэссенция искусства и жизни, уроков, которые они могут нам преподать. Добавим, что наша беседа проходила в Силькеборге, неподалеку от Орхуса (Ютландия), в санатории, куда Дрейер приехал проводить жену, но где он потом и сам решил остаться на несколько недель – ему нужно время, чтобы оправиться от неудачи, постигшей его в Париже. Мы находимся вблизи Химмельсбьергета, на берегу Гудено, то есть у подножия Небесной горы и на Божьей реке.
– Создается впечатление, что ваши фильмы говорят прежде всего о согласии с жизнью, о пути к радости…
– Просто, может быть, я редко снимаю о людях, которые неинтересны мне самому. Я только с теми могу работать, кто позволяет мне в чем-то достичь гармонии.
Для меня важно – важнее любых технических вопросов – показать в фильме чувства героев. Показать как можно естественнее самые естественные чувства героев.
Мне важно не только воспроизвести слова, которые они произносят, но и уловить мысли, стоящие за словами. В фильмах я пытаюсь достигнуть, добиться проникновения в самые потаенные мысли актеров, показать их разными средствами, порой намеками. Потому что именно они раскрывают характер персонажей, их неосознанные чувства, тайны, скрытые у них в глубинах души. Именно они, а не техника кино, интересуют меня в первую очередь. «Гертруда» – фильм, который я снимал сердцем, а не умом.
О «ВЫЖИМАНИИ» ИЗ АКТЕРА НУЖНОЙ ИНТОНАЦИИ
– Но нет же, я думаю, четких правил, позволяющих добиться того, к чему вы стремитесь…
– Нет. Нужно открывать то, что таится у каждого человека внутри. Поэтому я всегда ищу актеров, которые способны откликнуться на эти поиски, которые могут мне в них помочь, которым они интересны. Нужно, чтобы они были способны дать мне то, что я хочу от них получить, или позволили бы мне это взять. Мне трудно выразить свою мысль яснее. Да и возможна ли тут полная ясность?
– Значит, вы выбираете актеров среди тех, кто умеет давать.
– Я их выбираю среди тех, кто, по моим ожиданиям, будет способным давать. И в целом мой выбор оказывается правильным. Найти на роль нужного человека – вот главная моя задача, главное условие достижения гармонии.
– Но, наверно, бывает, что актеру не удается дать все то, на что он способен?
– Тогда нужно снимать заново! Мы раз за разом переснимаем сцену! Пока не получится. Ведь если он способен что-то дать, в конце концов он обязательно это сделает. Это вопрос времени и терпения.
Когда я работал с Фальконетти, мы часто никак не могли добиться того, чего хотели, даже потратив на съемки целый день. Тогда мы говорили друг другу: ладно, завтра начнем все заново. На следующий день мы просматривали отснятый накануне материал, анализировали его, искали и в конце концов всегда находили среди неудачных отдельные удавшиеся кадры, отдельные сцены, содержавшие именно то выражение и ту тональность, какие были нам нужны.
Так, отбирая лучшее и отбраковывая остальное, мы нащупывали отправную точку для фильма. Отталкиваясь от нее, мы шли дальше… и достигали успеха.
– Как вы обнаружили, что у Фальконетти есть дар, которым она может с вами поделиться?
– Как-то вечером я пришел к ней домой, и мы проговорили час или два. Я видел ее в театре. Небольшом бульварном театре, название которого я уже не помню. Она играла в каком-то водевиле и была там очень элегантна и немного легкомысленна, но очаровательна. Она не сразу меня покорила, и я не сразу стал ей доверять. Я просто попросил разрешения зайти к ней на следующий день. И вот во время этого визита мы поговорили. И тогда я почувствовал: что-то в ней отвечает моим запросам. Она что-то может мне дать; я, соответственно, могу что-то взять.
За ее макияжем, манерностью, за этим блестящим современным фасадом скрывалось что-то глубокое; чтобы добраться до сути, достаточно было убрать фасад. Тогда я сказал ей, что был бы очень рад, если бы она согласилась пройти пробы, которые мы можем начать завтра. «И уберите косметику, – добавил я, – ваше лицо должно быть девственно чистым».
И вот на следующий день она пришла к нам – открытая, восприимчивая. Она сняла с лица косметику, мы сделали пробы, и я нашел в ее лице все, что искал для образа Жанны д’Арк: черты простой, очень искренней женщины, обреченной на страдания. Но подобное открытие все же не стало для меня полным сюрпризом, потому что эта женщина с самого начала была совершенно искренней и совершенно удивительной.
И вот я взял ее в фильм, и мы на протяжении всего процесса съемок прекрасно находили общий язык, прекрасно работали вместе. Кое-кто утверждал, будто я «выжал» из нее все, что мне было нужно.
Но я никогда на нее не давил. Никогда ничего из нее не выжимал. Она охотно отдавала все сама, дарила от всего сердца. Она каждый раз всем сердцем отдавалась роли.
О НЕТЕРПИМОСТИ
– Эта мысль, по-моему, хорошо иллюстрирует то, что постоянно встречается в ваших фильмах: красоту души и красоту тела, раскрывающихся друг через друга. В этом вы, кажется, схожи с Каем Мунком, который, став пастором, в своих проповедях прославлял и душу, и тело женщины, поскольку то и другое – творение Господа.
– Я был рад снимать «Слово» в том числе и потому, что чувствовал, что мне близки идеи Кая Мунка. Он всегда очень хорошо умел сказать о любви. То есть не только о любви в целом, о любви между людьми, но и о любви в браке, об истинном браке. Для Кая Мунка любовь была не столько набором красивых и приятных мыслей, способных соединить мужчину и женщину, сколько прочной связью между ними. И для него не существовало различия между любовью духовной и любовью телесной. Возьмите «Слово». Там отец произносит: «Она мертва… Ее боль ше нет с нами. Она на небесах…», а сын отвечает: «Да, но я так любил ее тело…»
У Кая Мунка особенно ценно понимание того, что Бог не разделил эти две формы любви. Поэтому и он сам их не разделял. Но этой форме христианства противостоит другая – мрачная и фанатичная вера.
– Мне кажется, первая форма восходит к проповедям Грундтвига, вторая – к идеям «Внутренней миссии»[39], родившейся из учения Киркегора. Именно эти две формы определяют – или, во всяком случае, определяли – религию в Дании. Вам приходилось видеть столкновение этих двух форм?
– Вторая форма, отличающаяся суровостью и даже фанатизмом, проводящая разграничение между мыслью и действием, характерна прежде всего для западной Ютландии. А я из Зеландии… Но я помню несколько случаев… Да, особенно ту историю со священником-фанатиком из «Внутренней миссии». В своей церкви он проявил какую-то немыслимую непримиримость и жестокость. Это наделало много шума, вся страна была в ужасе. Весь народ выступил против «черного» христианства. Все противопоставляли ему другое христианство – светлое, радостное, просвещенное… У Мунка богатый фермер и бедный портной олицетворяют эти две формы христианства, разделенные глубоким антагонизмом.
Но Кай Мунк, который явно склонялся к просвещенной форме (представленной в пьесе позицией фермера), не отвергал и другую. Он понимал, что ее приверженцы прямодушны и искренне верят, что своими действиями выполняют миссию Иисуса и что, выполняя ее, не должны никому давать спуска. Та же проблема и со священником, о котором я вам рассказывал: он был большим христианином, чем сам Иисус, горел (или думал, что горит) тем же огнем, что и Он.
– Мне кажется, что эта борьба оказала влияние на многие произведения датской литературы конца XIX – начала XX века.
– Да. В Дании царил раскол. У вас во Франции тоже было нечто похожее в эпоху янсенизма. Лично для меня та эпоха была связана также и с вопросом о терпимости и нетерпимости, который все время вставал передо мной. Эта нетерпимость двух религиозных партий друг к другу никогда мне не нравилась, я считал, что нетерпимость не приемлема никогда, ни при каких обстоятельствах.
В «Дне гнева», например, мы видим нетерпимость, которую христиане проявляют к тем, кто хранит приверженность старым обрядам, суевериям. Даже в «Гертруде» вы можете ощутить присутствие нетерпимости. Там ее проявляет главная героиня, которая принимает только то, что способна почувствовать сама, которая требует, чтобы все так или иначе подчинялись ее воле.
ПРОТОКОЛ
– Как ваш фильм был принят в Дании?
– Критикам «Гертруда» не очень понравилась. Но они и «День гнева» встретили без энтузиазма. Впрочем, по прошествии нескольких лет они его все-таки приняли. Надеюсь, что и с «Гертрудой» все будет так же.
– Какова судьба других ваших фильмов?
– «Слово» приняли хорошо. «Жанну д’Арк» – тоже. Но лично я считаю, что «Слово» – более удачный фильм, чем «Жанна д’Арк», хотя в «Жанне», в самом сердце фильма, заключен больший заряд, который открывает новые возможности для других режиссеров. Может быть, им захочется пойти этой же дорогой, может, им удастся добиться большего в использовании крупных планов и более точной актерской игры.
Если бы мне пришлось снимать этот фильм сегодня, я, вероятно, снял бы его по-другому. Хотя… Нет. В общем-то, я не уверен, что снял бы его по-другому. «Жанна д’Арк» была для меня грандиозным проектом. До того времени мне не приходилось браться за съемки такой масштабной картины. Тем не менее у меня была полная свобода действий, я делал все, что хотел, и остался очень довольным своей работой. Сейчас я отношусь к фильму немного по-другому, но, несмотря ни на что, я бы, пожалуй, сегодня не смог сделать его иначе, чем в свое время сделал.
Ведь мой фильм был основан на протоколах процесса Жанны д’Арк. Ведь для меня важнее всего была «техника» судебного процесса. Он [процесс] стоял для меня на первом месте – со всеми своими особенностями, своей спецификой, и я попытался отобразить эту специфику в фильме: вопросы и ответы – короткие, четкие. Поэтому единственным возможным решением стало применение крупных планов, которые сопровождались репликами. Каждый вопрос, каждый ответ настоятельно требовали крупного плана. Других вариантов не было. Специфика судебного процесса обусловила стиль съемки. Больше того: крупные планы позволяли зрителю испытать ту же боль, какую испытывала Жанна, те же страдания, какие терпела она, отвечая на вопросы. И я намеренно добивался подобного результата.
– У героини фильма «День гнева» и Жанны д’Арк есть общая черта: их обеих обвинили в колдовстве…
– Да. И обе окончили свою жизнь на костре… Только героиня Лизбет Мовин попала туда не так, как Жанна… Впрочем, сначала я хотел завершить фильм по-другому: я придумал довольно удачную концовку. Зритель не должен был видеть, как колдунью ведут на костер. Он просто слышал голос мальчика из хора, поющего «Dies Irae», и понимал, что эта женщина тоже осуждена на сожжение. Но потом мне почему-то показалось нужным изменить конец. Необходимо было наглядно показать последствия этой нетерпимости.
– Тема нетерпимости, которую вы сами отмечаете в своих фильмах, самым очевидным образом присутствует в «Чти жену свою».
– Да. Муж обращается с женой как с рабыней, как с низшим существом; поэтому нужно научить его быть хоть капельку терпимее.
– Но, по-моему, эта нетерпимость не так заметна в Гертруде, которая кажется, правда, более деспотичной, чем мужчины, с которыми она встречается, но вместе с тем более одухотворенной и свободной, чем они.
– Да, и все-таки в ней есть какая-то нетерпимость, скрытая в глубине души. Конечно, в пьесе Яльмара Сёдерберга эта нетерпимость несколько смягчена: Гертруда признает за мужчинами право жить не только ради нее, но и ради того, что им интересно, – ради работы; но она все же ревнует мужчин к работе, не хочет, чтобы работа заняла в их жизни место, которое должно принадлежать ей. Она не хочет быть на вторых ролях. Ей хочется быть примой, занимать главное место в жизни мужчины. Если это условие соблюдено, она не мешает мужчине и дальше заниматься своей работой…
КОГДА ВСЕМУ ПРЕДСТОИТ НАУЧИТЬСЯ
– Поговорим о начале вашей карьеры в кино. Кто из режиссеров на вас повлиял?
– Гриффит. И конечно, Шёстрём.
– Много ли вам довелось посмотреть фильмов, прежде чем вы сами стали снимать кино?
– Нет, не много. Я интересовался в основном шведским кино: Шёстрёмом, Стиллером. Потом я открыл для себя Гриффита. Когда я посмотрел его «Нетерпимость», меня особенно заинтересовал эпизод из современной жизни; впрочем, все его фильмы («Путь на восток» и проч.) находили отклик в моей душе.
– «Нетерпимость» (чье название возвращает нас к главной теме беседы) чем-то похожа на ваш фильм «Страницы из книги Сатаны», не так ли?
– Сценарий к фильму писал не я. Его написал датский драматург Эдгар Хойер, взяв за основу роман Марии Корелли. Готовый сценарий он представил кинокомпании «Нордиск». Потом его передали мне. Я поговорил со сценаристом, и он сказал, что будет только рад видеть меня режиссером фильма.
– Но если вы заинтересовались этим сценарием, значит, он перекликался с какими-то вашими мыслями.
– Идея фильма пришла мне в голову только после того, как я посмотрел «Нетерпимость». Правда, у Гриффита события четырех новелл перемешаны, а у меня это четыре разных истории.
– Но разве вы не внесли свою лепту в написание сценария?
– По мере того как я его читал, у меня появлялись разные идеи, которые я обдумывал и фиксировал на бумаге. Потом я попросил разрешения внести в сценарий кое-какие поправки и это разрешение получил. Особенно много пришлось менять в новелле про современную жизнь, в которой действие происходит в Финляндии во время революции 1918 года: идет война белых с красными, буржуазии с русскими революционерами.
– А новелла про инквизицию как-то связана с «Жанной д’Арк» и «Днем гнева»?
– Наверно; вообще, не забывайте, я тогда был новичком, который еще всему учился, мне приходилось всему учиться. Я был рад снимать этот довольно серьезный фильм, потому что он давал мне возможность приобрести новый опыт.
– Значительную часть ваших работ составляют экранизации. Особенно экранизации пьес.
– Да. Я знаю, что я не великий поэт. Знаю, что я не великий драматург. Поэтому я предпочитаю использовать работы настоящих поэтов и настоящих драматургов. Последним по времени был Сёдерберг, автор пьесы «Гертруда». Сёдерберг – великий писатель, который не был по достоинству оценен при жизни; только сейчас наконец начинают осознавать его истинное значение. Раньше он жил в тени Стриндберга, и хотя их часто ставили в один ряд, Сёдерберг считался писателем гораздо меньшего масштаба.
ОБРАБОТКА ТЕКСТА
– Адаптируя пьесу или роман для кино, вы руководствуетесь какими-нибудь правилами или полагаетесь на интуицию?
– Когда пишешь для театра, можно не спешить. Есть время обдумать слова и чувства героев. У зрителя в театре есть время для того, чтобы все это прочувствовать. В кино все по-другому. Поэтому я всегда прилагал большие усилия к тому, чтобы очистить текст киносценария от лишних деталей, сделать его предельно сжатым. Именно так я и поступил во время работы над фильмом «Чти жену свою», сюжет которого тоже позаимствован из пьесы. Мы сократили и упростили пьесу, убрали из нее все лишнее и в результате получили ясную и простую историю. В тот раз я впервые прибегнул к подобному методу. Впоследствии я применял его и в других фильмах, таких как «День гнева», «Слово», «Гертруда», потому что в основе всех этих картин драматические произведения.
Пьесу «День гнева» я увидел на сцене в 1920 году. Но тогда время для ее экранизации еще не пришло. Поэтому я отказался от этой идеи и вернулся к ней только в 1943–1944 годах, и тут передо мной встал вопрос, как лучше адаптировать пьесу для экрана, чтобы она полностью вписалась в кинематографический формат. Для достижения подобной цели мне нужно было обработать «День гнева» так же, как я обрабатывал другие пьесы, но проявить особую тщательность: требовалось сделать текст настолько безыскусным, насколько это возможно.
Зачем я переписывал пьесы? Мне кажется, что для кино не подходят те средства, какие используются в театре. В театре важную роль играют слова. Слова наполняют пространство, остаются в воздухе. Их можно слушать, чувствовать, ощущать их вес. Но в кино они почти сразу меркнут на фоне действий, которые их заслоняют, и поэтому слова надо оставлять, только если они совершенно необходимы. Здесь следует ограничиться минимумом.
– То, как вы говорите об адаптации пьес для экрана, переходя от одного фильма к другому – от «Чти жену свою» к «Жанне д’Арк», от «Слова» к «Гертруде», – само по себе показательно: вы не только не отделяете духовное от телесного, вы также не проводите границу между разными формами кинематографии. Задачу адаптации пьес для экрана вам пришлось решать сначала в рамках немого, а затем и звукового кино, и вы одинаково успешно с ней справились.
– Независимо от формы я стараюсь придать тому, что делаю, «кинематографический» вид. Для меня «Гертруда» потеряла всякую связь с театром, для меня она стала фильмом. Звуковым фильмом, конечно… То есть фильмом с диалогами, но с минимумом диалогов. В нем должно было остаться только самое необходимое. Самое существенное.
ТРАГЕДИЯ И КИНО
– Как правило, непонимание критиков объясняется тем, что они не способны рассмотреть творчество того или иного автора во всей его цельности. Если говорить о вас, например, они считают, что «Жанна д’Арк» представлена зрительными образами, «Гертруда» – словами, хотя на самом деле…
– Нет, нет!.. «Жанна д’Арк» – это тоже слова. «Жанна» в еще большей степени трагедия, в еще большей степени театральное действо, чем «Гертруда». И потом, есть еще одна вещь, о которой я все время себе напоминаю: не важно, что происходит на экране, главное, чтобы это было интересно. Что там на первом месте – образы или слова, – не имеет большого значения. Кроме того, глупо не признавать важной роли диалогов. У каждого сюжета должен быть свой мотив. Вот на что надо обратить внимание. И надо, по возможности, отображать в своих фильмах как можно больше таких мотивов. Опасно ограничивать себя лишь какой-то определенной формой, определенным стилем.
В свое время один датский критик сказал мне: «Такое впечатление, что ваши фильмы – по крайней мере шесть из них – совершенно не похожи друг на друга по стилю». Его слова взволновали меня, потому что именно это я всегда и пытался делать: найти стиль, который соответствовал бы определенному фильму, определенной среде, определенному действию, определенному персонажу, определенному сюжету.
«Вампир», «Жанна д’Арк», «День гнева» и «Гертруда» ничем друг на друга не похожи, в том смысле, что у каждого из этих фильмов свой стиль. Единственное, что их сближает, это постепенное – от фильма к фильму – приближение к трагедии. Сейчас я это осознал, но поначалу у меня не было никакого плана. Все получалось само собой.
– А сейчас вы, вероятно, хотите приблизиться к трагедии вплотную?
– Да, хотелось бы. И, надеюсь, мне это удастся с выходом фильмов о Христе и о Медее. «Медея» – вполне кинематографичная вещь. Думаю подойти к ней достаточно вольно. Я попросил у г-на Еврипида карт-бланш, и он согласился без всяких проблем. В общем, я попытался сделать из театральной трагедии кинотрагедию. Удалось мне это или нет, будет видно потом.
– На какой стадии находится проект?
– Сценарий в основных чертах готов, но я еще не до конца дописал диалоги. Теперь мне требуется помощник.
– Есть ли у вас другие проекты подобного рода?
– Да. Например, «Свет в августе» Фолкнера. Была также «Орестея», но с ней ничего не вышло; я имел встречу с г-ном Жюлем Дассеном, и г-н Жюль Дассен дал понять, что сам хочет снимать «Орестею». Мы заключили своего рода соглашение о том, что «Орестеей» будет заниматься он, а «Медеей» – я[40]. Впрочем, я столько лет прожил с мыслью о «Медее», что, думаю, фильм должен получиться неплохой.
– А «Свет в августе»?
– Сюжет очень интересный, но крайне сложный. Однако я надеюсь, что сумею с ним справиться, тем более что тут мы снова имеем дело с трагедией. С американской трагедией: поэтому фильм, конечно же, должен сниматься в Америке.
– Есть ли у вас другие американские проекты?
– Мне бы очень хотелось экранизировать что-нибудь из работ О’Нила. Особенно его пьесу «Траур – участь Электры», потому что я считаю ее прекрасным драматическим произведением.
КРУПНЫМ ПЛАНОМ
– В этих проектах вы снова хотите применить метод «очистки» текста…
– Да. Ровно так же, как и раньше. Но теперь я попытаюсь зайти дальше, вникнуть в частности. В любой пьесе масса мелочей, в которых нет особой надобности. Между тем все, что не относится к числу совершенно необходимого, препятствует развитию сюжета. Все, что мешает, нужно убрать. Расчистить путь к цели, которая находится в конце пути. Когда вы берете театральный диалог, в нем всегда присутствует слишком много второстепенных тем. При обработке пьес для кино всегда есть риск упустить слова и целые фразы. Нужно так сокращать текст пьесы, чтобы каждое из оставшихся слов несло в себе определенный смысл. С помощью «очистки» текста я пытаюсь добиться того, чтобы зритель, который будет следить за «картинкой», за словами и за хитросплетениями сюжета, смог добраться до конца пути. Именно для зрителей я, если можно так выразиться, показываю диалоги крупным планом.
– Вы и во время съемки продолжаете заниматься «чисткой»?
– Да, ради достижения цельности. То есть я устраняю все, что может помешать цельности, которой я пытаюсь добиться. Для меня крайне важна цельность кадра, и я люблю, когда актеры много работают над диалогами, уважаю их любовь к репетициям.
Я с уважением отношусь и к их манере работать. Когда какой-нибудь актер говорит мне, что ему трудно произносить ту или иную реплику, мы вместе обсуждаем возникшую ситуацию, и я слегка редактирую сложное место. И если во время работы я замечаю, что у актеров слишком смутное представление об определенной сцене или что им трудно передать определенные жесты, которые они находят слишком трудными, – тогда мы опять-таки всё обсуждаем, и мне часто приходится исправлять текст, то есть я продолжаю его «чистить»… «Чистка» сценария – такая работа, которую нужно выполнять постоянно.
– Вы всегда так работаете с актерами?
– Всегда. Потому что текст произносят именно они, и им нужно почувствовать значение того, что они говорят. Поэтому мы и устраиваем репетиции. Особенно часто мы проговариваем диалоги. И иногда именно во время репетиций мы понимаем, что тот или иной диалог нужно сделать более лаконичным. Иногда актеры договариваются и сами просят меня убрать отдельные слова и фразы.
– Но вы ведь репетируете не только диалоги?
– Нет. Все нужно отрепетировать так, чтобы каждый из зрителей ощутил движение и точно понял, для чего оно служит. Во время работы над «Гертрудой» мы много репетировали. И я остался очень доволен результатом. Тем более что все репетиции производились непосредственно в процессе съемок и не было никаких проблем с монтажом. Мы завершили монтаж за три дня. Полностью. Окончательно. Мне удалось добиться определенного прогресса: в свое время я потратил на монтаж «Слова» пять дней, на «День гнева» – двенадцать. А когда-то мне требовался целый месяц, чтобы смонтировать фильм. Я считаю, что съемки должны быть долгими. От этого все только выигрывают. И работать с актерами становится гораздо интереснее, потому что на съемочной площадке образуется своего рода единство, сплоченность, которые вдохновляют актеров и позволяют им острее и точнее играть каждую сцену.
СМЕРТЬ СЛОВ
– Вы всегда записываете звук прямо во время съемки?
– Не всегда, но как правило. Когда я работал над фильмом «День гнева», многое было записано уже после окончания съемок. В «Слове» я записывал уже меньше, а в «Гертруде» вообще ничего. Кроме музыки, естественно. Также в «Гертруде» мне понравился современный сюжет, и я попытался приблизить эту пьесу к трагедии. Я хотел приблизиться к ней. Не люблю сильных эффектов. Я люблю постепенное вхождение в тему.
– «Гертруда» – пьеса на современную тему, тяготеющая к трагедии, и она же, если посмотреть с другой стороны, свидетельствует о вашем чувстве гармонии…
– Да. Но в этом случае трагедию создает ритм. Что же касается стиля… Все почему-то считают, что мне всегда нужен тот или иной стиль. И начинают везде и всюду его искать. Но всё гораздо проще: «Гертруда» в своей основе – совершенно естественный фильм. Актеры ведут себя самым естественным образом. Они сохраняют тот же естественный ритм, что и в повседневной жизни, они действуют совершенно естественно при любых обстоятельствах. Любопытно, что один журналист из Орхуса, которому очень понравился фильм, написал мне о том, как его восхитила моя мысль нарядить Гертруду в накидку с орнаментом в греческом стиле. Этим знаком, писал мне он, вы намекаете на связь с греческими трагедиями. Мне очень понравилось его замечание, хотя на самом деле этот узор не имел никакого отношения к греческой трагедии: то, что зрители видят именно его, – чистая случайность.
– Может быть, такой выбор свидетельствует о вашей одержимости этой темой…
– Вообще-то узор выбирала художник по костюмам (кстати, это была мать Анны Карина), и я одобрил ее выбор, не придав этому большого значения. Так что это действительно чистая случайность. Но все равно параллели, которые провел тот журналист, показались мне очень интересными…
– Один датчанин в разговоре со мной заметил, что в «Гертруде» фальшивые диалоги: герои будто бы очень манерно произносят слова. Лично я убежден в обратном, но с датчанином в тот раз спора не получилось – он легко поставил меня на место. «Вы же просто не знаете датского…» – заявил он.
– Конечно, диалоги там не искусственные! Просто действие в фильме происходит в другую эпоху (начало века), а герои принадлежат к довольно специфической среде. И разумеется, их речь несет на себе отпечаток той эпохи и той среды, которые придают ей особый колорит. Видимо, именно это сбило с толку вашего собеседника.
– Вы добивались от актеров особой интонации, особого ритма, особой манеры речи?
– Да. Когда имеешь дело с хорошими актерами, этого, как правило, легко достичь – мне всегда удавалось договориться с ними. Хорошие актеры понимают необходимость подобной работы. Они знают, что поэтический язык с его особым ритмом следует передавать иначе, чем обычную повседневную речь. И что разница не только в тоне.
Когда человек сидит в кино, ему важно только то, что происходит на экране; в театре он слышит слова – они разлетаются по всему залу и остаются висеть в воздухе. А в кино слова умирают, едва сойдя с экрана. Поэтому я попытался сделать небольшие паузы между словами, чтобы дать зрителю возможность усвоить услышанное, поразмыслить над ним. Именно это придает диалогу определенный ритм, определенный стиль.
– Наверняка вам хотелось бы поработать с цветом? Планируете ли вы использовать его в ваших будущих фильмах?
– Да. Во всех.
– Какие краски вы использовали бы, например, в «Медее»?
– На этот счет у меня есть пара идей, довольно незамысловатых. Но мне не хотелось бы сейчас говорить об этом. По-моему, пока стоит подождать.
– Были ли среди ваших фильмов такие, которые вы хотели бы снять в цвете?
– Я бы очень хотел снять в цвете «Гертруду». У меня даже был некий образец: работы одного шведского художника, хорошо знающего эпоху, в которую происходит действие фильма, и создавшего немало рисунков и картин с использованием особых, оригинальных красок.
– Чего именно вы хотели бы добиться?
– Ну, это трудно описать. Художник, о котором я вам только что говорил (его фамилия Халльман), специализируется в основном на рисунках для газет. То есть для воскресных изданий – знаете, есть такие газеты большого формата, с цветными страницами. Выглядит очень красиво, хотя он использует всего лишь несколько цветов. Четыре или пять, не больше. В таком духе я хотел бы сделать и «Гертруду». Несколько цветов, которые хорошо сочетались бы друг с другом.
– А «Слово» вы представляли себе в цвете?
– Нет. В тот момент я не задумывался над этим вопросом. О цвете я начал размышлять всерьез только во время работы над «Гертрудой»; и сейчас, разумеется, я размышляю о нем в связи с моими будущими фильмами.
ХОРОШАЯ ШКОЛА
– Вашу «Гертруду» недавно показали по французскому телевидению. А как вы относитесь к телевидению вообще?
– Я не люблю телевидение. Мне нужен большой экран. Мне нужно общее чувство зала. То, что создано потрясать, должно потрясти всех.
– Что вам нравится в современном кино?
– Во-первых, должен вам сказать, что очень редко смотрю новые фильмы. Я боюсь, что они окажут на меня влияние. Впрочем, в последнее время я посмотрел две французские картины – «Хиросима, любовь моя» и «Жюль и Джим». История о Жюле и Джиме мне очень понравилась. «Хиросима» тоже понравилась, особенно вторая половина фильма. В общем, мне нравятся Жан-Люк Годар, Трюффо, Клузо и Шаброль.
– Вы видели фильмы Робера Брессона?
– Нет, я их никогда не видел.
– Как вы относитесь к фильмам Бергмана? Думаю, вы их не любите.
– Нет, нет, вы ошибаетесь. Я смотрел «Молчание», и мне очень понравилось. Этот фильм я считаю настоящей удачей: режиссер не побоялся поднять очень сложную тему, требующую к себе очень деликатного отношения, и сумел воплотить ее на экране. Я смотрел его в большом кинотеатре в Стокгольме, и на протяжении всего сеанса в зале стояла мертвая тишина, молчание, которого никто не нарушил даже после окончания картины, когда публика потянулась к выходу. Впечатляюще. Ясно, что режиссер добился цели, несмотря на сложность темы, что он снял свой фильм именно так, как требовалось. Но я смотрел мало его картин, поскольку начали говорить, что он подражает Дрейеру.
– Вы сами тоже так считаете?
– Нет, я не думаю, что он мне подражал. Бергмана отличает индивидуальный стиль, и он не стал бы размениваться на подражание чужим фильмам. Но, повторяю, я видел слишком мало его работ. Я очень плохо знаю его творчество. Могу сказать только, что «Молчание» – настоящий шедевр.
– Но нельзя отрицать, что многие будущие режиссеры – вне зависимости от того, подражают они вам или нет, – пришли в кино благодаря вашим фильмам, что благодаря вам они полюбили кинематограф.
– Именно поэтому я крайне редко хожу в кино. Не хочу смотреть ни тех фильмов, на создателей которых мог повлиять я (если таковые имеются), ни тех, которые могут повлиять на меня.
– Вернемся к началу. Чем вы занимались до того, как пришли в кино?
– Я работал журналистом. Было время, когда в первой половине дня я занимался журналистикой, а во второй – кинематографом. Я начинал в эпоху немого кино: писал титры для фильмов. В те дни кинокомпания «Нордиск» выпускала около сотни фильмов в год. Режиссеров на студии было всего пять или шесть; работа над фильмами продолжалась четыре месяца, летом, причем сами режиссеры не занимались монтажом. Отсняв материал, они посылали его в лабораторию. В ней я и работал в компании заведующего. Мы вместе делали все необходимое, вставляли интертитры. Эта работа стала для меня хорошей школой. Позднее я занялся сценариями, потом стал экранизировать романы. Но сначала прошел «школу мастерства», в которой проучился пять лет. Сегодня, работая над фильмом, я мысленно произвожу монтаж кадров уже во время съемки. Монтаж стал для меня частью съемок.
– В те дни, когда вы занимались журналистикой и проходили «школу мастерства», вы уже задумывались о том, чтобы самому снимать фильмы?
– Мне не сразу пришла эта мысль. Свой первый фильм я сделал по предложению дирекции студии. Вторым моим фильмом стали «Страницы из книги Сатаны». Тогда же я учился постигать законы кино по фильмам Шёстрёма и Стиллера. Стиллер и особенно Шёстрём изобрели множество «поэтических эффектов». Для того времени это было большим достижением.
– В какой области журналистики вы работали?
– Ну, я писал на разные темы – занимался театральной критикой, но больше – судебной хроникой. Каждый день составлял отчеты о том, что происходит в палате правосудия. Эта работа, помимо прочего, давала мне возможность узнать людей, представителей среднего класса. В качестве театрального критика я посмотрел пьесу, которая позднее легла в основу моего фильма «День гнева». В том же качестве смотрел постановку «Слова», по которому в 1954 году и сам снял фильм. Также я немного поработал кинокритиком.
– «Страницы из книги Сатаны», «Жанна д’Арк», «День гнева»: в своих фильмах вы как будто продолжаете репортажи из зала суда…
– Да, хотя к созданию фильма о Жанне я пришел несколько иным путем. Прибыв во Францию снимать кино для студии «Сосьете женераль де фильм», я предложил им на выбор три сюжета. Один был о Марии-Антуанетте, другой – о Екатерине Медичи, третий – о Жанне д’Арк. Я несколько раз встречался с представителями «Сосьете женераль», но мы так и не решили, на чем остановить свой выбор. Тогда они предложили тянуть жребий. Я согласился. Мы взяли три спички. Я вытянул спичку с отломанной головкой: выбор пал на «Жанну д’Арк».
– «Жанна д’Арк» стала восьмым вашим фильмом. Давайте вернемся к первому. Он назывался «Председатель суда»…
– Для меня этот фильм был чем-то вроде пробы сил, приобретения нового опыта. Меня привлекла возможность использовать флешбэки: для того времени это была новая вещь. И я уже тогда пытался сам придумать декорации для своего фильма, пытался предельно упростить их. Не стилизовать. Именно что предельно упростить. Что касается актеров, то их было тогда очень немного. На студии «Нордиск» два-три актера специализировались на ролях стариков: они их играли во всех выходивших фильмах – если среди действующих лиц были старики, обращались к одному из этих актеров. Я был первым, кто пригласил в фильм настоящих стариков и старух. Сегодня это кажется совершенно естественным, но тогда воспринималось как разрыв с традицией. К тому же на некоторые второстепенные роли вместо профессиональных актеров, которых мне предлагала студия, я взял людей с улицы. Кроме того, две крупные роли я дал актерам второго плана, потому что они играли гораздо лучше, чем знаменитые, но заурядные актеры, предложенные студией. Я сам написал сценарий фильма, но в его основу лег роман австрийского писателя Карла Эмиля Францоза.
СОВСЕМ НЕ ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ
– Можно ли сказать, что уже в этом, самом первом вашем фильме происходит борьба терпимости с нетерпимостью?
– Наверно, это было бы преувеличением. В чем драматизм этого фильма? Главный герой, очень возвышенный и прямодушный человек, внезапно узнает, что девушка, обвиняемая в убийстве своего ребенка, – его родная дочь (раньше он не был с ней знаком). С этого момента у него в душе начинается борьба между отцовскими чувствами и долгом судьи. В конце концов отец похищает дочь из тюрьмы и бежит с ней из города; впоследствии он совершает самоубийство. Впрочем, роман, послуживший основой для моего фильма, был довольно посредственным. С мелодраматическими эффектами. Да и этот мой фильм тоже был еще ученическим.
Потом я снял «Страницы из книги Сатаны», о котором мы с вами уже говорили. Могу добавить только, что я работал над сценарием, но не занимался декорациями, хотя и обсуждал этот вопрос с главой соответствующего департамента на студии «Нордиск», который в то же время работал художником-декоратором в театре.
– Первая новелла фильма посвящена Иисусу… В каком-то смысле вы продолжите ее в вашей будущей картине о жизни Иисуса Христа.
– Но ведь та новелла касалась только отношений Христа с Иудой. Вообще мой новый фильм об Иисусе будет совсем другим, тем более что сейчас я смотрю на вещи не так, как тогда. Ту новеллу о Христе можно сравнить с набором картинок на библейские темы. А про «Жизнь Христа» скажу только, что этот фильм не будет «величайшим шоу мира»[41]. Сесил Демилль умер… Говорю это без всякого пренебрежения к Сесилу Демиллю. Все, что он делал, шло из глубины души. И нужно признать, что если бы он не был искренен, ему не удалось бы добиться такого грандиозного успеха. Вообще до него никто не делал ничего подобного. Сегодня легко его критиковать, но он был в своем роде великим режиссером.
– Вернемся к «Страницам из книги Сатаны». Вторая новелла…
– …была посвящена испанской инквизиции. Третья – Марии-Антуанетте.
– …о которой вы позднее едва не сняли отдельный фильм.
– …а четвертая – революции в Финляндии.
– Отдаете ли вы предпочтение какой-нибудь одной из этих новелл?
– Да, последней. Именно там я в первый раз использовал съемку крупным планом: по моей просьбе актриса, исполнявшая главную роль, изобразила на своем лице целую гамму чувств, которые переживает в фильме ее героиня.
– Главную роль играла Клара Понтоппидан. Она не родственница писателя Понтоппидана?
– Она не была его кровной родственницей, но ее муж, врач, был племянником Генрика Понтоппидана.
– В новелле о Финляндии можно увидеть тот тип молодой женщины, который постоянно встречается в ваших фильмах: кажется, что они находятся в центре всех ваших кинокартин.
– Это получается само собой. Я всегда в первую очередь смотрю на сюжет. В финской новелле сюжет мне очень нравился: это история о женщине, которая жертвует жизнью ради мужа и ради родины. Враги плетут вокруг нее интриги, угрожают убить детей, и в конце концов ей приходится покончить с собой.
– Потом вы сняли «Вдову пастора»?
– Этот фильм я очень люблю. Некоторое время назад в Копенгагене прошел съезд датских студентов. Им должны были показать один из моих фильмов, и я предложил, чтобы показали «Вдову пастора». Они оце нили фильм по достоинству и смеялись в полный голос на протяжении всего показа. Я был очень удивлен.
С ЮМОРОМ О СЕРЬЕЗНОМ
– Как возникла идея этого фильма?
– Я искал историю с незамысловатым сюжетом, по которой можно было бы достаточно быстро сделать фильм. Тогда я и наткнулся на рассказ одного норвежского автора – просто замечательный рассказ – и, почти ничего в нем не меняя, перенес его на экран. Мне предстояло снимать 76-летнюю женщину, которая умерла сразу же после окончания съемок. Она была уже больна, когда мы начали снимать, но она мне сказала: «Не волнуйтесь – я не умру, пока мы не кончим фильм». Я ей поверил. И она сдержала обещание. Да… мне очень понравилась эта история про трех молодых пасторов, одному из которых приходится взять в жены старуху. Это был довольно оригинальный сюжет.
– Веселый и в то же время серьезный.
– Да, фильм с юмором рассказывал о серьезном.
– Следующую кинокартину вы снимали в Германии: она называлась «Die Gezeichneten»[42] (фильм также известен под названием «Возлюби ближнего своего»).
– Около года назад отыскалась сохранившаяся копия этого фильма. Нынешний директор датской кинематеки г-н Иб Монти во время поездки в Россию узнал, что в этой стране недавно была найдена пленка с моим фильмом. Он очень заинтересовался и попросил разрешения ее посмотреть; ему выдали копию, и он привез ее в Копенгаген, где она теперь хранится в Музее кино. Вы могли ее там видеть. В Москве г-ну Монти сказали, что мой фильм, действие которого происходит в России во время революции 1905 года, исключительно точно передает дух эпохи и тогдашнюю обстановку.
– А русские актеры в этом фильме играли?
– Да. Русскими были Болеславский и Гайдаров, исполнившие там главные роли, Полина Пековская – тоже русская. Болеславский пользовался тогда большой известностью. И Дуван-Торцов был очень известен. Он был директором русского кабаре «Синяя птица». В других ролях были заняты, помимо русских, датчане, немцы и норвежцы. Но вообще съемки проводились в Берлине. В основу фильма лег роман «Die Gezeichneten»; это была толстенная книга, которую нам пришлось сильно сокращать. Вероятно, мы совершили ошибку, решив адаптировать под сценарий такой огромный роман. Его постоянно надо было уменьшать и укорачивать… Вот почему экранизировать романы не стоит – это слишком трудно и тяжело. Лично я предпочитаю экранизировать пьесы. Недавно отыскался еще один мой старый фильм, «Микаэль»: его я тоже снимал в Германии, в 1923-м или в 1924-м.
– Давали ли вам свободу действий при работе над этими двумя фильмами? Имели ли они успех?
– Когда я снимал «Die Gezeichneten», у меня была полная свобода действий. Когда ставил «Микаэля», тоже фактически мог делать, что хотел. Что касается их успеха у публики, то «Die Gezeichneten» был принят очень хорошо, но с еще большим воодушевлением немецкая критика встретила «Микаэля». Его называли первым фильмом в стиле Kammerspiel, и мне это очень льстило, поскольку фильм много для меня значил. Сюжет для него я взял у датского писателя Германа Банга. Это история о молодом человеке, который мечется между двумя дорогими ему людьми: «покровителем» и любимой женщиной. «Покровителя» зовут Зорет, он признанный скульптор и художник (немного напоминающий Родена); в свое время он принял молодого человека как родного сына и всегда очень нежно к нему относился. Но юноша бросает его ради встретившейся ему женщины: она светская да ма, княгиня. В конце картины старый мастер умирает в одиночестве. Действие фильма происходит в эпоху, когда в моде были горячность и экзальтация, когда чувства были обострены до предела, в эпоху какой-то вселенской фальши, которая дает о себе знать в тогдашнем стиле украшения домов, в их перегруженности вещами. Автор романа, Герман Банг, жил в ту же эпоху, что и Яльмар Сёдерберг, автор «Гертруды»: говори ли, что Сёдерберг подражает Бангу, но, может быть, наоборот, Банг подражал Сёдербергу…
ДУХ ЭПОХИ
– Вы не думаете, что между двумя этими фильмами – между «Микаэлем» и «Гертрудой» – есть глубокая связь?
– Да. Определенно. Между ними существует явное сходство. Оно проявляется в стиле, игре актеров, в свете… К тому же действие в этих двух фильмах происходит в близкие эпохи: в одном это конец XIX века («Микаэль»), в другом – начало XX («Гертруда»). В обоих фильмах та же сладость и горечь… Я уже говорил Вам, что публика видела схожесть произведений Банга и Сёдерберга. И, между прочим, они были знакомы и даже близко дружили.
Для меня этот фильм до сих пор много значит, хотя сейчас он мне видится в несколько ином свете, чем раньше. Это один из первых моих фильмов, в котором начинает проступать стиль.
– Как бы вы определили этот стиль?
– Его трудно определить… но все, о чем я Вам только что говорил, относится к стилю, является его признаком. У стиля есть и другие признаки: фильм должен отражать дух эпохи. Например, во Франции была эпоха, когда государство национализировало имущество монастырей. На продажу было выставлено бесчисленное множество предметов, конфискованных из церквей и монастырей, и бесчисленное множество людей стали скупать бывшую церковную утварь: стулья, скамейки и тому подобные вещи. Я, например, знал одну датскую актрису, которая была замужем за композитором Берени и какое-то время жила во Франции, а потом, вернувшись в Копенгаген, заставила квартиру предметами церковной мебели, на которых разместила бесчисленное множество подсвечников. И все это запечатлелось в атмосфере фильма, которая отразила дух эпохи, вкус к роскоши… дурной вкус, считавшийся в ту эпоху хорошим. Хотя я и принял участие в подготовке декораций, их непосредственной установкой занимался специалист – совершенно потрясающий человек, точно знающий, что мне нужно. Это был архитектор Хуго Херинг. Ни до, ни после этого случая ему не приходилось работать над декорациями для кино; выполнив мое задание, он вернулся к своему истинному призванию – архитектуре. Для него это стало передышкой в работе (тем более что эпоха не очень благоприятствовала строительству зданий нового типа), развлечением, забавой…
– В титрах к фильму встречается имя Теа фон Харбоу…
– Ах да! Она в то время была протеже Эриха Пом мера… Теа была единственным человеком, пользовавшимся доверием г-на Поммера. Впрочем, я был уполномочен любое вмешательство с ее стороны считать формальностью и не отступать от написанного мною сценария.
– Может быть, вам есть что рассказать об актерах?
– На главную роль старика Зорета я пригласил датского режиссера Беньямина Кристенсена, известного своим фильмом «Ведьмы. История колдовства». Роль Микаэля сыграл молодой актер Вальтер Слезак, которого вы должны знать по американским фильмам. Для него эта картина стала дебютной. Здесь же состоялся дебют оператора Рудольфа Мате: это был наш первый совместный фильм. До него он снимал только короткометражки.
Правда, Мате снимал фильм не один. Официально оператором был Карл Фройнд. Но он отснял фильм не до конца и был вынужден уйти, потому что его перевели на другую работу. Тогда-то студия и предложила мне взять оператором Рудольфа Мате, которому предстояло снимать финальные сцены, проходившие по большей части в павильоне. Я остался очень доволен его работой и пригласил его в мой следующий фильм, которым стала «Жанна д’Арк».
ИДТИ НАУГАД
– В промежутке между «Die Gezeichneten» и «Микаэлем» вы сняли фильм «Однажды»…
– Да, да!.. Но это неудачный фильм. Очень неудачный. Мне не дали того, что обещали. Никто не удосужился решить вопросы, связанные с графиком работы актеров, а также местом и временем проведения съемок. В фильме были задействованы актеры из Королевского театра Копенгагена, свободные от основной работы только один месяц в году. Поэтому все надо было продумать до мельчайших деталей. И вот в последний момент я узнаю, что в нужное время студия будет закрыта. Все пришлось делать в спешке, без всякой поддержки, без всякой организации.
Фильм вышел неудачным. Не все в жизни удается. И иногда даже необходимо, чтобы какое-то дело нам не удавалось. Надо долго идти наугад, сворачивая то вправо, то влево, чтобы однажды выйти на нужную дорогу. И уже эта дорога будет прямой.
– Был ли он таким уж неудачным? Я не совсем с этим согласен; давайте, однако, перейдем к картине «Чти жену свою», о которой вы уже упоминали в связи с вопросом адаптации книг для фильмов. Не могли бы вы теперь немного рассказать нам о ее создании?
– Мы считали необходимым снимать этот фильм в реальной обстановке, в обычной квартире. Нашли квартиру в рабочем квартале, которая полностью отвечала нашим целям. К сожалению, актерам было трудно играть в таких условиях, поэтому на студии изготовили точную копию той квартиры. Это позволило добиться большей достоверности.
После «Чти жену свою» я снял фильм «Невеста из Гломдала», съемки проходили в Швеции. Незамысловатая история с фольклорными мотивами. Ничего особенного о ней сказать не могу. Потом была «Жанна д’Арк», о которой мы с вами уже говорили, потом «Вампир». У «Вампира» оригинальный сюжет, который я и мой друг Кристен Юл создали силой своего воображения из подручного материала[43]. В этом сюжете меня с самого начала притягивал образ, крутившийся в голове: какая-то смесь черного и белого цветов. Но образ еще не создает стиля, и мы вместе с Мате начали его искать.
Обычно стиль вырисовывается через несколько дней съемок. Здесь мы определили его сразу. Мы начали делать фильм и уже на самом раннем этапе, во время просмотра отснятого материала, заметили, что один из кадров получился серым. Понять причину мы не могли, пока не увидели, что виной всему искусственный свет, попавший в объектив.
Этот случай дал мне и оператору фильма Рудольфу Мате пищу для раздумий; мы старались связать его с поисками стиля, которые в тот момент вели. В конце концов нам пришло в голову, что это маленькое происшествие можно использовать в своих целях, нужно только осознанно повторить то, что накануне произошло случайно. С тех пор мы каждый раз перед началом съемки направляли искусственный свет на объектив, поместив перед прожектором покрывало, которое отбрасывало свет на камеру.
Потом надо было придумать концовку для фильма. Сперва мы хотели утопить старого доктора в болоте, которое должно было медленно его засосать. Но от этой идеи пришлось отказаться, потому что ее реализация была сопряжена с большим риском для актера. Значит, надо было искать другое решение. Как-то вечером, возвращаясь в Париж после очередного дня на съемочной площадке и обсуждая по пути возможные варианты концовки, мы набрели на небольшой дом. Нам показалось, что внутри он весь объят белым пламенем. Поскольку мы были свободны, а концовку придумать все равно не могли, то решили заглянуть в дом; оказалось, это мини-завод по переработке гипса. Внутри все было белым: все предметы покрыты белой пылью, рабочие тоже все белые. Все сливалось в единый белый фон, не нарушая общей атмосферы. Мы решили использовать эту атмосферу в нашем фильме, придав ему новую стилевую особенность.
Серые кадры, белый свет – вот что в конечном счете определило тональность фильма. Мы объединили первое со вторым и получили нечто третье: оригинальный стиль, стиль нашего фильма.
– Съемка в подобном стиле требовала от оператора большого мастерства. Сотрудничаете ли вы с вашими операторами?
– К счастью, мне всегда встречались люди, любящие и умеющие работать и не отказывающиеся искать – в одиночку или вместе со мной. И думаю, со мной легко сработаться. Если умеешь работать.
НУЖНАЯ ДОРОГА
– Поговорим о ваших документальных лентах.
– Ну, это безделицы…
– Когда вы называете эти фильмы «безделицами», мне, их не смотревшему, нечего вам возразить, хотя, наверно, следовало бы… Давайте тогда перейдем к другому фильму, который называется «Двое» («Tva manniskor»).
– Такого фильма не существует.
– Но как же «не существует»? Я его смотрел и имею о нем собственное суждение. Он существует.
– Вы знаете, когда я снимал этот фильм, мое положение было очень шатким. Съемки проходили в 1944 году. Незадолго до этого я узнал, что мне может угрожать опасность со стороны немцев. Поэтому я уехал в Стокгольм под предлогом продажи в Швеции моей картины «День гнева». Потом я остался в Стокгольме и решил снимать там фильм, о котором мы говорим. К несчастью, продюсер решил сам набирать актеров. Он жаждал шумного успеха. Так что набранные им актеры являли полную противоположность тому, что было нужно мне. А для меня выбор актеров крайне важен. Например, героиню я хотел сделать склонной к мелодраматизму и истерике, тогда как ученый представлялся мне голубоглазым, наивным и кристально честным человеком, не интересующимся ничем, кроме своей работы. И вот на женскую роль мне дали актрису, которая была настоящим воплощением мещанства, а вместо голубоглазого идеалиста я получил интригана с демонической внешностью и карими глазами…
– Вам не кажется, что этот фильм тоже чем-то похож на «Гертруду»?
– Нет, нет! Ничего общего, абсолютно. К тому же это очень неудачный фильм.
– Вот список ваших короткометражных лент: «Старик», «Шекспир и Кронборг», «Они успели на паром», «Мост Сторстрём», «Реконструкция Рённе и Нексе», «Торвальдсен», «Сельские церкви»… Вам есть что рассказать о них?
– «Старик» посвящен датским социальным программам, направленным на поддержку старости. «Они успели на паром» – короткий художественный фильм, призванный показать, как опасно нарушение правил на дорогах. Это одна из лучших моих короткометражек. Еще мне очень дорог фильм «Шекспир и Крон-борг», документальная лента о замке, где происходит действие «Гамлета». Потом я снял о нем еще один документальный фильм[44], сделав больший акцент на историческом и археологическом аспектах: там говорилось и о старом замке Кроген, от которого сохранились одни развалины.
«Мост Сторстрём» – документальная картина о мосте длиной в три километра, соединяющем два датских острова. «Торвальдсен» – фильм о творчестве известного датского скульптора, современника Кановы. Ну, а «Реконструкция Рённе и Нексе» представляет собой документальную ленту о восстановлении двух городов на острове Борнхольм, разрушенных в ходе налетов русской авиации.
– Если вспомнить, что, кроме отстройки разрушенных городов, вы снимали фильмы о сельских церквях и замке Кронборг, можно констатировать ваше увлечение старой и современной архитектурой…
– Ну, это все мелочи.
– Среди фильмов, где вы, еще не став режиссером, принимали участие в качестве сценариста и монтажера, наверняка должны быть такие, в которые вы вложили немало сил, которые вы считаете своими.
– Я для многих фильмов написал сценарий (один или в соавторстве), для многих придумал сюжет, но я все-таки не считаю эти фильмы своими. Для меня все это, включая даже сценарий к фильму «Деньги» по роману Золя, было просто пробой сил[45]. Более существенным было мое участие в «Отеле Парадиз»[46] (1917, позднее тот же фильм выходил в новой версии). Это единственный случай, когда хочется признать фильм хоть отчасти своим. Понимаете, все это было попыткой найти себя, первой пробой сил. Всему надо учиться, и эта учеба порой занимает много времени. Нужно учиться, иногда нужно совершать ошибки. Как я уже говорил, надо долго идти наугад, чтобы однажды выйти на нужную дорогу.
1965
3
Настоящее звуковое кино
Впервые посмотрев звуковой фильм в 1928 году, я пришел в полный восторг. В фильме был показан Клемансо в своем саду, в ермолке и с тростью в руках: позднее, выполняя его последнюю волю, эту трость положили вместе с ним в гроб. По всей видимости, Клемансо не заметил микрофона; придя в бешенство от наводящих вопросов оператора, которые должны были заставить его сказать «хоть что-то», он очень сердился и долго ворчал. Эффект был потрясающий. Меня как будто осенило, и я ясно осознал, каким должно быть настоящее звуковое кино, и до сих пор придерживаюсь этого мнения.
Сначала кино снимали на улицах и площадях, и оно напоминало новостной репортаж. Затем, к сожалению, кино оказалось во власти театральных деятелей, от которой серьезное кино, впрочем, уже почти освободилось, поскольку для того, чтобы стать самостоятельным искусством, кинематографу необходимо было снова возвратиться на улицы и площади, вернуться к репортажной манере.
Настоящий звуковой фильм должен создавать впечатление, будто кинооператор с камерой и микрофоном в руках незаметно прокрался в один из городских домов, именно тогда, когда в кругу семьи происходит какая-нибудь драма. Спрятавшись под плащом-невидимкой, он снимает самые важные сцены этой драмы, а затем исчезает – так же бесшумно, как появился. В этом и заключается истинное преимущество кинематографа в сравнении с театром. Театральное представление – это картина, на которую смотрят с некоторого расстояния. Для того чтобы действие в целом стало живым, нужно писать толстой кистью и наносить краску широкими мазками. Все детали можно утрировать и преувеличивать. В театре все ненастоящее, и все дело в том, чтобы соотнести ненастоящие детали друг с другом, чтобы они вместе создали цветную иллюзию действительности, тогда как кино представляет саму действительность в строгой черно-белой стилизации[47].
Расстояние между театром и кинематографом точно такое же, как расстояние между представлением и подлинным бытием.
Сценарий имеет ключевое значение для фильма. Очевидно, что кинематограф, чтобы выйти на новый уровень, должен обратиться к писателям, но совершенно очевидно и то, что произведение, написанное сразу для фильма – менее ценно, чем роман или пьеса, где материал сильнее проработан, а мысли оформлены до конца. Если я характеризую настоящий звуковой фильм как картину, которая может увлечь только своим психологическим содержанием, действием и репликами без помощи гротескного звучания, музыкального сопровождения и музыкальных вставок, то психологические театральные пьесы можно совершенно точно рассматривать как самый подходящий материал, при условии что суть драмы, ее сырье, освободится от формы пьесы и преобразуется в фильм. То есть необходимо, учитывая намерения писателя, отойти от всех традиционных сценических предрассудков, нужно перейти от театра к жизни!
Для любого хорошего фильма характерно своего рода фоновое ритмичное волнение, которое отчасти создается движением персонажей в кадре, а отчасти связано с более быстрой или более медленной сменой планов. Живая, подвижная камера, которая даже на короткой дистанции ловко следует за персонажами, фон за которыми без конца сдвигается (точно такой же эффект возникает, когда мы следим за кем-нибудь взглядом), – это один из способов создать волнение, о котором мы говорим. Что касается смены планов, то в каждом акте театральной пьесы происходит так же много «за» сценой, как и «на» сцене, и при написании сценария по пьесе мог бы появиться материал для дополнительных, ритмообразующих элементов. Приведем пример: в третьем акте «Слова» Кая Мунка действие происходит в гостиной дома семейства Борген. Из диалогов мы понимаем, что молодая жена, которая должна вскоре родить, внезапно заболевает и лежит в постели и что врач, в спешке прибывший сюда, обеспокоен здоровьем ее и ребенка. Затем мы переживаем сначала смерть ребенка, а затем и смерть самой роженицы. Если бы по пьесе «Слово» снимали фильм, все эти сцены в комнате больной, о которых зрители театра узнают только из разговоров, стали бы частью картины. Постоянное движение актеров вокруг постели больной способствовало бы созданию волнения двух видов, которые главным образом и определяют ритм фильма.
Добавление большого количества новых сцен требует очень сильного сокращения диалогов, но удивительно то, что можно продолжать освобождать диалог от целых реплик, предложений, слов, а мысли писателя становятся в итоге лишь еще яснее. Звуковой фильм становится, таким образом, театральной пьесой в концентрированной форме. По этой причине важно, чтобы идея писателя была предельно ясно выражена на экране, даже если это и происходит в ущерб тому или иному нюансу, поскольку у театрального зрите ля всегда есть время и никто ему не мешает «подумать задним числом», то есть сопоставить представленные в данный момент реплики с ранее произнесенными, а кинокартина мелькает на экране так быстро, что зритель не успевает осознать ничего не значащие в данный момент слова, то есть зритель всецело связан с ситуацией, представляемой здесь и сейчас. Впрочем, сила кино заключается в наглядном представлении участников диалога, и здесь, к счастью, на помощь приходит крупный план, который позволяет показать малейшие перемены внутреннего состояния героя.
При написании сценария следует обязательно стремиться к единству времени и места с целью сконцентрировать необходимое напряжение сюжета вокруг главной идеи.
Настоящий звуковой фильм не должен копировать театр.
Одна из дурных привычек, которую актеры принесли из театра в киностудию, – привычка гримироваться. Не так давно актеры кино все еще носили парики и усы, но постепенно стали отказываться от этого. Грим становится почти незаметным, и случается даже, что в кино можно увидеть и вовсе не загримированные лица, которые очень оживляют картину, но еще лучше будет тогда, когда начнут показывать все лица такими, каковы они в жизни. Новые возможности, в частности развитие портретной съемки за последние пять лет, заставили ценить естественную красоту лица без грима. Уже сейчас невозможно представить, чтобы в кино молодому актеру позволили играть пожилого человека, и, если бы мне нужно было снять фильм по пьесе Генри Натансена «В четырех стенах», я настоял бы на том, чтобы роли всех членов семьи Левинов исполняли евреи – не важно, актеры или не актеры – поскольку в кино нельзя играть еврея, им надо быть.
Что касается декораций, то и здесь кино тоже должно когда-нибудь полностью отделиться от театра. До сих пор для обычного современного фильма в киностудии создают уличные кварталы, фасады домов и загородные сады, хотя в городе и без того предостаточно улиц, домов и садов, – об этом факте странно даже думать и не совсем хочется тратить время на возмущение им. Кинематографу необходимо снова возвратиться на улицу, и более того – нужно зайти в дома, в семьи.
Когда немое кино отходило в прошлое, техника освещения и оптическая техника стали настолько совершенными, что кинематограф сумел сделать огромный шаг вперед. Однако затем появились звуковые системы и вернули кино обратно в киностудии, за звукопоглощающие стены из целотекса, – и наверняка пройдет немало времени, прежде чем кинематограф снова вырвется оттуда[48]. Вместо того чтобы снимать фильм в построенных декорациях в какой-нибудь киностудии, его можно снимать в естественных интерьерах. Против этого станут возражать звукорежиссеры, утверждая, что это будет невозможно из-за посторонних звуков, но если стараться воспроизвести истинную атмосферу, необходимо сделать то же самое и со звуком. Пока я пишу эти строки, я слышу, как в церкви звонят колокола, затем до меня доносится шум лифта, очень далекий звонок трамвая, на ратуше бьют часы, где-то хлопает дверь. Все эти звуки тоже должны были бы существовать, если бы в этих стенах не просто сидел человек за рабочим столом, а разыгрывались бы бурные драматические события, в связи с которыми все эти звуки могли бы приобрести символическое значение, – так неужели правильно отказываться от них? Мне кажется, что нет, но я повременю со своим окончательным вердиктом, пока не сниму в своей киностудии стопроцентный звуковой фильм.
Для кино нужно пересмотреть театральные традиции и еще в одном очень важном измерении – а именно в вопросах дикции и манеры игры. Актер театра, произнося свои реплики, должен учитывать, что его слова должны пролететь через рампу и оркестровую яму и донестись до самых задних рядов балкона и галерки. Для этого требуются особая дикция и постановка голоса. В кинотеатре же у зрителя, напротив, возникает ощущение, что он находится лицом к лицу с актерами. В настоящем звуковом кино настоящая дикция, соответствующая незагримированному лицу в реальной комнате, станет обычной повседневной речью, такой, какую используют люди в жизни. Звуковой фильм, снятый с непрофессиональными актерами, без сомнения, стал бы большим шагом в деле изучения речи в кино.
1923
Кино и критика
I ПО СЛУЧАЮ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОФЕССОРА ФРЕДЕРИКА ШИБЕРГА В СТУДЕНЧЕСКОМ СОЮЗЕ
К сожалению, я не смог присутствовать в Студенческом союзе на киновечере, в рамках которого профессор Фредерик Шиберг представил публике свои размышления о кино и критике[49], но я готов оспорить некоторые из его высказываний.
Начну с того, что проф. Шиберг считает основной целью всей критики побуждение зрителя к самостоятельному анализу, при этом задачу самих критиков он видит в том, чтобы зритель мог руководствоваться их личными суждениями, чтобы определиться. Звучит уже странновато.
Но меня охватило еще большее беспокойство, когда я поближе познакомился с «личными суждениями» проф. Шиберга, который высказывает следующие замечания о Рене Клере:
В своем восхитительном фильме «Свободу нам!» Рене Клер экспериментирует и тем достигает высокого искусства, но при этом сам режиссер отдаляется от зрителя. Смелый эксперимент с более поздним фильмом, который так и не был показан в Дании, чуть было не вынес его за пределы киноиндустрии, прямо в сети безработицы. Ликование, с которым встречали его последнюю работу «Призрак едет на Запад», можно назвать радостью за «новообретенного режиссера». Индустрия массового кино снова получила своего творца.
Если бы проф. Шиберг был продюсером, я бы еще мог понять его радость, но почему он проявляет такие чувства, будучи критиком, для меня остается загадкой. Господин Шиберг радуется тому, что Рене Клер растратил свой творческий потенциал, что на самом деле является очень печальным фактом. Куда же пропал режиссер, создавший «Миллион»? Конечно, прекрасно осознавать, что Рене Клеру удалось избежать безработицы[50]. Но кинематограф в целом приобрел бы намного больше, если бы Рене Клер оставался верен своему пути в искусстве. В отличие от проф. Шиберга, я не вижу ничего возмутительного в том, чтобы наблюдать, как большие таланты кинематографа совершают прорывы, которые впоследствии послужат и менее одаренным режиссерам. Поймите, мне кажется, это просто замечательно, что существуют первооткрыватели, и я полагаю, что именно критики должны поощрять их, чтобы они оставались верны своим идеалам и продолжали развиваться. И в то же время задача критиков – подстегнуть продюсеров, чтобы они жертвовали частью прибыли от развлекательного сектора на экспериментальное художественное кино. Болезнь кинематографа в том, что в нем практически не осталось режиссеров-индивидуалистов, очень мало цельных личностей.
Проф. Шиберг очень обеспокоен тем, что Чарли Чаплин и Рене Клер (каким он когда-то был) представляют собой «искусство в себе… уникальное по своей сути». Назвать их кино «искусством в себе» – это в принципе то же, что и назвать их индивидуалистами. Но разве не благо, что эти фигуры «уникальны» или что они не стали навязывать другим свои «догматы» и «правила»? Вот если бы в индустрии кино было гораздо больше таких «уникальных» личностей! Я нахожусь в некоторой растерянности и теряю ход мыслей проф. Шиберга, так как, например, в другом месте он говорит: «Фильм – не единое целое, он состоит из множества элементов». В этом я с ним согласен. По меньшей мере, так и должно быть, но, по правде говоря, создается впечатление, что преобладающее количество фильмов вышло с одного конвейера. В них отсутствует отпечаток индивидуальности, они все страдают какой-то странной замысловатостью и неясностью, которые вытекают из того, что их создателем является не отдельная сильная личность, а анонимная «организация», своего рода «молотилка» для получения того, что проф. Шиберг называет массовым кино.
В связи с этим «преображением» Рене Клера проф. Шиберг подчеркивает, что нельзя всерьез требовать зрительского отклика по отношению к произведению искусства, однако это требование становится неизбежным, когда речь идет о кино. Но каков должен быть фильм, чтобы у него был этот самый «зрительский отклик»? Может ли проф. Шиберг дать ответ на этот вопрос? Думаю, что нет. Ну и ладно. Ведь иногда случается, к счастью, что фильм, в который «никто не верит», с успехом завоевывает зрителей и собирает полные кинозалы (таковы, например, «Нанук с севера» и «Девушки в униформе»). А это в очередной раз заставляет творчески настроенного продюсера браться за новые подобные проекты. И немое кино когда-то тоже развивалось именно так.
Если звуковой кинематограф хочет избежать стагнации, он должен предоставить новаторам ту же свободу действий, которая существовала во времена немого кино. Но, к сожалению, тенденция такова, что вместо личностей теперь предпочитают посредственных режиссеров.
Подводя итог, я хочу заявить, что критика обязана давать оценку фильмам только на основании их художественности. При этом не следует рассуждать о кассовых сборах или о частной жизни режиссера. Критику должно волновать лишь одно – фильм как произведение искусства.
И в заключение: проф. Шиберг оказал мне очень большую честь, найдя время высказаться в мой адрес. Он сожалеет, что мне так и не удалось самому добиться и художественности фильма, и отдачи от зрителей. Я могу его утешить, что не печалюсь по этому поводу. Я предпочел бы остаться одним из первооткрывателей, нежели принадлежать к числу покоренных, которые, как и Рене Клер, заплатили за это высокую цену.
II ОТВЕТ ПРОФ. ФРЕДЕРИКА ШИБЕРГА НА ЗАМЕЧАНИЯ КИНОРЕЖИССЕРА КАРЛА ТЕОДОРА ДРЕЙЕРА ПО ПОВОДУ ЕГО ДОКЛАДА В СТУДЕНЧЕСКОМ СОЮЗЕ
Из «дискуссии» часто не выходит ничего кроме скандалов. Если люди с практическим знанием дела начинают о чем-то спорить, то, как правило, одна сторона пытается приписать своему оппоненту те высказывания, которые ему не принадлежат, а потом использовать их для нападок. И все-таки мы не хотели превращать киновечер в Студенческом союзе в дискуссионный клуб. Целью этой встречи было на примере трех разных докладов показать, какова на данный момент ситуация в сфере кинематографа. Во время развернувшейся дискуссии после выступления докладчиков все желающие могли задать вопросы, привести контраргументы и высказать свое мнение, ведь нам было важно со всех сторон обсудить такую актуальную и серьезную тему.
Я посвятил свой доклад «критике», поэтому материалом, с которым мне пришлось работать, были не факты, а суждения – точнее, суждения, на которые обычно опираются критики и которые, в частности, печатаются в прессе. Исходя из этих суждений, Карл Теодор Дрейер уяснил для себя, что я склоняюсь на сторону продюсеров и спонсоров, а также являюсь противником индивидуалистов, в том числе Чаплина и Рене Клера. Едва ли можно было сильнее исказить мои высказывания. В докладе я горячо защищал Чаплина, поскольку я показал последствия того, что происходит, если ты завышаешь планку своего отношения к произведению искусства. Сегодня Чаплин расплачивается за то, что когда-то его вознесли до вершин «великого и единственного артиста кино», в то время как его работа в действительности представляет собой отдельный вид искусства, который зиждется на уникальности его дара. Нечто подобное я сказал и о Рене Клере. Только не то, что ему нет равных, а то, что не следует пытаться ему подражать. Кому, как не мне, восхищаться великими неповторимыми деятелями искусства, и именно по этой причине мне как критику хочется, чтобы эти деятели искусства сохраняли себя для киноиндустрии, а не терялись после создания ценного художественного эксперимента, не перекладывали свои начинания (и результаты технического и художественного совершенствования) на плечи непрофессионалов.
Разумеется, эксперименты в кино, направленные на его совершенствование, должны во что бы то ни стало поддерживаться критикой. Глупо не соглашаться с этим, а уж если вы по роду деятельности критик, то это должно стать вашим золотым правилом. В свое время я предупреждал о том, что молодые интеллектуалы склонны считать любой эксперимент в кино знаком принадлежности картины к эшелону киноискусства! Такой эксперимент еще не означает практический успех, однако в сознании молодых интеллектуалов еще не доказанная теория занимает место практики. Критика, обращающаяся к массовому зрителю, не должна это слишком осуждать. Творческому эксперименту стоит добиваться успеха не с помощью «поддержки» критики, а благодаря своей жизнеспособности, своему внутреннему дару создавать традицию. Режиссер, покидающий в свои лучшие годы киноиндустрию, даже с багажом прекрасных заслуженных работ, но не достигший определенного результата – например, не найдя своей аудитории или, в конце концов, не получив критики в свой адрес, не может остаться удовлетворенным.
Замечания о «высокой цене, которую заплатил Рене Клер» за свою сегодняшнюю деятельность, а именно то, что он «растратил свой творческий потенциал», я с удовольствием оставляю Карлу Теодору Дрейеру. Я знаком с этой точкой зрения, для меня она звучит крайне бессмысленно. Рене Клер – самостоятельный художник, и будучи таковым, остается экспериментатором. Но в основе его славы лежит способность заставить зрителя говорить с его произведениями («Под крышами Парижа» и «14 июля»). Благодаря своим поздним экспериментам он преобразился сам, и фильмы его изменились. Но он не потерял себя в экспериментах и не изменил своему делу. Доказательство этому – фильм «Призрак едет на Запад». Именно художник, а через его мировоззрение уже и зритель должны извлекать пользу из развития искусства. Все остальное экспериментирование происходит в студии и касается только узкого круга специалистов – до зрителей доходит только результат. Это точка зрения не из сферы научной кинокритики, это мнение общественной и журнальной критики.
Я сожалею, что Карл Теодор Дрейер, чьи постановки я вспоминаю с восхищением, обиделся на меня за мои высказывания по поводу успеха у зрителей. Он «утешает» себя тем, что не опечален своей судьбой. Жаль, что мне снова придется огорчить его, проявив свою скептическую симпатию. С точки зрения искусства все равно, «опечален» он своей судьбой или нет. Но как для критики, так и для искусства важно, чтобы талант вознаграждался по заслугам.
III ОТВЕТ ДРЕЙЕРА
К вчерашним возражениям проф. Шиберга я хотел бы добавить лишь несколько слов.
Я говорю лишь о том, что написано черным по белому – проф. Шиберг в своем докладе отчасти упрекает Рене Клера в том, что тот слишком творчески подошел к процессу создания одного из своих недавних фильмов и, таким образом, отдалился от зрителя. С другой стороны, далее проф. Шиберг высказывает свое ликование по поводу того, что Рене Клер опять вернулся в массовое кино.
Именно это утверждение заставило меня высказаться, и я бы хотел, чтобы проф. Шиберг придерживался его, ибо в данном случае именно оно является для меня отправной точкой в нашем споре.
Если у журнальной критики в принципе есть какая-то миссия, то мне представляется, что критика должна играть роль бдительной совести искусства. А тот критик, который не просто спокойно относится, но и одобряет то, что режиссер из-за жажды славы идет на сделку со своей индивидуальностью, совершает двойное предательство. В данном случае – по отношению к фильму как произведению искусства и по отношению к критике как профессии. В этом со мной будут согласны любой критик и любой режиссер.
1936
Несколько слов о стиле в кино
У произведения искусства и у человека есть нечто общее. Подобно человеку, у которого есть душа, любое творение художника обладает своим духом, своей индивидуальностью.
Душа произведения проявляется в том стиле, который художник выбрал для выражения своего восприятия темы. Стиль необходим для того, чтобы уложить вдохновение в рамки искусства. При помощи стиля художник создает из деталей целое, заставляет нас по-особенному воспринимать избранный им материал.
Нельзя оценивать готовое произведение, не принимая во внимание его стилистическую составляющую. Любая работа наполнена элементами стиля, который тайно пронизывает всю ткань произведения.
Всякое художественное произведение является результатом работы отдельного человека. Фильм же создается совместными усилиями многих людей, но при этом ни один творческий коллектив не способен снять достойную киноленту, если за штурвалом этого корабля не будет стоять творческая личность.
Первый импульс к созданию фильма дает писатель, на произведении которого основан сюжет. Но с того самого момента, когда миссия автора в закладке фундамента фильма исчерпана, в свои законные права вступает режиссер, диктующий стиль картины. Теперь все художественные элементы – всецело в его распоряжении. Именно его чувства и настроения – это те краски, которые станут палитрой для будущего кино и пробудят нужные эмоции в душе зрителя. Работая над стилем, режиссер помогает фильму обрести и ду шу, без которой кино не имеет художественной ценности. Важнейшей задачей режиссера становится также и создание уникального, своеобразного облика картины.
Вот почему мы, режиссеры, несем очень большую ответственность. В наших силах превратить фильм из простого заводского товара в произведение искусства. Но для этого мы должны серьезно подходить к нашей работе, мы должны иметь определенные амбиции, мы не должны бояться рисковать и не должны искать простых путей. Если мы хотим, чтобы кино как искусство развивалось, то нашей задачей должно стать создание авторского кино, которое будет прививать зрителю хороший вкус. Только такие фильмы способны совершить революцию в кинематографе.
Ниже я хотел бы описать несколько факторов, которые стали решающими для меня при выборе стилистики фильма «День гнева». Я начну с разговора об изображениях и ритме.
У звукового кино есть склонность к тому, чтобы отдавать приоритет живой речи, а не изображению. Многие современные фильмы перенасыщены разговорами, я бы даже сказал – болтовней, которая очень рассеивает внимание зрителя, не позволяя ему насладиться красотой изображения. Такое впечатление, что создатели кино забывают о том, что оно в первую очередь является визуальным искусством. Главный адресат фильма – это глаза человека, а изображение отпечатывается в сознании намного быстрее, чем речь. В «Дне гнева» я попытался восстановить изображение в его правах, но я старался и не перегнуть палку в этом отношении. Я не показываю что-либо лишь потому, что это красиво. Если изображение не подводит зрителя к сути действия, то такая ситуация будет только во вред фильму.
Характер изображения очень сильно влияет на настроение зрителей. Если тон картинки светлый, то на душе человека сразу становится спокойно и светло. Если же, наоборот, в кадре преобладают темные тона, то в душу сразу же закрадывается беспокойство. В угоду исторической справедливости и сюжетной линии для «Дня гнева» мы с оператором решили использовать слегка затуманенные образы и мягкие серо-черные тона.
Взгляд человека ценит порядок во всем, поэтому очень важно, чтобы впечатление от увиденного изображения было гармоничным. То же самое касается и картины в движении. Зритель непременно заметит изъяны в качестве снимка.
Взгляд быстро и хорошо воспринимает горизонтальные линии, но противится вертикальным. Мы непроизвольно задерживаем взгляд на движущихся пред метах, а статичные элементы остаются без нашего внимания. Этим объясняется то, что мы с удовольствием наблюдаем за тревеллингами, особенно когда они сделаны быстро и плавно. Я бы сказал, что основная задача – выдержать съемку в рамках постоянно скользящего по горизонтали движения. Если вдруг вы начинаете использовать при панорамировании вертикальные линии, то впечатление сразу становится драматическим – представьте себе изображение вертикальной лестницы, которая в следующем кадре опрокидывается в костер[51].
Теперь давайте перейдем к ритму.
В последние годы звуковое кино целенаправленно шло к разработке нового для себя ритма. В первую очередь мне приходит на ум ряд полнометражных американских и французских фильмов, снятых в особой психологической стилистике. Эти картины отличает спокойный темп, что позволяет зрителю сосредоточиться скорее на диалогах героев, нежели изображениях. Хотя можно, не покривив душой, сказать, что и визуальная сторона этих фильмов, и их звуковое сопровождение заслуживают внимания зрителя.
Я попытался в своем фильме продолжить эту традицию. В нескольких игровых сценах (в том числе в сцене, где Анна и Мартин разговаривают у гроба Аб-салона) вместо коротких, моментально сменяющих друг друга кадров я использовал, если можно так выразиться, более продолжительные и плавно перетекающие друг в друга планы, причем лица разговаривающих даны крупным планом. С точки зрения ритма эти планы логически ложатся на игру актеров – как только акцент в кадре переносится с одного героя на другого, камера следует за этим акцентом и делает плавный переход. Быть может, и вопреки, но скорее благодаря тому, что ритм сцены у гроба имеет волновой характер, этот эпизод производит сильное впечатление на зрителя.
Меня упрекают в том, что темп «Дня гнева» слишком медленный и поэтому фильм трудно воспринимать.
Мне приходилось часто сталкиваться с примерами того, как быстрый ритм фильма шел ему на пользу и вызывал хороший отклик у зрителей. Но я также видел картины, в которых плавный ритм был создан искусственно и совершенно не подходил к сюжетной линии. Там ритм существовал ради самого ритма. На самом деле, это все наследие немого кино, от которого мы до сих пор не можем уйти в звуковых картинах. В то время реплики писались на интертитрах. Между интертитрами образовывалась пустота, да и сами реплики на интертитрах были пустыми, и чтобы заполнить эту пустоту, персонажи стремительно мчались через кадр, а кадры летели вскачь на экране. Этот темп насыщал фильм. Вот такой ритм был у немого кино.
Когда двадцать пять лет назад датский немой кинематограф переживал свои лучшие времена, стали вдруг выходить в прокат очень необычные фильмы из Швеции, в том числе по мотивам произведений Сельмы Лагерлёф. Я прекрасно помню день, когда в Копенгагене впервые был показан фильм Виктора Шёстрёма «Сыновья Ингмара». Работники кинематографии у нас в Дании недоуменно качали головой, увидев, насколько тяжело и медленно передвигаются в фильме крестьяне, но, ей богу, они делали это ровно так же, как в реальной жизни. Дерзкий Шёстрём заставил их целую вечность плестись из одного конца комнаты в другой. Датские киношники, как я уже сказал, недоумевали: у этих фильмов нет будущего, публика их не примет. Сейчас мы все прекрасно знаем, как сложилась их судьба. Именно шведское кино со своим природным, живым ритмом имело грандиозный успех не только в Швеции и Дании, но и в остальных странах Европы. Европейский кинематограф брал уроки у шведского и научился у него в том числе и тому, что ритм картины рождается из действия и внутренней атмосферы. Здесь появляется очень важная взаимосвязь драматургии и ритма – ритм работает на определенный тип драмы и одновременно влияет на настроение зрителя, так что ему становится легче воспринимать драму.
Именно действие и атмосфера в «Дне гнева» определили спокойный, равномерный ритм картины. Но при помощи такого ритма здесь достигаются еще две важных цели: во-первых, я изображал неторопливую эпоху начала XVII века; во-вторых, я хотел подчеркнуть и укрепить монументальность, к которой так стремился в своей пьесе поэт. В свою очередь, я постарался воплотить его стремления в кинокартине.
Теперь два слова о драме.
Любое искусство строится вокруг человека. В художественном фильме зритель хочет видеть людей и переживать за них. Мы желаем влезть в шкуру актеров, которые запечатлены на пленке. Мы хотим, чтобы фильм приоткрыл для нас дверь в мир необъяснимого, чтобы мы оказались в эпицентре напряженности, которую создает не столько сюжетная оболочка, но развивающийся душевный конфликт. В «Дне гнева» нет недостатка в психологических конфликтах. С другой стороны, в этой картине вы вряд ли отыщете моменты, в которых я предпочел показную драму. Осмелюсь сказать, что и я, и мои актеры решили не поддаваться этому соблазну. Мы вместе ревностно пытались бороться с фальшивым приукрашиванием и избитыми драматическими клише. Мы стали блюстителями правды.
Разве я солгу, сказав, что великие трагедии разыгрываются в тишине? Люди скрывают свои чувства и пытаются не показывать на лице ту бурю эмоций, которая захватила их душу. Напряжение словно бы скрыто и выплескивается лишь в тот момент, когда случается катастрофа. Мне было важно показать именно это дремлющее напряжение, эту тлеющую неприязнь, которая кроется в пасторском доме.
Наверняка среди зрителей найдутся и те, для кого действие в фильме развивалось недостаточно бурно. Но стоит вам оглядеться вокруг и посмотреть на своих близких, как вы обратите внимание, насколько буднично и недраматично проходят у людей трагедии всей их жизни. Возможно, это и есть самое печальное в трагедии.
Конечно, есть и такие зрители, которым не хватило реалистичности некоторых сцен. Но реализм сам по себе не является искусством, в отличие от психологического реализма. Ценность имеет лишь художественная правда, то есть правда, выхваченная из реальной жизни, но свободная ото всех ненужных мелочей, правда, пропущенная через душевный фильтр художника. Ведь то, что мы видим на экране, не является действительностью, да и не должно ей быть – в противном случае кинематограф не был бы искусством.
Мы вместе с моей труппой целенаправленно уменьшали театральность некоторых чрезвычайно напряженных сцен фильма. Перед тем, как продолжить свой анализ, я бы хотел остановиться на разнице между понятиями «театральный» и «кинематографический». Я подчеркиваю, что для меня эпитет «театральный» не является уничижительным. Хочу только заметить, что актеры, на мой взгляд, должны по-разному играть на театральной сцене и в киностудии.
В театре актер понимает, что его реплики должны перелететь и рампу, и оркестровую яму – ведь их должны расслышать даже и те, кто сидит на галерке. Для достижения этой задачи требуется не просто особая дикция и громкий голос, но и более утрированная мимика. Для кино же больше подходит обычная речь и совершенно естественная мимика. Любой из моих актеров скажет, что он не старался как-то приукрасить или, наоборот, ограничить себя в своей роли. Наоборот, каждый пытался сыграть правдиво, чтобы создать образ обычного, настоящего человека. Они все пытались найти и искоренить друг у друга фальшивость и поверхностность.
Мимика и речь являются основными рабочими инструментами киноактера.
Звуковое кино в свое время заставило уйти мимику на второй план. Вдруг у нас появилась возможность слышать речь актеров. Но произносить ее они стали с совершенно пустыми, ничего не выражающими лицами. Во французском и американском психологическом кино последних лет мимика вновь заняла почетное и важное место. Мимика является очень важным атрибутом звукового кинематографа. Она напрямую влияет на чувства зрителя, который не задействует при этом мыслительный процесс. Именно мимика показывает лицо вашей души. Мимика – это важное дополнение к произнесенным словам. Нередко мы можем разгадать характер человека по тому, как ведет себя его лицо: сморщивает ли он лоб или моргает. Мимика – это элементарное средство выражения душевных переживаний, которое появилось намного раньше слова. Использование мимики не является прерогативой человека. Если у вас есть собака, вы прекрасно знаете, как много может выразить ее морда.
Прежде чем я перейду к другой теме, я хотел бы высказать несколько замечаний по поводу грима. Как раз, чтобы не пропустить малейшего нюанса в выражении лица героев, я отказался использовать грим в картине «День гнева». Обычно дело обстоит так: актеры накладывают тонны краски по просьбе оператора, который в дальнейшем специально высветляет их кожу, чтобы зритель не заметил макияжа. Однако современный человек научился ценить естественную красоту лица со всеми его неровностями и морщинами. Если засыпать лицо пудрой, то оно потеряет часть своей индивидуальности. Морщины, как глубокие, так и мелкие, могут многое рассказать о характере их обладателя. У благородного, доброго, всегда улыбающегося человека с течением времени образуется много маленьких, тонких морщинок у глаз и рядом с губами. Такие морщинки как бы улыбаются вам, даже если вы смотрите на этого человека издалека. Если, напротив, человек сердитый, злой и ворчливый, то и весь лоб у него будет изрезан глубокими морщинами, в том числе и вертикальными. В обоих случаях морщины могут дать нам понять, что за человек перед нами. Гримируя морщины, мы лишаем лицо характера, и, я думаю, не стоит углубляться в вопрос значимости черт лица, когда мы говорим о съемке крупным планом.
Я посчитал неестественным и абсолютно неправильным гримировать актеров для такого фильма, как «День гнева». Идея любого фильма – в том, чтобы правдиво показать человека. Достигнуть этого можно только, не применяя грим и заставив актеров выражать свои мысли так, как они делают это в обычной жизни.
И грим, и декламация принадлежат к области театра.
Актера Карла Альструпа однажды спросили, не желает ли он оказаться на подмостках Королевского театра Дании. «Ни в коем случае», – сказал он, добавив, что «невозможно орать что-то со сцены, сохраняя в душе человечность». Альструп в одно мгновение охватывает те трудности, с которыми приходится сталкиваться театральному актеру, при этом его фраза удивительно ясно описывает то, что лежит в основе понятия «кинематографический». У кино есть огромное преимущество перед театром – здесь актер может говорить спокойно, расслабленно и в рамках своего естественного диапазона. Здесь можно даже шептать, если того требует роль. Микрофон поможет уловить даже еле слышные звуки. Как сами слова, так и все речевые паузы теперь будут записаны на пленку. Именно поэтому важно использовать как можно меньше лишних слов. Речь не должна играть самостоятельную роль, ведь по существу она является лишь неотъемлемой частью изображения. Главное, что следует сделать, – избавить героев от лишних реплик. Диалоги должны быть, по возможности, краткими и лаконичными.
Режиссер звукового кино должен уделить особое внимание голосам актеров на просмотре. Важно, чтобы голоса находились в равновесии, чтобы они гармонировали друг с другом. В связи с этим я хотел бы сказать одну вещь, о которой режиссерам также не стоит забывать, но вы, возможно, узнаете об этом впервые. Дело в том, что существует определенная связь между речью человека и тем, как он движется. Понаблюдайте за Лизбет Мовин. Вы увидите, что темп ее речи и ритм ее движений явным образом согласованы.
Но это было небольшое отступление, а сейчас я подхожу к тому, что считаю главной задачей режиссера, – я говорю о его совместной работе с актерами.
Если наглядно описывать то, чем занимается режиссер, то можно сравнить его с повитухой. Это именно тот образ, который использует Станиславский в своей книге об актерах[52]. Лучшего определения мне еще не доводилось слышать. Такое чувство, что актер должен вот-вот родить, а режиссер хлопочет вокруг него, успокаивает его и делает все для того, чтобы роды прошли удачно. Если задуматься, то в каком-то смысле мы и говорим здесь о роли, как о ребенке, который вобрал в себя чувства артиста и его отношение к прочитанному сценарию. Любая роль пронизана личными переживаниями актера.
Режиссер никогда не должен навязывать свое восприятие текста, так как ни один актер не сможет по заказу изобразить подлинные эмоции. Нельзя выжимать из человека то, что он не чувствует. Эмоции должны возникать естественным образом, и в этом направлении должна идти совместная работа режиссера и актера. Если эти двое сработаются, то нужные чувства родятся сами собой.
Обычно, если актер амбициозен, то ему дают такой важный совет: нужно начинать работу не с выражения своих эмоций, а с их осознания. Но именно потому что чувства и их выражение неразделимо связаны, потому что они образуют единое целое, можно с легкостью пойти в обратном направлении, то есть начать показывать свои эмоции и таким образом пробудить их в своей душе. Вам будет легче понять эту мысль, если я приведу конкретный пример. Представьте себе маленького мальчика, который сердится на свою мать. А она в ответ кротко просит: «Ну пожалуйста, улыбнись». Сперва он улыбается нескладно и натужно, но вскоре у него уже улыбка до ушей. Спустя некоторое время мальчишка с хохотом носится вокруг матери. Его злость куда-то улетучилась. Мы видим, что, улыбнувшись в первый раз, мальчик задал траекторию своим чувствам, а затем все пошло по инерции. Происходит своего рода цепная реакция, опираясь на которую, можно построить свою работу. Допустим, у одного актера без труда получается расплакаться – бывает, что человек плачет чаще других – в этом случае можно позволить слезам выступить у него на глазах, не требуя, чтобы он в это же время выразил и верное для сцены чувство. Ибо физическое раскрепощение, которое актер испытает, заплакав, поможет ему в поиске необходимых эмоций, что в свою очередь приведет к правильному их выражению. И это выражение будет единственно верным, так как каждую отдельную ситуацию можно выразить эмоционально только одним верным способом. Если это удается, то не может быть лучшей награды для режиссера и актера.
Говоря о кинематографе, не могу не затронуть тему музыкального сопровождения. Генрих Гейне как-то сказал, что там, где кончаются слова, начинается музыка. Именно так я и воспринимаю роль музыкальных композиций в кино. Удачно подобранная музыка способна поддержать психологический настрой фильма, а также усилить эффект, который уже задан визуальной и речевой составляющей. Музыка действительно пойдет во благо кинофильму, если у нее есть содержание и художественная цель. Однако я смею надеяться, что в будущем будет появляться все больше звуковых фильмов, которым не будет требоваться музыкальный аккомпанемент, в которых не будут кончаться слова. Я сам постараюсь способствовать этому.
Я попытался, насколько это возможно, полно рассказать об основных технических и психологических аспектах, которые являются основополагающими для стилистики фильма на примере моей картины «День гнева». Должен признать, что уделил слишком большое внимание технической стороне вопроса. Но я не стыжусь того, что стараюсь понять все тонкости своего ремесла. Любой маляр знает, что ему не стать настоящим художником без умения рисовать. Но все, кому довелось видеть мой фильм, могут не сомневаться, что техника была для меня средством, а не целью. Моей задачей было духовно обогатить зрителя.
1943
Цветное и цветовое кино
В этом году исполняется двадцать лет со дня выхода первого цветного художественного фильма. За ним последовали сотни цветных фильмов, но если перечислить их, то многие ли из них доставили нам эстетическое удовольствие и запомнились? Два, три, четыре, пять? Возможно, пять, но, кажется, не больше. В эту пятерку входит и фильм «Ромео и Джульетта» – наряду с «Генрихом V» Лоуренса Оливье и ка р тиной «Врата ада» японского режиссера Тэйноскэ Кинугасы. Оливье черпал вдохновение для своего фильма в миниатюрах из средневековых рукописей, в то время как японец обращался к классическим японским гравюрам на дереве. Все остальное – лишь «робкие попытки», наиболее удачную из которых представляет собой фильм «Мулен Руж»[53]. В самом начале этого фильма есть сцена, которой невозможно не восхищаться, – в ней по залу кабаре плывут облака табачного дыма, однако в следующих сценах работа с цветом уже довольно посредственная. Почему эти сцены не получились? Потому что режиссер в прочих эпизодах не мог опереться на работу Тулуз-Лотрека. Поставивший этот фильм Джон Хьюстон – без сомнения, великий режиссер, но как художник Тулуз-Лотрек был еще значительней. Итак, мы имеем четыре или пять фильмов в цвете за двадцать лет, которые могут удовлетворить высоким эстетическим требованиям, – и это урожай весьма скромный.
Если не считать приятных и неожиданных красок в мюзиклах, в большинстве игровых фильмов преобладает достаточно дурной вкус, что, очевидно, объясняется страхом авторов отказаться от надежного фундамента натурализма – конечно, он надежен, но и весьма скучен. Я не сомневаюсь в том, что поэзию можно отыскать и в будничных цветах, но фильм в цвете не становится искусством от скрупулезного повтора существующих в природе цветов. Для развития игрового фильма в цвете натуралистический подход, безусловно, стал серьезным препятствием. Зритель тщательно следил за тем, чтобы цвета совпадали с цветами в окружающем мире. Мы так часто видели зеленую траву и голубое небо, что иногда нам хотелось хотя бы раз увидеть зеленое небо и голубую траву – а вдруг художник хотел этим что-то сказать?
Между прочим, краски в кино никогда не могут полностью совпадать с красками в природе. Объясняется это очень просто. В природе существует бесконечное количество оттенков цветов. Даже человеческий глаз не всегда способен различить их. Доказано, что человеческий глаз может различить самое большее 14 420 оттенков. Само собой разумеется, даже самая чувствительная цветная пленка может передать лишь малую часть этих 14 420 оттенков. То есть цветному фильму не хватает небольших цветовых нюансов, полутонов, всего того, что глаз ощущает в природе, не фиксируя при этом. Это значит, что ни при каких условиях от цветного фильма нельзя требовать естественных красок. Но почему бы не создать фильм, в котором краски будут сильно отличаться от красок природы и тем не менее – или, возможно, именно потому – смогут обеспечить зрителю богатое художественное впечатление?
Цвета могут оказать режиссеру неоценимую помощь. Если цвета тщательно выбраны для фильма с учетом их эмоционального воздействия, а также с учетом сочетания цветов между собой, они могут сообщить фильму дополнительные художественные достоинства, которыми не может обладать черно-белое кино. В черно-белом фильме важна композиция кадра, в цветной кинокартине к этому добавляется еще и цветовая композиция. В черно-белом кино его создатели работают с соотношением света с тенью, линии с линией, в цветном фильме – с соотношением плоскости с плоскостью, формы с формой и цвета с цветом. То, что в черно-белом кадре выражается сменой света и тени и преломлением линий, в цветном кино должно выражаться палитрой цветов. В цветном кино появляется и новое измерение ритма. В дополнение к многочисленным ритмам фильма в цветной кинокартине должен возникнуть еще и цветовой ритм. В цветном фильме следует особенно внимательно относиться к монтажу. Любое неверное решение может спутать баланс цветов и разрушить гармонию. Люди и предметы в кино постоянно находятся в движении, цвет в цветном кино постоянно перемещается с места на место с переменным ритмом, и когда цвета сталкиваются или сливаются, могут получиться очень неожиданные результаты. А вообще-то есть универсальное правило: следует использовать как можно меньше цветов и использовать их в сочетании с черным и белым. Черный и белый используются в цветном кино слишком редко – их словно бы позабыли, потому что всех охватил детский восторг от созерцания множества ярких цветов в коробке с красками.
Все вышеизложенное усложняет работу режиссера, но делает ее при этом и более увлекательной. Даже в черно-белом кино приходится бороться за каждую сцену – это знает всякий основательный режиссер. Появление цвета в кино не облегчает борьбы, но цвет делает художественную победу более убедительной – конечно, при том условии, что она все-таки одержана. И еще более значительной становится эта победа, если режиссеру удается разорвать порочный круг, в который цветное кино заключают, как и прежде, требования натурализма. Большим художественным достижением – в плане работы с цветом – фильм может стать лишь в том случае, если ему удастся полностью освободиться от предписаний натурализма. Лишь тогда цвета смогут передать непередаваемое, то, что невозможно объяснить, а можно лишь почувствовать. Лишь тогда цвета могут сообщить что-то об абстрактном мире, который до сих пор был закрыт для кино.
Режиссер не должен создавать в своем воображении черно-белый фильм и лишь потом накладывать на такое изображение цвета. Изображение в цвете должно непосредственно возникать перед его внутренним взором. Он обязан творить в цвете. Однако чувству цвета нельзя научиться. Цвет – это оптическое переживание, так что способность видеть, думать и чувствовать в цветах, вероятно, является врожденной. Мы можем предположить, что этот дар есть у большинства художников. Чтобы в будущем не было стыдно за цветной фильм и чтобы в ближайшие десятилетия мы не ограничились лишь четырьмя-пятью фильмами, где есть выдающаяся работа с цветом, киноиндустрия должна обратиться за помощью к тем, кто в состоянии ей помочь, а именно к художникам. Ведь и раньше она должна была опираться на мастерство писателей, композиторов и хореографов. Режиссер цветного фильма должен к своему уже и так многочисленному штабу сотрудников добавить художника, который, осознавая свою ответственность, совместно с режиссером создаст цветовую палитру фильма. Художник должен браться за работу как можно раньше, чтобы сцены фильма сразу зарождались в цветах и были частью сценария. Этот «сценарий цветов» должен создаваться одновременно с настоящим сценарием, и эти наброски должны детально разрабатываться на протяжении всей работы – до тех пор пока они не превратятся в большие, цветные полотна на экране.
Можно спросить – зачем режиссеру художник, когда у него есть консультанты по цвету? Нет сомнения в том, что эти консультанты оказывают и будут оказывать режиссеру неоценимую помощь. Благодаря своему опыту и знанию колористики они могут помочь режиссеру избежать многих ошибок. Но при всем уважении к их способностям и добросовестному отношению к делу, у хорошего художника есть перед ними одно ценное преимущество, ради которого его и следует привлечь к созданию фильма, – ведь он сам является творцом, и творческие порывы исходят из самой глубины души художника. А консультантам по цвету будет полезно поработать со специалистом, и к тому же они станут необходимым промежуточным звеном между художником и режиссером – и одновременно своего рода творческой лабораторией.
Чтобы пояснить высказанную выше мысль, давайте представим себе, что Тулуз-Лотрек жив и что он принимает участие в создании фильма «Мулен Руж» вплоть до самого окончания съемок – то есть его влияние сказывается не только в первых кадрах, но и при создании других сцен. Возможно, в этом случае эти сцены поднялись бы на такой же высокий уровень, как и первая сцена, в которой был использован один из его эскизов. И вот тогда «Мулен Руж» был бы уже не просто многообещающей попыткой, а стал бы поистине великим цветным фильмом и примером для подражания в наше время, когда наблюдается явная тенденция: фильмов снимается меньше, но сами картины становятся все лучше и лучше. И режиссеру не следует волноваться, что он не справится с этой сложной задачей, ведь он вовсе не обязан все делать сам – он просто должен контролировать весь процесс, создавая композиционное единство из множества деталей.
Пишу я это в надежде на то, что цветное кино выйдет из того тупика, в котором оно оказалось, – быть может, уже в недалеком будущем оно твердо встанет на ноги. В настоящее время оно дрейфует без определенной цели, и лучшие его образцы оживают за счет заимствований. Как правило, цветное кино не ставит перед собой более высоких задач, чем просто стараться быть похожим на что-то. «Генрих V» должен был напомнить нам о средневековой рукописи, а картина «Врата ада» сделана в манере старинной японской ксилографии. Было бы гораздо лучше, если бы у нас появился цветной фильм, с которым от начала до конца поработал художник, живущий в наши дни. Тогда цветное кино станет настоящим искусством, а не просто набором цветных картинок.
1955
Воображение и цвет
Никто не будет спорить с тем, что кино – в нынешнем его состоянии – не совершенно. Однако нам следует лишь радоваться по этому поводу, поскольку несовершенное постоянно развивается. Несовершенное живет. Совершенное мертво, о нем быстро забывают, и оно пропадает из виду. Но в несовершенстве таятся тысячи возможностей.
Кино как искусство сегодня находится в состоянии кризиса, и потому мы всматриваемся в пространство, чтобы понять, откуда придут новые импульсы.
Вы, очевидно, ожидаете длинного глубокомысленного доклада, содержащего научный анализ или нечто подобное, но я буду вынужден вас разочаровать. Я не теоретик кино – для научного доклада у меня нет должных способностей. Я всего лишь режиссер, который гордится своим ремеслом. Но и ремесленник во время работы задумывается о процессе, и именно в эти незамысловатые размышления мне и хотелось бы вас посвятить.
Я не собираюсь сообщать вам никаких революционных мыслей. Я не верю в революции. Они имеют одно неприятное свойство – после них развитие останавливается. Я в большей степени верю в эволюцию, в постепенное улучшение. К тому же мне хотелось бы лишь указать на те возможности обновления изнутри, которыми обладает кино.
Повинуясь закону инерции, люди никак не хотят покидать привычную колею. Они уже привыкли к точному фотографическому отображению действительности и, несомненно, чувствуют определенную радость при столкновении с тем, что им и так уже знакомо. Когда в свое время появился фотоаппарат, он мгновенно стал популярен благодаря способности механическим способом объективно регистрировать то, что воспринимает человеческий глаз. Способность эта до настоящего времени составляла сильную сторону кино, но для художественного фильма она становится слабостью, с которой нам следует бороться. Мы настолько привыкли к фотографии, что никак не можем от нее освободиться. Нам надо стремиться к тому, чтобы перестать быть рабами фотографии и стать ее господами. Фотография, перестав просто копировать, должна превратиться в орудие художественного вдохновения, а непосредственное наблюдение давайте оставим для журналов кинохроники.
Отсылающая к объекту фотография привела к тому, что фильм стал приземленным, приближенным к натурализму. Лишь когда фильм сумеет оторваться от земли, у него появится возможность воспарить к небесам фантазии. Вот почему следует освободить фильм от оков натурализма. Мы должны сказать самим себе, что копирование действительности – это пустая трата времени. Мы должны при помощи камеры создать для фильма новую художественную форму и новую стилистику. Но сначала мы должны определиться с понятиями «искусство» и «стиль». Датский писатель Йохан-нес В. Йенсен определяет искусство как «форму, преображенную духом». Это простое и точное определение. Так же можно сказать и о том определении, которое английский философ Честерфилд дал понятию «стиль». Он говорит: «Стиль – это одежда наших мыслей»[54]. Это утверждение справедливо при условии, что «одежда» не слишком бросается в глаза, ибо признаком хорошего стиля, очевидно, можно считать такую тесную связь с материалом, при которой стиль с материалом уже составляют единое целое. Если стиль оказывается слишком назойливым и бросается в глаза, то он перестает быть стилем и становится манерничаньем. Сам я определил бы «стиль» как «ту форму, в которой воплощается художественное вдохновение», потому что стиль художника узнаваем как раз по некоторым, характерным для него деталям, отражающим в произведении его характер и индивидуальность.
Стиль художественного фильма – это результат взаимодействия множества компонентов, в том числе взаимодействия ритмов и линий, согласованного напряжения цветовых плоскостей, взаимной игры света и тени, плавного движения камеры – все это, соединяясь с режиссерским пониманием того, как следует показать материал, и определяет его художественную форму выражения – стиль кино! Если режиссер ограничится бездушным, безличным копированием того, что видят его глаза, значит, у него нет стиля. Но если в результате на основе увиденного у режиссера возникнет какое-то представление и если он будет строить образы фильма в соответствии с этим представлением, не обращая внимания на действительность, вдохновившую его, тогда его труд будет отмечен святым знаком вдохновения – и тогда у фильма будет стиль, потому что стиль – это печать индивидуальности на произведении.
Признаю, что звучит это нескромно, но от своего имени и от имени других режиссеров осмелюсь утверждать, что именно творческая индивидуальность режиссера может и должна проявляться в художественном фильме. Это утверждение нисколько не умаляет роли писателя, но даже если автором текста является сам Шекспир, одна литературная идея не способна превратить фильм в произведение искусства. Это происходит лишь когда режиссер, вдохновленный материалом писателя, убедительным образом оживит этот материал в художественных образах. Я нисколько не преуменьшаю работу команды – фотографов, консультантов по цвету, сценографов и т. д., однако и в рамках этого коллектива режиссер был и остается движущей и вдохновляющей силой. Он – создатель произведения. Это он заставляет слова автора звучать так, что мы слышим их, это он разжигает такие чувства и страсти, что нас охватывает волнение. И именно благодаря режиссеру фильм обретает нечто необъяснимое – то, что называется стилем.
Да, таково мое представление о значении режиссера – и о его ответственности. Во всяком случае, мы теперь выяснили, что такое кинематографический стиль. Но хотелось бы понять, что мы называем художественным фильмом. Давайте сформулируем вопрос следующим образом: «Какой другой вид искусства ближе всего кинематографу?» Мне кажется, что это архитектура. Отличительный знак благородной архитектуры – идеальное согласование мельчайших деталей друг с другом, так что ни одна, даже самая маленькая часть здания не может быть изменена без того, чтобы это не ощущалось как нарушение целого – в отличие от строения, над созданием которого не трудился архитектор и где все меры и пропорции возникли стихийно. Нечто похожее можно сказать и о фильме. Лишь когда все художественные элементы, из которых состоит фильм, прочно спаяны в единую конструкцию, так что ни одна из составляющих частей не может быть выброшена или изменена, без того чтобы не пострадала целостность, лишь тогда фильм можно сравнить с архитектурным памятником – а все те фильмы, которые не удовлетворяют этим строгим требованиям, представляют собой лишь скучные и заурядные строения, мимо которых мы проходим почти равнодушно. В таком фильме, который понимается как произведение архитектуры, роль зодчего исполняет именно режиссер. Именно он, исходя из своего художественного видения, согласовывает разнообразные ритмы фильма и его напряженную интонацию с драматическими изгибами самого произведения, а равно и с психологическими нюансами, которые актеры выражают в пластике и речи, – таким образом он придает фильму свой собственный стиль.
Теперь мы переходим к главному, а именно к вопросу, в чем же состоит возможность обновления художественного кино? Для меня существует лишь один путь: абстракция – но чтобы меня не поняли превратно, я поспешу определить слово «абстракция» как такое понимание искусства, которое требует от художника способности абстрагироваться от действительности, чтобы усилить ее духовное содержание, будь то содержание психологического или чисто эстетического свойства. Попробую сформулировать еще короче: искусство должно изображать внутреннюю, а не внешнюю жизнь. Вот почему нам надо забыть про натурализм и искать пути для привлечения абстракции в наши образы. Способность абстрагироваться является предпосылкой любого художественного творчества. Абстракция дает художнику возможность выбраться за пределы той клетки, в которую натурализм пытается заключить кино. Кино не должно быть имитацией действительности.
Амбициозный режиссер должен стремиться к более сложным задачам, а не просто ставить камеру и снимать происходящее. Его кадры должны стать не просто визуальным, но и духовным переживанием. Чрезвычайно важно, чтобы режиссер сделал зрителей сопричастными своим художественным и духовным переживаниям, и абстракция предоставляет ему такую возможность, поскольку режиссер заменяет объективную реальность собственным субъективным восприятием.
Но если при создании фильма необходима абстракция, нам следует начать поиски новых творческих принципов. Я хочу подчеркнуть, что сегодня я думаю лишь об образах. Это вполне понятно, потому что люди мыслят образами, а в фильме образы составляют основу.
Мне хотелось бы указать на те возможности, которыми режиссер может воспользоваться, если захочет ввести абстрактный элемент в свои картины. Самый легкий путь – упрощение. В этом состоит задача каждого активного художника: почерпнуть вдохновение в окружающем мире, а затем оторваться от мира, чтобы придать произведению ту форму, идею которой подсказало ему вдохновение. Поэтому художник должен обладать свободой для такого преобразования действительности, чтобы она пришла в соответствие с вдохновившим его упрощенным образом, который хранится в его сознании, потому что не эстетическое чувство художника должно уступить действительности, но напротив – действительность должна подчиниться его эстетическому чувству. Дело в том, что искусство – это не просто копирование, а субъективный отбор, вот почему режиссер берет лишь то, что необходимо для ясного и спонтанного впечатления целостности.
Упрощение призвано также сделать идею более ясной и доступной. Поэтому для достижения упрощения следует очистить сюжет от всего того, что не работает на главную идею. Но благодаря этому упрощению сюжет превращается в символ, а символизм уже означает абстракцию, ибо символизм ничего не говорит прямо.
Отражение действительности в кино должно быть правдивым, но оно должно быть очищено от малозначительных деталей. Оно также должно быть реалистичным, но таким образом преобразовано в голове режиссера, чтобы реальность превратилась в поэзию. Режиссера должны интересовать не столько предметы окружающей действительности, сколько дух этих предметов и того, что стоит за ними. Сам по себе реализм не является искусством. Реальность следует трансформировать в простую и сжатую форму, чтобы воссоздать ее в очищенном виде, как вневременную психологическую реальность.
Этой абстракцией на основе упрощения и одушевления предметов режиссер в определенной степени может воспользоваться уже в момент оформления помещений для съемок. В кино мы видели множество комнат, у которых не было никакой души. Режиссер может одушевить жилище путем упрощения, удалив из кадра все лишние предметы и оставив лишь то немногое, что так или иначе характеризует живущего в этой комнате героя или как-то относится к главной идее фильма.
Гораздо более важным средством достижения абстракции, несомненно, являются цвета. С их помощью все возможно – однако не раньше, чем удастся освободиться от тех оков, которые все еще привязывают цветной фильм к фотографическому натурализму черно-белого фильма. Когда-то французских импрессионистов вдохновляли классические японские гравюры на дереве, а теперь западные режиссеры имеют все основания, чтобы учесть опыт японского фильма «Врата ада», где использование цвета целиком и полностью подчинено общему замыслу. Полагаю, что сами японцы считают этот фильм натуралистичным, да, конечно, фильмом с историческими костюмами, но все-таки натуралистичным. И тем не менее нам этот фильм кажется стилизованным, с признаками абстракции. Лишь в одном месте прорывается чистый натурализм, а именно в сценах турнира на открытой зеленой равнине. На несколько минут нарушается стиль, но неприятное ощущение в связи с этим быстро забывается благодаря тем красотам, которые мы видим. Нет сомнений, что цвета в этом фильме выбирались по тщательно продуманному плану и, во всяком случае, фильм этот является не только убедительной иллюстрацией использования в кино цветовой композиции и хорошо известной композиции классических японских гравюр, но дает также и пример того, как можно умело группировать теплые и холодные оттенки и как использовать сильное упрощение, которое здесь действует особенно сильно, потому что подкрепляется цветом.
«Врата ада» должны побудить западных режиссеров более целенаправленно, а также с большей смелостью и фантазией использовать цвета. До сих пор цвета в большинстве западных фильмов подбирались без всякой системы и в соответствии с предписаниями натурализма. В настоящее время авторы действуют более осмотрительно. Самое большее, на что режиссер может решиться, чтобы продемонстрировать наличие вкуса, – использовать пастельные тона. Но если речь идет об абстрактном цветном фильме, недостаточно одного вкуса, необходима творческая интуиция и смелость, чтобы выбрать именно те цвета, которые подчеркивают драматическое и психологическое содержание фильма. В цветах кроются огромные, даже безграничные возможности для реализации нынешнего потенциала художественного фильма, и поэтому давайте просто учиться этому у японцев. По этому пути следовали многие и до нас, среди них – и известный английский художник Джеймс Уистлер.
Раз уж я заговорил о цвете, который сам по себе содержит безграничные возможности для достижения абстракции, нельзя не упомянуть другое обстоятельство, поскольку не исключено, что оно может вдохновить на создание абстракции совершенно особого характера. Как известно, в фотографии существует атмосферная перспектива, то есть контраст между светом и тенью становится все меньше по мере приближения к горизонту. Не исключено, что интересной абстракции можно достичь, сознательно отказавшись от атмосферной перспективы – или, другими словами, отказавшись от столь вожделенной обычно глубины изображения. Вместо этого интересно было бы использовать совершенно новое художественное построение цветовых поверхностей, которые находились бы в одной и той же плоскости, создавая одну общую большую многоцветную поверхность – в этом случае понятия «передний план» и «фон» утратят свою актуальность. Другими словами, можно было бы уйти от перспективного изображения и использовать изображение исключительно плоское – может быть, в этой области можно будет открыть новые эффекты, которые смогут пригодиться и для кино.
Надеюсь, я не очень утомил вас своими длинными размышлениями об «абстракции». Для тех, кто связан с кино, это слово может звучать почти как непристойность. Однако все, что я хотел сказать, преследует лишь одну цель: я желал всего лишь обратить ваше внимание на то, что за пределами серого и скучного натурализма существует и другой мир, а именно – мир воображения. Преображение действительности, о котором я говорю, конечно, должно быть достигнуто без того, чтобы режиссер или его помощники потеряли почву реального мира под ногами.
Даже когда режиссер пересоздает реальный мир в художественной форме, эта преображенная реальность должна быть показана зрителям таким образом, чтобы они узнали ее и смогли в нее поверить. Вообще, чрезвычайно важно, чтобы первые попытки ввести абстракцию в кино предпринимались с тактом и осторожностью, потому что они не должны отпугнуть аудиторию. Было бы разумно приучать зрителя к нововведениям мало-помалу. Но если эти попытки окажутся удачными, то перед кинематографом откроются поистине безграничные перспективы. Любая задача будет ему по плечу. Может быть, кино никогда и не станет по-настоящему трехмерным[55], однако при помощи абстракции в фильм возможно ввести и четвертое и пятое измерения. Несколько слов напоследок. Я много рассуждал об образах и форме и при этом ни слова не сказал об актерах, но всякий, кто смотрел мои фильмы – те из них, что удались, – знает, как важна для меня актерская работа. Ничто на свете не может сравниться с человеческим лицом. Это ландшафт, который никогда не устаешь изучать, ландшафт, обладающий уникальной красотой, он может быть суровым или нежным. Нет ничего лучше, чем быть свидетелем того, как выразительное лицо под влиянием загадочной силы вдохновения озаряется изнутри и превращается в поэзию.
1955
4
Кто распял Христа?
По приглашению американского продюсера Блевинса Дэвиса я приехал в США для работы над сценарием фильма об Иисусе. К этому времени у меня, несомненно, уже сложилось представление о тех событиях, которые должны были предшествовать аресту Христа. Через несколько дней после оккупации Дании мне пришло в голову, что евреи, должно быть, оказались в таком же положении, как сейчас и мы, датчане. Евреи должны были испытывать то же чувство ненависти к римлянам, что и мы к нацистам. Из этого осознания и выросла моя теория. Теперь я предполагаю, что пленение Христа, суд над ним и его смерть на самом деле были вызваны его конфликтом с римскими завоевателями.
Мне повезло, что вскоре после моего приезда в США я наткнулся на недавно вышедшую книгу, которая подтвердила мои предположения. Называлась она «Кто распял Христа?». Автором ее был доктор Соломон Цейтлин, профессор отделения раввинистической литературы колледжа Дропси в Филадельфии, ученый еврейского происхождения с мировой славой. Но прежде чем я расскажу о новых соображениях, которые доктор Цейтлин излагает в своей книге, следует сказать немного об отношении еврейского народа к оккупационным властям.
Римский прокуратор Пилат в это время обладал всей полнотой власти в провинции. Назначенный первосвященник Каиафа представлял перед ним еврейский народ. Будучи первосвященником, Каиафа был также и светским главой еврейского государства. Он и верхушка общества занимали в отношении римлян выжидательную позицию, стараясь обеспечить населению страны как можно более сносные условия жизни путем переговоров с римскими наместниками, которые (подобно немцам в Дании) для упрощения контроля над евреями признавали за ними определенные привилегии – такие, как свобода вероисповедания, местное самоуправление, право на собственную полицию и собственные суды – за исключением тех случаев, когда речь шла о государственных делах, то есть о безопасности римлян. В таких делах римляне оставляли за собой право выносить приговоры и приводить их в исполнение.
Пребывая в отчаянии от ежедневных притеснений, евреи никогда не переставали надеяться на возрождение Иудейского царства, когда однажды в соответствии с предсказанием пророков на свет появится Мессия. Этого Мессию они представляли себе великим военачальником, который отомстит за Израиль и сбросит римлян в море. В этой надежде люди из народа черпали силы и мужество для того, чтобы стойко переносить римский гнет.
Однако находились и такие люди, которые не желали терпеливо нести свое бремя и отвечали террором на террор. Они объединились в секту сикариев и начали партизанские действия против римлян. Раз за разом их мятежи подавлялись, однако они не опускали рук. Они преследовали и своих соотечественников, завязывавших тесные отношения с римлянами, в том числе и некоторых крупных землевладельцев, которые поставляли римлянам зерно. Сикарии утверждали, что таких евреев – которых вполне можно сравнить с нашими коллаборационистами – следует считать предателями родины, поэтому они сжигали их посевы или «ликвидировали» их самих. Сикариев можно, несомненно, сравнить с нашими борцами Сопротивления.
Доктор Цейтлин упоминает и еще одну секту – «апокалиптически настроенных фарисеев». Они также надеялись на революционное изменение общества, но считали, что народ будет освобожден благодаря не посредственному вмешательству Бога. По всей видимости, они полагали, что грядущий Мессия будет происходить из рода Давида, но при этом он будет обладать сверхъестественными способностями.
Знание о верованиях и деятельности этих двух сект является важным для понимания того, как римляне должны были отнестись к Иисусу. За несколько дней до входа в Иерусалим, в Вифании, поблизости от Иерусалима, Иисус воскресил из мертвых Лазаря. А в самом Иерусалиме Иисус исцелил человека, который был парализован в течение 38 лет, а также и юношу, слепого от рождения. Парализованный снова стал ходить, а слепой прозрел. Так кто же он, этот Иисус – возможно, он и есть тот самый Мессия со сверхъестественными способностями, о котором толкуют фарисеи? Совершенно ясно здесь лишь одно – римляне бдительно следили как за сикариями, так и за фарисеями и, не делая между ними особых различий, считали и тех и других в равной степени опасными бунтовщиками и не раз приговаривали их к казни на кресте.
Давайте теперь обратимся к тому, что доктор Цейтлин рассказывает об иудейском совете, перед которым Иисус предстал сразу же после ареста в Гефсиманском саду. Марк, Лука и Иоанн упоминают, что Иисуса привели в дом первосвященника, где он предстал перед «советом старейшин и книжников». Что же это был за совет?
С давних времен у евреев существовал совет, который называли Великий Синедрион. В него входил семьдесят один человек, и этот совет был законодательным органом – он занимался только толкованием библейского закона, следил за порядком календаря[56] и т. д.
Помимо этого Великого Синедриона, существовал также и «меньший совет» – Малый Синедрион. В него входило 23 человека, которые вели судебные дела о преступлениях против религиозных законов, в том числе и таких преступлений, за которые полагалась смертная казнь, а именно – убийство, кровосмешение, публичное осквернение Субботы и богохульство. Малый Синедрион собирался ежедневно, кроме субботы и праздничных дней, а также дней непосредственно перед праздниками. Для этого была особая причина. В то время как римляне, не останавливаясь ни перед чем, выносили смертные приговоры и поставили казни на поток, евреи в своей судебной практике были чрезвычайно гуманны. Они всеми способами избегали смертных приговоров. Так, человека могли оправдать в тот же день, когда ему было предъявлено обвинение. Однако смертный приговор нельзя было вынести в тот же день, а только на следующий. Смертный приговор также нельзя было вынести без тщательного рассмотрения всех обстоятельств. И даже после вынесения смертного приговора дело могло быть пересмотрено, если любая из сторон процесса представляла дополнительные сведения, которые могли трактоваться в пользу осужденного. Иудейские судьи настолько боялись казнить невиновного, что даже когда после нескольких разбирательств осужденного, в конце концов, отправляли к месту казни, во главе процессии шел служитель суда, в руках которого был длинный шест с табличкой. На табличке было написано, что если кто-либо обладает сведениями, которые могут быть использованы во благо приговоренному, он должен немедленно обратиться в совет. И если находился такой человек, исполнение приговора откладывалось и дело рассматривалось снова. Поскольку Иисуса распяли накануне Пасхи, то после ареста в Гефсиманском саду его не могли привести в Малый Синедрион, поскольку Малый Синедрион, как уже было сказано, не заседал в дни, непосредственно предшествовавшие праздникам. Он также никогда не созывался по ночам.
Так что же это был за совет, перед которым Иисус предстал в доме первосвященника?
Доктор Цейтлин разрешает эту загадку, объясняя, что пока Иудея была независимой, помимо двух «религиозных» Синедрионов, существовал еще и третий, «политический» Синедрион, рассматривавший дела в отношении тех, кто совершил преступление против государства или против его представителей. Членов этого «политического» Синедриона назначал наместник, который, естественно, выбирал лишь тех граждан, насчет которых он точно знал, что они будут послушно плясать под его дудку. Когда Иудея стала римской провинцией, римляне взяли на себя все судопроизводство по политическим делам. Как уже говорилось выше, за порядок в обществе и в политике отвечал иудейский первосвященник, и теперь он должен был арестовать любого из своих соотечественников, которого можно было заподозрить в организации бунта. Если такой арест происходил, то задержанный представал перед первосвященником и советом, состоящим из его ближайших доверенных лиц и советников. Этот совет был копией «политического» Синедриона прежних времен. Он не обладал правом осудить обвиняемого, а мог только допросить его и заслушать показания свидетелей, если таковые имелись, после чего дело передавали римскому наместнику, который выносил приговор и распоряжался о том, чтобы он был приведен в исполнение.
Доктор Цейтлин обращает внимание на то, что во всех известных случаях практика была такова, что сначала арестовывали обвиняемого, а затем собирали «политический совет». Именно так обстояло дело и в случае обвинения Иисуса. Далее доктор Цейтлин сообщает, что этот «политический совет» мог собраться в любое время суток, даже ночью, в зависимости от обстоятельств, и в отличие от двух «религиозных» Синедрионов он не заседал в одном и том же, определенном для него месте. Отсюда, утверждает доктор Цейтлин, можно сделать вывод, что именно перед этим «политическим советом» и предстал Иисус ночью после ареста.
Если эта теория верна, то, значит, с Иисусом обошлись как с политическим преступником, но существовали ли в действительности основания считать Иисуса бунтовщиком и опасным для государства преступником?
В поисках ответа на этот вопрос доктор Цейтлин напоминает нам, что толпа, приветствуя Иисуса при входе в Иерусалим как «сына Давидова», кричала: «Благословенно грядущее царство во имя Господа отца нашего Давида!»
Каков был смысл этого приветствия?
Старые пророки, говорившие от имени Господа, чьи слова и до сих пор были живы в народных устах, предсказывали, что некогда человек из рода Давида станет Мессией, посланником Бога, и поскольку Бог избрал его, он станет царем иудеев.
Поэтому Иисуса при въезде в Иерусалим приветствовали не только как сына Давидова, но и возгласами – «Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида!» (Мк 11:10) и «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» (Ин 12:13).
Позволив именовать себя Мессией, сыном Давидовым и Царем Израилевым, Иисус навлек на себя подозрение не только в том, что он находится в сговоре с мятежными иудейскими группировками, – можно было подумать, что и сам его въезд в Иерусалим следует считать прямым вызовом римлянам и рассматривать как мятеж, и это давало римлянам все основания, чтобы потребовать выдачи Иисуса. Когда вскоре после въезда в Иерусалим Иисус принялся к тому же изгонять торговцев из храма, это стало таким нарушением общественного порядка, которое не могло не вызвать чувство негодования как у римлян, так и у иудейских властей – в полном соответствии с их установками. С точки зрения последних, Иисус своими действиями ставил под угрозу благополучие еврейского народа.
Вот почему, согласно доктору Цейтлину, первосвященнику не оставалось ничего иного, как арестовать Иисуса, допросить его в присутствии «политического совета» и – когда Иисус признал, что считает себя Мессией, – передать его в руки Пилата.
На мой взгляд, велика также вероятность того, что именно римляне потребовали ареста и выдачи Иисуса, поскольку именно римляне руководили прекрасно организованным «гестапо» и, несомненно, были в курсе всех дел, происходивших в Иудее и особенно в Иерусалиме во время праздника Пасхи. У нас в Дании во время оккупации – sans comparaison[57] – произошел почти такой же случай, когда немцы 24 февраля 1941 года потребовали выдать им Вильхельма ла Кура. В подтверждение вышеизложенного можно процитировать приведенные Иоанном слова Каиафы: «Вы ничего не знаете, и не подумаете <о том>, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб» (Ин 11:49–50). Раздраженный тон Каиафы вполне может указывать на то, что даже на этом узком «политическом совете» он столкнулся с сопротивлением: его советники, которые всегда были просто его марионетками, возможно, возражали против выдачи Иисуса. Однако это всего лишь мои догадки. Когда Иисус на следующий день предстал перед Пилатом, римский наместник в первую очередь спросил его, является ли он «царем Иудеев». На что Иисус дал ему уклончивый ответ: «Ты <так> говоришь» (Мк 15:2). Из этого факта доктор Цейтлин делает вывод о том, что Иисус действительно был передан римлянам как политический преступник, как совершивший преступление против Римской империи. Пилата в обвинении, скорее всего, интересовал именно тот факт, что Иисус стремился стать иудейским царем.
Когда я закончил сценарий, почерпнув много фактов из замечательной книги доктора Цейтлина, мне представилась возможность познакомиться с автором этой книги лично. Блевинсу Дэвису удалось уговорить этого ученого мужа покинуть свой кабинет и прочитать мой сценарий, чтобы затем подробно обсудить его со мной. Сотрудничество с этим ученым стало большим событием в моей жизни и оказалось для меня чрезвычайно полезным. Разумеется, он говорил, а я слушал. В конце концов мы пришли к общему мнению по всем пунктам – кроме одного. Доктор Цейтлин в своей книге очень строг к Каиафе, которого он несколько раз называет «предателем». Думаю, это не соответствует действительности. Можно назвать его «сотрудничавшим с римлянами политиком», но уж никак не «предателем». По моему скромному мнению, ничто не указывает на то, что Каиафа не действовал из самых лучших побуждений, что он не был искренен и не желал народу добра. Он был реалистом в политике и считал, что иудеям лучше вести себя осторожно, чтобы не потерять те хрупкие свободы, которыми они на тот момент обладали. Вот почему определение «предатель» не только несправедливо, но и попросту неверно – особенно если учитывать колоссальную разницу между иудейской и римской «идеологиями». В понимании римлян религия была подчинена государству, для иудеев религия стояла над государством – религия была для них всем на свете. Так что образ Каиафы я трактую в сценарии по-своему – но в остальном я глубоко признателен доктору Цейтлину, который, как мне кажется, добился поставленной цели – он снял с евреев обвинение в убийстве Иисуса. Это омерзительное обвинение впервые было выдвинуто в I веке, вскоре после смерти Иисуса. Вот какую древнюю историю имеет антисемитизм. И все мы знаем, что эти низкие обвинения принесли еврейскому народу печаль, слезы, страдания и множество смертей.
1951
Корни антисемитизма
Откуда взялась ненависть к евреям?
Крайне старательного и ответственного чиновника Рудольфа Хёсса, коменданта Освенцима, вызвали в 1941 году к Генриху Гиммлеру, который сообщил ему, что «der Fürer» принял план об окончательном решении еврейского вопроса и что он, Гиммлер, в свою очередь решил доверить осуществление этого замысла господину Хёссу.
Получив это распоряжение, господин Хёсс вернулся назад в Освенцим. Выполнив кое-какие расчеты, он сделал в фирме «Топф и сыновья» заказ на безотлагательную поставку четырех крематориев с печами и газовыми камерами.
В этих четырех крематориях можно было сжигать по 12 тысяч трупов в день, таким образом ежегодно можно было сжигать 4 380 000 трупов. Тем не менее в период с мая по август 1944 года даже эти четыре крематория были не в состоянии удовлетворить возникшие потребности, так что отдельные эшелоны венгерских евреев приходилось уничтожать на кострах под открытым небом. Именно таким образом в августе 1944 года была достигнута внушительная цифра – 24 тысячи кремаций в день.
В своей автобиографии Хёсс пишет следующее:
Хочу заметить, что сам я никогда не питал ненависти к евреям. Чувство ненависти мне совершенно чуждо.
Когда немного стихают приступы тошноты, хватаешься за голову и задаешь себе вопрос: как же все-таки возник антисемитизм? Каково его происхождение? В чем причина его появления?
Чтобы найти ответы на эти вопросы, нам следует обратиться ко времени, отдаленному от нашего на 1900 лет. Вернуться к Голгофе. И тогда тоже уничтожали евреев. Одним из них был иудей Иисус. И для него было найдено «окончательное решение» – как тогда полагали римляне.
Распятие Христа не было следствием антисемитизма. Этот термин еще не был изобретен. Нет, Иисус принял смерть на кресте как политический бунтовщик. Его сторонники распространяли его учение, и маленькое братство превратилось в секту, получившую название «назаряне». Стоит заметить, что это была не христианская секта, а иудейская секта. Христианство как теологическое понятие тогда еще не существовало. Все члены секты были евреями, соблюдавшими иудейский закон – Тору и исполнявшими все церемониальные предписания.
В этой секте произошло несколько драматических событий, оказавших заметное влияние на ее будущее. Семеро евреев-эллинистов, прибывших в Иерусалим, были приняты в секту. Один из них, Стефан, явился однажды в одну из иерусалимских синагог, где поссорился с фарисеями, поскольку особо чтил распятого Иисуса, принижая первосвященников. Несколько сторонников храмового культа привлекли его к иудейскому суду. Считается, что одним из этих людей был человек по имени Савл (из Тарса), занимавшийся шитьем палаток, и что он также присутствовал при выведении Стефана из города и избиении его камнями.
Савл был молод, так что не исключено, что он впервые присутствовал при казни через побитие камнями, и поскольку он, будучи человеком горячим, вряд ли ограничился ролью пассивного зрителя, не исключено, что это избиение камнями и привело его к кризису покаяния – этот кризис может послужить психологическим объяснением «небесного видения», которое явилось ему на пути в Дамаск. Ему явился Иисус, который вопрошал: «Савл, Савл! что ты гонишь меня?» Савл пал ниц и лишился зрения. Лишь на третий день он снова прозрел. Какой-то человек из секты назарян открыл ему глаза и повелел не препятствовать новой вере, но стоять за нее. После мучительной душевной борьбы Савл решил перейти на сторону назарян.
Очевидно, Савл достаточно рано осознал: чтобы назаряне не остались маленькой иудейской сектой, которая рано или поздно распадется и прекратит свое существование из-за отсутствия притока новых членов, этой группе следует измениться. А откуда можно было ждать притока новых членов, если не из числа язычников, проживающих за пределами Палестины и, в пер вую очередь, на территории обширной Римской империи? Подобную задачу мог решить только еврей-эллинист, говоривший на древнееврейском так же хорошо, как и на греческом, и знакомый с отношением языческих народов к религии и морали, – проповедник и агитатор. Савл знал человека, который соответствовал этим требованиям. Этого человека звали Савл, но теперь ему следовало взять новое имя – Павел. Одновременно он объявил себя апостолом. Его призвали в Антиохию, где у него было много сторонников. Сторонники эти не хотели называться назарянами, предпочитая называться христианами. Вот так впервые и упоминается это слово. Через некоторое время христианская община решила отправить Павла миссионером в близлежащие языческие страны – так и исполнилось заветное желание Павла.
Каковы были первые впечатления Павла от чужой среды? Не был ли он в первую очередь удивлен тем количеством иудеев, которое ему встретилось? Ведь большая часть иудейского народа жила не в Палестине, а за ее пределами. Предположительно в Палестине проживало три миллиона, а за ее пределами – еще три с половиной миллиона, из которых большинство, естественно, жило в Римской империи и ее европейских провинциях, а также в Малой Азии, Египте и Северной Африке. В большинстве городов у этих евреев были свои синагоги. Иудеи, жившие на чужбине, чувствовали прочную связь со своей верой, а через нее также и связь с Иерусалимом и Иерусалимским Храмом, который был религиозным центром для всех евреев – где бы они ни жили. Евреи за пределами Палестины не просто придерживались своей веры: поощряемые иерусалимскими священниками, они вели активную пропаганду этой веры среди язычников и во времена Иисуса, и позже – и небезуспешно. И если так много язычников приняли иудаизм, то объясняется это отчасти тем, что иудаизм был почитаемой религией, а также тем, что среди самих язычников наблюдалось определенное религиозное брожение. Культ древних богов и богинь шел на спад. Никто уже более не относился к ним всерьез. Одновременно с презрением к старым богам у образованных язычников росла неосознанная тяга к новой вере, обеспечивающей будущее. Большую роль в этом, без сомнения, сыграли стоики, чья философия подготовила почву для христианства, поскольку их мысли были близки основополагающим идеям христианского учения. А стоик Посидоний пришел к вере в одного-единственного бога, «который находится в нас, в наших сердцах».
Как бы то ни было, но путь перед Павлом и его новой религией был открыт. Он хорошо осознал перспективы христианства – ведь оно удовлетворяло настоятельную потребность того времени. Поэтому следовало ковать железо, пока оно горячо. Язычники страстно желали новой религии, но в первую очередь такой, которая не слишком осложняла бы существование. Иудейская вера в своей самой суровой форме требовала соблюдения не менее 613 заповедей (которые было сложно соблюдать даже рожденным в иудаизме). Что же сделал Павел? Вместо 613 заповедей он просто-напросто ввел требование верить в Иисуса, что стало большим облегчением. Вместе с 613 заповедями отпало также требование об обрезании и запрет на определенную пищу. Своим христианством Павел хотел облегчить жизнь и тем, кто был целиком и полностью язычником, и тем, кто был лишь наполовину иудеем, и – если посмотреть на все глазами иудея – можно сказать, что это у него прекрасно получилось. Для христианства Павел сохранил только два обычая: крещение и евхаристию.
Те евреи, которые сердцем остались верны религии отцов, чувствовали, конечно же, в глубине души себя обиженными той легкостью, с которой Павел отметал религиозные догматы, имевшие для них первостепенное значение. Разве Иисус не сказал: «Не думай те, что Я пришел отменить Закон или Пророков. Не отменить Я пришел, а исполнить». А что делает Павел? Он отменяет Закон!
Разумеется, поведение Павла вызывает справедливый гнев правоверных евреев, и гнев этот однажды оказывается так силен, что они, собравшись вместе, прогоняют его из города.
Удивительно, однако, что, хотя новая вера Павла все больше и больше отличается от ортодоксального иудаизма, Павел все еще считает себя евреем, каковым он и является – по рождению и по убеждениям. Согласно этим убеждениям проповедуемая им религия на самом деле представляет собой иудейство в новой, упрощенной форме. Сам он честно и пунктуально исполняет церемониальные предписания, но он не хочет требовать от других, чтобы они подчинялись тому, что он и сам считает абсурдной и излишней формальностью.
Было бы интересно проследить за судьбой Павла до самой его мученической кончины, но это не входит в задачи этой статьи. Однако в качестве заключительного штриха мне бы хотелось привести очень точную характеристику, данную этому языческому апостолу еврейским историком Йосефом Клаузнером. «Павел, – говорит Клаузнер, – превратил маленькую иудейскую секту в наполовину иудейскую, наполовину христианскую религию, распространившуюся по всему миру. Именно он является истинным создателем христианства. Можно смело сказать: без Иисуса не было бы Павла. Но можно также и сказать: без Павла не было бы мировой христианской религии с четко разработанной и легко воспринимаемой теологией».
Прежде чем мы оставим Павла, следует обратиться к «Деяниям апостолов» – во всяком случае к той части, где речь идет о Павле. Считается, что эта часть была написана греком-христианином Лукой, автором Евангелия, близким другом Павла. При первом же прочтении обращают на себя внимание враждебные настроения по отношению к евреям. В двадцати местах о евреях говорится с неприязнью. Если верить этому тексту, то евреи, судя по всему, являются источником всех зол. Они преследуют христиан и пытаются навредить им, очерняя их перед римлянами. Многое свидетельствует о том, что Павел вдохновил Луку на эти нападки. Если это соответствует действительности, мы столкнулись здесь с весьма любопытным явлением, а именно с «евреем-антисемитом».
Некоторые критики Библии приводят убедительное объяснение этого факта. Они утверждают, что Павел – интуитивно – понял, как надо развивать великую религиозную идею. Будучи великолепным агитатором, он разрушает конструкцию и отстраивает ее заново. Его окружают толпы язычников. Один за другим возникают христианские приходы. Скоро он окажется в центре большой паутины, и ему надо будет лишь дергать за ниточки.
Однако существовало несколько подводных камней, которые ему следовало обойти. Один – это правоверные иудеи, считающие его мошенником. Второй подводный камень – это римляне, которые ни в чем ему не препятствуют. Павел, о котором говорили, что его «сердце не похоже на его лицо», умеет разговаривать с римлянами так, что они начинают испытывать доверие и к нему, и к тому учению, которое он распространяет. Но Павел, конечно же, умалчивает о том, что Иисус, которому призывают поклоняться язычников, и тот человек, которого несколько лет назад римляне распяли на Голгофе за попытку бунта против римских оккупационных властей, – это одно и то же лицо. Иисуса превращают в никому не известного человека, чьи божественные качества проявляются лишь тогда, когда он на третий день восстает из мертвых. И конечно же, не по инициативе римлян его пригвоздили к кресту, ни в коем случае, – это было сделано по недвусмысленному требованию первосвященников и книжников. Павел закрыл глаза на эту «благую» подмену понятий, по сей день ущемляющую евреев. Фанатиков вроде Павла редко терзают сомнения, когда речь идет о развитии дела, за которое они борются. Да и библейская критика в этом смысле – не исключение.
Считается, что «Деяния апостолов» в своем окончательном виде были написаны примерно через девяносто пять лет после рождения Христа. Распятие произошло через тридцать лет, а через семьдесят Храм сровняли с землей. Иерусалим был захвачен римлянами, а иудейское население города было продано в рабство. Как нация и как народ евреи все больше и больше теряли свое влияние, а в то время, когда создавалось повествование о Павле и когда римляне находились на вершине власти, и вовсе не могли сопротивляться/высказывать несогласие/протестовать.
Возможно, не задумываясь о последствиях, Павел посеял первые семена христианского антисемитизма, которые уже в первые дни римской церкви дали ростки и распространились как страшный сорняк. Стремление преклоняться перед римлянами и очернять евреев просматривается также в Евангелии от Иоанна, которое относится к тому же времени, что и «Деяния апостолов» (то есть к концу первого столетия нашей эры) и демонстрирует то же враждебное отношение к евреям. Два факта бросаются в глаза при чтении этого Евангелия.
Во-первых, слово «еврей» встречается значительно чаще, чем в трех других Евангелиях. Если в Евангелии от Луки и Евангелии от Матфея это слово встречается пять раз, а в Евангелии от Марка шесть раз, то у Иоанна оно используется семьдесят раз. Кроме этого, Иоанн говорит о евреях так, как будто это чужой народ – чужой для Иисуса и чужой для него самого, и всегда в презрительном или пренебрежительном тоне. Объяснение этому, по всей вероятности, таково же, что и в случае с Павлом, которому необходимо было принимать во внимание окружавших его со всех сторон римлян, чтобы сохранять с ними хорошие отношения. Исправления в рукопись мог самовольно внести и переписчик, который не желал навлечь беду на евангелиста (а также и на самого себя).
Несколько лет назад на французском языке вышла книга «Jesus et Israël» [ «Иисус и Израиль»], автором которой был живущий в Париже еврейский историк Жюль Исаак, настолько близко столкнувшийся с немецким антисемитизмом, что мысль о нем до сих пор заставляет его страдать. На первой странице книги можно прочитать следующие строчки:
Посвящается моим жене и дочери,
убитым немцами,
убитым
только потому, что их фамилия была Исаак.
В своей книге Жюль Исаак демонстрирует, как в последующие столетия христианство продолжало удобрять почву, взращивая отвратительные сорняки антисемитизма.
Вот краткое изложение основных фактов, приведенных в его книге.
II век. Святой Юстин: «Ваше обрезание есть позорный знак, которым всевидящее провидение уже отметило вас как убийц Иисуса и пророков».
III век. Теолог и толкователь Библии Ориген: «Именно евреи распяли Иисуса на кресте».
IV век. Историк Церкви, Епископ Кесарии Евсевий: «Вот так евреи были наказаны за свое преступление и свое безбожие».
Святой Ефрем называет евреев «обрезанными собаками».
Отец Церкви Иероним называет евреев «змеями, подобными Иуде» – и торжественно обещает им ненависть всех христиан.
Святой Иоанн Златоуст: «Как может быть, что верующие христиане не стыдятся общаться с теми, кто пролил кровь Христа?»
V век. Святой Августин: «Пришел последний час господа нашего Иисуса! Они схватили его – евреи. Они – евреи – оскорбляют его. Они – евреи – связывают его. Они надевают на него терновый венец, они брызгают на него слюной, бичуют его кнутом, осыпают его насмешками, прибивают к кресту, колют копьем его плоть».
До самого Средневековья католические отцы церкви подогревают ненависть к евреям. Потом им на помощь пришли реформаторы. Лютер заявляет, что если он встретит еврея, желающего креститься, он отведет его на мост через Эльбу, свяжет его, повесит ему на шею камень и столкнет его в воду со словами: крещу тебя во имя Авраама!
Лютер вполне может присоединиться к католическим отцам церкви. Каждый из них несет свою долю ответственности за смерть Анны Франк. Но давайте не будем бить себя в грудь, утверждая, что наше время лучше. Как относиться к маленькой «легенде», написанной Дж. Папини, где рассказывается о высокопоставленном раввине, который навещает Папу Римского, чтобы заключить с ним сделку? Раввин говорит, что большое количество евреев примет христианство, если церковь взамен вычеркнет страстную неделю из своего календаря. Кроме этого, раввин предлагает гору золота. Папа отвечает с величественным достоинством: «Не заставляйте меня говорить, что в каждом еврее живет Иуда. Вы продали Иисуса за тридцать сребреников, а сегодня вы хотите выкупить его назад за часть того золота, которое вы на протяжении столетий скопили грабежом и ростовщичеством». Эта «легенда» была опубликована в 1938 году.
Восемь лет спустя, в 1946 году, Анри Даниэль-Ропс написал об Иисусе в своей «Священной истории»: «Иудеи призывали: „Пусть его кровь будет на нас и на детях наших“. Господь в своей справедливости внял их молитвам». И продолжает: «Лицо преследуемого Израиля заполняет историю, но оно не заставит нас забыть другое лицо, испачканное кровью и слюной, – другое лицо, при виде которого евреи не испытывали никакого сострадания».
Наконец, в маленькой книжечке Херберта Пундика «Израиль 1948–1958» я нахожу следующую краткую сноску: 26 июня 1947 года командующий британскими войсками в Палестине сэр Ивлин Баркер отдал приказ, в котором запретил британским военным брататься с евреями. Его приказ по войскам заканчивался словами: «Я понимаю, что эти меры создадут сложности для солдат, но они накажут евреев именно тем способом, который эта порода ненавидит более всего, – направив удар на их карманы и показав им, какое отвращение мы к ним испытываем».
На протяжении уже почти тысячи девятисот лет евреям приписывали ответственность за смерть Иисуса, заклеймив их как убийц – убийц Христа. Это проклятие преследовало их, по отношению к ним проповедовалась ненависть, миллионы евреев подвергались пыткам и были убиты. Однако когда-то все это должно прекратиться. Неприязнь христиан к евреям нелепа и лишена всякого смысла. Только подумайте, что христиане получили от евреев: в первую очередь, веру в единого Бога, который является одновременно богом иудеев и христиан. Из этого же источника христиане унаследовали и мысль о том, что все люди равны перед Богом. Христианство является порождением иудаизма, а Новый завет уходит корнями в еврейские традиции. Христиане должны открыть глаза на взаимосвязь иудейской веры и христианской веры, а также еврейской и христианской этики. Только через взаимопонимание можно прийти к взаимному уважению и симпатии. И лишь в этом, а не в чем-то другом можно найти «окончательное решение» – если использовать выражение усопшего Адольфа.
1959
Дрейер: фильмография
Полнометражные фильмы
Председатель суда (Praesidenten), Дания, 1919
Производство Nordisk Films Kompagni
Сценарий Карл Т. Дрейер по роману Карла Эмиля Францоза
Оператор Ханс Ваагё
Декорации Карл Т. Дрейер
В ролях Хальвард Хофф, Элит Пио, Карл Мейер, Ольга Рафаэль-Линден, Бетти Киркебю, Рихард Кристенсен, Петер Нильсен, Якоба Йессен
89 минут
Страницы из книги Сатаны (Blade af Satans Bog), Дания, 1921
Производство Nordisk Films Kompagni
Сценарий Эдгар Хойер по роману Марии Корелли, при участии Карла Т. Дрейера
Оператор Георг Шнеевойгт
Декорации Карл Т. Дрейер
В ролях Хальвард Хофф, Якоб Тесьер, Эрлинг Ханнсон, Халландер Хеллеманн, Эбон Страндин, Йоханнес Мейер, Тенна Крафт Фредериксен, Вигго Вие, Жанна Трамкур, Элит Пио, Карло Вит, Клара Понтоппидан, Карина Белл
167 минут
Вдова пастора (Prästänkan), Швеция, 1920
Производство Svensk Filmindustri
Сценарий Карл Т. Дрейер, по роману Кристофера Янсона
Оператор Георг Шнеевойгт
В ролях Хильдур Карлберг, Эйнар Рёд, Грета Альмрот, Олав Окруст, Курт Велин, Эмиль Хельзенгрен, Матильда Нильсен
72 минуты
Возлюби ближнего своего (Die Gezeichneten), Германия, 1922
Производство Primusfilm
Сценарий Карл Т. Дрейер по роману Оге Маделунга
Оператор Фридрих Вайнман
Декорации Йенс Г. Линд
В ролях Полина Пековская, Владимир Гайдаров, Торлайф Райс, Ричард Болеславский, Исаак Дуван-Торцов, Йоханнес Майер, Адель Ройтер-Айхберг
84 минуты (фильм сохранился не полностью)
Однажды (Der var engang), Дания, 1922
Производство Sophus Madsen
Сценарий Карл Т. Дрейер и Палле Розенкранц по сказке Хольгера Драхмана
Оператор Георг Шнеевойгт
Декорации Йенс Г. Линд
В ролях Клара Понтоппидан, Свен Метлинг, Петер Йерндорфф, Хакон Анфельт-Рённе, Торбен Мейер
75 минут (фильм сохранился не полностью)
Микаэль (Michael), Германия, 1924
Производство Dekla Bioscop (UFA)
Сценарий Карл Т. Дрейер по роману Германа Банга
Операторы Карл Фройнд и Рудольф Мате
Декорации Хуго Херинг
В ролях Беньямин Кристенсен, Вальтер Слезак, Нора Грегор, Роберт Гаррисон, Грете Мосгейм, Александр Мурски, Макс Ауцингер, Дидье Аслан, Карл Фройнд, Виль-гельмина Зандрок
90 минут
Чти жену свою (Du skalære din Hustru), Дания, 1925
Производство Palladium
Сценарий Карл Т. Дрейер и Свен Риндом по мотивам пьесы Свена Риндома
Декорации Карл Т. Дрейер
В ролях Йоханнес Мейер, Астрид Хольм, Карин Неллемос, Матильда Нильсен, Клара Шёнфельд, Йоханнес Нильсен, Петрине Сонне
107 минут
Невеста из Гломдала (Glomdalsbruden), Норвегия, 1926
Производство Viktoria-Film
Сценарий Карл Т. Дрейер, по рассказам Якоба Б. Булля
Оператор Эйнар Ольсен
В ролях Стуб Виберг, Тове Телльбак, Харалль Стормоэн, Афхилль Стормоэн, Эйнар Сиссенер, Оскар Ларсен, Эйнар Твейто, Расмус Расмуссен, Софи Раймерс, Юли Лампе
115 минут
Страсти Жанны д’Арк (La Passion de Jeanne d’Arc), Франция, 1928
Производство Société générale de Films
Сценарий Карл Т. Дрейер по роману Жозефа Дельтея и материалам процесса над Жанной д’Арк
Оператор Рудольф Мате
Декорации Герман Варм и Жан Гюго
Костюмы Валентина Гюго
Монтаж Карл Т. Дрейер
В ролях Мария (Рене-Жанна) Фальконетти, Эжен Сильвен, Андре Берли, Морис Шюц, Антонен Арто, Мишель Симон, Жан д’Ид
110 минут
Вампир (Vampyr), Франция – Германия, 1932
Производство Film-Production Carl Dreyer
Сценарий Карл Т. Дрейер и Кристен Юл по
рассказам Джозефа Шеридана ле Фаню
Оператор Рудольф Мате
Декорации Герман Варм
Композитор Вольфганг Целлер
В ролях Джулиан Вест, Морис Шюц, Рена
Мандель, Сибилла Шмиц, Ян Иеронимко,
Хенриетта Жерар
83 минуты
День гнева (Vredens Dag), Дания, 1943
Производство Palladium
Сценарий Карл Т. Дрейер и Могенс Скот-Хансен по пьесе Ханса Вирс-Йенсена
Оператор Карл Андерссон
Декорации Эрик Оэс
Костюмы Сант Йенсен и Ольга Томсен
Композитор Пол Ширбек
Монтаж Эдит Шлюссель и Анна-Мария Петерсен
В ролях Торкильд Роос, Лизбет Мовин, Сигрид Нейендам, Пребен Лердорф Рюэ, Альберт Хёэберг, Олаф Уссинг, Анна Сверкир
97 минут
Два человека (Två människor), Швеция, 1945
Производство Svensk Filmindustri
Сценарий Карл Т. Дрейер и Эдвин Мартин по пьесе Вилли О. Сомина
Оператор Гуннар Фишер
Декорации Нильс Свенвалль
Композитор Ларс-Эрик Ларссон
Монтаж Карл Т. Дрейер и Эдвин Хаммарберг
В ролях Георг Рюдеберг, Ванда Ротгарт, Габриэль Альв
78 минут
Слово (Ordet), Дания, 1955
Производство Palladium
Сценарий Карл Т. Дрейер по пьесе Кая Мунка
Оператор Хеннинг Бентсен
Декорации Эрик Оэс
Костюмы Н. Сандт Йенсен
Композитор Пол Ширбек
Монтаж Эдит Шлюссель
В ролях Хенрик Мальберг, Эмиль Хасс Кристенсен, Пребен Лердорф Рюэ, Кай Кристиансен, Биргитте Федершпиль, Герда Нильсен
126 минут
Гертруда (Gertrud), Дания, 1964
Производство Palladium
Сценарий Карл Т. Дрейер по пьесе Хьяльмара Содерберга
Оператор Хеннинг Бентсен
Декорации Кай Раш Костюмы Берит Нюкир
Композитор Йорген Йерсильд
Монтаж Эдит Шлюссель
В ролях Нина Пенс Роде, Бендт Роте, Эббе Роде, Борд Ове, Аксель Стрёбю
116 минут
Короткометражные фильмы
Помощь матерям (Mødrehjælpen), Дания, 1942
Производство Nordisk Films Kompagni по заказу Mødrehjælpens Fællesråd и Dansk Kulturfilm
Сценарий Карл Т. Дрейер Композитор Пол Ширбек Текст читает Эббе Ниргор 12 минут
Вода с земли (Vandet paa Landet), Дания, 1946
Производство Palladium по заказу Dansk
Kulturfilm
Сценарий Карл Т. Дрейер
Композитор Пол Ширбек
Текст читают Хенрик Мальберг, Асбьорн
Андерсен и Гуннар Лемвиг
14 минут
Сельские церкви (Landsbykirken), Дания, 1947
Производство Preben Frank-Film по заказу Dansk Kulturfilm
Сценарий Карл Т. Дрейер и Бернхард Йенсен
Оператор Пребен Франк
Композитор Свен Эрик Тарп
Комментарий Карл Т. Дрейер и Иб Кох-Ольсен
Текст читает Иб Кох-Ольсен
14 минут
Борьба против рака (Kampen mod Kraeften), Дания, 1947
Производство Preben Frank Film по заказу Kræftens Bekæmpelse и Dansk Kulturfilm
Сценарий Карл Т. Дрейер и Карл Кребс
Оператор Пребен Франк
Композитор Петер Дойч
Текст читает Альберт Лютер
12 минут
Они успели на паром (De nåaede færgen), Дания, 1948
Производство Nordisk Films Kompagni по заказу Dansk Kulturfilm
Сценарий Карл Т. Дрейер по рассказу Йоханнеса В. Йенсена
Оператор Йорген Роос
В ролях Йозеф Кох, Камма Кох, Эвальд Расмуссен
12 минут
Торвальдсен (Thorvaldsen), Дания, 1949
Производство Preben Frank Film и Dansk Film Co по заказу Dansk Kulturfilm
Сценарий Карл Т. Дрейер и Пребен Франк
Оператор Пребен Франк
Композитор Свен Эрик Тарп
Текст читает Иб Кох-Ольсен
11 минут
Мост Сторстрём (Storstrømsbroen), Дания, 1950
Производство Preben Frank Film по заказу Dansk Kulturfilm
Сценарий Карл Т. Дрейер
Оператор Пребен Франк
Композитор Свен Шульц
7 минут
Замок в замке
(Et slot i et slot), Дания, 1954
Производство Teknisk Film Compagni по заказу Dansk Kulturfilm
Сценарий Карл Т. Дрейер
Режиссеры Карл Т. Дрейер и Йорген Роос
Текст читает Свен Людвигсен
9 минут
Карл Теодор Дрейер © DFI
Дрейер на съемках «Жанны д’Арк» разговаривает с журналистами, 1928 © DFI
Сцена из фильма «Возлюби ближнего своего» (1922) © DFI
Сцена из фильма «Невеста из Гломдала» (1926) © DFI
Антонен Арто и Рене Фальконетти в фильме «Страсти Жанны д'Арк» (1928) © DFI
Контрольный лист «Страстей Жанны д'Арк» (1928) © DFI
Сцена из фильма «Вампир» (1932) © DFI
Клара Понтоппидан в фильме «Однажды» (1922) © DFI
Дрейер на съемочной площадке «Дня гнева» (1943) © DFI
Aнна Свиркир в фильме «День гнева» © DFI
Дрейер (справа) на съемках «Микаэля» (1924) © DFI/FWMS
На приеме в честь премьеры «Гертруды», слева направо: Анри-Жорж Клузо, Рене Клеман, Жан-Люк Годар, Франсуа Трюффо, Карл Теодор Дрейер (1964) © DFI
Пребен Лердорф Рюэ в фильме «Слово» (1955) © Palladium/DFI
Матильда Нильсен в фильме «Вдова пастора» (1920) © Svensk Filmindustri/DFI
Сцена из фильма «Торвальдсен» (1949) © DFI
Биргитте Федершпиль и Эмиль Хасс Кристенсен в фильме «Слово» (1955) © Palladium/DFI
Дрейер на съемках «Гертруды» (1964) © DFI
Примечания
1
Дрейер пишет о фильме до того, как его посмотрел (отсюда неопределенность и множество догадок), и предвосхищает успех картины, которая стала значительной вехой не только датского, но и мирового кино. (Здесь и далее примеч. ред. и пер., если не указано иное.)
(обратно)2
Рус. пер. С.В. Петрова.
(обратно)3
Система выплат вознаграждения в виде процентов от общего дохода.
(обратно)4
Такой прием есть, например, в фильме Жака Фейдера «Лица детей» (1925), где в одной из первых сцен главный герой падает в обморок на похоронах.
(обратно)5
Вероятно, Дрейер имеет в виду эксперименты Абеля Ганса в фильме «Колесо» (1923).
(обратно)6
Речь идет о фильме Фрица Вендхаузена «Пер Гюнт» (1934).
(обратно)7
Имеется в виду отрывок из оперетты Оффенбаха «Разбойники» – Trio des Bottes, впоследствии вдохновивший Киплинга на знаменитое стихотворение «Сапоги».
(обратно)8
Фильм Александра Птушко «Новый Гулливер» (1935).
(обратно)9
Фильм «Traumulus» Карла Фрёлиха (1936), с Эмилем Яннингсом в главной роли.
(обратно)10
Фильм Эрнста Любича (1928; сохранился частично).
(обратно)11
Гиньоль (фр.).
(обратно)12
Кукольный театр (дат.).
(обратно)13
Популярный персонаж датского театра марионеток, похожий на немецкого персонажа по имени Касперль.
(обратно)14
Смешной, забавный (фр.).
(обратно)15
Веселый, смешной (дат.).
(обратно)16
Шутливый (дат.).
(обратно)17
Черт возьми! (фр.)
(обратно)18
Ну (дат.).
(обратно)19
Ну, черт побери! (дат.)
(обратно)20
По одной из версий, Линд отвергла ухаживания Андерсена, после чего он вывел ее в образе Снежной Королевы.
(обратно)21
«Белоснежка и семь гномов» (1937) – первый полнометражный мультипликационный фильм студии Walt Disney Productions.
(обратно)22
При длине 2400 метров хронометраж фильма составит примерно 80 минут.
(обратно)23
Den Frie («Независимая выставка») – ассоциация датских художников, основанная в 1891 году как автономный союз работников искусства. В нее вошли художники, не состоявшие в художественных союзах Щарлоттенборга – основной выставочной площадки Копенгагена.
(обратно)24
Ясновидец, провидец (дат.).
(обратно)25
Рус. пер. А.С. Гуровича.
(обратно)26
Опубликовано под псевдонимом «Кинорежиссер» (Filmmand).
(обратно)27
Статья написана после съемок фильма «Возлюби ближнего своего», в которых принимали участие русские актеры-эмигранты из Московского художественного театра. «Возлюби ближнего своего» – экранизация одноименного романа Оге Маделунга, вышедшего в 1912 году и частично основанного на воспоминаниях писателя о жизни в России во времена революции 1905 года. Выбор русских актеров и изображение быта в фильме дают представление о том, как сильно Дрейер стремился создать достоверный антураж и насколько для него была важна точность деталей.
(обратно)28
Слава Богу! (нем.)
(обратно)29
Имеются в виду пьеса «Святая Иоанна» Бернарда Шоу (1923), которая шла с большим успехом, и двухтомный труд Анатоля Франса «Жизнь Жанны д’Арк» (1908).
(обратно)30
Все декорации были построены сразу, чтобы создать для драмы нужное психологическое пространство, и по той же причине съемки сцен проводились в хронологическом порядке – чтобы дать актерам прожить события драмы непрерывно, от начала и до конца.
(обратно)31
Псевдоним, близкий по значению к русскому «Мальчик-с-пальчик» или английскому Tom Thumb.
(обратно)32
Дрейер говорит об антисемитских листовках, которые он увидел во время своего пребывания в Берлине в 1933 году. (Примеч. К. Умарка.)
(обратно)33
В это время Бетти Нансен планировала снимать фильм о Христе.
(обратно)34
День, в который началась немецкая оккупация Дании.
(обратно)35
Безумного Йоханнеса играет Пребен Лердорф Рюэ, который одиннадцатью годами раньше в фильме «День гнева» выступил в роли молодого человека, влюбленного в свою мачеху. Его беременную жену Ингер сыграла молодая актриса Биргитте Федершпиль, которая в то время действительно ждала ребенка. Она настояла, чтобы помощники Дрейера присутствовали в больнице, когда она рожала, и записали на пленку ее стоны и крики, а потом использовали запись для сцены родов в фильме. Или вот еще один атрибут неореализма: в «Слове» в эпизодических ролях были задействованы настоящие фермеры и крестьяне из Ведерсё. (Примеч. Л. Айснер.)
(обратно)36
Дрейер кратко излагает здесь свой очерк «Фантазия и цвет», помещенный ниже.
(обратно)37
Камерное психологическое кино из жизни среднего класса, получившее распространение в Германии 1920-х годов.
(обратно)38
Дрейер знает, о чем говорит: когда он снимал «Слово», композитора Пауля Щирбека, который сумел создать замечательное музыкальное сопровождение для фильма «День гнева», уже не было в живых, но Дрейеру удалось найти среди бумаг, оставшихся после смерти Щир-бека, наброски партитуры; ему показалась, что они подходят для атмосферы «Слова», и он использовал их в фильме. (Примеч. Л. Айснер.)
(обратно)39
Внутренняя миссия – разновидность пиетизма, получившая распространение в Дании со второй половины XIX века. В отличие от традиционного миссионерства, направленного на обращение язычников, деятельность этого движения была направлена на работу внутри страны, со своими соотечественниками.
(обратно)40
Жюль Дассен снял свою версию «Медеи», картину «Мечта о страсти», в 1978 году. В 1988-м сценарий Дрейера был использован в качестве основы для датского телевизионного фильма «Медея» (режиссер – Ларс фон Триер).
(обратно)41
Имеется в виду евангельский фильм Сесила Демилля «Величайшее шоу мира» (1954).
(обратно)42
«Прóклятые» (нем.).
(обратно)43
Фильм основан на двух рассказах Джозефа Щеридана Ле Фаню.
(обратно)44
«Замок в замке» (1954).
(обратно)45
Фильм Карла Манциуса (1916), от которого сохранился только одноминутный фрагмент.
(обратно)46
Фильм Роберта Динесена (1917).
(обратно)47
Статья написана до того, как технология цветного кино стала повсеместной, отсюда противопоставление «цветного» театра и «черно-белой стилизации» действительности кино.
(обратно)48
Большинство шедевров немого кино сняты в 1920-е годы, когда техника съемки стала более совершенной и павильонные съемки могли чередоваться с натурными. Однако изобретение звука в кино снова привело к тому, что фильмы должны были сниматься в павильонах (первоначально аппаратура для записи звука была очень громоздкой).
(обратно)49
Доклад Фредерика Щиберга был сделан в студенческом союзе в Копенгагене 4 апреля 1936 года. Часть этого доклада была опубликована в очерке в газете BT на следующий день.
(обратно)50
Имеется в виду «Последний миллиардер» – картина провалилась в прокате и не была одобрена критикой.
(обратно)51
Отсылка к сцене из «Дня гнева», в которой ведьму привязывают к лестнице и опрокидывают в костер.
(обратно)52
Имеется в виду книга К.С. Станиславского «Работа актера над собой» и его рассуждения об участии режиссера в рождении роли («Я считаю, что для органического взращивания роли нужен не меньший, а в иных случаях значительно больший срок, чем для создания и взращивания живого человека. В этом периоде режиссер участвует в творчестве в роли повивальной бабки или акушера. При нормальном течении беременности и родов внутреннее создание артиста само собой, естественно, физически оформляется, потом выхаживается, воспитывается „матерью“ (творящим артистом). Но бывают и в нашем деле преждевременные роды, выкидыши, недоноски и аборты. Тогда создаются незаконченные, недожитые сценические уродцы»).
(обратно)53
Датские премьеры фильмов «Мулен Руж» и «Врата ада» состоялись в кинотеатре «Дагмар», которым в то время руководил Дрейер.
(обратно)54
«Письма к сыну» (1774); рус. пер. А.М. Щадрина.
(обратно)55
В это время в Голливуде происходит бум стереокино.
(обратно)56
Месяцы еврейского года определялись частично на основании астрономических наблюдений за Солнцем и Луной, частично – на основании математических вычислений.
(обратно)57
Пусть сравнение и не прямое (фр.).
(обратно)



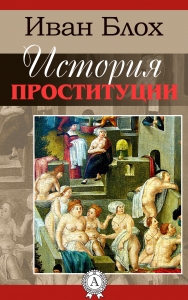

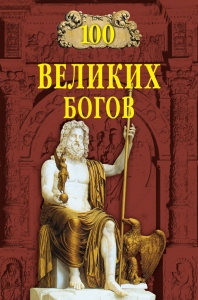
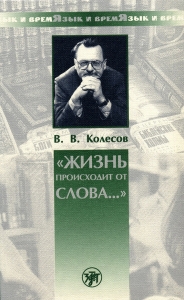


Комментарии к книге «О кино. Статьи и интервью», Карл Теодор Дрейер
Всего 0 комментариев