Валерий Петрович Даниленко От животного – к Человеку. Введение в эволюционную этику
Человек всё ещё во многом зверь, но вместе с этим он – культурно – всё ещё подросток.
А. М. ГорькийВведение
Вот какое определение эволюционной этики даётся в одном из словарей: «ЭВОЛЮЦИОННАЯ ЭТИКА – течение в этике, развивающееся в русле этического натурализма; основано Г. Спенсером. В ХХ в. идеи Э. э. отстаивают Дж. Хаксли, К. Уоддингтон (Англия), Э. Хоулт, Р. Жерар (США), П. Тейяр де Шарден (Франция) и др. Э. э. рассматривает моральное поведение человека как функцию приспособления к окружающей среде. Критерием нравственности считается процесс развития (эволюция), обнимающий весь живой мир: то, что способствует его прогрессу, есть добро, а то, что противодействует, – зло. Моральные представления и понятия вырабатываются людьми для ориентировки в природных и социальных явлениях. Само же общество – всего лишь высшая форма естественной ассоциации особей одного вида. В последние годы делаются попытки генетического обоснования Э. Э., что проявляется в концепциях социобиологии (Э. Уилсон и др.), в которых гипертрофируется значение эволюционно-генетических предпосылок этики. В целом Э. э. имеет существенные методологические недостатки, т. к. сведение общества и морали к явлениям биологического порядка не является научным» (http://www. 5-ka. ru/filos/1246. html).
По мнению автора этих слов, в современной эволюционной этике сложилась опасная ситуация, которая может её вывести за пределы подлинной науки. Эта опасность связана с чрезмерным сближением эволюционной этики с эволюционной биологией. Но нельзя при этом заметить, что это сближение в какой-то мере оправданно. Вполне оправданно в эволюционной этике, в частности, поставить такие вопросы: как и почему зачатки нравственности, имеющиеся у наших животных предков, эволюционировали в человеческую нравственность?
Но автор приведённой цитаты в конечном счёте прав: этика – наука культурологическая, а стало быть, её нельзя интерпретировать исключительно в биологических терминах. В противном случае из культурологии она целиком перекочует в биологию. Между тем она ещё не освободилась от многовековой опеки со стороны философии.
Древние греки, как известно, под философией имели в виду любовь к мудрости. В неё попадали по существу все науки. Между тем процесс отделения частных наук от «философии» наметился уже в античности.
Аристотель сузил значение слова σοφία (мудрость). Он стал понимать под ним «первую философию» (т. е. философию как таковую), которую он стал отличать, в частности, от учения о природе. Он писал: «Если нет какой-либо другой сущности, кроме созданных природой, то первым учением было бы учение о природе. Но если есть некоторая неподвижная сущность, то она первее и учение о ней составляет первую философию, притом оно общее знание в том смысле, что оно первое. Именно первой философии надлежит исследовать сущее как сущее – что оно такое и каково всё присущее ему как сущему» (Аристотель. Сочинения в четырёх томах. Т. 1. М., 1976. С. 182).
В другом месте Аристотель так писал о «первой философии»: «Есть некоторая наука, исследующая сущее как таковое, а также то, что ему присуще само по себе. Эта наука не тождественна ни одной из так называемых частных наук, ибо ни одна из других наук не исследует общую природу сущего как такового, а все они, отделяя себе какую-то часть его, исследуют то, что присуще этой части, как, например, науки математические» (там же. С. 119).
Аристотель, как видим, определял философию как науку «о сущем как сущем» или «о сущем как таковом», т. е. как науку о любом сущем, о сущем вообще. Сущее – это всё существующее, весь мир, но взятый со стороны всеобщего. Философия при таком понимании её назначения становится тем, чем она и должна быть, – наукой наук, поскольку сущее вообще имеется в любом конкретном сущем, изучаемом в частных науках, – в частности, в естествознании, поскольку сущее как сущее в его предмете входит в тот или иной продукт природы.
Андроник Родосский – руководитель первого «критического издания» трудов Аристотеля в середине I в. до н. э. – поместил «первую философию» после работ по физике. В результате философия приобрела синоним – метафизика (букв. «то, что после книг по физике»)[1]. «Первая философия» в результате оказалась не на первом месте, а на втором.
Указанная перестановка, о которой идёт речь, в какой-то мере принизила роль философии. Между тем сам Аристотель так писал о «первой философии»: «Это безраздельно господствующая и руководящая наука, наука, которой все другие, как рабыни, не вправе сказать и слова против» (Аристотель. Метафизика. М.-Л., 1934. С. 45).
Понимание философии как общей, синтетической науки, как науки наук идёт от Аристотеля, однако в более ясной форме это понимание было выражено Иоганном Гердером в XVIII в. и Гербертом Спенсером в XIX.
Процесс отпочкования частных наук от «философии», которая во многом продолжала сохранять широкое, доаристотелевское понимание её назначения, в западной Европе начался в XVII в. Но этот процесс до сих пор не завершён.
К началу ХХ в. из-под крыла «философии» с трудом вырвались физика, биология и психология. Со временем их перестали воспринимать как философские дисциплины, однако их «философский» протекторат продолжал напоминать о себе ещё очень долго: книга И. Ньютона по механике названа «Математические начала натуральной философии» (1687), книга К. Линнея по ботанике – «Философия ботаники» (1751), книга Ж.-Б. Ламарка по зоологии – «Философия зоологии» (1809) и т. д.
Во второй половине ХХ в. от «философии» стала отделяться культурология, но и до сих пор некоторые её дисциплины продолжают находиться по преимуществу в ведении философии. Это касается главным образом религиоведения, науковедения и этики.
Не отрицая связей этики с другими науками (в частности, с философией и биологией), мы должны, вместе с тем, сохранить за этикой её бесспорный культурологический статус, поскольку её предмет – нравственность – один из продуктов культуры.
Чтобы философия или биология не претендовали на порабощение этики, необходимо так сформулировать назначение эволюционной этики, чтобы её принадлежность к культурологии выглядела очевидной. Это назначение, на мой взгляд, состоит в постижении эволюционного смысла человеческой жизни.
Вопрос о смысле человеческой жизни по традиции часто называют философским. Между тем это главный этический вопрос. Назначение философии – построение синтетической обобщённой картины мира на основе всех частных наук – физики, биологии, психологии и культурологии.
Если смысл жизни у животного концентрируется на выживании и размножении, то смысл жизни у человека – на его очеловечении (гоминизации). Именно этот смысл позволил людям оторваться от своих животных предков на неизмеримое расстояние. Но, как ни печально это сознавать, это расстояние слишком ничтожно. Если мы присмотримся к современным людям, то легко увидим, что до нравственного идеала им до сих пор так же далеко, как до солнца. Им надо ещё эволюционировать и эволюционировать, чтобы приблизиться к своему нравственному идеалу – к Человеку (с большой буквы).
Человек эволюционирующий – homo evolutarus – вот нравственный идеал эволюционной этики. Но homo evolutarus живёт в каждом из нас со своим извечным антиподом – человеком инволюционирующим (homo involutarus). Если первый ведёт нас вперед, к Человеку (с большой буквы), то другой – назад, к нашим животным предкам. Если первый делает нас проводниками человеческой эволюции – культурогенеза или гоминизации (очеловечения), то его враг – проводниками человеческой инволюции – деградации (озверения) и дегенерации.
Назначение эволюционной этики – служить для человека эволюционирующего в его борьбе с человеком инволюцинирующим руководством к действию – к действию, направленному на развитие в человеке его собственно человеческого начала – человечности. Она и составляет его культурную сущность, его отличие от животного. Культура есть то, – говорил немецкий физик и нобелевский лауреат Вильгельм Оствальд (18531932), – «что отличает человека от животных» (Хоруженко К. М. Культурология. Энциклопедический словарь. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. С. 362).
Эволюционная этика делится на внутреннюю и внешнюю. Во внутренней этике исследуются нравственные нормы как таковые. Её задача состоит в том, чтобы показать эволюционную природу любой нравственной ценности, связанной с отношением человека к другим людям и к самому себе. Её назначение – систематизация добродетелей и пороков. Первые группируются вокруг добра (любовь, сдержанность, смирение, мужество и т. п.) и направляют человека в культурную эволюцию, а другие (ненависть, несдержанность, чревоугодие, сладострастие и т. п.) – в инволюцию. Остановимся подробнее на дисциплинарной структуре внешней этики.
Если во внутренней этике система нравственных категорий рассматривается как таковая, то во внешней – в связи с правильным (эволюционным) отношением ко внешнему миру – природе, психике и культуре. Отсюда три её дисциплины – экология, психоэтика и культурологическая этика. Первая рассматривает отношение «нравственность – природа», вторая – отношение «нравственность – психика» и третья – отношение «нравственность – культура», которая включает в свою очередь исследование отношений между нравственностью и религией, нравственностью и наукой, нравственностью и искусством, нравственностью и политикой, нравственностью и языком и т. д.
Экология (нравственность и природа)
На подлинно научную высоту экология сумела подняться только в ХХ веке. Её вдохновителем у нас можно считать Владимира Ивановича Вернадского, высказавшегося о приближении в истории человечества её нового этапа – ноосферы (сферы разума).
С ноосферой В. И. Вернадский связывал и разумное отношение к природе. Он мечтал даже о том времени, когда человечество станет автотрофным, т. е. научится заряжаться энергией, не употребляя растительной и животной пищи. Оно может научиться, например, потреблять энергию солнца и тем самым не участвовать в уничтожении биосферы. Экологический гуманизм великого учёного, таким образом, граничит с фантастикой. Подобное отношение к живой природе было характерно и для молодого поэта Н. А. Заболоцкого.
Ситуация резко изменилась во второй половине ХХ века, когда надежды на экологические чудеса науки стали всё больше и больше улетучиваться. Люди стали всё больше и больше сознавать, что одной науке с приближающимся экологическим кризисом явно не справиться. Здесь необходимы коллективные усилия всего человечества, организуемые его политическими лидерами. На сцене появился Римский клуб – международная неправительственная организация, которая готовила, вместе с тем, доклады, адресованные самым что ни на есть правительственным организациям. Это произошло в 1968 г. Главной фигурой этого клуба стал итальянский бизнесмен Аурелио Печчеи (1908–1984).
Под эгидой Римского клуба вышло много «докладов», но самыми известными среди них оказались два первых. Первым среди них была книга «Пределы роста» (1972), написанная при участии и под руководством Денниса Медоуза. Опираясь на такие глобальные параметры, как загрязнение среды, невозобновляемость земных ресурсов, рост народонаселения и т. п., авторы этой книги пришли к ошеломляющему выводу: к 2050 г. нашу планету ждёт экологический коллапс. В 1974 г. в качестве второго доклада Римскому клубу вышла книга Михайлы Месаровича и Эдуарда Пестеля «Человечество на распутье», которая отдаёт предглобализмом: весь мир в ней уподобляется живому организму, а его отдельные регионы – определённым органам тела, выполняющим те или иные функции. Но самым выдающимся мыслителем среди членов Римского клуба стал его основатель.
В 1983 г. была опубликована автобиографическая книга A. Печчеи «Человеческие качества». В своих прогнозах её автор оказался весьма далек от оптимизма, который был свойствен
B. И. Вернадскому. Более того, мы обнаруживаем у А. Печчеи явные антисциентистские нотки. Он возлагает на НТР определённую вину за положение, в котором оказалось человечество во второй половине ХХ века. НТР, с его точки зрения, принесла людям не только величайшие достижения, но и закрепила, по крайней мере, в западной цивилизации непомерный антропоцентризм, выражающийся в истолковании человека как господина мира и его диктатора. Но оказался ли он готовым к такой роли? Если да, то пусть идёт до конца, т. е. находит выход из противоречий между природой и человеческими интересами. Сам же А. Печчеи склонен к отрицательному ответу на этот вопрос. Он объясняет это «человеческими качествами», имея под ними в виду не только человеческие достоинства, но и слабости, ограниченность возможностей, которые заложила в человека сама природа-мать. Именно последние заставляли его сомневаться в конечном счёте в том, что человек способен установить на Земле социальную справедливость. Он писал: «Современная цивилизация многим принесла процветание, но она не освободила человека от той алчности, которая совершенно несовместима с открывшимися перед ним огромными возможностями. Оставшиеся ему в наследство от времен бедности эгоизм и узость мышления продолжали довлеть над ним, заставляя извлекать материальные выгоды практически из всех тех разительных изменений, которые он сам вносил в свою жизнь. Так человек постепенно превращался в гротескного, одномерного Homo economicus. К сожалению, от этого изобилия выигрывали в основном лишь определённые слои общества, и их не очень-то волновало, какой ценой заплатят за это благополучие другие, уже живущие или ещё не родившиеся жители планеты» (Печчеи А. Человеческие качества. М.: Прогресс, 1984. С. 17).
В молодости А. Печчеи был в СССР. Он вспоминал: «Заинтересовавшись опытом Великой Октябрьской революции, я научился довольно бегло говорить по-русски и побывал в Советском Союзе. Ленинская новая экономическая политика была темой моей дипломной работы при окончании экономического факультета. Это было в 1930 году, и тема эта не могла не звучать как определённый вызов режиму. Я глубоко восхищался работами Маркса, хотя и не считаю себя ни марксистом, ни последователем какой бы то ни было другой идеологии. Я всегда считал, что богатство мыслей, полученное нами в наследство от Маркса и других великих философов и мыслителей прошлого, должно быть развито и дополнено в соответствии с новыми условиями, характерными для нашего времени» (там же. С. 11).
Наследником А. Печчеи стал венгерский философ Эрвин Ласло. В 1993 г. он основал Будапештский клуб. Хотя деятельность этого клуба никак не идёт в сравнение с Римским клубом, личность самого основателя Будапештского клуба заслуживает самого серьёзного внимания. Эрвин Ласло – выдающийся универсальный эволюционист нашего времени. В журнале «Вопросы истории естествознания и техники» опубликованы две части его работы «Пути, ведущие в грядущее тысячелетие» (1997, № 4; 1998, № 1). В этой работе венгерский мыслитель указывает на нравственные ориентиры, которые связаны с отношением человека к окружающей среде. Под последней он понимает не только природные условия, но и культуру. Вот эти ориентиры, которые он называет новыми императивами:
• мыслить глобально, действовать ответственно,
• создавать новую культуру предпринимательства,
• поднимать уровень понимания насущных проблем политическими лидерами,
• уважать моральный кодекс сохранения окружающей среды,
• создавать культуру интерсуществования,
• развивать наше индивидуальное и коллективное сознание.
Особенно важное место среди этих императивов занимает первый. С точки зрения Э. Ласло, человечество в тот период своей эволюции, когда от его способности мыслить глобально в конечном счёте будет зависеть его дальнейшее развитие. При этом речь не идёт лишь об абстрактном мышлении, способном держать в поле своего внимания весь мир, глобальное мышление, с его точки зрения, должно стать обыденным и массовым. Каждый человек в идеале должен овладеть глобалистским (холистическим) стилем мышления. Это позволит ему за единичными фактами (за отдельными деревьями) видеть весь мир (весь лес).
До глобального мышления современному человечеству в своём подавляющем большинстве, увы, ещё очень далеко. Это означает, что у универсального эволюционизма как массового мировоззрения ещё всё впереди.
Психоэтика (нравственность и психика)
Каким должно быть отношение эволюциониста к психике (душе)? Это отношение должно базироваться на следующем постулате: человеческая душа есть величайшее достижение эволюции. Без психогенеза не было бы и культурогенеза. Но душа, как известно, включает ratio и emotio. С эволюционной точки зрения, бесспорным лидером в этой диаде должен быть разум. Разумеется, чувства не могли не внести свою лепту как в психогенез, так и в культурогенез. Одно чувство самосохранения чего стоит! Без него мы бы не самосохранились. Но всё-таки в конечном счёте не способности чувствовать, а способности мыслить мы обязаны своим очеловечением. Но ведь мыслят и животные! В чём же отличие человеческого мышления от животного? В его творческой природе. Конечно, А. Бергсон был в какой-то мере прав, утверждая в своей книге L'Evolution creatrice «Творческая эволюция» (1907), что творчество составляет суть не только культурогенеза и психогенеза, но и биогенеза. Осталось добраться до физиогенеза! Однако в отношении к биогенезу он был прав лишь метафорически, поскольку творческая способность есть черта собственно человеческая, хотя его эмбриональные элементы, конечно, имеются и у наших эволюционных собратьев (птицы, например, умеют строить гнёзда, а обезьяны использовать палки в качестве примитивных орудий труда). Очевидно, в отношении к животным следует говорить о предтворчестве и о предкультуре.
Чем же отличается подлинное творчество от предтворчества, которое имеют и животные? Способностью к моделированию нового. Эта способность и позволила нашим предкам совершить скачок к гоминизации, которая продолжается и по сей день. Творческое моделирование – предтеча любого продукта культуры, а мостиком между ними является трудовая деятельность. Выходит, с цепочки «модель – труд – продукт) и начался культурогенез (= антропогенез, гоминизация, очеловечение). Чем больших личных успехов достигает в реализации подобных цепочек человек, тем больше он гоминизируется, т. е. дальше уходит от наших животных предков, а также и других людей, оставшихся на пути к очеловечению позади. А что же им мешает? Необразованность, лень, неорганизованность, отсутствие целеустремлённости и т. д. Если образованность, трудолюбие, организованность, целеустремленность и т. п. ведут человека по эволюционному пути вперёд, то их антиподы – назад, к дегенерации, к инволюции.
Каждому ясно, что не только от качеств отдельного человека зависит его культурная эволюция. Она зависит также и от пресловутой среды. А нынешняя среда особенно “благоприятна” для разлада тонко чувствующих людей со стремительно меняющейся действительностью. Она сбивает их сплошь и рядом с эволюционного пути на инволюционный. Самый крайний результат – самоубийство, т. е. добровольный возврат к мёртвой природе. Но есть и другой путь к инволюции: страх → ненависть → депрессия → невроз → психопатия → сумасшествие. Это и есть путь к психическому вырождению.
Макс Нордау приписывал психическому вырождению следующие черты: неспособность отличить добро от зла (нравственное помешательство), “сильно развитый эгоизм”, угнетённое состояние духа, пессимизм, лёгкая возбуждаемость, истеричность, чувство превосходства над другими, страх, человеконенавистничество, бесхарактерность, неспособность к труду (леность), стремление к одиночеству, бесплодная мечтательность, мистицизм. Он писал: «Психологические источники нравственного помешательства во всех степенях его развития заключаются в сильно развитом эгоизме и непреодолимых влечениях, т. е. неспособности противиться внутреннему влечению, побуждающему совершить какое-нибудь действие. Это два главных признака вырождения… Наряду с нравственным помешательством и лёгкой возбуждаемостью вырождение характеризуется также состоянием душевного бессилия и унынием… Психопат. убеждает самого себя, что он презирает труд, а чтобы оправдать себя в собственных глазах, он создаёт философию отречения, удаления от мира, человеконенавистничества. В связи с неспособностью к деятельности находится склонность к бесплодной мечтательности. Психопат не способен приспособляться к данным условиям. Он вечно старается пересоздать мир и сочиняет планы спасения человечества. Наконец, ещё одним из главных признаков вырождения является мистицизм» (Нордау М. Вырождение. М.: Республика, 1995. С. 34–36).
Культурологическая этика (нравственность и культура)
Главный императив эволюционной этики гласит: культура – венец физической, биотической и психической эволюции. Но она эволюционирует и внутри себя – от примитивных форм религии, науки, искусства, нравственности, политики, языка, пищи, одежды, жилища и техники к их всё более и более совершенным формам. Смысл человеческой жизни как раз и состоит в том, чтобы удачно вписаться в культурную эволюцию (культурогенез, гоминизацию), т. е. в стремлении впитать в себя как можно больше предшествующей культуры и внести в неё максимальный личный вклад.
Главный враг культурогенеза – культурофобия. Вот что по этому поводу писал А. С. Панарин, имея в виду американцев: «…и американское гражданское общество, исповедующее мораль индивидуалистического успеха, и американское государство, в ходе мировых войн ХХ века подготовившееся к выполнению “мировой миссии”, заражено культурофобией… Американский социал-дарвинизм с его законами естественного отбора и выживания наиболее приспособленных закономерно ведёт к борьбе с культурой, заслоняющей “правду” естественного состояния и мешающей его приятию» (Панарин А. С. Искушение глобализмом. М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. С. 103).
Нравственность и религия. Как должен относиться к религии эволюционист? Эволюционистски, т. е. видеть в ней исторически объяснимый продукт духовной культуры, некогда сыгравший огромную роль в культурогенезе. На протяжении многих веков она была главным путеводителем формирующегося человечества в мире. Но её золотой век давным-давно позади.
Нравственность и наука. Подлинный эволюционист относится к науке с благоговением. Он видит в ней главную движущую силу культурогенеза. Каждому ясно, что наука не всесильна, но стало ли научное сознание массовым – вот в чём вопрос. До тех пор, пока в массовом сознании будет господствовать обыденная, а не научная картина мира, человечество будет пребывать в младенческом состоянии.
Построению научной картины мира препятствуют две тенденции – к чрезмерной дифференциации науки и к её чрезмерной интеграции. Выход из этого затруднения только один – эволюционизм. Подлинная научная картина мира не может не опираться на эволюционизм. Если наш мир эволюционировал в направлении «физиогенез – биогенез – психогенез – культурогенез», то, стало быть, в научной картине мире должны присутствовать четыре частных науки – физика, биология, психология и культурология. Если в объекте любой науки имеется нечто общее (время/пространство, часть/целое, качество/ количество и т. д.), то над частными науками должна возвышаться общая наука – философия. Дисциплинарная структура науки, таким образом, является – по числу базовых наук – пятичленной:
Инволюционные процессы в околонаучном сознании – черта отнюдь не средневековая. Вот как охарактеризовывает атмосферу «перестройки» в СССР и России наш рыцарь науки Эдуард Кругляков: «Астрология, мистика, оккультизм, шаманство и прочий антинаучный бред заполонили страницы газет и журналов незадолго до развала СССР. Народ буквально замирал у телевизоров, когда на экране появлялись чумаки и кашпировские. Свою нишу заняли супруги (теперь уже бывшие) Т. и П. Глоба. Последний и сегодня продолжает практически ежедневно “вещать” свои астропрогнозы… Вакханалия паранаучного бреда, буквально бушующая в средствах массовой информации, увы, начинает сказываться на высших эшелонах власти. Астрологи, экстрасенсы, новоявленные “учёные” других “профессий” всё энергичней пробиваются в Государственную Думу, в силовые министерства, даже в окружение Президента. Естественно, что бурный рост, я бы даже сказал, насаждение невежества и шарлатанства вызывают возмущение людей науки, да и не только науки» (Кругляков Э. П. Что же с нами происходит? // http://www-psb. ad-sbras. nsc. ru/otavt1d. htm).
Вот как объясняет засилье у нас лженауки В. С. Стёпин: «Почему религиозно-мифологический опыт начинает сейчас выступать в обличии научной терминологии и подаётся как форма научного знания? На мой взгляд, это связано с особым статусом науки в культуре техногенной цивилизации, которая пришла на смену традиционалистским обществам, зародившись в Европе примерно в эпоху Ренессанса и Реформации. Начиная с XVII столетия наука завоёвывает себе право на мировоззренческую функцию, её картина мира становится важнейшей составляющей мировоззрения. Научная идеология, идеалы науки, её нормативные структуры, способы доказательства и её язык выступают как основа принятия решений, часто подпитывая власть. Доминирующая ценность научной рациональности начинает оказывать влияние на другие сферы культуры – и религия, миф часто модернизируются под этим влиянием. На границе между ними и наукой и возникают паранаучные концепции, которые пытаются найти себе место в поле науки» (Стёпин В. С. Наука и лженаука: . rsl. ru). Как бы то ни было, добавлю я от себя, но у науки ещё всё впереди на её пути к завоеванию ею «мировоззренческой функции» в массовом сознании (о лженауке см.: Даниленко В. П. Инволюция в духовной культуре: ящик Пандоры. М.: КРАСАНД, 2012. С. 70221).
Нравственность и искусство. Доказывать культурогеническую роль искусства в человеческой эволюции – значит ломиться в открытую дверь. Каждый понимает, что приобщение человека к искусству есть не что иное, как один способов инкультурации, под которой понимают «процесс приобщения индивида к культуре, усвоения им существующих привычек, норм и паттернов поведения, свойственных данной культуре» (http://www. examen. ru/ExamineBase. nsf/Display?OpenAgent&P agename=defacto. html).
Вот как объяснял очеловечивающую функцию искусства в древности М. С. Каган: «Для первобытного человека первоначальные формы художественной деятельности – создание мифов, песен, танцев, изображение зверей на стенах пещер, украшение орудий труда, оружия, одежды, самого человеческого тела – имели огромное значение, так как способствовали сплочению коллективов людей, развивали их духовно, помогали им осознавать их социальную природу, их отличие от животных, т. е. служили великому историческому делу очеловечения человека» (. ru/default. asp).
Функцию гоминизации искусство будет выполнять всегда, но нет ли у неё и совсем противоположной функции – функции анимализации, т. е. превращения человека в животное? Так называемая массовое искусство, рассчитананное не на эволюцию, а на инволюцию человека, по существу превращает искусство в свою противоположность – лжеискусство. Но – как суррогат художественной культуры – оно делает в обществе своё разрушительное дело. Как же отличить искусство от лжеискусства с эволюционной точки зрения? Теоретически очень просто: первое ведет к Человеку, а другое – к дикарю, к животному. Первое рождает стремление к истине, красоте, справедливости, добру, любви, состраданию, единению с другими людьми и т. п., а второе – стремление к лжи, безобразному, несправедливости, злу, ненависти, равнодушию, насилию, разобщённости, эгоизму, культу денег и лёгкой наживы и т. п. Но на практике лжеискусство часто маскируется под искусство (как и лжекультура вообще – под культуру). Вот почему воспитание тонкого художественного вкуса следует строить на приобщении людей к классике – произведениям, выдержавшим проверку временем. В искусстве, как и всюду, нужен строгий эволюционный отбор (о лжеискусстве см.: Даниленко В. П. Инволюция в духовной культуре: ящик Пандоры. М.: КРАСАНД, 2012. С. 222–333).
Нравственность и политика. Всякий эволюционист понимает, что любой общественный строй есть не что иное, как одно из звеньев политической эволюции. Не признавать это – вслед за Ф. Фукуямой – может лишь тот, кто хорошо устроился в этом мире. Как бы ни тщился Карл Поппер доказать отсутствие законов общественного развития, а Фрэнсис Фукуяма провозглашать глобализационный капитализм верхом общественного совершенства, крот истории роет. Придёт время, когда в яму, которую он выроет, попадут и все те теории, которые не способны постичь эволюционизм. Принимать мир, в котором одни с жиру бесятся, а другие не могут свести концы с концами, может только безнравственный человек (о лже-политике см.: Даниленко В. П. Инволюция в духовной культуре: ящик Пандоры. М.: КРАСАНД, 2012. С. 394–422).
Нравственность и язык. Эволюционист видит в языке фундаментальный человекообразующий фактор культурогенеза. Великий языковед-эволюционист Вильгельм фон Гумбольдт считал, что без языка не было бы человека, как без человека не было бы языка. Он писал: «Человек является человеком только благодаря языку, а для того, чтобы создать язык, он уже должен быть человеком» (Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1984. С. 314). Словом, их не было бы друг без друга. Выходит, антропогенез и глоттогенез – ровесники. В чём состоит главный вклад последнего в первый?
В выполнении трёх основных функций языка – коммуникативной (общения), когнитивной (познавательной) и прагматической (практического воздействия на мир).
Осуществлению указанных функций языка препятствуют в первую очередь чрезмерные языковые заимствования (варваризмы) и языковые вульгаризмы (в особенности – матерщина). Л. П. Крысин: «Читаю газеты: Участники саммита пришли к консенсусу… В бутиках большой выбор одежды прет-а-порте… То и дело мелькает: имидж политика, большой бизнес, истеблишмент, риэлторы, ньюсмейкеры, брокеры, наркокурьеры… Диктор телевидения сообщает: Первые транши были переведены в офшорные зоны… Пресс-секретарь премьер-министра информировал собравшихся о перспективах в сфере инвестиционной политики государства. Дилеры прогнозируют дальнейшее падение котировок этих акций… Что за напасть?» (Крысин Л. П. Иноязычие в нашей речи – мода или необходимость? // http://www. gramota. ru/author. html).
1 июля 2014 г. у нас вступил в силу «Закон о запрете ненормативной лексики в искусстве и СМИ». Какой же была реакция на этот закон со стороны нашей творческой интеллигенции? Неоднозначная. Вот что по этому поводу сказал Геннадий Берёзов: «Слава богу, может быть, начнётся освобождение нашего культурного пространства от скверны. Пора показать себе и миру, что Россия – страна культуры, а не источник бескультурья и безобразия» (http://www. lgz. ru/ artide/-27-6470-9-07-2014/mat-tonkaya-materiya).
Подобным образом отреагировал на закон о ненормативной лексике С. Г. Кара-Мурза: «Этот вопрос стоял ещё во времена Пушкина. Русская интеллигенция Х!Х века сошлась на том, что на ненормативную лексику должна быть цензура. Иначе мат превращается в инструмент разрушения норм культуры. Если материться можно с экрана и со сцены, то почему нельзя это делать в других местах? Это, во-первых. Во-вторых, использование ненормативной лексики в действительности является признаком беспомощности автора, исчерпания его художественных ресурсов. В широком смысле это признак “дефицита мощности”. Если художник вынужден использовать мат, это знак того, что он достиг предела своих возможностей. Само требование узаконить это средство – признак кризиса культуры» (http://lgz. ru/article/-36-6478-17-09-2014/ nadezhdy-ostayutsya).
Другая реакция на закон, о котором идёт речь, была у Никиты Михалкова: «Мат – одно из самых тонких и изощрённых изобретений русского народа. Я служил на флоте, и как вспомню разговор мичмана Криворучко с моряками… Это была песня! Тютчев по красоте, витиеватости и изощренности! У многих есть знакомые, которые матюгаются, – и это обаятельно, вы даже этого не замечаете. Мат в кино запрещать глупо» (там же).
Не буду приводить здесь слова других поклонников матерного искусства. Наша творческая интеллигенция сплошь и рядом – не только жертва культурной деградации, наступившей у нас в постсоветские времена, но и её активный участник.
Очеловечение – вот миссия, ниспосланная эволюцией роду человеческому. В осуществлении этой миссии ему призвана помогать эволюционная этика. Её цель – указать человеку на такие нравственные ориентиры в его отношении к природе, душе, культуре (религии, науке, искусству, политике, языку и т. д.), которые позволяют ему строить свою жизнь, исходя из универсального эволюционизма – мировоззрения, видящего в мире единство эволюции физической (физиогенеза), биологической (биогенеза), психической (психогенеза) и культурной (культурогенеза).
Эволюционным ориентирам противостоят инволюционные. Если цель последних – анимализация человека, то цель первых – его дальнейшая гоминизация. Цель эволюционной этики – создать теорию, способную помочь людям в их борьбе с инволюцией, в их дальнейшем очеловечении (культурогенезе).
1. Философские подходы к решению проблемы нравственной эволюции
Когда мы достигаем Человека, эволюция частично становится целенаправленной, поскольку человек – первый продукт эволюции, который сам способен её контролировать.
Джулиан Хаксли1. 1. Истоки
1. 1. 1. Демокрит
Демокрита (около 460 – около 370 до н. э) называют смеющимся философом. В первую очередь он смеялся над глупостью своих земляков – жителей города Абдеры. По преданию, этот город был основан Гераклом на месте гибели его друга Абдера. Немецкий писатель Кристоф Мартин Виланд (1733–1813) описал их в сатирическом романе «История абдеритов» (1780). А в 1790 г. французский живописец Франсуа-Андре Венсан в картине «Демокрит среди абдеритов» изобразил Демокрита не смеющимся, а погружённым в глубокую думу. Ему было, о чём подумать. Размах его дум был энциклопедическим.
Историки философии оказали Демокриту не самую лучшую услугу: при анализе его научного наследия в целом они поставили на первое место его атомистическое учение. Не отрицая достоинств этого учения, следует сказать: главная заслуга Демокрита состоит в том, что он – основатель универсального эволюционизма в Европе (см. подр. о нём в моей кн.: «Свет Прометея: эволюция в духовной культуре»).
Много внимания Демокрит уделял этике. Он был эвдемонистом – мыслителем, объявившем высшей добродетелью не что иное, как счастье. Под счастьем он понимал евтюмию – хорошее расположение духа. По свидетельству Диогена Лаэртского, под евтюмией смеющийся философ понимал такое состояние духа, которое может быть охарактеризовано как гармония, уравновешенность, безмятежность, невозмутимость, не-изумляемость, спокойствие, тишина, бесстрашие. Эпикур назовёт евтюмию атараксией. Главное условие её достижения он сформулирует так: «Живи незаметно». Эпикурейцы извратят Эпикура, выставив его как оголтелого гедониста, гоняющегося за наслаждениями. Между тем он прожил очень трудную жизнь (см.: Гончарова Т. В. Эпикур. М.: Молодая гвардия, 1988).
Об извращении идеи евтюмии (атараксии) предупреждал ещё Демокрит: «Цель жизни – хорошее расположение духа (ев-тюмия), которое не тождественно с удовольствием, как некоторые, не поняв как следует, истолковали, но такое состояние, при котором душа живёт безмятежно и спокойно, не возмущаемая никаким страхом, ни боязнью демонов, ни какой-либо другой страстью» (Материалисты древней Греции: собрание текстов Демокрита, Гераклита, Эпикура. М.: Госполитиздат, 1955. С. 154).
Отсюда не следует, что Демокрит отрицал удовольствия (блага) как компоненты счастья. Он делил их на телесные и душевные. Но вот что важно: последние он ставил выше первых. Чтобы возвысить душевные удовольствия над телесными, Демокрит подчёркивал божественную природу первых. Он говорил: «Предпочитающий душевные блага избирает божественную часть. Предпочитающий же блага телесного сосуда избирает человеческое» (там же. С. 155).
Счастье невозможно без меры. Демокрит распространял её как на телесные, так и душевные блага. «Прекрасна надлежащая мера во всём, – утверждал Демокрит. – Излишек и недостаток мне не нравятся» (там же. С. 16).
Демокрит говорил: «От чего мы получаем добро, от того же самого мы можем получить и зло, а также средство избежать зла» (там же. С. 156). Как это понимать? Да очень просто: от денег, например, мы можем получать как добро, так и зло. На место денег можно поставить удовлетворение и каких угодно потребностей – в пище, одежде, жилище, технике и т. д. Выходит, всё хорошо в меру.
Как излишек, так и недостаток выводят человека из равновесия, приводят его к душевной дисгармонии, заставляют страдать. Как определить меру? На то нам и дан разум. Он должен уметь справляться с чувственной природой человека с помощью воспитания (учения). Демокрит писал: «Учение перестраивает человека, природа же, перестраивая, делает человека, и нет никакой разницы, быть ли таковым, вылепленным от природы, или от времени и учения быть преобразованным в такой вид» (там же. С. 172).
В качестве одного из правил самовоспитания Демокрит рассматривал стыд. Он учил: «Не говори и не делай ничего дурного, даже если ты наедине с собой. Учись гораздо более стыдиться самого себя, чем других» (там же. С. 157). Другой тормоз – чувство долга: «Не из страха, но из чувства долга должно воздерживаться от дурных поступков» (там же. С. 158). Но самые главные требования человека к самому себе, по Демокриту, состоят вот в чём: «Хорошо мыслить, хорошо говорить и хорошо делать» (там же. С. 163).
Демокрит, как видим, делал упор на самовоспитание. Воспитанным людям не нужен внешний закон. Он указывал: «Лучший с точки зрения добродетели будет тот, кто побуждается к ней внутренним влечением и словесным убеждением, чем тот, кто побуждается к ней законом и силою. Ибо тот, кого удерживает от несправедливого поступка закон, способен тайно грешить, а тому, кто приводится к исполнению долга силою убеждения, не свойственно ни тайно, ни явно совершать что-нибудь преступное. Поэтому-то всякий, кто поступает правильно, с разумением и с сознанием, тот вместе с тем бывает мужественным и прямолинейным» (там же. С. 157).
А если речь идёт о детях? Принуждение здесь необходимо. В первую очередь – к труду. «Если бы дети не принуждались к труду, – говорил великий философ, – то они не научились бы ни грамоте, ни музыке, ни гимнастике, ни тому, что наиболее укрепляет добродетель, – стыду. Ибо по преимуществу от этих занятий рождается стыд» (там же. С. 173).
Уже и из беглого знакомства с этикой Демокрита видно, что четыре добродетели он выдвинул на первое место – счастье, меру, долг и стыд. С помощью разума они нас, по Демокриту, очеловечивают в первую очередь.
1. 1. 2. Эпикур
Эпикур (342/341-271/270 до н. э.) восхвалял самоценность жизни – не только душевной, но и телесной. Своих слушателей в Саду он учил атараксии – гармоническому состоянию духа, которое достигается через абсолютно безразличное отношению к внешнему миру. Отсюда его аполитичность. Отсюда печальный итог его этики: «Живи незаметно (скрываясь)». Вот как его пояснила Т. В. Гончарова, исходя из тех обстоятельств, в которых доживал свой век Эпикур в потерявших былую независимость Афинах: «Скрываясь – оставайся свободным, скрываясь – оставайся независимым духом и разумом, скрываясь – оставайся счастливым, счастливым немыслимым, невероятным, парадоксальным счастьем побеждённого. Будь счастлив тем, что лицо твоё ещё не отмечено рабским клеймом, что ты не умер от голода во время осады, не свалился в уличную грязь с размозжённой кельтской дубинкой головой, будь счастлив тем, что в саду по-прежнему благоухают ночные цветы, а в ларце у стены покоятся драгоценные свитки, писания старинных философов» (Гончарова Т. В. Эпикур. М.: Молодая гвардия, 1988. С. 287).
Эпикур ощущал себя Спасителем людей. Как Прометей, он нёс людям свет знаний. Он верил в их целительную силу. Прекрасную книгу о нём написала Татьяна Викторовна Гончарова! Мы можем в ней прочитать, в частности, такие строки: «Ему казалось, что знание, и прежде всего знание явлений природы, устройства Вселенной, основных закономерностей жизни, может помочь людям освободиться от тёмного страха перед неизвестным, от суеверий и нелепых привычек, поможет им нравственно подняться, жить осмысленно, разумно, сохраняя своё человеческое первородство при всех превратностях бытия» (там же. С. 82).
Эпикур жил в эпоху заката эллинизма. Эта эпоха очень напоминает время заката советской цивилизации. Мы ещё питаемся её плодами. Мы ещё живём ими, но ежедневно ощущаем, как она от нас уходит, как мы всё больше начинаем выживать, а не жить.
Надо иметь большое мужество, чтобы в эпоху упадка находить в себе силы для борьбы с деградацией. Эпикур жил среди людей деградирующих. У Т. В. Гончаровой читаем: «И вот этим-то людям, своим погибающим в бессилии и бесславии соплеменникам, решает помочь сын Неокла (Эпикур. – В. Д.). Он приступает к главному делу своей жизни с твёрдой верой в целительную силу знания… При виде почти всеобщей растерянности у Эпикура крепнет решение помочь всем неуверенным и пребывающим в тревоге жить так, чтобы не потерять окончательно памяти о человеческом предназначении, о гордости быть существом разумным и мыслящим, научить людей жить даже тогда, когда, как казалось теперь очень многим, жить уже нечем» (там же. С. 86).
Сам процесс познания доставлял Эпикуру наслаждение. Он писал: «Во всех занятиях плод с трудом приходит по окончании их, а в философии рядом с познанием бежит удовольствие: не после учения бывает наслаждение, а одновременно бывает изучение и наслаждение» (там же. С. 117).
Главный труд Эпикура «О природе» состоял из 37 книг. Ни одна из них не сохранилась. До нас дошло только три письма Эпикура – к Геродоту, Пифоклу и Менекею. Наибольшую известность приобрело последнее. В нём мы находим суждения Эпикура о счастье.
Эпикур видел смысл жизни в счастьи. В качестве первостепенного условия к его достижению он рассматривал занятия философией. Он писал: «Пусть никто в молодости не откладывает занятия философией, а в старости не устаёт заниматься философией: ведь никто не бывает ни недозрелым, ни перезрелым для здоровья души» (Антология мировой философии. Т. 1. Ч. 1. М.: Мысль, 1969. С. 354).
«Кто говорит, что ещё не наступило или прошло время для занятия философией, тот похож на того, кто говорит, что для счастья или ещё нет, или уже нет времени, – наставлял Эпикур своего ученика. – Поэтому и юноше, и старцу следует заниматься философией: первому – чтобы он и в старости остался молод благами в доброй памяти о прошлом, а второму – для того чтобы быть одновременно и молодым, и старым вследствие отсутствия страха перед будущим. Поэтому следует размышлять о том, что создаёт счастье, если действительно, когда оно есть, у нас всё есть, а когда его нет, мы всё делаем, чтобы его иметь» (там же. С. 354–355).
Из чего же состоит счастье человеческое? Из телесного здоровья и душевной безмятежности (атараксии). «…содействовать здоровью тела и безмятежности души, – писал Эпикур, – это и есть цель счастливой жизни» (там же. С. 356).
Как здоровье, так и безмятежность приносят удовольствие. Но Эпикур предупреждал: «Так как удовольствие есть первое и прирождённое нам благо, то поэтому мы выбираем не всякое удовольствие, но иногда мы обходим многие удовольствия, когда за ними следует для нас большая неприятность; также мы считаем многие страдания лучше удовольствия, когда приходит для нас большее удовольствие, после того как мы вытерпим страдания в течение долгого времени» (там же. С. 356–357).
Нельзя превращать свою жизнь в погоню за наслаждением. Чтобы получать удовольствия, мы можем обходиться малым – например, хлебом и водой: «Простые кушанья доставляют такое же удовольствие, как и дорогая пища, когда всё страдание от недостатка устранено. Хлеб и вода доставляют величайшее удовольствие, когда человек подносит их к устам, чувствуя потребность» (там же. С. 357).
Вот какой вывод делал Эпикур об удовольствии: «Итак, когда мы говорим, что удовольствие есть конечная цель, то мы разумеем не удовольствия распутников и не удовольствия, заключающиеся в чувственном наслаждении, как думают некоторые, не знающие, или не соглашающиеся, или неправильно понимающие, но мы разумеем свободу от телесных страданий и от душевных тревог. Нет, не попойки и кутежи непрерывные, не наслаждения мальчиками и женщинами, не наслаждения рыбою и всеми прочими яствами, которые доставляет роскошный стол, рождают приятную жизнь, но трезвое рассуждение, исследующее причины всякого выбора и избегания и изгоняющее [лживые] мнения, которые производят в душе величайшее смятение. Начало всего этого и величайшее благо есть благоразумие. Поэтому благоразумие дороже даже философии. От благоразумия произошли все остальные добродетели; оно учит, что нельзя жить приятно, не живя разумно, нравственно и справедливо, и, наоборот, нельзя жить разумно, нравственно и справедливо, не живя приятно» (там же. С. 357).
Высказывание греческого мудреца о смерти стало бессмертным. Вот оно: «Самое страшное из зол, смерть, не имеет к нам никакого отношения, так как, когда мы существуем, смерть ещё не присутствует; а когда смерть присутствует, тогда мы не существуем. Таким образом, смерть не имеет отношения ни к живущим, ни к умершим, так как для одних она не существует, а другие уже не существуют» (там же. С. 356).
1. 1. 3. Лукреций
О жизни Тита Лукреция Кара (99–55 до н. э.) почти ничего неизвестно. Зато хорошо известны его современники. В. Ф. Асмус писал: «Высшим, талантливейшим и наиболее оригинальным философским произведением римского материалистического эпикуреизма оказалась всемирно знаменитая философская поэма Лукреция Кара «О природе вещей» (Асмус В. Ф. Античная философия. М.: Высшая школа, 1976. С. 445). Выделю здесь только один фрагмент из великой поэмы Лукреция – об эволюции нравственности.
Предки людей вступили на путь очеловечения благодаря создаваемой ими культуре. Лукреций выделил два исторических типа культуры – доогневой (до применения огня) и огневой (с момента использования огня).
Доогневая культура – культура дикарей. Её представители ходили голые, жили в лесах и пещерах, ели плоды дикорастущих деревьев и мясо убитых ими животных. Вот как это выглядит у Лукреция:
Люди ещё не умели с огнём обращаться, и шкуры, Снятые с диких зверей, не служили одеждой их телу; В рощах, в лесах или в горных они обитали пещерах… На несказанную мощь в руках и в ногах полагаясь, Диких породы зверей по лесам они гнали и били Крепким, тяжёлым дубьём и бросали в них меткие камни; Многих сражали они, от иных же старались укрыться (Лукреций. О природе вещей. М.: АН СССР, 1958. С. 190–191).Отношения между дикарями были неупорядоченными. Их мораль была эгоистичной.
Общего блага они не блюли, и в сношеньях взаимных Были обычаи им и законы совсем неизвестны. Всякий, добыча кому попадалась, её произвольно Брал себе сам, о себе лишь одном постоянно заботясь. И сочетала в лесах тела влюблённых Венера. Женщин склоняла к любви либо страсть обоюдная, либо Грубая сила мужчин и ничем неуёмная похоть, Или же плата такая, как жолуди, ягоды, груши (с. 190).Ситуация резко изменилась в следующую эпоху в истории человечества. Применение огня позволило людям:
День ото дня улучшать и пищу, и жизнь научали Те, при посредстве огня и всяческих нововведений, Кто даровитее был и умом среди всех выдавался. Начали строить цари города, воздвигатьукрепленья, В них и оплот для себя находя и убежище сами; И поделили поля и скотину они, одаряя Всех по наружности их и по их дарованьям и силам, Ибо наружность тогда почиталась и славились силы. Позже богатство пришло… (с. 195).Деление людей на богатых и бедных сыграло с людьми злую шутку. Оно перевернуло человеческое общество с ног на голову. Люди стали цениться не по их действительным достоинствам, а по величине денежного мешка.
Но наступили более цивилизованные времена. Люди стали думать об «общем благе». Стали они думать и о счастье. Ближе всех приблизился к пониманию счастья великий Эпикур. А Лукреций следовал за ним:
Я по стопам его ныне иду и ему продолжаю Следовать… (с. 165).Эпикур понимал счастье как атараксию – безмятежную жизнь.
Но безмятежная жизнь невозможна без чистого сердца… Если же сердце не чисто у нас, то какие боренья, Сколько опасностей нам угрожает тогда поневоле, Сколько жестоких забот и терзаний, внушаемых страстью, Мучат смятенных людей и какие вселяют тревоги! Гордость надменная, скупость и дерзкая наглость – какие Беды они за собою влекут! А роскошь и праздность? (с. 164).Что же «жалкому роду людей» (с. 205) нужно для счастья, кроме чистого сердца? Немногое:
О вы, ничтожные мысли людей! О чувства слепые! В скольких опасностях жизнь, в каких протекает потёмках Этого века ничтожнейший срок! Неужели не видно, Что об одном лишь природа вопит и что требует только, Чтобы не ведало тело страданий, а мысль наслаждалась Чувством приятным вдали от сознанья заботы и страха? Мы, таким образом, видим, что нужно телесной природе Только немногое: то, что страдания все удаляет (с. 58–59).Счастье, выходит, в отсутствии страданий – как телесных, так и душевных.
1. 1. 4. Джордано Бруно
На место всемогущего Бога в нравственной картине мира Средних веков гуманисты Возрождения ставят человека. Они порывают со средневековым теоцентризмом и утверждают антропоцентризм.
В 1487 г. 23-летний Джовани Пико делла Мирандола (14631494) произносит свою блестящую речь «О достоинстве человека», где в центр Вселенной ставится не Бог, а человек. Дерзкий итальянец с презрением смотрит на человека, униженно согбенного перед всемогущим и просящего у него воздаяния за свои бесконечные страдания. Он поёт гимн свободному человеку! Он объявляет его творцом собственной судьбы. «О великое и восхитительное счастье, – восклицает он, – человека, которому дано владеть тем, чем он пожелает, и быть тем, чем хочет!» (Очерк истории этики / Под ред. Б. А. Чагина. М.: Мысль, 1969. С. 96).
Отвергнув культ христианского страдания, другой итальянский философ – Лоренцо Валла (1407–1457) – ударился в новую крайность: он провозгласил культ наслаждения. В книге «О наслаждении как истинном благе» (1431) Л. Валла, соглашаясь с Эпикуром (341–270 до н. э.), восклицает: «…я призываю к наслаждению!» (Антология мировой философии. Т. 2. М.: Мысль, 1970. С. 78). Добродетели же он низводит до «служанок наслаждения». Более того, он утверждает, что «жить без наслаждения невозможно, без добродетели можно» (там же. С. 80). Свой труд он заканчивает главой о похвале наслаждению. Агрикультура, архитектура, ткачество, живопись, корабельное дело, ваяние, поэзия, дружба, брак – всё, по его убеждению, создаётся не из любви к добродетели, а для того, чтобы приносить людям наслаждение. Наслаждение у него – золотой ключик, которым открывается любой ларчик!
К пересмотру традиционных представлений о морали призывал в XV в. и Пьетро Помпонаццы (1462–1525). В трактате «О бессмертии души» он покушается на святое святых – догмат о бессмертии души. Он отвергает его! Философ призывает к нравственности не из страха перед адскими муками, а по внутренним убеждениям. Нельзя, по его мнению, говорить о подлинной добродетели, если она делается по принуждению – из боязни быть наказанным. Истинная добродетель исходит из самого человека, но, разумеется, не из любого человека, а хорошего. «Плохой же человек, – цитирует он Аристотеля, – в десять тысяч раз хуже зверя» (там же. С. 97).
Высшим достижением этической мысли в эпоху Возрождения стало нравственное учение Джордано Бруно (15481600), жизнь которого прервал костёр инквизиции.
В молодости Д. Бруно получил сан священника и степень доктора философии, но, разочаровавшись в монастырской жизни, он покидает родную Италию и начинает вести жизнь скитальца – в Швейцарии, Франции, Англии и Германии. В 1592 г. он возвращается в Италию, где его и арестовывает инквизиция, предъявив ему обвинения в ереси и свободомыслии.
Д. Бруно был пантеистом. Он деперсонифицировал Бога, разлив божественное начало по всей Вселенной. На русский язык переведены следующие его книги:
1. Изгнание Торжествующего зверя. СПб.: Огни, 1914.
2. О героическом энтузиазме. М.: Художественная литература, 1953.
3. Философские диалоги. М.: Алетейя, 2000.
Для этической позиции Д. Бруно были характерны четыре основные черты: критицизм, космический мифологизм, эволюционизм и культурный (творческий) антропоцентризм.
Критицизм
С одной стороны, Д. Бруно был сыном своего возрожденческого времени, а с другой, его позиция в отношении к возрождению античных идеалов была критической. С одной стороны, ему был близок героический дух гомеровских воинов, а с другой, он стремился к обновлению самого понятия героизма. Героизм, по его мнению, не должен сводиться к его разрушительной, военной стороне – к героизму бесстрашного и непобедимого воина. Он высвечивал в понятии героизма его созидательную, творческую сторону. Подлинным героем для него был человек-творец, мужественно отдающий себя служению высоким нравственным идеалам.
Критическим было у Д. Бруно и отношение к нравственным ценностям средневековья. Он решительно порвал с представлением о том, что добродетельный человек должен быть смиренным рабом, озабоченным лишь тем, чтобы не нарушить евангелические заповеди. Он осмелился на переосмысление самой природы греха, решая её так, как это сделает Иван Карамазов у Ф. М. Достоевского: о чём бы ни думал человек в душе своей, если его мысли не будут иметь дурных последствий, их не следует расценивать как грех. Выходит, по Д. Бруно, грех – понятие исключительно практическое. Недостаток подобной позиции, как мы понимаем, состоит в том, что она не учитывает, что теоретический грех может перейти в практический.
Критично Д. Бруно относился и к новой, нарождающейся морали. Многие гуманисты, как мы помним, поменяли культ Бога на культ Человека. Д. Бруно обнаружил в этой замене существенный огрех. Дело в том, что гуманисты Возрождения, как правило, заходили слишком далеко в возвеличивании человека. У многих из них культ человека стал культом эгоиста. Д. Бруно же стал на позицию общечеловеческого альтруизма. Человек-творец, человек-энтузиаст, человек-герой, служащий всему человечеству, – вот его идеал нравственного человека.
Человек, по Д. Бруно, должен подняться до осмысления своей родовой сущности и строить в соответствии с нею свою жизнь. Эту сущность он видел в творческой, культурной природе человека. Герой-энтузиаст служит не себе, а роду человеческому. Вот почему творческую деятельность Д. Бруно отграничивал от эгоистической. Если эгоисты служат лишь самим себе, то герои-энтузиасты «будучи опытны и искусны в созерцаниях и имея прирожденный светлый ум и сознающий дух по внутреннему убеждению и природному порыву, возбуждаемые любовью к божеству, к справедливости, к истине, к славе, огнём желания и веянием целеустремления обостряют в себе чувство, и в страданиях своей мыслительной способности зажигают свет разума, и с ним идут дальше обычного» (О героическом энтузиазме. С. 52).
Космический мифологизм
Свои взгляды на реформирование морали в мифологизированной форме Д. Бруно излагает в книге «Изгнание Торжествующего зверя», написанной в 1584 г. Он изображает в ней Юпитера – римского аналога Зевса – раскаивающегося в том, что он заселил космос зверями, – в том смысле, что на небе обитают звезды и созвездия, получившие названия Лев, Бык, Медведица и т. д. Но звери – олицетворение пороков. Вот почему раскаявшийся Юпитер решает изгнать зверей «с места славы и вознесения, указав им на земле точно определённые области, а на их место водворить добродетели, коих столь долго преследовали и столь недостойно гнали отовсюду» (указ. соч. С. 12).
В аллегорической форме Д. Бруно призывает изгнать Торжествующего зверя из нашей души. На место Большой Медведицы, пишет он, должна прийти истина. Что касается ныне существующей Б. Медведицы, то вместе с нею к нам нисходят «Безобразия, Кривда, Недостаток, Изъян, Случайность, Лицемерие, Обман, Коварство» (там же. С. 18). Юпитер намеревается заменить Быка на терпение и усердие, а созвездие Персея – на заботливость и прилежание. И т. д.
Теперешний Олимп (читай: нынешняя Земля) населён богами, погрязшими в пороках – в «кровосмесительстве, разврате, растлении, гневе, презрении, хищениях и прочих неправдах и преступлениях» (там же. С. 43). Юпитер, допустивший всё это, восклицает в отчаянии: «Я, несчастный грешник, исповедую свою тягчайшую вину перед беспорочной, совершеннейшей справедливостью и каюсь, что до сих пор я очень много грешил и дурным своим примером ещё и вам давал полное разрешение и право делать то же самое…» (там же. С. 50).
Юпитер у Д. Бруно выступает как реформатор, «символизирующий свет разума, который судит и правит, который раздаёт приказания и места добродетелям и порокам» (там же. С. 17). Благодаря ему, мечтает Д. Бруно, на земле восторжествует «Трудолюбие, Промышленность, воинское Упражнение и военное Искусство, которыми поддерживаются мир и власть в отечестве», уничтожаются «культы, религии, жертвоприношения и законы бесчеловечные, свинские, грубые и зверские» (там же. С. 184).
Эволюционизм
Человеческий род, по Д. Бруно, всё время продвигается в направлении от его звериного состояния к божественному. Своего прогресса люди достигли благодаря их разуму. Именно он позволил им изобрести ремесла и искусства, создать науку и промышленность, глушить в себе низменные желания и страсти. Но люди при этом ещё очень далеки от времени, когда они всю свою жизнь подчинят разуму и сумеют построить подлинно справедливое общество. Главную причину социальной несправедливости Д. Бруно усматривал в неравномерном распределении собственности. Он писал: «Кто разделил и сделал собственностью одного иль другого не только землю (данную всем живущим на ней), но даже море и – того и гляди – скоро даже и воздух… положил предел чужой радости и сделал так, что то, чего вдоволь для всех, стало в избытке у одних и в нехватке у других; отчего одни против своей воли стали жиреть, а другие – умирать с голоду?» (там же. С. 131).
Охарактеризовывая современное состояние общества, Д. Бруно с гневом и болью писал: «Таковы суть открытый разбой и глупость, и злодеяния захватных и собственнических законов моего и твоего, по которым тот справедливее, кто более сильный собственник; тот достойнее, кто ревностнее и предприимчивее, кто был первым захватчиком тех даров и участков земли, какими природа и, следовательно, божество безраздельно одарили всех» (там же).
Д. Бруно уподоблял жизнь современного общества жизни дряхлого старца, который должен уступить место новому человеку – молодому, сильному и страстному. Он сумеет создать новый мир, где мудрость заменит слепую веру, наука – сумасбродство, вежливость – предательство, правдивость – лицемерие и т. д. Устами Юпитера Д. Бруно восклицал: «Долой, долой эту темную и мрачную ночь наших заблуждений, ибо прекрасная заря нового дня справедливости зовёт нас; приготовимся встретить восходящее солнце, да не застанет оно нас такими, каковы мы теперь» (там же. С. 51).
Культурный (творческий) антропоцентризм
Из эволюционного взгляда на историю человечества у Д. Бруно вырастает главный герой его нравственного учения – человек-творец. Именно его он расценивает в качестве нравственного идеала. Он приписывает ему такие черты, как любовь, гармоничность, внутренняя сосредоточенность и действенность.
Д. Бруно по-новому осмысливает понятие любви (добра). Он против его христианского истолкования, в соответствии с которым «любовь принижена и движется, как бы пресмыкаясь, по земле, охваченная низкими силами» (там же. С. 106). Д. Бруно – за другую любовь. Его любовь «отдается более высоким деяниям» (там же). Любовь у итальянского мыслителя в конечном счете сводится к культурной, созидательной деятельности. Что же касается любви между мужчиной и женщиной, то о ней он пишет так: «Нет сильнее владычества, нет худшей тирании, нет лучшего господства, нет более необходимой власти, нет вещи слаще и нежней, не найти более жесткой и горькой пищи, не увидеть более жестокого божества, нет более приятного бога, нет более предательского и лицемерного деятеля, нет более царственного и первого творца, чем Амур, и, чтобы договорить до конца, мне кажется, что он есть всё и делает всё…» (там же. С. 147).
Отсюда не следует, что Д. Бруно был против чувственных радостей. Вовсе нет! Он был за гармонию разума и чувств в человеке, за их гармоническое равноправие. Он писал: «Почему интеллект вмешивается, чтобы диктовать закон чувству и лишать его собственной пищи? Чувство же, наоборот, почему сопротивляется этому, желая жить по своим собственным, а не по чужим уставам?. Нет гармонии и согласования там, где есть единственное, где какое-нибудь бытие хочет поглотить всё бытие» (там же. С. 78). Речь идёт здесь, таким образом, о том, что нельзя уму позволять быть полным господином над чувством, как и – наоборот.
Призывая к внутренней сосредоточенности, Д. Бруно вовсе не восхвалял образ мудреца, отрешённого от мира. Внутренняя сосредоточенность у него – лишь необходимый этап для осуществления разумной деятельности. Его идеалом был в конечном счёте не мудрец-отшельник, а человек-деятель, человек-борец, человек-герой. Этот идеал великий учёный и стремился реализовывать в собственной жизни. Он сумел приблизиться к нему максимально, ибо и жил как герой, и умер как герой, не изменив, как и Сократ, своему высокому человеческому предназначению.
1. 1. 5. Блез Паскаль
Самую громкую славу в XVII веке приобрёл французский философ Рене Декарт (1596–1650). Его считают основателем рационализма – такого метода познания, который ставит на первое место ratio (дух, разум), которому должно подчиняться emotio (чувство). В основе его философии лежит принцип: cogito, ergo, sum (я мыслю, следовательно, существую). Категорию бытия (существования) таким образом он выводил из ratio.
На первом месте разум стоит у Р. Декарта и в его этике. Она изложена им главным образом в трактате «Страсти души» (1649). Чувства, по мнению его автора, доставляют человеку много хлопот: они могут вызывать в нём беспокойство, страх и т. п. страдания. Более того, они могут перерастать в порочные страсти (чревоугодие, сластолюбие и т. п.). Вот почему порядочному человеку нужно держать свои чувства под контролем разума.
Люди научились укрощать животных. Дело осталось за малым: им надо научиться укрощать самих себя. Анализируя опыт дрессировки легавых собак, Р. Декарт писал: «Это полезно знать для того, чтобы научиться управлять своими страстями. Но так как при некотором старании можно изменить движение мозга у животных, лишённых разума, то очевидно, что это ещё лучше можно сделать у людей и что люди даже со слабой душой могли бы приобрести исключительно неограниченную власть над всеми своими страстями, если бы приложили достаточно старания, чтобы их дисциплинировать и руководить ими» (Гусейнов А. А., Иррлиц Г. Краткая история этики. М., 1987. С. 331).
Младшим современником Р. Декарта был его соотечественник Блез Паскаль (1623–1662). Он был выдающимся математиком. Имел гениальные умственные способности, но в своём главном этическом труде – «Мысли» – дифирамбы разуму вовсе не пел. Наш хвалёный разум он называл жалким: «Жалкий разум, который каждый ветерок может повернуть в любую сторону» (Паскаль Б. Мысли. Малые сочинения. Письма. М., 2003. С. 57).
Наш разум жалок сам по себе, но не менее жалок он и в борьбе со своими врагами – страстями, болезнями и т. д. В этой борьбе он чаще всего проигрывает. Вот почему он преисполнен заблуждений. Б. Паскаль пишет: «Человек – не более чем существо, по природе своей исполненное заблуждений, без благодати не устранимых. Ничто не указывает ему истину. Всё его обманывает. Эти два источника истины, разум и чувства, не только ненадёжны сами по себе, но ещё и обманывают друг друга; чувства обманывают разум ложной видимостью. И за такое плутовство ум платит чувствам тем же, вознаграждая себя. Страсти бередят чувства, сбивают их с пути. Они всласть лгут и обманываются сами» (там же. С. 60).
Выходит, что нельзя в познании с полным доверием относиться ни к разуму, ни к чувствам. Как назвать такую позицию в теории познания? Скептицизмом. Скептическую позицию Б. Паскаль занимал и в этике.
Эта позиция, как ни странно, принесла, свои богатые плоды. С удивительной глубиной Б. Паскаль проник в самую суть человека. Эта суть состоит в его противоречивости. Совершенно справедливо он создал наш портрет как клубок противречий.
Б. Паскаль писал: «Что это за химера – человек? Какая невидаль, какое чудовище, какой хаос, какое поле противоречий, какое чудо! Судья всех вещей, бессмысленный червь земляной, хранитель истины, сточная яма сомнений и ошибок, слава и сор вселенной. Кто распутает этот клубок?» (Паскаль Б. Мысли. Малые сочинения. Письма. М., 2003. С. 82).
Главное противоречие в человеке – между его ничтожеством и величием.
Ничтожество человека (тезис)
Если Д. Бруно в идее бесконечности черпал вдохновение, то на Б. Паскаля она производила гнетущее впечатление. Она наводила его на мысли о жалкой участи человека в этом мире, об изначальной бедственности, ничтожности, мимолётности, хрупкости и, в конечном счёте, тщете его жизни. Человек, в его представлении, – то атом, то тень, то песчинка, затерянная в бесконечной вселенной.
Б. Паскаль писал: «Я вижу сомкнувшиеся вокруг меня наводящие ужас пространства Вселенной, понимаю, что заключён в каком-то глухом закоулке этих необозримых пространств, но не могу уразуметь, ни почему нахожусь именно здесь, а не в каком-нибудь другом месте, ни почему столько-то, а не столько-то быстротекущих лет дано мне жить в вечности, что предшествовала моему появлению на свет и будет длиться, когда меня не станет. Куда ни взгляну, я вижу только бесконечность, я заключён в ней, подобно атому, подобно тени, которой суждено через мгновение безвозвратно исчезнуть. Твёрдо знаю я лишь одно – что очень скоро умру, но именно эта неминуемая смерть мне более всего непостижима. И как я не знаю, откуда пришёл, так не знаю, куда иду, знаю только, что за пределами земной жизни меня ждёт вековое небытие» (Паскаль Б. Мысли. СПб., 1999. С. 115–116).
Если человек так ничтожен и так жалок, то что же ему остаётся? Прятаться от сознания изначальной бедственности своей жизни. Куда? Куда угодно! Главное – избегать полного покоя. В противном случае его ждёт тоска: «Т о с к а. – Нет на свете ничего более непереносимого для человека, нежели полный покой, не нарушаемый ни страстями, ни делами, ни развлечениями, ни вообще какими-нибудь занятиями. Вот тогда он и начинает по-настоящему чувствовать свою ничтожность, заброшенность, зависимость, своё несовершенство и бессилие, свою пустоту. Из глубины его души немедленно выползают тоска, угрюмство, печаль, горечь, озлобление, отчаянье» (там же. С. 71).
О развлечении – особый разговор. «Так несчастен человек, – читаем у Б. Паскаля, – что томится своей тоской даже без всякой причины, просто в силу особого своего склада, и одновременно так суетен, что, сколько бы у него ни было самых основательных причин для тоски, он способен развлечься любой малостью вроде игры в бильярд или мяч» (там же. 74).
Разве может Б. Паскаль оставить без объяснения стремление людей к развлечениям? Он ищет причину. Но причина всё та же: «Они лишь потому транжирят деньги, покупая воинские должности, что им невыносим вид одних и тех же городских стен, и лишь потому ищут, с кем бы поболтать и развлечься игрою в карты, что томятся, сидя дома. Но потом, когда я глубже вник в это людское свойство, порождающее столько бед, мне захотелось докопаться до причины, лежащей в его основе, и такая причина действительно обнаружилась, и очень серьёзная, ибо состоит она в изначальной бедственности нашего положения, в хрупкости, смертности и такой горестной ничтожности человека, что стоит нам вдуматься в это – и уже ничто не может нас утешить» (там же. С. 72).
Что же мы имеем в итоге?
«Мы жаждем истины, а находим в себе одну лишь неуверенность. Мы ищем счастье, а находим лишь обездоленность и смерть. Мы не в силах не искать истину и счастье, мы не в силах обрести уверенность и счастье» (Паскаль Б. Мысли. СПб., 1999. С. 94–95).
Величие человека (антитезис)
Б. Паскаль признавал не только ничтожество человека, но и его величие. Правда, своеобразно: «Человек сознаёт своё жалкое состояние. Он жалок потому, что таков и есть на самом деле; но он велик потому, что сознаёт это» (там же. С. 91). Слабое утешение.
Между тем Б. Паскаль был убеждён в том, что человек – это ристалище не только для его ничтожества, но и для его величия. Вот почему в нём следует искать то и другое. Он писал: «Опасно слишком настойчиво убеждать человека, что он не отличается от животных, не доказывая одновременно его величия. Опасно и доказывать его величие, не вспоминая о его низости. Ещё опаснее оставлять его в неведении того и другого, но очень полезно показывать ему то и другое» (Паскаль Б. Мысли. Малые сочинения. Письма. М., 2003. С. 79).
Чем же человек отличается от животных? Что подтверждает его величие в сравнении с животными? В разделе «Ничтожество человека. Вводящие в обман могучие силы» у Б. Паскаля читаем: «Животные не способны восхищаться друг другом. Лошадь не приходит в восхищение от другой лошади; конечно, они соревнуются на ристалище, но это не имеет значения: в стойле самый тихоходный, дрянной коняга никому не уступит своей порции овса, а будь он человек – волей-неволей пришлось бы уступить. Для животных их достоинства уже сами по себе награда» (Паскаль Б. Мысли. СПб., 1999. С. 96).
В другом месте Б. Паскаль пишет: «Величие человека в том, что он сознаёт себя несчастным; дерево себя несчастным не сознаёт. Сознавать себя несчастным – это несчастье; но сознавать, что ты несчастен, – это величие» (Паскаль Б. Мысли. Малые сочинения. Письма. М., 2003. С. 77).
О других же качествах человека, как будто свидетельствующих о величии человека, Б. Паскаль говорит, не используя сравнение с растениями и животными, хотя имплицитно это сравнение можно и реконструировать. Но что это за качества? Выберу некоторые:
1. «Величие человека. – У нас сложилось такое высокое представление о человеческой душе, что мы просто из себя выходим, чувствуя в ком-то неспособность оценить наши достоинства, душевное неуважение к нам, и бываем по-настоящему счастливы только этим уважением» (Паскаль Б. Мысли. СПб., 1999. С. 96). В чём же здесь наше величие?
2. «Величие. – Если говорить о причинах следствий, то они лишний раз подтверждают величие человека, – мысль о неукоснительном порядке подсказало ему своекорыстие. Человек велик даже в присущем ему своекорыстии, ибо именно это свойство научило его блюсти образцовый порядок в делах и творить добро согласно расписанию» (там же. С. 97). Тоже какое-то сомнительное величие.
3. «Величие и ничтожество. – Так как в основе величия лежит ничтожество, а в основе ничтожества – величие, то одни берут за основу только ничтожество, тем более что доказательством им служит величие, а другие берут только величие и тем более упорствуют, что доказательством им служит как раз это самое ничтожество; в результате все доводы одних в пользу величия лишь дают карты в руки другим, настаивающим на ничтожестве, ибо чем с большей высоты пал человек, тем больше его нынешнее ничтожество, ну а их противники твердят обратное. Вот так они и продолжают неустанно спорить, и этот спор подобен замкнутому кругу, потому что чем просвещеннее люди, тем очевиднее для них и величие, и ничтожество человека. Короче говоря, человек сознаёт своё ничтожество, и он воистину ничтожен, поскольку так оно и есть, но он исполнен величия, поскольку сознает своё ничтожество» (там же. С. 107). В этих словесных дебрях очень легко заблудиться!
Одно ясно: ничтожество человека Б. Паскаль показал с блеском, а вот подтверждение его величия оказалось очень бледным. Пожалуй, самый сильный аргумент в пользу величия человека звучит так: «Величие человека даже в его страстях, в том, что он сумел из них вывести удивительный порядок и создать образ и подобие милосердия» (Паскаль Б. Мысли. Малые сочинения. Письма. М., 2003. С. 78). Правда, и здесь почему-то речь идёт не о милосердии как таковом, а лишь о его подобии (симулякре).
Человек – мыслящая тростинка (синтезис)
Даже и невооружённым взглядом легко обнаружить, что ничтожество человека (тезис) Б. Паскаль обрисовал намного убедительнее, чем его величие (антитезис). Становится понятным, почему противоречие между ними у него решено в пользу тезиса. Его синтезис – возврат к тезису, однако в какой-то мере обогащённому антитезисом.
Б. Паскаль нашёл образ для своего синтетического (итогового) представления о человеке. Человек предстаёт в этом образе как мыслящий тростник, у которого, несмотря на его жалкое положение в мире, есть способность мыслить. Этой способности нет у природы. Вот почему она делает его по-настоящему величественным.
Б. Паскаль пишет: «Человек – всего лишь тростинка, самая слабая в природе, но эта тростинка мыслящая. Не нужно ополчаться против него всей вселенной, чтобы его раздавить; облачка пара, капельки воды достаточно, чтобы его убить. Но пусть вселенная и раздавит его, человек всё равно будет выше своего убийцы, ибо он знает, что умирает, и знает превосходство вселенной над ним. Вселенная ничего этого не знает. Итак, всё наше достоинство заключено в мысли. Вот в чём наше величие, а не в пространстве и времени, которых мы не можем заполнить» (Паскаль Б. Мысли. Малые сочинения. Письма. М., 2003. С. 112).
На свете не было мыслителя, который глубже и тоньше Б. Паскаля показал бы нам самих себя. С безжалостной правдивостью он показал нам оборотную сторону нашего жизнелюбия. Лучше чем кто-либо он показал нам трагическую сторону человеческой жизни. Этому способствовали личные обстоятельства его жизни. С юных лет этот гениальный человек страдал невыносимыми болями. Удивительно то, что со своими болезнями он сумел прожить 39 лет (см. воспоминания его сестры и племянницы в приложении к кн.: Паскаль Б. Мысли. Малые сочинения. Письма. М., 2003. С. 431–476).
Образ Б. Паскаля сросся в нашем сознании в первую очередь с представлениями, связанными с заброшенностью человека в этом бесконечном мире, со скоротечностью его жизни и с недоумением, почему он оказался в этом месте и в этом времени, а не в другом месте и не в другом времени.
Б. Паскаль писал: «Когда я думаю о кратком сроке своей жизни, поглощаемом вечностью до и после неё – memoria hospitis unius diei praetereuntis (проходит, как память об однодневном госте), – о крошечном пространстве, которое я занимаю, и даже о том, которое вижу перед собой, затерянном в бесконечной протяжённости пространств, мне неведомых и не ведающих обо мне, я чувствую страх и удивление, отчего я здесь, а не там; ведь нет причины, почему бы мне оказаться скорее здесь, чем там, почему скорее сейчас, чем тогда. Кто меня сюда поместил? Чьей волей и властью назначено мне это место и это время?» (Паскаль Б. Мысли. Малые сочинения. Письма. М., 2003. С. 66).
Через две недели после смерти Блеза Паскаля Николь сказал: «Поистине можно сказать, что мы потеряли один из самых больших умов, которые когда-либо сушествовали. Я не вижу никого, с кем можно было бы его сравнить: Пико делла Мирандола и все эти люди, которыми восхищался свет, были глупцами возле него… Тот, о ком мы скорбим, был королём в королевстве умов» (Тарасов Б. Н. Паскаль. М., 1979. С. 328).
1. 1. 6. Иммануил Кант
О счастье впервые в Европе в полную мощь заговорил Аристотель, признав его высшим благом для чело-в е ка, доставляющем ему величайшее удовольствие. Средневековые богословы вознесли идею счастья на небо, а гуманисты Возрождения вновь опустили её на землю. В Новое время о возможности земного счастья стали размышлять лучшие умы Европы. Самой яркой страницей в истории этики этого времени стал эвдемонизм – направление, ставящее во главу угла достижение счастья. В число эвдемонистов вошли Д. Локк и Д. Юм, А. Фергюсон и А. Смит, Б. Мандевиль и К. Гельвеций, А. Шефстбери и Ж. -Ж. Руссо.
Эвдемонизм пришёл на смену рационализму в этике (Р. Декарт, Б. Спиноза, Т. Гоббс). Его представители стремились подчинить страсти человека его разуму. Они не выступали за разгул страстей, но, поскольку чувственная сторона жизни составляет один из источников человеческого счастья, их позиция была ближе к Д. Бруно, который, как мы помним, допускал возможность гармонического сочетания разума с чувством. Более того, некоторые эвдемонисты видели в страстях силу, оживляющую нравственность. Так, К. Гельвеций писал: «В нравственном мире страсти имеют то же значение, какое имеет движение в мире физическом; движение создаёт, уничтожает, сохраняет, оживляет всё, без него всё было бы мертво; страсти оживляют всё в мире нравственном» (Гельвеций К. А. Соч., т. 1. М.: Мысль, 1976. С. 358).
Камнем преткновения для мыслителей Нового времени стала идея о всеобщем счастье. Индивидуальное счастье, с их точки зрения, становится возможным только в условиях всеобщего счастья, ибо нравственный человек не может себя чувствовать счастливым среди несчастных. К. Гельвеций писал: «Итак, счастье или несчастье народа зависит, по-видимому, исключительно от соответствия или несоответствия интересов частных лиц с интересами общественными» (там же. С. 255). Современное же общество стоит слишком далеко от гармонии между интересами отдельного человека и общественными, а следовательно, и от всеобщего счастья. Отсюда у просветителей следовал призыв к революционному обновлению политических условий, при которых всеобщее счастье не будет выглядеть полной химерой.
Главный источник несчастий Ж.-Ж. Руссо видел в корыстном интересе, который появляется у человека в процессе его занятий тем или иным делом. Так, учёный-ботаник до тех пор счастлив, пока его занятия не начинают подчиняться корыстным интересам, «когда начинают заниматься ботаникой только затем, чтобы быть автором или профессионалом». В этом случае «тихое очарование» от бескорыстных наблюдений за растениями исчезает, и «в лесу уже чувствуют себя только как на светской сцене» (Руссо Ж.-Ж. Избр. соч. Т. 3. М.: Художественная литература, 1961. С. 637).
Поскольку в реальной жизни без корыстных интересов не обойтись, Ж.-Ж. Руссо с грустью констатировал: «Счастье – это неизменное состояние, не созданное для человека в этом мире… Поэтому все наши мысли о счастье в этой жизни оказываются химерами» (там же. С. 650).
Знаменитый немецкий философ Иммануил Кант (17241804), по его собственному признанию, учился у Ж.-Ж. Руссо. В частности, он писал: «Было время, когда я думал, что всё это (склонности к достижению успеха в познании. – В. Д.) может сделать честь человечеству, и я презирал чернь, ничего не знающую. Руссо исправил меня. Указанное ослепляющее превосходство исчезает; я учусь уважать людей» (Кант И. Соч., т. 2. М.: Мысль, 1964. С. 205).
И. Кант отказался от эвдемонизма. Ему было чуждо стремление к разработке утопического, с его точки зрения, учения о путях, ведущих ко всеобщему счастью. Не счастье, а долг (долженствование) становится основополагающей категорией его нравственного учения. А поскольку долженствование идёт от разума, мы можем сказать, что этическая позиция И. Канта была ближе к рационалистической, чем эвдемонистической.
Вот как И. Кант понимал назначение науки о нравственности: «Если существует наука, действительно нужная человеку, то это та, которой я учу – а именно подобающим образом занять указанное человеку место в мире – и из которой можно научиться тому, каким надо быть, чтобы быть человеком» (там же. С. 206).
Центральное место в этике И. Канта занимает категория долга. Под долгом её автор понимал личное принуждение, которое совершается человеком при выполнении того или иного поступка. Моральность поступка при этом должна определяться по его соответствию с определёнными нравственными убеждениями этого человека. Последние состоят из моральных предписаний – императивов.
На первом месте в этике И. Канта стоит категорический императив. Учение о нём составляет сердцевину этой этики. Вот как он формировал категорический императив: «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своём лице, и в лице всякого другого также как к цели и никогда не относился бы к нему только как к средству» (там же. Т. 4, ч. 1. С. 270).
В отличие от гипотетических императивов, категорический императив является обязательным для нравственного человека в любых условиях. В «Основах метафизики нравственности» (1785) И. Кант приводит несколько примеров, с помощью анализа которых он доказывает вечную самоценность категорического императива. Так, о человеке, задумывающем самоубийство, И. Кант писал: «Если он, для того, чтобы избежать тягостного состояния, разрушает самого себя, то он использует лицо только как средство сохранения сносного состояния до конца жизни. Но человек не есть какая-нибудь вещь, стало быть, не есть то, что можно употреблять только как средство; он всегда и при всех своих поступках должен рассматриваться как цель сама по себе. Следовательно, я не могу распоряжаться человеком в моём лице, калечить его, губить или убивать» (там же. С. 270). Другой пример – с нарушением прав одного человека другим человеком: «…нарушитель прав людей помышляет использовать личность других только как средство, не принимая во внимание, что их как разумные существа должно всегда ценить также как цели, т. е. только как такие существа, которые могли бы содержать в себе также и цель того же самого поступка» (там же. С. 271).
Итак, прежде, чем совершить какой-либо поступок, следует подумать, выступают ли люди, с которыми мы имеем дело, только в качестве средства для достижения наших целей или нет. Если да, то мы не должны совершать этот поступок, поскольку он будет безнравствен. Если нет, если наши цели служат целям других (разумеется, благородным), то мы можем его совершить, ибо он будет добродетелен.
Категорический императив в конечном счёте предполагает совпадение целей у отдельного человека и человечества в целом. При его неукоснительном соблюдении люди могут прийти к такому состоянию общества, которое И. Кант назвал «царством целей». Он писал: «В самом деле, все разумные существа подчинены закону, по которому каждое из них должно обращаться с самим собой и со всеми другими не только как со средством, но также как с целью самой по себе. Но отсюда и возникает систематическая связь разумных существ через общие им объективные законы, т. е. царство, которое, благодаря тому, что эти законы имеют в виду как раз отношение этих существ друг к другу как целей и средств, может быть названо царством целей (которое, конечно, есть лишь идеал)» (там же. С. 275).
Повсюду, по И. Канту, человек должен видеть в самом себе и в других в первую очередь цель, и лишь во вторую очередь – средство. Только такой человек может достигнуть царства целей. Но царство целей – это царство высокой нравственности. Современное же общество находится лишь в самом начале пути к царству целей. В области нравственности оно, пожалуй, меньше всего преуспело. И. Кант писал: «Благодаря искусству и науке мы достигли высокой ступени культуры. Мы чересчур цивилизованы в смысле всякой учтивости и вежливости в общении друг с другом. Но нам ещё многого недостаёт, чтобы считать нас нравственно совершенными» (там же. Т. 6. С. 18).
Иммануил Кант, таким образом, несмотря на его скептическое отношение к эволюционным возможностям человека, в конечном счете видел высшую цель людей в их нравственном совершенствовании. Идея нравственного самосовершенствования стала центральной в этике Л. Н. Толстого.
1. 2. Краеугольные камни
1. 2. 1. Иоганн Гердер
Всё хорошее делалось в истории ради гуманности, а всё нелепое, порочное и омерзительное, что тоже появлялось в истории, было преступлением против духа гуманности.
Иоганн ГердерИоганн Готфрид Гердер (1744–1803) – основатель современной эволюционной этики, если под её предметом понимать эволюционный смысл человеческой жизни. С гениальной прозорливостью он показал, что этот смысл – дальнейшее очеловечение, т. е. увеличение в каждом из нас человечности. Человечность в подлинном смысле этого слова – весь комплекс свойств, отдаляющих человека от животного.
И. Гердер родился, как он сам говорил, «в крайне скромной, но не совершенно бедной среде» (Гайм Р. Гердер, его жизнь и сочинения. Т. 1. СПб.: Наука, 2011. С. 68). Его отец был служителем лютеранской церкви в Морунгене. Служителем церкви по окончании богословского факультета Кёнигсбергского университета пришлось быть и его сыну – в Риге (1764–1769), Бюкебурге (1771–1776) и Веймаре (1776–1803).
Наставником И. Гердера в университете стал Иммануил Кант (1724–1804). Ему в первую очередь он был обязан любовью к философии. Лекции И. Канта молодой И. Гердер слушал с поэтическим упоением. Некоторые из них он облекал в стихотворную форму. В книге «Письма для поощрения гуманности» (1793–1797) И. Гердер вспоминал: «История человечества и различных народов, естественная история, изучение природы, математика и собственный опыт – вот те источники, из которых он черпал воодушевление для своих лекций и для своей беседы; он не оставлял равнодушным ни к чему, что было достойно изучения… Этот человек, имя которого я произношу с глубочайшей признательностью и с высоким уважением, был Иммануил Кант» (там же. Т. 1. С. 99–100).
Увы, отношение И. Гердера к И. Канту резко ухудшилось после того, как последний анонимно написал, по выражению первого, «крайне неверную, пошлую и злобную рецензию» на первую часть «Идей к философии истории человечества» (1784–1791) (там же. Т. 2. С. 278). Престарелый рецензент не сумел разглядеть в ней начало великого труда его бывшего ученика. С этого времени между ними устанавливаются враждебные отношения. Рудольф Гайм в подробном освещении этих отношений выступил на стороне И. Канта. Как и его подзащитный, он тоже не сумел увидеть главного отличия между И. Кантом и И. Гердером. Это отличие состоит в разном понимании сущности философии.
Если И. Кант видел в философии науку об «априорном познании» (Кант И. Сочинения в шести томах. Т. 4. Ч. 1. М.: Мысль, 1965. С. 95), то И. Гердер ещё до Г. Спенсера увидел назначение философии в обобщении знаний, полученных всеми частными («опытными») науками. Философия должна состоять, по мнению И. Гердера, «из результатов всех опытных наук» (Гайм Р. Гердер, его жизнь и сочинения. Т. 1. СПб.: Наука, 2011. С. 102). Г. Спенсер назовёт такое назначение философии синтетическим.
Философия И. Канта, вне всякого сомнения, обладает широкой синтетичностью, однако И. Гердера не устраивала её умозрительность. Вот почему в книге «Рассудок и опыт. Метакритика к критике чистого разума» (1799) он называет автора «Критики чистого разума» творцом «царства бесконечных умственных химер, слепого созерцания, фантастических вымыслов, пустых книжных слов, так называемых трансцедентальных идей и спекуляций» (Гердер И. Трактат о происхождении языка. М.: Издательство ЛКИ, 2007. С. LIV).
В основе главного труда И. Гердера – «Идеи к философии истории человечества» – лежит подлинно синтетическое понимание сущности философии. Достижения науки XVIII века в ней обобщены в единую – универсально-эволюционную – картину мира. Этот труд – вершина, к которой универсальный эволюционизм пришёл во второй половине XVIII в. Если Ж. де Ламетри в первой половине XVIII в. возродил универсальный эволюционизм, то И. Гердер во второй его половине поднял его на небывалую высоту.
Замысел «Идей…» возник у И. Гердера ещё в молодости. В «Дневнике моего путешествия» (1769) он оформил его в весьма хаотической форме: «Какое это будет великое сочинение, в котором будет идти речь о человеческом роде! О человеческом уме! О возделывании земли! О всех странах! Временах! Народах! Силах! Смешениях! Личностях! Об азиатской религии, хронологии, полиции, философии! Об искусствах, философии и полиции у египтян! Об арифметике, языке и роскоши финикиян! О всём, что касается греков! О всём, что касается римлян! О религии, законах, нравах, войнах, понятиях о чести у северных народов! О временах папского владычества, о монахах, об учёности! О северно-азиатских крестоносцах, пилигримах, рыцарях! О христианском и языческом возрождении учёности! О блестящем веке Франции! Об английских, голландских, немецких выдающихся личностях! О китайской и японской политике! О естествознании нового мира! Об американских нравах и т. д… Какая обширная тема: человеческий род не исчезнет, пока всё это не будет исполнено! Пока гений просвещения не облетит землю! Это будет всеобщая история развития мира!» (Гайм Р. Гердер, его жизнь и сочинения. Т. 1. СПб.: Наука, 2011. С. 443–444).
Пятнадцать лет понадобилось автору этих слов, чтобы в своей главной книге упорядочить идеи, об освещении которых он мечтал в двадцать пять лет. Выделю здесь только эволюцию нравственности, как она истолковывалась И. Гердером.
Ещё в 1774 г. (за 10 лет до появления первой части «Идей…») вышла в свет книга И. Гердера «И ещё одна философия истории для воспитания человечества». Уже в этой книге изложено культурологическое кредо её автора. Его суть состоит в следующем: своим очеловечением наши предки обязаны их культуросозидательной способности, возникшей из их смышлённости, в развитии которой они превзошли всех своих животных собратьев.
Если в «И ещё одна философия.» представлен лишь эскиз культурной эволюции, то в своём главном труде И. Гердер изобразил развитие культуры в виде весьма красочной картины. Он был убеждён в том, что «роду человеческому суждено пройти через несколько ступеней культуры и претерпеть различные перемены, но прочное благосостояние людей основано исключительно на разуме и справедливости» (там же. С. 439).
В культуре И. Гердер видел средство, а не цель. В чём же, по его мнению, состоит цель, к которой стремится человечество? В том, чтобы всё дальше и дальше уходить от своих животных предков и всё больше и больше становиться человечным (гуманным). «Цель нашего земного существования, – писал учёный, – заключается в воспитании гуманности, а все низкие жизненные потребности только служат ей и должны вести к ней. Всё нужно воспитывать: разумная способность должна стать разумом, тонкие чувства – искусством, влечения – благородной свободой и красотой, побудительные силы – человеколюбием» (там же. С. 131).
Гуманность вовсе не сводится у И. Гердера только к человеколюбию. Под гуманностью (человечностью) он понимал весь комплекс особенностей, которые отличают человека от животного. Р. Гайм пишет в связи с этим: «Он (И. Гердер. – В. Д.) выражает словом “гуманность” всё, чего может достигнуть человек. Гуманность есть сущность человеческой натуры и конечное назначение человека» (Гайм Р. Гердер, его жизнь и сочинения. Т. 2. СПб.: Наука, 2011. С. 232).
Человечность – антипод животности. Сравнивая животное и человека, И. Гердер писал: «Животного ведёт его инстинкт, дар матери-природы; животное – слуга в доме всевышнего отца, оно должно слушаться. А человек в этом доме – дитя, и ему нужно сначала научиться всему: и самым жизненно необходимым инстинктам, и всему, что относится к разуму и гуманности. А учит он всё, не достигая ни в чём совершенства, потому что вместе с семенами рассудительности и добродетели он наследует и дурные нравы, и так, следуя по пути истины и душевной свободы, он отягчён цепями, протягивающимися ещё к самым началам человеческого рода» (Гердер И. Идеи к философии истории человечества. М.: Наука, 1977. С. 132).
И. Гердер был апостолом «гуманной философии». Мысль о гуманности красной нитью проходит через всё его творчество. Р. Гайм писал о нём: «Он придерживался утилитарного направления (в реформе школы. – В. Д.) только во имя той “гуманной философии”, которую не терял из виду даже в то время, как был всецело занят литературой и эстетикой. Мысль о гуманности как о конечной цели всякого здравого воспитания служит связующим звеном между первоначальным идеализмом и внезапно вспыхнувшим влечением к реализму» (Гайм Р. Гердер, его жизнь и сочинения. Т. 1. СПб.: Наука, 2011. С. 453).
И. Гердер учил, с одной стороны, не возводить человека в перл создания, а с другой, не низводить его до животного. Он писал: «Весьма несправедливо хвалили род человеческий, утверждая будто все силы и способности других родов достигают в нём своего наивысшего развития. Это похвала бездоказательная… Другие же, напротив, хотели, не скажу, унизить человека, низведя его до уровня животного, но отрицали за ним собственно человеческий характер и превращали его в какое-то выродившееся животное, которое в погоне за неведомыми высшими совершенствами совсем утратило своеобычность своей породы. Это, очевидно, противоречит и истине, и свидетельствам естественной истории» (Гердер И. Идеи к философии истории человечества. М.: Наука, 1977. С. 77).
Где же проходит действительная граница между животным и человеком? В чём подлинное отличие человека от животного? «Ни у одного животного, – отвечает И. Гердер, – нет того, чем отличается от него почти всякий человек, – нет культуры» (там же). Следовательно, человек становится человеком всё в большей и большей степени благодаря культуре.
И. Гердер прекрасно сознавал, что на своём пути к очеловечению современные люди находятся лишь в самом начале своего пути. Вот почему он расценивал человечность в качестве «бутона будущего цветка», «скрывающего внутри себя истинный облик человечества» (там же. С. 131; 132).
«Лишь у немногих, – писал И. Гердер, – богоподобный дух гуманности в самом широком и чистом значении слова есть подлинное стремление всей жизни, а большинство задумывается поздно, да и у самых лучших низкие инстинкты тянут возвышенного человека к животному. Кто из смертных может сказать: я обрел, я обрету чистый образ человечности, заложенный во мне?» (там же. С. 131).
Но дело тут не только в отдельной личности, но и в условиях, в которых оказался тот или иной народ: «…И между людьми должны были появиться величайшие различия, потому что всё на земле многообразно, а в некоторых странах и в некоторых условиях человеческий род придавлен бременем климата и житейской нужды» (там же). Не следует обольщаться и насчёт так называемых цивилизованных народов. В предисловии к «Идеям.» И. Гердер восклицает: «Как мало культурных людей в культурном народе!» (там же. С. 6).
Продвижение человечества к осуществлению своей миссии – дальнейшему очеловечению – требует от его представителей величайших «духовных сил» (там же. С. 126), направленных на приближение к высшим человеческим целям. «Истина, красота, любовь, – читаем у И. Гердера, – вот цели, к которым всегда стремился человек, что бы он ни делал, нередко сам не сознавая того, нередко идя по совсем ложному пути» (там же. С. 133).
Но истина, красота, любовь и т. п. цели есть не что иное, как высшие духовно-культурные идеалы. Вот почему философия И. Гердера имеет духовно-культурную направленность.
Человек для И. Гердера – «звено, соединяющее два мира» (Гердер И. Идеи к философии истории человечества. М.: Наука, 1977. С. 134). Первый он унаследовал от своего животного предка. Этот мир – источник зла. Второй мир его очеловечивает. Он – источник добра. Жизнь человеческая разрывается между этими двумя мирами. Борьба человека с животным, обитающим в нём, есть нравственная борьба.
И. Гердер писал: «Проясняется странное противоречие в человеке. Как животное, человек служит Земле и привязан к ней, как к своему родному жилищу, но человек заключает в себе семена бессмертия, а потому должен расти в другом саду. Человек может удовлетворить свои животные потребности, и те, кто довольствуется этим, чувствуют себя на Земле очень хорошо. Но как только человек развивает более благородные задатки, он повсюду начинает находить несовершенство и неполноту: ничто самое благородное так и не было осуществлено на Земле, и самое чистое редко укреплялось и утверждалось, и для сил нашего духа и нашего сердца эта арена действия – лишь место для упражнения сил, место, чтобы поверить их делами» (там же. С. 135).
«Итак, – делает вывод И. Гердер, – человек одновременно представляет два мира, и отсюда явная двойственность его существа» (там же. С. 135). В какую же сторону разрешается эта двойственность? «Сразу же ясно, – отвечает И. Гердер, – какая часть должна господствовать у большинства людей на Земле. Большинство людей – животные, они принесли с собой только способность человечности, и её только нужно воспитывать, воспитывать с усердием и трудами. А как мало людей, в ком подобающим образом воспитана человечность! И у самых лучших – как нежен, как хрупок этот взращённый в них божественный цветок! Животное в человеке всю жизнь жаждет управлять человеком, и большинство людей с готовностью уступают ему. Животное не перестает тянуть человека к земле, когда дух возносит его, когда сердце его хочет выйти на вольные просторы, а поскольку для чувственного существа близкое сильнее дальнего и зримое мощнее незримого, то нетрудно заключить, какая чаша весов перевесит. Человек не умеет радоваться чистой радостью и плохо приспособлен к чистому познанию и чистой добродетели!» (там же. С. 135–136).
В такой ситуации впору опустить руки и объявить жизнь бессмысленной. Тем более, что всё кончается смертью: «Жизнь – это борьба, а цветок чистого, бессмертного духа гуманности – венец, который нелегко завоевать. Бегуна ждёт в конце цель, но борца за добродетель – венок в минуту его смерти» (там же. С. 136).
Что же остаётся? Бороться. Не только за торжество грядущей человечности над животностью у будущего человечества, но и за свою собственную человечность. В ней – высшая цель. В одном из писем к Каролине, будущей жене и ангелу-хранителю, он написал: «Прошло время моего тщеславия и моего жалкого существования; теперь я только желаю жить в природе и в правде… Почести и чванная пышность уже давно утратили в моих глазах всякую привлекательность. Бессмертная слава – пустая, покрытая колючками скорлупа, для которой могут служить зерном только добродетель и гуманность. И днём, и ночью я теперь помышляю только о том, как отделаться от всяких пошлостей и не иметь в виду никакой другой цели, кроме той, чтобы быть человеком» (Гайм Р. Гердер, его жизнь и сочинения. Т. 1. СПб.: Наука, 2011. С. 451).
И. Гердер был неутомимым певцом человечности (гуманности). Вот лишь некоторые дифирамбы, которые он пел гуманности (там же. С. 131–132; 428–429; 134):
1. «Человек – пока только человекоподобный – станет человеком, и расцветёт бутон гуманности, застывающий от холода и засыхающий от зноя, он расцветёт и явит подлинный облик человека, его настоящую, его полную красоту».
2. «Если рассмотреть человечество таким, каким мы знаем его, по заложенным в нём законам, то у человека нет ничего более высокого, чем гуманный дух; ведь даже представляя себе ангелов или богов, мы мыслим их себе идеальными, высшими людьми».
3. «Натура наша получила свой органический строй, чтобы достигать именно этой очевидной цели – гуманности; для этого даны нам и все более тонкие ощущения и влечения, разум и свобода, хрупкость и выносливость тела, язык, искусство и религия».
4. «В каких бы условиях ни существовал человек, в каком бы обществе ни жил, в уме его всегда могла быть, одна только гуманность, и возделывать мог он лишь дух гуманности, как бы ни представлял её себе. Ради этой цели распорядилась природа, создав мужчин и женщин, ради этого установила природа возрасты, так, чтобы детство длилось дольше и чтобы только путём воспитания человек обучался гуманности. Ради этой цели на широких просторах земли учреждены все возможные образы жизни, все виды человеческого общества».
5. «Во всех установлениях народов от Китая до Рима, в многообразных государственных устройствах, во всём созданном людьми для мирной и военной жизни, при всех присущих народам отвратительных чертах и недостатках, всегда можно было распознать главный закон природы: “Человек пусть будет человеком!”».
6. «Отбрось всё нечеловеческое, стремись к истине, благу и богоподобной красоте, и ты достигнешь своей цели».
В главном труде И. Гердера множество идей, но над всеми ними возвышается самая великая – идея человечности. Человечность – идеал, к которому стремится эволюция. И. Гердер служил этому идеалу всю жизнь. Дальше его в исследовании этого идеала до сих пор никто не ушёл.
* * *
Три грандиозных личности выдвинула история универсального эволюционизма в античности – Демокрита, Эпикура и Лукреция и три – в новое время – Иоганна Гердера в XVIII веке, Герберта Спенсера в XIX и Пьера Тейяра де Шардена – в ХХ (см. подр.: Даниленко В. П. Универсальный эволюционизм – путь к человечности. СПб.: Алетейя, 2014).
1. 2. 2. Герберт Спенсер
Знание низшего порядка есть знание необъединённое.
Наука есть знание отчасти объединённое.
Философия есть знание вполне объединённое.
Г. Спенсер.Герберт Спенсер (1820–1903) обладал поистине «ми-рообъемлющим умом» (выражение В. Г. Белинского о В. Шекспире). Ему удалось построить эволюционную модель всего мироздания.
Над построением своей синтетической философии Г. Спенсер стал работать в весьма зрелом возрасте – в 38 лет. С 1862 г. стали выходить в свет его основные труды: «Основные начала» (1862), «Основания биологии» (1864–1867), «Основания психологии» (1870–1872), «Основания социологии» (1876–1896) и «Основания этики» (1892–1893). Сам порядок их написания отражает ход эволюции: первая посвящена главным образом физиогенезу, вторая – биогенезу, третья – психогенезу, четвёртая и пятая генезису двух сфер культуры – политики и нравственности, но в них речь идёт также о генезисе религии, науки, искусства и языка. Во всех своих книгах их автор исходил из положения о всеобщности, универсальности эволюции. В утверждении универсального эволюционизма он видел смысл своей жизни.
В университете Г. Спенсер не учился. Он родился в педагогической семье. Его лучшим учителем был его замечательный отец. Природа одарила будущего энциклопедиста необыкновенной разносторонностью. Чем он только не увлекался! Френологией, стенографией, созданием двенадцатеричной системы счисления и искусственного языка, живописью, архитектурой, хоровым пением, изобретательством, часовым делом…
К смыслу своей жизни Г. Спенсер пришёл далеко не сразу– в 37 лет. А до этого возраста он работал то учителем, то инженером на железной дороге, то журналистом и главным редактором журнала «Экономист». В начале 1858 г., наконец, он делает набросок плана «Системы философии». Но этот набросок не свалился к нему с неба. К идее мировой эволюции он пришёл ещё раньше. В своей «Автобиографии» он писал даже так: «Несомненно, в моей душе всегда таилась общая вера в закон мировой эволюции. Отвергнувший сверхъестественные объяснения теологии необходимо должен принять научный натурализм во всём его объёме и, хотя бы скрыто, признать путь эволюции единственным путём происхождения всего существующего. Раз признано всемирное значение естественных причин, другое заключение вырастает само собой: мир, происхождение мира, весь путь его развития и всё бесконечное разнообразие его форм, – всё обусловлено материально во всех своих мельчайших подробностях» (Спенсер Г. Автобиография. Часть 1. СПб.: Просвещение, 1914. С. 340).
Г. Спенсеру понадобилось ещё 17 лет, чтобы свои эволюционистские убеждения привести в систему – в «Систему философии». В «Автобиографии» он воспроизводит набросок её плана.
План «Системы философии» у Г. Спенсера был мирообъ-емлющ: в 1-м томе – шесть общих законов эволюции и физиогенез, во 2-м – биогенез, в 3-м и 4-м – психогенез, в 5-м, 6-м и 7-м – культурогенез. Но представления о культурогенезе у Г. Спенсера к этому времени ещё не были достаточно ясными. Вот почему три оставшиеся тома своего плана он объединил неопределённым словом «очерки».
План «Системы философии» Г. Спенсер сумел выполнить! Он был счастлив, если верить его собственным словам, которые он сказал ещё в 1857 г. Томасу Хаксли (Гексли) – будущему «бульдогу Дарвина». Эти слова были такими: «Всё, о чём можно мечтать, – это достигнуть своей цели и умереть» (там же. С. 338). На возражение Т. Хаксли Г. Спенсер ответил: «Самое важное – дать толчок в желаемом направлении» (там же).
Чтобы подчеркнуть судьбоносное значение своего плана «Системы философии», Г. Спенсер поставил над ним дату: 6 января 1858 г. А чуть позднее, в брошюре «О воспитании», он написал: «Я взял теорию развития своей путеводной нитью» (там же. С. 352). Эта нить связывает все тома его «Синтетической философии». «Господствующая точка зрения (в ней. – В. Д.), конечно, эволюционная» (там же. С. 309).
Вот какими словами Г. Спенсер выразил своё эволюционное кредо в «Автобиографии»: «Явления астрономические, геологические, биологические, психологические и социологические (читай: культурологические. – В. Д.) представляют собой одно сложное неразрывное целое, тесно спаянное взаимной зависимостью. Они связаны незаметной постепенностью переходов одних в другие, они связаны общим законом перемен и общностью причин, вызывающих эти перемены» (там же. С. 349).
В своих многочисленных трудах Г. Спенсер осветил все четыре эволюционных звена – физиогенез, биогенез, психогенез и культурогенез. Остановимся здесь на некоторых аспектах только двух последних из этих звеньев.
В психогенезе Г. Спенсер видел продолжение биогенеза. Психика, с его точки зрения, как и всё в этом мире, развивалась от форм менее сложных к формам всё более и более сложным не сама по себе, а в связи с потребностью организма к приспособлению к окружающей среде. А поскольку без приспособления к ней ему нельзя сохраниться в борьбе за существование, то, следовательно, психическая эволюция – вовсе не дар божий, а закономерная эволюционная необходимость. Её прогресс определяется возрастанием у организма его способности ко всё более и более адекватному отражению объективной действительности.
В способности адекватно отражать мир человек превзошел всех животных. Его психическая эволюция оказалась намного более прогрессивной, чем в царстве животных, разные представители которого в свою очередь тоже совершили неодинаковый эволюционный путь.
В своих «Основаниях психологии» Г. Спенсер наметил основные этапы психической эволюции. Вот они: рефлекс – инстинкт – навык – ощущения – память – воля – разум.
Первые три этапа реализуются, по Г. Спенсеру, в развитии подсознания, а четыре других – в сознании. В качестве отправного пункта в нём выступает ощущение – самая простая форма психического отражения. В этой форме господствует бессвязная однородность. Разум – самая сложная форма психического отражения. Она позволяет его носителю – человеку – всё больше и больше приближаться к адекватному познанию мира благодаря его способности интегрировать в связную разнородность возникающие в нём ассоциации, порождаемые в процессе осмысления этого мира.
Термин культура Г. Спенсер употреблял в более узком смысле, чем это принято сейчас. Он не включал в него все продукты труда, созданные людьми для удовлетворения их телесных и духовных потребностей (см. § Культура в кн.: Спенсер Г. Научные основания нравственности. Индукции этики. Этика индивидуальной жизни. М.: ЛКИ, 2011. С. 196–205). На месте современного термина культура в его работах мы находим термин общество. В таком случае его социология напоминает современную культурологию.
Культура делает из первобытных людей цивилизованных людей. Какие же черты Г. Спенсер приписывал первобытному человеку? В самом начале «Оснований социологии» он указал на три стороны первобытного человека – физическую, эмоциональную и интеллектуальную. В первую попали такие особенности его тела, как его меньший рост по сравнению с современным человеком, несовершенство нижних конечностей, обширная пищеварительная система, большая физическая сила, чем у современных людей и т. п. (Спенсер Г. Синтетическая философия. Киев: Ника-Центр, 1997. С. 255).
В эмоциональную сторону первобытного человека Г. Спенсер включил такие его отличительные черты, как отсутствие сложной эмоциональной жизни, повышенную импульсивность, несдержанность в осуществлении желаний, консервативность в привычках, неразвитость альтруистического чувства и др. (там же. С. 256–257).
В интеллектуальную сторону первобытного человека в сравнении с цивилизованным человеком, наконец, Г. Спенсер включил отсутствие способности к предвидению отдалённых результатов своей деятельности, чрезмерную устойчивость убеждений, неспособность к абстрактному мышлению, отсутствие стремления к истине, сомнению, критике, систематическим и классификационным знаниям и др. (там же. С. 258).
Если закрыть глаза на тех представителей рода человеческого, которые не особенно далеко оторвались от своих диких предков, первобытный человек совершил долгий эволюционный путь к цивилизованному человеку. Этот путь он совершил, в частности, в нравственности.
В «Основаниях этики» и многочисленных статьях Г. Спенсер основательно описывает этику индивидуальной жизни и общественной. В первой из них он выделяет такие добродетели, как справедливость, великодушие, человеколюбие, правдивость, целомудрие, воздержание и др. Каждая из этих добродетелей является базовой по отношению к производным от неё. Так, из человеколюбия вытекают нежность, жалость, милосердие и т. п. нравственные качества человека. Подобным образом обстоит дело и с общественными добродетелями. Так, из индивидуального воздержания он выводит воздержание от свободной конкуренции, выдачи незаслуженной платы, обнаружения своих способностей, порицания и похвалы (см.: Спенсер Г. Научные основания нравственности. Индукции этики. Этика индивидуальной жизни. М.: ЛКИ, 2011).
Особенно ценными для формирования эволюционного мировоззрения являются размышления Г. Спенсера о происхождении нравственности. Человеческую нравственность он, как и будущие этологи, выводил из животной.
В параграфе «Этика животных» Г. Спенсер указывал на такое поведение животных, которое может расцениваться как хорошее. Он, в частности, говорил: «Наилучшим поведением нужно считать то, которое ведёт к наиболее продолжительной, наиболее широкой и наиболее полной жизни; следовательно, для каждого животного вида существует поведение, которое должно считаться относительно хорошим и которое имеет для этого вида такое же значение, какое имеет для человеческого рода поведение, вызывающее нравственное одобрение» (Спенсер Г. Синтетическая философия. Киев: Ника-Центр, 1997. С 464).
На происхождение и развитие нравственного поведения у людей Г. Спенсер смотрел как эволюционист. Правила нравственного поведения по мере очеловечения усложняются. Но эти правила неоднородны у разных людей. Одни из них склоняются к эгоистическому поведению, а в поведении других преобладает альтруизм.
Какую форму поведения Г. Спенсер считал более полезной для человеческой эволюции? Эгоистическую. Вот как он это, в частности, объяснял: «Чувствующие существа прогрессировали от низших состояний к высшим под давлением того закона, что существо высшее должно извлекать пользу из своего превосходства, а существо низшее должно страдать вследствие своего несовершенства. А это означает, что эгоистические потребности должны иметь преимущества перед потребностями альтруистическими» (там же. С. 438).
Г. Спенсер назвал свою философию синтетической вовсе не случайно. Он видел цель философии в том, чтобы синтезировать, объединять, обобщать знания, добытые в частных науках. Результатом этого синтеза и призвана быть целостная, единая, синтетическая, общенаучная, философская картина мира. Создание такой картины мира немыслимо без универсально-эволюционного подхода.
1. 2. 3. Лев Николаевич Толстой
Я твердо уверен, что… люди начнут разрабатывать единую истинную и нужную науку, которая теперь в загоне – науку о том, как жить.
Л. Н. ТолстойПредисловие
Льва Николаевича Толстого (1828–1910) часто упрекали в противоречивости, а между тем, кажется, не было в мире человека, который бы с такой последовательностью пронёс через всю жизнь одну и ту же идею – идею о нравственном самосовершенствовании. Вот почему нравственное учение, изложенное им главным образом в его дневниках, представляет собою последовательный внутриэтический эволюционизм. Его автор пришёл к нему ещё в юности, отправляясь от эволюционного взгляда на весь мир.
«Начну ли я рассуждать, глядя на природу, – писал в своём первом дневнике девятнадцатилетний Л. Н. Толстой, – я вижу, что всё в ней постоянно развивается и что каждая составная часть её способствует бессознательно к развитию других частей; человек же, так как он есть такая же часть природы, но одарённая сознанием, должен так же, как и другие части, но сознательно употребляя свои душевные способности, стремиться к развитию всего существующего. Стану ли я рассуждать, глядя на историю, я вижу, что весь род человеческий постоянно стремился к достижению этой цели. Стану ли рассуждать рационально, то есть рассматривая одни душевные способности человека, то в душе каждого человека нахожу бессознательное стремление, которое составляет необходимую потребность его души. Стану ли рассуждать, глядя на историю философии, найду, что везде и всегда люди приходили к заключению, что цель жизни человека есть всестороннее развитие человечества. Стану ли рассуждать, глядя на богословие, найду, что у всех почти народов признаётся существо совершенное, стремиться к достижению которого признаётся целью всех людей. И так я, кажется, без ошибки за цель моей жизни могу принять сознательное стремление к всестороннему развитию всего существующего» (Толстой Л. Н. Собр. соч. в 20 томах, т. 19. М.: Художественная литература, 1965. С. 39).
«Сознательное стремление к всестороннему развитию всего существующего» приобретают у Л. Н. Толстого со временем более ясные очертания: он приходит к идее о нравственном самосовершенствовании. На склоне своей жизни, в 1904 г., он писал в дневнике: «Зачем нужно… то, чтобы мы совершенствовались, я… могу только догадываться. Это нужно для того, чтобы было осуществлено наибольшее благо как отдельных личностей, так и совокупностей их, так как ничто так не содействует благу и тех и других, как стремление к совершенствованию… Я несомненно знаю, что в этом закон и цель нашей жизни. Знаю я это по трём самым убедительным доводам: потому что, во-первых, вся наша жизнь есть стремление к благу, то есть к улучшению своего положения. Совершенствование же есть самое несомненное улучшение своего положения. Во-вторых, это одна-единственная деятельность из всех человеческих деятельностей, которая не может быть остановлена и которая в стеснениях, страданиях, болезнях, самой смерти может совершаться так же свободно, как и всегда. Третье доказательство того, что это есть назначение человека, то, что для человека, сознательно поставившего себе эту деятельность целью, исчезает всё то, что мы называем злом, или, скорее, претворяется в добро. Гонения, оскорбления, нужда, телесные страдания, болезни свои и близких людей, смерти друзей и своя, всё это человек принимает как то, что не только должно быть, но что нужно ему для его совершенствования» (там же. Т. 20. С. 203).
В дневнике за 1847 г. мы находим у молодого Л. Н. Толстого семь видов правил для совершенствования:
1) правила для развития воли телесной («Каждое утро назначай все, что ты должен делать в продолжение целого дня», «Спи как можно меньше»);
2) правила для развития воли чувственной («Ищи в других людях всегда хорошую сторону, а не дурную», «Всегда говори правду», «Отдаляйся от женщин», «Убивай трудами свои похоти»);
3) правила для развития воли разумной («Когда ты занимаешься, старайся, чтобы все умственные способности были устремлены на этот предмет»);
4) правила для развития памяти («Составляй конспект из всего, чем занимаешься, и учи его наизусть», «Каждый день учить стихи на таком языке, который ты слабо знаешь»);
5) правила для развития деятельности («Старайся дать уму как можно больше пищи»);
6) правила для развития чувства любви и уничтожения чувства самолюбия («Каждого ближнего люби так же, как и самого себя, но двух ближних люби более, нежели себя»);
7) правила для развития обдуманности («Всякий предмет осматривай со всех сторон», «Рассматривай причины всякого явления и могущие быть от него последствия») (там же. Т. 19. С. 41–46).
Зрелый Л. Н. Толстой будет реже составлять для себя правила в такой, повелительной, форме, но даже и у него мы можем найти следующее: «Избегай всего, что разъединяет людей, и делай всё то, что соединяет их» (там же. Т. 20. С. 267), «Смотри с любовью на мир и людей, и он так же будет смотреть на тебя» (там же. С. 281), «Нет ничего хуже оглядывания на своё приближение к совершенству. Попробуй идти и думать о том, сколько осталось» (там же. С. 284), «Нужно два: любовь и правда. Первое я знал. Надо работать над вторым. Нет, три: воздержание, правда и любовь» (там же. С. 289), «Не нужно бояться суждений людей…» (там же. С. 305).
Последняя запись в дневнике Л. Н. Толстого, сделанная им 31 октября 1910 в Астапово, закачивалась правилом, ставшим для него излюбленным в последние годы. Оно звучит так: «… Fais ce que doit, advienne que pourra (делай, что должно, пусть будет, что будет). И всё на благо и другим, и, главное, мне» (там же. С. 436).
Л. Н. Толстой не оставил после себя какого-либо обобщающего труда по этике, который, если бы он был, можно было назвать, например, по-кантовски «Метафизикой нравственности», хотя сам Л. Н. Толстой, скорее, назвал бы его «Наука, как жить». Во всяком случае, в одной из дневниковых записей мы находим у него такие слова: «.я твердо уверен, что. люди начнут разрабатывать единую истинную и нужную науку, которая теперь в загоне – науку о том, как жить» (там же. Т. 20. С. 249).
Этические идеи Л. Н. Толстого разбросаны по его великим художественным творениям, таким работам, как «Исповедь», «В чём моя вера?», «Что такое искусство?», «Путь жизни» и т. п. Но наибольшую ценность в этическом плане представляют собой его дневники, которые с некоторыми перерывами он вёл с 1847 г. по 1910. Мы находим в них, а также и других его сочинениях и воспоминаниях современников о гениальном писателе и моралисте, вполне развёрнутое нравственное учение, хотя и в несистематизированном виде. В этом учении он выразил свои мысли, имеющие отношение как к внешней этике, так и к внутренней. Начнём с первой, где его автор определяет нравственное отношение к религии, науке, искусству, политике и языку.
1. Внешняя этика
Этика ставит на первое место вопрос «как?» (как следует относиться к религии, науке и т. д.?). Но нравственное «как?» не может обойтись без «что?» (в идеале – научного), поскольку определить нравственное отношение к чему-либо – религии, науке и т. д. – невозможно, не составив себе предварительного представления о религии, науке и т. п. Вот почему сквозь призму «как?» в нравственной картине мира всё-таки виден реальный мир. Вот почему моралист, прежде чем учить правильному, с его точки зрения, отношению к чему-либо, определяет его природу.
Религия
Как известно, Л. Н. Толстой был верующим. Но отчего же тогда он был отлучён от православной церкви? А вот отчего: церковников он записывал в одну компанию с капиталистами, купцами и чиновниками. Все они обманывают и обкрадывают народ. 10 октября 1901 г. он писал в Гаспре: «Предприниматели (капиталисты) обкрадывают народ, делаясь посредниками между рабочими и поставщиками орудий и средств труда, также обкрадывают купцы, становясь посредниками между потребителями и продавцом. Тоже под предлогом посредничества между обиженными и обидчиками устанавливается грабёж государственный. Но самый ужасный обман – это обман посредников между богом и людьми» (там же. Т. 20. С. 154).
Представление о религии у Л. Н. Толстого и у богословов было чересчур различным. Л. Н. Толстой принимал нравственную сторону религии, но не принимал в ней главного – того, без чего нет никакой религии, – веры в чудо. Религия же, из которой изъято чудо, по существу перестаёт быть религией. А между тем Л. Н. Толстой именно его-то и не признавал. Он писал: «Закон Божий открывается не одним каким-нибудь людям, а равно всякому человеку, если он хочет узнать его. Чудес же никогда не было и не бывает, и все рассказы о чудесах пустые выдумки» (Толстой Л. Н. Путь жизни. М.: Республика, 1993. С. 13).
Чтобы уж совсем стало понятно, почему церковь объявила анафему Л. Н. Толстому, страшась его еретического влияния на людей, приведём из этой же книги ещё несколько богохульных высказываний писателя:
«Неправда и то, что есть такие книги, в которых всякое слово истинно и внушено Богом (мы догадываемся, о каких книгах идёт речь – о священных писаниях. – В. Д.). Все книги – дело рук человеческих, и во всех может быть и полезное, и вредное, и истинное, и ложное» (там же. С. 13).
«Для истинной веры не нужно ни храмов, ни украшений, ни пения, ни многолюдных собраний…» (там же. С. 15).
«Если человек хочет угодить Богу молитвами, обрядами, то это значит, что он хочет обмануть Бога.» (там же).
«Рассказы о чудесах не могут подтверждать истину. Если бы, не то что рассказы, но на моих глазах человек воскрес из гроба и улетел на небо и оттуда уверял бы меня, что 2+2=5, я всё-таки не поверил бы ему» (там же. С. 18).
Религия, в таком духе понимаемая, скорее смахивает на атеизм, чем на настоящую религию. Но Л. Н. Толстой всё-таки верил в Бога, но какого? Во-первых, он верил в Христа, но не того Христа, который творил чудеса, а того, который был нравственным учителем. Во-вторых, он верил, подобно Сократу, в Бога в душе, воплощающего нравственную чистоту, совесть и т. п. – всё лучшее в человеке, что сдерживает его от зла, делает его духовным существом «Есть ли Бог? – спрашивал себя Л. Н. Толстой в дневнике 30 июля 1906 и отвечал. – Не знаю. Знаю, что есть закон моего духовного существа. Источник, причину этого закона я называю Богом» (там же. Т. 20. С. 242).
Л. Н. Толстой отождествлял Бога с лучшей частью души – духовной её частью. Слово «душа» в этом случае становится синонимом Бога – в том смысле, в котором говорят: «Подумай о душе». В этом привычном призыве мы слышим: «Подумай о Боге». Подумать о душе или о Боге в данном случае означает одно и то же: подумать о духовных ценностях, чтобы легче было справиться с телесными соблазнами. Синонимом к словам «Бог» и «душа» в данном контексте становится и слово «совесть». Л. Н. Толстой писал: «Зрячую, духовную часть человека называют совестью… Она молчит, пока человек делает то, что должно. Но стоит человеку сойти с настоящего пути, и совесть показывает человеку, куда и насколько он сбился» (Путь жизни. С. 25). Поскольку представление о Боге как о нравственном руководителе, живущем в душе человека, не имеет по Л. Н. Толстому каких-либо ясных очертаний, то неудивительно, что он высказывался, например, в таком духе: «Бога никак нельзя понять умом. Мы знаем, что Он есть, только потому, что знаем Его не умом, а тем, что сознаем Его в себе» (там же. С. 27). Выходит что-то непостижимое: мы знаем не умом, а сознанием.
Настоящего богослова из Л. Н. Толстого в конечном счёте не получилось. В конечном счёте Бог в его истолковании отождествляется с тем, что человеку постичь невозможно. Характерно для Л. Н. Толстого такое его высказывание: «Если я живу мирской жизнью, я могу обходиться без Бога. Но стоит мне подумать о том, откуда я взялся, когда родился и куда денусь, когда умру, и я не могу не признать, что есть то, от чего я пришёл, к чему я иду. Не могу не признать, что я пришёл в этот мир от чего-то мне непонятного и что иду я к такому же чему-то непонятному мне. Вот это-то непонятное, от чего я пришёл и к чему иду, – я называю Богом» (там же. С. 45).
Эти слова Л. Н. Толстой писал в конце своей жизни. Вот почему мы можем сделать вывод о том, что попытки Л. Н. Толстого выступить в роли богослова в конечном счёте не увенчались успехом. В самом деле, что это за Бог – что-то непонятное, отчего человек пришёл и к чему придёт? Выходит, как будто, что речь идёт о природе, ибо мы из неё вышли и в неё уйдем. Но тогда выходит, что Л. Н. Толстой – пантеист, если Бог – принадлежность природы? Но пантеистические мотивы в богословских исканиях Л. Н. Толстого должны для нас стоять на втором месте, ибо на первом месте у него тот Бог, который живёт в душе как её лучшая часть, не позволяющая человеку совершать дурных поступков. Л. Н. Толстой писал: «Человеку нужно любить, а любить по-настоящему можно только то, в чём нет дурного. И потому должно быть и то, в чём нет ничего дурного. А такое существо, в котором нет ничего дурного, и есть только одно: Бог» (там же. С. 45). Бог в этом случае есть не что иное, как нравственный идеал.
Бог у Л. Н. Толстого – не самоценность. Нравственность – вот главное, чем он жил. Его же попытки выступать в роли богослова, в роли основателя «истинной веры» были направлены вовсе не на укрепление позиций теологии. Они были направлены на укрепление веры в людях в необходимость нравственного совершенствования. Чтобы не из одного разума вытекала эта необходимость, но и из веры. Вот тогда эта вера будет «истинной».
Л. Н. Толстой придавал вере в Бога исключительно важное значение. Об этом свидетельствуют, в частности, его трёхлетние мытарства, связанные с поиском смысла жизни в религиозной вере. Он описал их в своей «Исповеди».
«Исповедь» была написана Л. Н. Толстым в 1880 году, когда её автору было 49 лет. Уже позади были «Война и мир» и «Анна Каренина», но работа над романом о декабристах, который он так и не написал, не заладилась. Причина была одна: перед ним во весь свой рост стала проблема смысла жизни. В мучительных поисках ответа на неё он прошёл четыре этапа.
1. Критика бессмысленности жизни. Его главными оппонентами здесь стали Экклезиаст и А. Шопенгауэр. Автору «Исповеди» удалось преодолеть соблазн признать их правоту.
2. Изучение научных источников, позволяющих найти смысл жизни с помощью разума. Вывод оказался печальным: «Разумное знание в лице учёных и мудрых отрицает смысл жизни, а огромные массы людей, всё человечество – признают этот смысл в неразумном знании» (Толстой Л. Н. Избранное. Ростов-на-Дону, Феникс, 1998. С. 40». Вот почему он обратился к поиску смысла жизни с помощью веры в Бога. Но этот путь к смыслу жизни не предвещал скорого успеха. Чуть ниже он пишет: «И это неразумное знание есть вера, та самая, которую я не мог не откинуть. Это бог 1 и 3, это творение в 6 дней, дьяволы и ангелы и всё то, чего я не могу принять, пока я не сошёл с ума» (там же).
3. Изучение верующих людей своего круга. Результат и здесь оказался безрадостным. Л. Н. Толстой понял, что вера людей его круга показная, но главное, что люди его круга и не могут иметь подлинного смысла жизни, поскольку они паразиты на теле трудового народа.
«И я понял, что вера этих людей – не та вера, которой я искал, что их вера не есть вера, а только одно из эпикурейских утешений в жизни. Я понял, что эта вера годится, может быть, хоть не для утешения, а для некоторого рассеяния раскаивающемуся Соломону на смертном одре, но она не может годиться для огромного большинства человечества, которое призвано не потешаться, пользуясь трудами других, а творить жизнь. Для того чтобы всё человечество могло жить, для того чтоб оно продолжало жизнь, придавая ей смысл, у них, у этих миллиардов, должно быть другое, настоящее знание веры. Ведь не то, что мы с Соломоном и Шопенгауэром не убили себя, не это убедило меня в существовании веры, а то, что жили эти миллиарды и живут и нас с Соломонами вынесли на своих волнах жизни», – писал Л. Н. Толстой (там же. С. 47). А дальше уточнял: «Я понял, что, если я хочу понять жизнь и смысл её, мне надо жить не жизнью паразита, а настоящей жизнью и, приняв тот смысл, который придает ей настоящее человечество, слившись с этой жизнью, проверить его» (там же. С. 52).
4. Обнаружение религиозного смысла жизни у простолюдинов. Л. Н. Толстой писал: «Слушал я разговор безграмотного мужика-странника о боге, о вере, о жизни, о спасении, и знание веры открылось мне. Сближался я с народом, слушая его суждения о жизни, о вере, и я всё больше и больше понимал истину» (там же. С. 62). Какую истину? О смысле жизни.
Смысл жизни, обнаруженный Л. Н. Толстым в православной вере простых людей, заключался в следующем – во-первых, в «добывании жизни» (т. е. выживании), а во вторых, в нравственном совершенствовании.
Первая, материальная, стороны смысла жизни была сформулирована Л. Н. Толстым следующим образом: «И в самом деле, птица существует так, что она должна летать, собирать пищу, строить гнёзда, и когда я вижу, что птица делает это, я радуюсь её радостью. Коза, заяц, волк существуют так, что они должны кормиться, множиться, кормить свои семьи, и когда они делают это, у меня есть твёрдое сознание, что они счастливы и жизнь их разумна. Что же должен делать человек? Он должен точно так же добывать жизнь, как и животные, но с тою только разницей, что он погибнет, добывая её один, – ему надо добывать её не для себя, а для всех. И когда он делает это, у меня есть твердое сознание, что он счастлив и жизнь его разумна» (там же. С. 51–52).
Вторую, духовную, сторону смысла жизни простых людей Л. Н. Толстой описал так: «В противуположность тому, что люди нашего круга противились и негодовали на судьбу за лишения и страдания, эти люди принимали болезни и горести без всякого недоумения, противления, а с спокойною и твердою уверенностью в том, что всё это, должно быть и не может быть иначе, что всё это – добро. В противуположность тому, что чем мы умнее, тем менее понимаем смысл жизни и видим какую-то злую насмешку в том, что мы страдаем и умираем, эти люди живут, страдают и приближаются к смерти с спокойствием, чаще же всего с радостью. В противуположность тому, что спокойная смерть, смерть без ужаса и отчаяния, есть самое редкое исключение в нашем круге, смерть неспокойная, непокорная и нерадостная есть самое редкое исключение среди народа» (там же. С. 48).
Оставим в стороне сомнительность второго заключения автора этих слов и обратимся к главному: духовная сторона смысла жизни у простых людей возвратила Л. Н. Толстого к тому смыслу жизни, который был главным в его жизни – к нравственному совершенствованию. Его краткое содержание: быть лучше. Она напомнила ему о его детских и юношеских годах, когда он видел смысл своей жизни в нравственном совершенствовании. Теперь, под влиянием религиозной веры, она воскресла с новой силой.
Л. Н. Толстой писал в «Исповеди»: «И я спасся от самоубийства… Я вернулся во всем к самому прежнему, детскому и юношескому. Я вернулся к вере в ту волю, которая произвела меня и чего-то хочет от меня; я вернулся к тому, что главная и единственная цель моей жизни есть то, чтобы быть лучше, т. е. жить согласнее с этой волей; я вернулся к тому, что выражение этой воли я могу найти в том, что в скрывающейся от меня дали выработало для руководства своего всё человечество, т. е. я вернулся к вере в бога, в нравственное совершенствование и в предание, передававшее смысл жизни. Только та и была разница, что тогда всё это было принято бессознательно, теперь же я знал, что без этого я не могу жить» (там же. С. 55).
Вот как всё оказалось просто! Три года мытарств, а результат? Возврат к юношеской мечте о нравственном совершенствовании. Между тем три года мытарств, описанных в «Исповеди», перевернули жизнь её автора на 180 градусов: он всё больше и больше становится проповедником. В 1881 г. он посещает монашескую обитель – Оптину пустынь. В 1883 г. он пишет трактат «В чём моя вера?». Но главное, он меняется и как художник: его «Отец Сергий» (1990), «И свет во тьме светит» (1895), «Воскресение» (1899) и мн. др. художественные произведения окрашены переосмыслением былого, легкомысленного, как ему казалось, отношения к жизни – того отношения, с которым он писал свои произведения до того времени, когда его охватил глубочайший духовный кризис, описанный им в «Исповеди».
На этом можно было поставить точку после анализа «Исповеди». Но основная идея этой книги заставляет меня обратить особое внимание всего на один фрагмент из неё, в котором он по существу приближается к пониманию культурогенического смысла жизни. Вот этот фрагмент: «В самом деле, с тех давних, давних пор, как есть жизнь, о которой я что-нибудь да знаю, жили люди, зная то рассуждение о тщете жизни, которое мне показало её бессмыслицу, и всё-таки жили, придавая ей какой-то смысл. С тех пор как началась какая-нибудь жизнь людей, у них уже был этот смысл жизни, и они вели эту жизнь, дошедшую до меня. Всё, что есть во мне и около меня, всё это – плод их знания жизни. Те самые орудия мысли, которыми я обсуждаю эту жизнь и осуждаю её, всё это не мной, а ими сделано. Сам я родился, воспитался, вырос благодаря им. Они выкопали железо, научили рубить лес, приручили коров, лошадей, научили сеять, научили жить вместе, урядили нашу жизнь; они научили меня думать, говорить» (там же. С. 38).
Наука
Вопрос «как?» (как следует относиться к тому или иному предмету) производен, вторичен по отношению к вопросу «что?» (что представляет собою этот предмет?), поскольку наше нравственное отношение к предмету вытекает из нашего представления о нём. В каком же тогда случае нравственная картина мира в большей мере приблизится к истине, т. е. будет отражать в идеале поистине нравственное отношение к миру? Очевидно, в том случае, когда нравственная картина мира будет основываться на научной, поскольку последняя в большей мере, чем какая-либо другая приближается к истине – к наиболее адекватному представлению о реальной действительности. Вот почему моралист в идеале должен быть учёным-энциклопедистом, но, кроме того, он должен быть сциентистом – в положительном смысле этого слова, т. е. человеком, осознающим производность нравственной картины мира от научной, зависимость первой от второй. Именно в этом пункте Л. Н. Толстой оказался не на высоте. Он относился к науке не самым достойным образом, а следовательно, не мог определить и правильного нравственного отношения к ней. Как ни странно, он относился с презрением даже к дарвинизму, не сумев разглядеть эволюционное сходство между его учением о нравственном совершенствовании и учением Ч. Дарвина.
Отношения между наукой и нравственностью были перевёрнуты Л. Н. Толстым: не нравственность у него производна от науки, а наоборот – наука производна от нравственности, а точнее – должна стать производной. А поскольку современная наука, с его точки зрения, не подчинена нравственности, то её следует считать ложной наукой. Истинная же наука должна быть подчинена нравственности. Но Л. Н. Толстой заходил в отношении к науке ещё дальше: в его размышлениях о науке прослеживается явная тенденция к сведению всей науки к этике, которая и расценивалась им как истинная наука. В пределе нравоцентризм Л. Н. Толстого должен звучать приблизительно так: не нужна нам никакая наука, кроме одной – науки о том, как жить.
Вот что писал Л. Н. Толстой о современной ему науке: «То, что в нашем мире считается единственной и самой важной наукой: естественные науки, политикоэкономия, история (как она изучается), юриспруденция, социология и пр., совершенно такие же ненужные и большей частью ложные знания, какова в старину была “наука”, включавшая в себя богословие, алхимию, аристотелевскую философию, астрологию» (Толстой Л. Н. Собр. соч. в 20 томах, т. 20. М.: Художественная литература, 1965. С. 257). Записаны эти слова Львом Николаевичем в дневнике во вполне зрелом возрасте – 29 декабря 1906 г.
Почему же, по мнению Л. Н. Толстого, наука пошла по ложному пути? Он называет, по крайней мере, три причины: во-первых, потому, что большая часть знаний, полученных наукой, никому, кроме самих учёных, не нужна, во-вторых, потому, что с давних пор («со времен не только Рима, но Египта, Вавилона» (там же. С. 247) люди стали ставить своё материальное преуспевание выше духовного совершенства, а наука закрепила это ложное представление о соотношении материальных и духовных ценностей, а в-третьих, потому, что наука не сумела развиваться равномерно, что ей не позволило составить представление о мире как о некоем связном, едином целом.
Последний аргумент Л. Н. Толстого против «ложной» науки заслуживает особого внимания. В современной терминологии в нём идёт речь о том, что в истории науки процессы её дифференциации преобладали над процессами интеграции, что привело её к утрате целостного представления о мире. Кроме того, Л. Н. Толстой подчёркивал неравномерность развития разных отраслей науки, что тоже влияло на утрату единого, всестороннего, системного взгляда на мир. Вот это важное для историков науки суждение Л. Н. Толстого: «В знании важно не количество знаний, даже не точность их (потому что совершенно точных знаний нет и никогда не будет), а разумная связность их: то, чтобы они со всех сторон освещали мир. Вроде того, что бывает в постройках. Постройка может быть великолепна или бедна: зимний дворец и шалаш, но и то и другое – разумные постройки только тогда, когда они защищают со всех сторон от непогоды и дают возможность жить в них и зимой и летом; но самые великолепные три стены без четвёртой или четыре без крыши или без окон и печи много хуже бедной хаты, в которой можно укрыться и не задыхаться и не мерзнуть. То же и в научных знаниях, теперешних знаниях учёных в сравнении со знаниями безграмотного крестьянина-земледельца. Эта истина должна быть основой воспитания и образования. Расширять знания надо равномерно» (там же. С. 289).
Окрестив современную ему науку «ложной», Л. Н. Толстой стал размышлять о науке истинной. Что это за наука? «Мне думается, – отвечает мыслитель, – что теперь наступило время, когда люди сознают эту свою ошибку (что они создали ложную науку. – В. Д.) и исправят её. И установится или, скорее, разовьётся истинная, нужная людям наука духовная, наука о совершенствовании духовном о средствах наиболее лёгких достижения его» (там же. С. 247).
Нравоцентризм Л. Н. Толстого в отношении к науке вылился в критику «ложной» науки, т. е. всей науки, кроме науки о нравственности. В этой критике было много абсурдного (как, например, отрицание медицинской науки) и ценного. Он критиковал нашего брата и за то, что мы употребляем «неясные, несуществующие, выдуманные слова» (Путь жизни. С. 247), и за то, что мы исследуем надуманные проблемы (напр., этимологию слова «куколь»), и за то, что мы защищаем интересы привилегированных классов и т. д., и т. д.
Л. Н. Толстой смотрел на науку, как и на многое другое, с позиций мужицкой морали. Недаром в раздел «Ложная наука» в книге «Путь жизни» он включил такие слова Ш.-Л. Монтескье: «Я люблю мужиков: они недостаточно учёны, чтобы рассуждать превратно» (там же. С. 262). В подобном духе писал и сам Л. Н. Толстой: «Отчего безграмотные люди разумнее учёных? Оттого, что в их сознании не нарушена естественная и разумная постепенность важности предметов, вопросов. Ложная же наука производит это нарушение» (Толстой Л. Н. Собр. соч. в 20 томах, т. 20. М.: Художественная литература, 1965. С. 276).
Искусство
С позиций мужицкой морали Л. Н. Толстой смотрел и на искусство. В трактате «Что такое искусство?» он в таком роде писал об искусстве, к которому и сам имел непосредственное, как мы знаем, отношение: «Но мало того, что такие огромные труды тратятся на эту деятельность, – на неё, так же как на войну, тратятся прямо жизни человеческие: сотни тысяч людей с молодых лет посвящают все свои жизни на то, чтобы выучиться быстро вертеть ногами (танцоры); другие (мызыканты) на то, чтобы выучиться очень быстро перебирать клавиши или струны; третьи (живописцы) на то, чтобы уметь рисовать красками и писать всё, что они видят; четвёртые на то, чтобы уметь перевернуть всякую фразу на всякие лады и ко всякому слову подыскать рифму. И такие люди, часто очень добрые, умные, способные на всякий полезный труд, дичают в этих исключительных, одуряющих занятиях и становятся тупыми ко всем серьёзным явлениям жизни, односторонними и вполне довольными собой специалистами, умеющими только вертеть ногами, языком или пальцами» (там же. Т. 15. С. 45). Как видим, не только учёным, но и художникам доставалось от великого писателя земли русской. Можно с уверенностью сказать, что, если бы автором этих слов был кто-нибудь помельче Л. Н. Толстого, то подобные насмешки над людьми искусства никакая бы цензура не пропустила. Но Лев Николаевич был беспощаден и по отношению к своему собственному художественному творчеству, называя «Войну и мир», «Анну Каренину» и др. свои произведения дребеденью.
В чём дело? Чем вызвана подобная позиция Л. Н. Толстого к искусству? Он смотрел на него в подобные минуты – когда из его уст срывались подобные оценки художественной деятельности – глазами простого крестьянина или рабочего. Для них барское искусство – действительно, верченье ногами, языком или пальцами. А между тем, писал Лев Николаевич: «Для всякого балета, цирка, оперы, оперетки, выставки, картины, концерта, печатания книги нужна напряженная работа тысяч и тысяч людей, подневольно работающих часто губительную и унизительную работу. Ведь хорошо было бы, если бы художники всё свое дело делали сами, а то им всем нужна помощь рабочих не только для производства искусства, но и для их большей частью роскошного существования…» (там же. С. 50). Разумеется, Л. Н. Толстой далеко не всегда смотрел на искусство мужицкими глазами. Он часто плакал от умиления, слушая музыку Ф. Шопена или читая стихи Ф. И. Тютчева. Кстати, о последнем, по свидетельству В. Ф. Лазурского, он говорил: «По моему мнению, Тютчев – первый поэт, потом Лермонтов, потом Пушкин» (Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. Т. 2. М.: Художественная литература, 1960. С. 25). Но в трактате «Что такое искусство?» он провёл мужицкий взгляд на искусство. Но он ему был и на самом деле чрезвычайно близок – тем более во время написания этого трактата. Никто не может заподозрить Льва Николаевича в неискренности.
Проводя «народную» точку зрения на искусство, Л. Н. Толстой писал: «Как только искусство высших классов выделилось из всенародного искусства, так явилось убеждение о том, что искусство может быть искусством и вместе с тем быть непонятным массам» (Толстой Л. Н. Собр. соч. в 20 томах, т. 15. М.:
Художественная литература, 1965. С. 134). Писатель развенчивает элитарное, барское, извращённое, с его точки зрения, искусство, потому что истинное искусство понятно всем: «…извращенное искусство может быть непонятно людям, но хорошее искусство всегда понятно всем» (там же. С. 135).
Л. Н. Толстой развенчивает в этом трактате и привычное мнение о том, что красота, выражаемая искусством, а также и красота вообще отнюдь не способствует нравственности. Он писал: «Чем больше мы отдаёмся красоте, тем больше мы удаляемся от добра. Я знаю, что на это всегда говорят о том, что красота бывает нравственная и духовная, но это только игра слов.» (там же. С. 101).
Не красота, а добро – вот цель искусства. Настоящее искусство, с его точки зрения, призвано заражать людей добрыми чувствами. Оно способно влиять на людей в этом отношении более успешно, чем что-либо другое. Вот почему оно способно на великое дело – «осуществление братского единения людей» (там же. С. 231). Братское же единение людей означает отсутствие среди людей насилия. Л. Н. Толстой восклицал: «Задача искусства огромна: искусство, настоящее искусство, с помощью науки руководимое религией, должно сделать то, чтобы то мирное сожительство людей, которое соблюдается теперь внешними мерами, – судами, полицией, благотворительными учреждениями, инспекциями работ и т. п., – достигалось свободной и радостной деятельностью людей. Искусство должно устранить насилие. И только искусство может сделать это» (там же. С. 229). Л. Н. Толстой, таким образом, возлагал на искусство по преимуществу нравственные задачи. Следовательно, как в отношении к науке, так и в отношении к искусству мы наблюдаем у него одну и ту же позицию – нравоцентрическую. Это означает, что на центральное, ведущее положение в культуре он ставил нравственность, все же остальные её области – религию, науку, искусство и т. д. – он ставил в подчинённое к ней отношение.
Политика
С нравоцентрической точки зрения подходил Л. Н. Толстой и к политике. Всем известно, с какой беспощадностью великий писатель бичевал социальные язвы царской России, с каким гневом он обрушивался на привилегированное меньшинство, живущее в роскоши за счёт грабежа порабощенного большинства. Но с неменьшей беспощадностью он относился и к себе самому, поскольку и сам он принадлежал к привилегированному меньшинству.
Л. Н. Толстой писал: «…не люблю бедность, не могу любить её, особенно для других, но ещё больше не люблю, ненавижу, не могу не ненавидеть то, что даёт богатство: собственность земли, банки, проценты» (там же. Т. 20. С. 192).
Принять строй, при котором одни с жиру бесятся, а другие не могут свести концы с концами, Л. Н. Толстой не мог, но какой путь он предлагал для замены этого строя на другой, более справедливый? Ненасильственный, нравственный. Вот почему он не мог принять социальной революции, поскольку она предполагает насильственное перераспределение собственности, от которой идёт сама диспропорция между богатыми и бедными.
По поводу марксизма, который, как известно, не отвергает революционного насилия, Л. Н. Толстой говорил следующее: «Главная недодуманность, ошибка теории Маркса в предположении о том, что капиталы перейдут из рук частных в руки правительства, а от правительства, представляющего народ, в руки рабочих. Правительство не представляет народ, а есть те же частные люди, имеющие власть, несколько различные от капиталистов, отчасти совпадающие с ними. И потому правительство никогда не передаст капитала рабочим.» (там же. С. 103–104).
Но что же тогда сделать, чтобы уничтожить строй с непомерной диспропорцией между богатством и бедностью? По Л. Н. Толстому выходит так: бедным ничего не остаётся, как ждать, когда богатые поделятся с ними, а это произойдет тогда, когда они добровольно, по нравственным соображениям пойдут на самоограничение своих потребностей. Он писал: «Главное же – надо быть готовым отказаться от всех усовершенствований нашей цивилизации (отсюда отрицательное отношение Л. Н. Толстого к техническому прогрессу: он сдерживает стремление людей к самоограничению. – В. Д.), только чтоб не было того жестокого неравенства, которое составляет нашу язву. Если правда, что я люблю брата, то я не задумываюсь лишиться гостиной, только бы приютить его, бесприютного. А то мы говорим, что хотим приютить брата, но только с условием, чтобы гостиная оставалась свободною для приёма. Надо решить, кому служить – богу или мамону. Обоим нельзя. Если богу, то надо отказаться от роскоши и цивилизации, будучи готовым устроить её завтра же, только общую, равную» (там же. Т. 19. С. 378).
Дело, таким образом, осталось за малым: ждать, когда богатые добровольно, по нравственным соображениям, поделятся своими благами с бедными. «Жаль, в это время прекрасное, – писал Н. А. Некрасов, – жить не придётся ни мне, ни тебе». Причина одна: стремление к лакомому куску, ко всем благам цивилизации у нас значительно превышает стремление к нравственному совершенствованию и, в частности, к материальному самоограничению.
Но Л. Н. Толстой не видел другого выхода. И в отношении к политике он был последовательным нравоцентристом, считая, что политический прогресс в обществе может стать лишь следствием нравственного совершенствования людей, живущих в нём. Только в этом случае общество перестроится ненасильственно, изнутри, нравственно. Он писал: «Перестроится мир не извне, а изнутри. И поэтому вся энергия – на внутреннюю работу» (там же. Т. 20. С. 197).
Язык
И в отношении к языковому общению Л. Н. Толстой был нравоцентристом. И в языке он видел в первую очередь средство для установления между людьми добрых, любовных отношений, средство для их братского единения.
К единению должен вести родной язык, к единению должно вести и изучение иностранных языков. По поводу последних он писал: «Изучение языков – самая христианская наука, потому что ведёт к единению людей» (Л. Н. Толстой: энциклопедия / сост. и научн. ред. Н. И. Бурнашёва. М.: Просвещение, 2009. С. 414).
Но слово может не только соединять людей, но и разъединять. Вот почему Л. Н. Толстой учил осторожному обращению с ним: «Слово – выражение мысли и может служить соединению и разделению людей; поэтому нужно с осторожностью обращаться с ним» (Путь жизни. С. 294). Далее он уточнял: «Берегись такого слова, которое разъединяет людей или служит вражде и ненависти» (там же).
В раздел «Слово» в упомянутой книге Л. Н. Толстой включил такие параграфы: «Слово – великое дело», «Когда рассердился, молчи», «Не спорь», «Не осуждай», «Вред от несдержания в слове», «Польза молчания», «Польза воздержания в слове» (там же. С. 294–303). Для себя же, в своём дневнике за 1899 г. её автор писал: «Дороже всего добрые отношения между людьми, а устанавливаются эти отношения не вследствие разговоров – напротив, от разговоров портятся. Говорить как можно меньше, и в особенности с теми людьми, с которыми хочешь быть в хороших отношениях» (ТолстойЛ. Н. Собр. соч. в 20 томах, т. 20. М.: Художественная литература, 1965. С. 117).
Единение с людьми – высший идеал толстовской этики. Встречаясь с ним, мы ощущаем его величие. Иначе и не может быть: этот идеал соединяет наши разрозненные души со всем родом человеческим. Он заставляет нас забывать о тех бесконечных различиях между нами, которые нас разобщают. Этих различий накопилось так много, что с общечеловеческой точки зрения мы выглядим как существа, которых иначе как странными и удивительными не назовёшь. Эту точку зрения Л. Н. Толстой выразил в дневниковой записи, сделанной им в ночь с 28 на 29 июля 1909 года. Он писал: «Есть на свете такие существа, которые живут все от произведений земли, но для того, чтобы им было как можно труднее кормиться, они землю свою разделили так, что пользоваться ею могут только те, кто не работает на ней, те же, кто работают, не могут пользоваться ею и страдают и мрут поколения за поколениями от невозможности кормиться с земли. Кроме того, существа эти избирают по одному семейству или по нескольким из многих и отказываются от своей воли и разума ради рабского повиновения всему тому, что захотят делать над ними эти избранные. Избранные же бывают самые злые и глупые из всех. Но существа, избравшие и покоряющиеся, всячески восхваляют их. Существа эти говорят на разных языках, непонятных друг другу. Но вместо того, чтобы стараться уничтожить эту причину недоразумений и раздоров, они ещё разделяют сами себя, независимо от различия языка, ещё на разные соединения, называемые государствами, и из-за этих соединений убивают тысячи и тысячи себе подобных и разоряют друг друга» (там же. С. 352).
Далее читаем: «Не буду говорить о тех миллионах глупостей и гадостей, которые делаются этими существами: как они отравляют себя ядом, считая это удовольствием; как собираются в самые заражённые ими же самими места в огромном количестве в среде незанятых огромных пространств земли, строят в одной местности дома в тридцать этажей; или как, не заботясь о том, как бы им всем лучше передвигаться, заботятся о том, чтобы только некоторые могли ездить, летать как можно скорее; или как набирают слова так, чтобы концы были одни и те же, и, составив вместе, как потом восхищаются этим набором слов, называя это поэзией; или как набирают другие слова без окончаний, но такие же глупые и непонятные, называют их законами и из-за этих слов всячески мучают, запирают в тюрьмы и убивают по этим законам друг друга. Да всего не перечтёшь» (там же. С. 354).
Вывод такой: «Удивительнее же всего при этом то, что существа эти не только не образумливаются, не употребляют свой разум на то, чтобы понять, что глупо и дурно, а напротив, на то, чтобы оправдывать все свои глупости и гадости. И мало того что не хотят сами видеть мучающих их глупостей и гадостей, не позволяют никому среди себя указывать на то, как не надо делать то, что они делают, и как можно и должно делать совсем другое и не мучиться так. Стоит только появиться такому, пользующемуся своим разумом существу между ними, и все остальные приходят в гнев, негодование, ужас и где и как попало ругают, бьют такое существо, и или вешают на виселице, или на кресте, или сжигают, или расстреливают. И что всего страннее, это то, что когда они повесят, убьют, это разумное, среди безумных, существо и оно уже не мешает им, они начинают понемногу забывать то, что говорило это разумное существо, начинают придумывать за него то, что будто бы оно говорило, но чего никогда не говорило, и когда всё то, что говорено этим разумным существом, основательно забыто и исковеркано, те самые существа, которые прежде ненавидели и замучили это, одно из многих, разумное существо, начинают возвеличивать замученного и убитого, даже иногда, думая сделать этим великую честь этому существу, признают его равным тому воображаемому злому и нелепому богу, которого они почитают. Удивительные эти существа. Существа эти называются людьми» (там же. С. 355).
Незавидна участь тех, кто не стремится к человеческому единению. «Ужасно одиноко положение того, – читаем у Л. Н. Толстого, – кто не чувствует своего единения со всеми отдельными существами. Когда подумаешь о всех людях, существах, живущих отдельно, – ужас берёт. Успокаивает и радует даже, когда их обнимаешь разумом и любовью» (там же. С. 151–152).
Итак, и в отношении к религии, и в отношении к науке, и в отношении к искусству, и в отношении к политике, и в отношении к языку – всюду Л. Н. Толстой выступает как нравоцентрист, т. е. ставит нравственность на центральное, ведущее, первое место. «Желательно, – писал он, – отношение нравственности и культуры такое, чтобы культура развивалась только одновременно и немного позади нравственного движения» (там же. С. 278). Но как же, спрашивается, добиться того, чтобы нравственность стала опережать другие сферы культуры? Усиленно заниматься нравственным совершенствованием. Данный тезис лежит в основе всей этики Л. Н. Толстого, но в особенности – внутренней этики. Во внешней этике её автор мог изменить эволюционизму, что тоже вытекало из его нравоцен-тризма: стоит ли радоваться культурному прогрессу, если он увеличивает отставание нравственности от других сфер культуры? Отсюда такие, казалось бы, ретроградные, антиэволюционные высказывания Л. Н. Толстого, как, например, это: «…добрая жизнь и теперешние технические усовершенствования и формы жизни несовместимы. Без рабов не только не будет наших театров, кондитерских, экипажей, вообще предметов роскоши, но едва ли будут все железные дороги, телеграфы» (там же. С. 180). Или такое: «Обычно думают, что прогресс в увеличении знаний, в усовершенствовании жизни, – но это не так. Прогресс только в большем и большем уяснении ответов на основные вопросы жизни» (там же. С. 175). К этим вопросам он относил нравственные вопросы, которые во внутренней этике Л. Н. Толстой решал в последовательно эволюционном духе, чего, к сожалению, мы не видели в его внешней этике.
2. Внутренняя этика
Нравственное совершенствование состоит в борьбе человека с пороками. В начале книги «Путь жизни» Л. Н. Толстой выделяет следующие грехи: чревоугодие, блуд, праздность, корыстолюбие (жадность), зависть, страх, осуждение, враждебность, гнев, гордость, тщеславие (славолюбие).
Все эти грехи Л. Н. Толстой находил в себе. 21 сентября 1905 г. он писал в дневнике: «Во мне все пороки, и в высшей степени: и зависть, и корысть, и скупость, и сладострастие, и тщеславие, и честолюбие, и гордость, и злоба. Нет, злобы нет, но есть озлобление, лживость, лицемерие. Одно моё спасение, что я знаю это и борюсь, всю жизнь борюсь» (там же. Т. 20. С. 223).
Источник грехов Л. Н. Толстой видел в телесном (животном) начале человека. Применительно к себе он писал: «Во мне два начала: духовное и телесное; они борются. И постепенно побеждает духовное. Борьбу этих начал я сознаю собой и называю своей жизнью» (там же. С. 222). Стало быть, само понятие жизни человека он сводил к нравственной борьбе. «Мы живем только тогда, – подтверждал Л. Н. Толстой, – когда помним о своём духовном я. А это бывает в минуты духовного восторга или минуты борьбы духовного начала с животным» (там же. С. 168). Не следует думать, что такая борьба давалась ему легко. Очень часто он приходил в отчаяние и тогда молил бога: «Господи, помоги мне, сожги моего древнего, плотского человека» (там же. С. 269).
Отчего же человеку приходится всю свою жизнь бороться со своими пороками? Всё дело в том его свойстве, которое Л. Н. Толстой назвал текучестью. Он писал: «Одно из самых обычных заблуждений состоит в том, чтобы считать людей добрыми, злыми, глупыми, умными. Человек течёт, и в нём есть все возможности: был глуп, стал умён, был зол, стал добр, и наоборот. В этом величие человека. И от этого нельзя судить человека. Какого? Ты осудил, а он уже другой» (там же. С. 92).
Текучесть человека не должна расцениваться как основание для сознания человеком бессилия по отношению к своим порокам. Напротив, она служит основанием для постоянного нравственного самосовершенствования. Л. Н. Толстой писал: «Как можно приучить себя класть жизнь в чинах, богатстве, славе, даже в охоте, в коллекционерстве, так можно приучить себя класть жизнь в совершенствовании, в постепенном приближении к поставленному пределу. Можно сейчас испытать это: посадить зёрнышки и начать следить за их ростом, и это будет занимать и радовать. Вспомни, как радовался на увеличение силы телесной, ловкости: коньки, плаванье. Так же попробуй задать себе хоть то, чтобы не сказать в целый день, неделю ничего дурного про людей, и достижение будет также занимать и радовать» (там же. С. 253).
Все пороки (страсти) – крайности, в которые может впасть человек, отправляясь от добродетелей. Последние, как говорил ещё Аристотель, проходят посередине между первыми. Выходит, что текучей является граница между пороком и добродетелью. «Все страсти, – размышлял Л. Н. Толстой, – только преувеличение естественных влечений – законных: 1) тщеславие – желание знать, чего от нас хотят люди; 2) скупость – бережливость чужих трудов; 3) любострастие – исполнение закона продолжения рода; 4) гордость – сознание своей божественности; 5) злоба, ненависть к людям – ненависть к злу» (там же. С. 271).
Основные добродетели группируются в этике Л. Н. Толстого вокруг её базовых, основных нравственных ценностей – счастья, любви, смирения и мужества.
Счастье
Счастье в представлении Л. Н. Толстого состоит во всё большем и большем приближении человека к нравственному совершенству. Это приближение предполагает каждодневную борьбу человека со своим животным началом, но именно в ней он и видел настоящую жизнь. «Жизнь, – писал он, – только в усилии нравственном… Настоящая жизнь есть рост нравственный, и радость жизни есть слежение за этим ростом. Какое же ребяческое, недомысленное представление – рай, где люди совершенны и потому не растут, стало быть, не живут» (там же. С. 283).
Высшую радость приносит человеку освобождение от соблазнов. «Да, только освободиться, как я освобождаюсь теперь, от соблазнов, – писал 80-летний Лев Николаевич, – гнева, блуда, богатства, отчасти сластолюбия и, главное, славы людской, и как вдруг разжигается внутренний свет. Особенно радостно.» (там же. С. 277). И ниже он продолжал: «Жизнь не шутка, а великое, торжественное дело. Жить надо бы всегда так же серьёзно и торжественно, как умираешь» (там же).
Аристотель называл счастье высшим благом. А вот что понимал под благом Л. Н. Толстой: «Весь смысл человеческой жизни, доступной нам, только в том, чтобы мы имели возможность участвовать в божеской жизни; и потому мы должны быть счастливы. Если мы несчастливы, то это значит только то, что мы делаем не то, что должно, или не делаем того, что должно. Так что не только благо есть последствие исполнения долга, но наш долг в том, чтобы мы испытывали благо» (там же. С. 208). На другом языке это означает, что мы обязаны быть счастливыми, а это возможно в движении нравственном. Это движение – источник радости, а «веселье, радость, – говорил Л. Н. Толстой, – это одно из исполнений воли Бога» (там же. С. 209).
Нравственное совершенствование приводит к высшему благу – любви, единению с людьми. Л. Н. Толстой писал: «Увеличить благо людей наукой – цивилизацией, культурой так же невозможно, как сделать то, чтобы на водяной плоскости вода в одном месте стояла бы выше, чем в других. Увеличение блага (читай: счастья. – В. Д.) людей только от увеличения любви, которая по свойству своему равняет всех людей… Благо только от увеличения любви» (там же. С. 169).
Смирение
«Наша жизнь, – писал А. И. Герцен, – постоянное бегство от себя, точно угрызения совести преследуют и пугают нас. Как только человек становится на свои ноги, он начинает кричать, чтобы не слыхать речей, раздающихся внутри. Ему грустно – он бежит рассеяться; ему нечего делать – он выдумывает себе занятие; от ненависти к одиночеству он дружится со всеми, всё читает, интересуется чужими делами, женится на скорую руку. Кому и эта жизнь не удалась, тот напивается всем на свете: вином, нумизматикой, картами, скачками, женщинами, благодеяниями, ударяется в мистицизм, идёт в иезуиты, налагает на себя чудовищные труды, и они всё-таки легче кажутся, чем какая-то угрожающая истина, дремлющая внутри его. В этой боязни исследовать, чтобы не увидать вздор исследуемого, в этом искусственном недосуге, в этих поддельных не-счастиях, усложняя каждый шаг вымышленными путами, мы проходим по жизни спросонья и умираем в чаду нелепостей и пустяков, не пришедши в себя» (Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. Т. 2. М. Художественная литература, 1960. С. 323). У Льва Николаевича, как вспоминал Н. Н. Гусев, «блестели слёзы на глазах», когда он слушал эти пронзительные слова А. И. Герцена.
Что это за дремлющая истина, о которой писал А. И. Герцен? Можно догадаться – о бессмысленности жизни. Эта горькая «истина» не раз посещала Л. Н. Толстого. Бывало, что дело доходило и до мысли о самоубийстве. Особенно глубокий приступ осознания бессмысленности жизни, её бесцельности, а следовательно, и отчаяния Л. Н. Толстой, как он вспоминал в своей «Исповеди» (1879), пережил в середине 70 гг. Главный вопрос, мучивший его, был вопрос «Зачем?» «Ну, хорошо, у тебя будет 6000 десятин в Самарской губернии, 300 голов лошадей, а потом?… Или, начиная думать о том, как я воспитываю детей, я говорил себе: «Зачем?». Ну, хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире, – ну и что же?». И я ничего не мог ответить», – писал Л. Н. Толстой в этой книге (указ. собр. соч. Т. 16. С. 125). Ниже он добавлял: «Со мной сделалось то, что я, здоровый, счастливый человек, почувствовал, что я не могу более жить, – какая-то непреодолимая сила влекла меня к тому, чтобы как-нибудь избавиться от жизни».
Вопрос «Зачем?» в менее драматической форме посещал Л. Н. Толстого и в другие времена. Так, много лет спустя после описанного кризиса, в конце 1901 г. он писал в дневнике: «Всякий человек закован в своё одиночество и приговорён к смерти. Живи зачем-то один, с неудовлетворенными желаниями, старейся и умирай» (указ. собр соч. Т. 20. С. 156).
А есть ли на свете люди, у которых не бывает подобных мыслей, минут отчаяния? Вряд ли. Как же их преодолевать? Уж, разумеется, не стоит в подобные времена лезть в петлю. Лучший выход, если даже не обнаруживается никакого просвета впереди, – смириться, а «ум, – утверждал Л. Н. Толстой, – возникает только из смирения. Глупость же – только из самомнения. Как бы сильны ни были умственные способности, смиренный человек всегда недоволен – ищет; самоуверенный думает, что всё знает, и не углубляется» (там же. С. 273).
Смирение у Л. Н. Толстого не разрушительно, а созидательно. Оно направлено на сдерживание соблазнов и исполнение своих обязанностей. А обязанностям, долгу он, вслед за И. Кантом, придавал решающее значение в нравственном совершенствовании. Главная же обязанность человека – служить другим. Л. Н. Толстой писал: «Высшее благо человека в этом мире есть единение с себе подобными. Гордые люди, выделяя себя из других, лишают себя сами этого блага. Смиренный же человек уничтожает в самом себе все препятствия для достижения этого блага» (Путь жизни. С. 333).
Без смирения, считал Л. Н. Толстой, невозможно нравственное совершенствование, ибо «ничто так не вредно для нравственного совершенствования, как довольство собой» (там же. С. 339). Из смирения у него вытекал и тот вывод, которому он придавал значение закона. Речь идёт о непротивлении злу насилием. Он писал: «Непротивление злу насилием – не предписание, а открытый, сознанный закон жизни для каждого отдельного человека и для всего человечества – даже для всего живого. Закон этот, не переставая, исполняется. Волки вырождаются, а кролики размножаются. Закон этот, как всякий закон, есть идеал, к которому само собой бессознательно стремится всё живое и должен стремиться каждый отдельный человек. Закон этот кажется неверным только тогда, когда представляется требованием полного осуществления его, а не как всегдашнее, неперестающее, бессознательное и сознательное стремление к осуществлению его» (указ. собр соч. Т. 20. С. 279). Почему необходимо стремиться к осуществлению этого закона? Потому что насилие (например, революция) рождает новое насилие, последнее – новое и так без конца.
Любовь
Слава, почёт, богатство и т. п. блага – ничто по сравнению с любовью. Только она приносит высшее благо – счастье. «Когда человек ищет благо во всём, кроме любви, – писал Л. Н. Толстой, – он всё равно как во мраке ищет пути. Когда же он познал, что благо всего существующего – в любви, так солнце взошло, и он видит свой путь и не может уже хвататься за то, что не даёт ему благо» (там же. С. 142).
Любовь для Л. Н. Толстого была той волшебницей, которая развязывает все узлы. В её отсутствии, как и в переизбытке, он видел источник всех страданий: «Любовь настоящая есть только любовь к ближнему, ровная, одинаковая для всех. Одинаково нужно заставить себя любить тех, которых мало любишь или ненавидишь, и перестать слишком любить тех, которых слишком любишь. Одно не дошло, другое перешло линию. От того и другого все страдания мира» (там же. С. 164).
Как бы подводя итог своим нравственным исканиям, Л. Н. Толстой писал в своём дневнике в конце жизни: «Смешно писать такую всем известную истину в конце жизни, а истина эта для меня, как я её теперь понимаю, скорее, чувствую, представляется совершенно новой. Истина эта в том, что надо всех любить и всю жизнь строить так, чтобы можно было всех любить» (там же. С. 261).
Не обошёл Л. Н. Толстой и любовь между мужчиной и женщиной. В этой любви высшую прелесть он видел в её зарождении: «Ещё думал нынче же совсем неожиданно о прелести – зарождающейся любви, когда на фоне весёлых, приятных, милых отношений начинает вдруг блестеть эта звёздочка. Это вроде того, как пахнувший вдруг запах липы или начинающая падать тень от месяца. Ещё нет полного цвета, нет ясной тени и света, но есть радость и страх нового, обаятельного. Хорошо это, но только тогда, когда в первый и последний раз» (там же. С. 86).
Мужество
Мужество – это борьба со страхом. Самый же сильный страх – страх смерти. Мысль о смерти красной нитью проходит через сознание Л. Н. Толстого. Она – главный источник смирения. Она, подобно любви, распутывает все узлы. Она заставляет человека жить для души, а не для тела. Л. Н. Толстой писал: «Для человека, живущего для души, разрушение тела есть только освобождение… Но каково же положение человека, полагающего свою жизнь в теле, когда он видит, что. его тело разрушается, да ещё и со страданиями?» (там же. С. 376).
Л. Н. Толстой верил в то, как он сам писал, что «плотская смерть не конец жизни, а только перемена» (Путь жизни. С. 387), правда, тут же он предупреждал, что «сущность перемены, совершающейся при телесной смерти, недоступна человеческому уму» (там же. С. 390).
Послесловие
Последние слова Л. Н. Толстого перед смертью, которые он сказал подошедшему сыну Сергею, были такими: «Истина… Я люблю много… как они…» (Бунин И. А. Собр. соч., т. 9. Освобождение Толстого. М.: Художественная литература, 1967. С. 28). Неутомимый мыслитель, он всю свою жизнь искал истину. И любовь. Его главной истиной стала любовь. Любовь – вот то солнце, которое освещает человеку его путь к нравственному совершенству. После Л. Н. Толстого в мире не было мыслителя, поднявшегося выше его в учении о нравственном совершенствовании. Доведённое до логического предела, оно становится эволюционным учением, предполагающим, что человек, вступивший на путь нравственного совершенствования, воспринимает себя в качестве сосуда, через который проходит нравственная эволюция. Всё, что мешает ей, он расценивает как зло; всё же, что способствует ей, – как добро.
1. 2. 4. Пьер Тейяр де Шарден
Человек, по удачному выражению Джулиана Хаксли…не что иное, как эволюция осознавшая саму себя. До тех пор пока наши современные умы (именно потому, что они современные) не утвердятся в этой перспективе, они никогда, мне кажется, не найдут покоя.
П. Тейяр де ШарденВысший смысл человеческой жизни великий французский эволюционист Пьер де Тейяр Шарден (18811955) видел в том, чтобы всё больше и больше становиться проводником эволюции. В отличие от животных, люди способны ускорять свой собственный эволюционный прогресс. Всё дело только в том, чтобы именно всё человечество вступило на путь эволюционного прогресса.
До тех пор пока универсально-эволюционное мировоззрение будет оставаться привилегией редких одиночек, рассчитывать на ускорение эволюционного прогресса можно лишь в очень ограниченной мере. Только в том случае, когда это мировоззрение станет массовым, начнётся новая эра в эволюции человека. Вот почему П. Тейяр де Шарден был неутомимым певцом эволюционизма.
П. Тейяр де Шарден восклицал: «Что такое эволюция – теорема, система, гипотеза?. Нет, нечто гораздо большее, чем всё это: она – основное условие, которому должны отныне подчиняться и удовлетворять все теории, гипотезы, системы, если они хотят быть разумными и истинными. Свет, озаряющий факты, кривая, в которой должны сомкнуться все линии, – вот что такое эволюция» (Тейяр де Шарден П. Феномен человека. Введение к объяснению мира. М.: Наука, 1987. С. 12–13).
В своей книге П. Тейяр де Шарден поёт дифирамбы человеку. Он называет его то «ключом универсума» (там же. С. 37), то «центром конструирования универсума» (там же. С. 38), то «вершиной (на данный момент) антропогенеза, который сам венчает космогенез» (там же. С. 39), а то и «пунктом сосредоточения и гоминизации универсального стремления к жизни» (там же. С. 40).
Итак, высший смысл человеческой жизни, по П. Тейяру де Шардену, состоит во всё более и более глубоком постижении эволюционной идеи и во всё более и более активном её применении в жизни. Сегодняшнее человечество находится лишь в начале своего пути к осуществлению этого смысла. Есть ли у сегодняшних людей шансы для дальнейшего продвижения по эволюционному пути?
Положительный ответ на поставленный вопрос подтверждает предшествующая история человечества, которую П. Тейяр де Шарден называет гоминизацией (очеловечением).
Первые люди, по выражению П. Тейяра де Шардена «выделились из веера антропоидов» (там же. С. 151). На заре человечества их проживало намного больше, чем теперешних человекообразных обезьян. Он писал: «В конце третичного периода в горах и лесах антропоиды были гораздо более мночисленны, чем теперь. Кроме гориллы, шимпанзе и орангутана, теперь оттеснённых в свои последние убежища, как ныне оттеснены ав-тралийцы и негритосы, тогда жило много других крупных приматов» (там же. С. 150). Но только одному виду из этих приматов посчастливилось найти путь к очеловечению. Почему им это удалось?
П. Тейяр де Шарден пишет: «Психогенез привёл нас к человеку» (там же. С. 148). Если за этой фразой кроется давно известная мысль о том, что наши животные предки опередили других человекообразных обезьян в своей психической эволюции, что и позволило им вступить на путь очеловечения, то с этой фразой можно согласиться вполне. Но всё дело в том, что её автор вкладывал в неё намного более глубокий смысл, чем тот, о котором я только что сказал.
Тейяровская концепция универсальной эволюции имеет одну очень яркую черту – панпсихизм (гилозоизм). Её автор приписывал сознание не только живой, но и неживой материи. Вот почему мы можем прочитать у него такие фразы: «В земной материи была замкнута некоторая масса элементарного
сознания (там же. С. 66). Некое рудиментарное сознание предшествует появлению жизни» (там же. С. 79). «Первоначальные пылинки сознания» (там же. С. 67) в представлении П. Тейяра де Шардена летали уже по безжизненному миру. В данном случае теолог в нём берёт верх над учёным.
Психическому фактору в эволюции животных П. Тейяр де Шарден отдавал предпочтение перед биологическим. «Согласно ныне существующим представлениям, – писал он в связи с этим, – животное развивает свои инстинкты хищника, потому что его коренные зубы становятся острыми, а лапы когтистыми. Но не следует ли перевернуть это предложение? Иначе говоря, не потому ли как раз тигр удлинил свои клыки и заострил свои когти, что по линии своих предков он получил, развил и передал потомкам “душу хищника”? И то же самое относится к другим животным» (там же. С. 125–126).
Психическая эволюция у разных видов животных принесла разные плоды. Так, насекомые в своём психическом развитии, по мнению учёного, «кажется, достигли своего конечного потолка», поскольку «им никак не удаётся перейти в другую плоскость развития» (там же. С. 128). Главную причину их эволюционного топтания на месте он усматривает в малом размере их организма в целом и их мозга в частности. «Высшие формы психизма, – резюмирует П. Тейяр де Шарден, – физически требуют крупных мозгов» (там же. С. 128).
Наибольших успехов в психогенезе достигли млекопитающие. Особое место среди них занимают приматы. Среди других животных, по словам П. Тейяра де Шардена, «они оказалась наиболее дальновидными… и самыми свободными» (там же. С. 131–132), но главное, «они представляют собой филу чистого и непосредственного мозгового развития» (там же. С. 132). «Вот почему в восходящем движении к наибольшему сознанию они оказались впереди» (там же). Это позволило одной из их ветвей породить человека.
Главный результат в психогенезе обезьян, ставших предками человека, П. Тейяр де Шарден усматривал в приобретении ими способности к рефлексии, т. е. в «способности уже не просто познавать, а познавать самих себя» (там же. С. 136). Из рефлексирующей способности учёный выводил и способность наших предков к созиданию культуры. Он писал: «Рефлексирующее существо в силу самого сосредоточивания на самом себе внезапно становится способным развиваться в новой сфере. В действительности это возникновение нового мира. Абстракция, логика, обдуманный выбор и изобретательность, математика, искусство… Вся эта деятельность внутренней жизни – не что иное, как возбуждение вновь образованного центра, воспламеняющегося в самом себе» (там же. С. 136).
Панпсихизм у П. Тейяра де Шардена вошёл в понимание самой сущности человека. Что можно сказать по этому поводу? Учёный прав в том, что без успешной психической эволюции наши предки не смогли бы оторваться от своих животных собратьев и создать культуру (тем самым стать людьми), но, очевидно, главный результат психогенеза у наших предков состоял не в их способности к рефлексии, а в их способности к творческому созиданию: даже самый примитивный продукт культуры не может быть создан без этой способности. Делать же упор на рефлексирующую сущность человека – значит затемнять его культурную сущность. Не культурный фактор в этом случае выдвигается в гоминизации на первый план, а психический.
В подтверждение рефлексирующей природы человека П. Тейяр де Шарден приводит такие слова «Разумеется, животное знает. Но, безусловно, оно не знает о своем знании – иначе оно бы давным-давно умножило изобретательность и развило бы систему внутренних построений. Будучи рефлексирующими, мы не только отличаемся от животного, но мы иные по сравнению с ним» (там же. С. 137). Подобный взгляд на сущность человека затемняет её подлинное – культурное – понимание.
Напрашивается вопрос: если животное не знает о своём знании, то как оно возвращается к уже ранее использованным знаниям? Но самое главное: человек отличается от животного тем, что он – существо культуросозидающее. Это означает, что он способен обладать такими знаниями, при помощи которых можно изменить, преобразовать, улучшить, усовершенствовать окружающий мир и самого себя. Результатом использования подобных знаний и является культура. Деградация таких, творческих, знаний и прекращение деятельности, вытекающей из них, свидетельствует о возвращении человека к его животным предкам, к утрате им собственно человеческой природы, к культурной инволюции.
Человек – существо, творящее культуру, сначала – внутри самого себя, в своём сознании, а затем – вовне, в мире практической деятельности. Определяя человека как существо рефлексирующее, П. Тейяр де Шарден исходит из психологической концепции человека, а не культурологической. Исходя из последней, мы можем утверждать, что гоминизация и культурогенез – явления синхронные. Более того, гоминизация – это прежде всего культурогенез. Культурогенез, с моей точки зрения, – главный фактор в очеловечении наших предков. Он играл и играет ведущую роль по отношению к их биофизической и психической эволюции.
Переход психики обезьян в психику людей П. Тейяр де Шарден представлял как скачок, как перерыв непрерывности. Этот скачок, однако, не вызвал существенных анатомофизиологических изменений. Он писал: «Внешне почти никакого изменения в органах. Но внутри – великая революция: сознание забурлило и брызнуло в пространство» (там же. С. 139).
В качестве основного биологического фактора гоминизации наших животных предков П. Тейяр де Шарден рассматривал не только мощное развитие их нервной системы, но и двуногость. «Если бы существо, от которого произошел человек, – писал он, – не было двуногим, его руки не освободились бы своевременно и не освободили челюсти от хватательной функции, и, следовательно, плотная повязка челюстных мускулов, сдавливавшая череп, не была бы ослаблена. Мозг смог увеличиться лишь благодаря прямой походке, освободившей руки, и вместе с тем благодаря ей, глаза, приблизившись друг к другу на уменьшающемся лице, смогли смотреть в одну точку и фиксировать то, что брали, приближали и показывали во всех направлениях руки, – внешне выраженный жест самой рефлексии!» (там же. С. 140).
Заслуга П. Тейяра де Шардена состоит в том, что он выделил все четыре ступени эволюции – физическую, биотическую, психическую и культурную. К сожалению, в этой бесспорной эволюционной схеме у французского эволюциониста отводится гипертрофированная роль психогенезу. Он призывал: «Отведём законное место психике!» (там же. С. 146).
В своём панпсихизме П. Тейяр де Шарден иногда заходил так далеко, что дело доходило до отождествления биогенеза с психогенезом. Так, он указывал: «Геогенез… переходит в биогенез, который в конечном счёте не что иное, как психогенез» (там же. С. 148).
Психической энергией П. Тейяр де Шарден наделяет все ступени эволюции. «Всякая энергия, – утверждал он, – имеет психическую природу» (там же. С. 61). В панпсихическом духе он интерпретировал и ноосферу, подразумевая под нею разум («мыслящий пласт» Земли) (там же. С. 148), и ноогенез.
Под ноогенезом П. Тейяр де Шарден имел в виду высшую стадию эволюции. «Психогенез привёл нас к человеку, – писал он. – Теперь психогенез стушёвывается, он сменяется и поглощается более высокой функцией – вначале зарождением, затем последующим развитием духа – ноогенезом» (там же. С. 148).
Ноогенез – эволюция ноосферы. В главе «Развёртывание ноосферы» П. Тейяр де Шарден пишет: «Дух ткёт и развёртывает покров ноосферы» (там же. С. 155). Речь здесь идёт о творческом духе, а не о духе вообще, под «покровом» же ноосферы учёный имел в виду не что иное, как культуру.
Зачатки культуры (пещерная индустрия, захоронения и т. п.) обнаружены уже у первых людей. Современный человек появился, по П. Тейяру де Шардену, предположительно 30 тысяч лет назад. В довольно быстром темпе он совершает культурную эволюцию, которая осуществляется в двух направлениях – материальном (охота, растениеводство, животноводство и т. д.) и духовном (религиозные, нравственные, политические и т. под. установления). К сожалению, П. Тейяр де Шарден не даёт систематизированного представления об эволюции культуры.
Высшее достижение неогенеза П. Тейяр де Шарден увидел в постижении эволюционной идеи. Он имел при этом в виду не только разработку этой идеи в науке, но и то, что можно назвать эволюционным мировоззрением, которое и до сих пор остаётся привилегией одиночек.
Эволюционизм ещё должен завоевать сознание будущего человечества. В мире не должно не остаться ничего, что оказывалось бы за пределами этого мировоззрения. Человек, овладевший им, может считаться человеком в подлинном значении этого слова, поскольку только универсальный эволюционист видит своё особое место в эволюции мира в целом.
Только универсальный эволюционизм может стать самой надёжной опорой для единения людей. Он ведёт их к объединению. «Ложен и противоестествен эгоцентрический идеал будущего, – восклицал П. Тейяр де Шарден. – Любой элемент может развиваться и расти лишь в связи со всеми другими элементами и через них… Для человека нет будущего, ожидаемого в результате эволюции, вне его объединения с другими людьми» (там же. С. 194).
Объединение всего человечества, по П. Тейяру де Шардену, – не благое пожелание мечтателя-моралиста, а объективная потребность, вытекающая из всего хода мировой эволюции. Силы разъединения, с другой стороны, способны привести мир к кризису эволюции (там же. С. 183).
Необходимость объединения, сплочения, планетизации человечества Пьер Тейяр де Шарден объясняет так: «Народы и цивилизация достигли такой степени периферического контакта, или экономической взаимозависимости, или психической общности, что дальше они могут расти, лишь взаимопроникая друг в друга» (там же. С. 200).
1. 2. 5. Авторская модель универсума
Назначение эволюционной этики – постижение эволюционного смысла жизни. Этот смысл состоит в нашем дальнейшем очеловечении (гоминизации), но гоминизация, при всей её эпохальной значимости для нашего вида, – лишь кратковременный эпизод в эволюции мира в целом. Чтобы её понять глубже, необходимо вписать её в универсальную эволюцию. Это может сделать лишь универсальный эволюционист.
Быть универсальным эволюционистом – значит быть проводником эволюционного мировоззрения. Его носитель видит в мире результат его многомиллионного развития, или эволюции. Слово «эволюция» восходит к латинскому evolutio, что значит «развёртываю, развиваю». Его антоним – «инволюция». Он происходит от латинского involutio (свёртываю). Развёртывающийся, расцветающий, раскрывающийся цветок – пример эволюции, свёртывающийся, вянущий, закрывающийся цветок – пример инволюции. Другой пример: движение от обезьяны к человеку (гоминизация) – пример эволюции, а обратное движение (анимализация) – пример инволюции.
Весь мир часто называют универсумом, а его эволюцию – унигенезом. Но у мира есть ещё и метафорическое название – мироздание. Следует сразу уточнить: мироздание четырёхэтажное.
На первом этаже мироздания расположилась физическая природа (вода, горы, воздух и т. д.). Её можно назвать также физиосферой. Внутри этого, нижнего, этажа происходит её эволюция – физиогенез. У физиосферы нет эволюционного возраста, потому что она вечна. Но эволюционный возраст Земли известен – около 4,54 миллиарда лет. Она возникла из солнечной туманности. Возраст же Солнца – приблизительно 4,57 миллиарда лет. Округлённо говоря, Солнце и Земля возникли приблизительно 4,5 миллиарда лет назад.
На втором этаже мироздания расположилась живая природа (растения, животные, люди). Её можно также назвать биосферой. Внутри этого этажа происходит её эволюция – биогенез. Предполагают, что жизнь возникла на Земле 3,9 миллиарда лет назад. Выходит, что эволюционный возраст биосферы – около 4 миллиардов лет. Выходит также, что Земля была безжизненной более полумиллиарда лет.
На третьем этаже мироздания мы обнаруживаем психику (ощущения, восприятия, представления, понятия и т. д.). Её можно назвать также психосферой. Внутри этого этажа протекает её эволюция – психогенез. Если психическую способность приписывать всем животным, то можно сказать, что эволюционный возраст психосферы совпадает с возрастом животных.
На четвёртом этаже мироздания, наконец, расположилась культура (пища, одежда, жилище, техника, религия, наука, искусство, нравственность и т. д.). Её можно назвать также культуросферой. Внутри этого, верхнего, этажа происходит её эволюция – культурогенез. Эволюционный возраст культуросферы совпадает с эволюционным возрастом человечества, поскольку создателем культуры стал человек. Собственно говоря, наш животный предок потому и стал превращаться в человека, что он стал создавать культуру. Вот почему культурогенез можно назвать также антропогенезом или гоминизацией (очеловечением). Эволюционный возраст человечества определяется в 2,5–3 млн. лет. Таков и эволюционный возраст культуры.
За сравнительно короткий срок культура превратилась во «вторую природу». «Культура предстаёт как сотворённая человеком “вторая природа”, надстроенная над природой естественной, как мир, созданный человеком, в отличие от девственной природы» (Фролов И. Т. и др. Введение в философию. В 2 ч. Ч. 2. М., 1989. С. 524).
В метафоре вторая природа по отношению к культуре заложен глубокий смысл. Она говорит нам, во-первых, о том, что продукты культуры создаются из природных материалов, а во-вторых, о том, что культура колоссальным образом увеличивает наши природные возможности: лопата, ткацкий станок, подъёмный кран и т. п. – возможности наших рук; автомобиль, поезд, самолёт и т. п. – возможности наших ног; телефон, радио, диктофон и т. п. – возможности нашего слуха; микроскоп, бинокль, телескоп и т. п. – возможности нашего зрения, а компьютер – возможности нашей головы. Культура в конечном счёте сделала человека самым могущественным существом на Земле.
Но, увы, у эволюции имеется и её антипод – инволюция (регресс). Вот почему в только что изображённое мироздание мы должны внести существенное дополнение.
Физиогенез, биогенез, психогенез и культурогенез не существуют сами по себе. Они находятся в отношениях коэволюции. Они представляют собою разные формы единого процесса – эволюции. Но существуют и аналогичные формы инволюции. Воспользовавшись латинской приставкой «а-», подобной нашей «не-», мы можем назвать эти формы афизиогенезом, абиогенезом, апсихогенезом и акультурогенезом.
В каждом этаже мироздания мы обнаруживаем единство и борьбу эволюции и инволюции – физиогенеза и афизиогенеза, биогенеза и абиогенеза, психогенеза и апсихогенеза, культурогенеза и акультурогенеза. Всё дело лишь в том, чтобы в борьбе, о которой идёт речь, эволюция одерживала верх над инволюцией. В противном случае в истории человечества произойдёт переворот, о последствиях которого мы можем сейчас лишь догадываться. Он перевернёт этот мир с ног на голову, поскольку он будет состоять в замене эволюции на инволюцию. Это означает, что силы последней начнут одерживать верх над силами первой. Эволюционное, прогрессивное движение станет уступать место инволюционному, регрессивному. Эволюция в этом случае придёт к своему исходному пункту. Для людей это не что иное, как человекообразное обезьянье стадо.
Что мы имеем уже сейчас? О замене эволюционной доминанты в мире на инволюционную уже и сейчас свидетельствуют очень многие факты. Возьмём для начала соотношение между физиогенезом и афизиогенезом. Теория большого взрыва предсказывает, что в далёком будущем расширение Вселенной сменится её сужением. Это, очевидно, означает, что эволюция в физиосфере (физиогенез) уступит место инволюции (афизиогенезу), поскольку конечным пунктом её сужения станет сверхплотное вещество, подобное тому, из которого произошла современная Вселенная.
До господства афизиогенеза над физиогенезом, к счастью, ещё очень далеко, но теоретически это господство по существу означает уничтожение всех этажей мироздания, возвышающихся над его первым этажом.
А как обстоит дело со вторым этажом мироздания, пока его не тронул далёкий афизиогенез? Происходит ли эволюция живой природы в наше время?
В начале 30-х годов ХХ века южноафриканский биолог Р. Броом пытался остановить эволюцию живой природы. Он заявил о её конце. Более того, он утверждал, что птицы и млекопитающие перестали эволюционировать 40 миллионов лет назад. Британский палеоантрополог А. Кейтс отреагировал на заявление Р. Броома о конце эволюции таким образом: «Не существует фактов, которые заставили бы нас уверовать в то, что природа сегодня менее плодовита, чем раньше» (Галл Я. М. Джулиан Сорелл Хаксли. М., 2004. С. 188). Точку зрения Р. Броома, как ни странно, поддержал знаменитый английский биолог Дж. Хаксли.
Мы должны присоединиться к А. Кейтсу. Мы пока ещё живём в мире, где эволюция – в том числе и в живой природе – господствует над инволюцией. Однако из этого оптимистического заявления вовсе не следует вывод о том, что в современной биосфере, как и физиосфере, всё благополучно. Экологи кричат об обратном. Абиогенез в современном мире навязан природе ненасытными человеческими потребностями.
О ситуации с соотношением эволюции и инволюции в культуре я написал целую книгу: «Инволюция в духовной культуре: ящик Пандоры». В последние десятилетия Пандора явно облюбовала Россию. Как из ящика Пандоры, сыплются из телевизора на наши головы новости о нескончаемых катастрофах. Каждый день нам сообщают о массовых человеческих жертвах – то от урагана, то от наводнения, то от пожара, то от затопления, то от завала, то от крушения, то от взрыва, то от отравления, то от террориста, то от заказного убийцы, то от сексуального маньяка… Плачь, Русская земля!
Инволюционные процессы охватили сейчас всю культуру, но в особенности, духовную культуру в России. Мы видим в ней сейчас настоящий инволюционный шабаш: лженаука подпирает науку, лжеискусство – искусство, лженравственность – нравственность, лжеполитика – политику и т. д.
В ходу у нас теперь не только «лже», но и «де»: дефляция, деиндустриализация, деколлективизация, дегуманизация, деинтеллектуализация, дебилизация, десоветизация, десталинизация и прочие «де», а в итоге – деградация и депопуляция всей страны. В результате мы вырвались на первое место в мире по количеству самоубийств, числу разводов, абортов, убыли населения, потреблению спирта, табака, смертности, продаже поддельных лекарств, потреблению героина, количеству авиакатастроф. .
В аннотации к своей книге «Закат человечества» (М., 2010) С. В. Вальцев написал: «2-е издание. посвящено исследованию проблемы духовного вырождения человечества, охватывающего все новые народы и государства, в том числе и нашу страну. Этот глобальный, смертоносный и апокалипсический процесс грозит существованию человека как вида. Рассмотрены причины и перспективы деградации, охватывающей все новые народы и страны, в том числе и Россию. Разбираются механизм и причины установления диктатуры денег, роста отчужденности и эгоизма, нравственной и интеллектуальной примитивизации. Показывается, что в настоящее время человечество переживает ценностный и антропологический переворот небывалого масштаба, сравнимый лишь с переходом от обезьяны к человеку, только сегодня с горечью приходится признать, что эволюция человека повернулась вспять, и этот процесс можно назвать антропологической контрреволюцией». Я называю этот процесс культурной инволюцией или акультурогенезом.
Как видим, каждый этаж мироздания, а стало быть, и мироздание в целом, вмещает в себя не только эволюцию, но и инволюцию. Как та, так и другая должны исследоваться наукой.
Каким образом мы можем представить себе классификацию базовых наук?
Каждый этаж мироздания изучается особой наукой. Его первый этаж изучается физикой, его второй этаж – биологией, его третий этаж – психологией и его четвёртый этаж – культурологией (или антропологией). Каждая из этих четырёх наук называется частной, поскольку она изучает лишь соответственную часть мира. Но есть ещё и общая наука, возвышающаяся над всеми частными науками, обобщающая достижения всех частных наук. Эта наука называется философией.
Классификацию базовых наук, таким образом, можно изобразить такой таблицей:
ФИЛОСОФИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
ПСИХОЛОГИЯ
БИОЛОГИЯ
ФИЗИКА
Все пять наук называются базовыми потому, что они составляют основу (базу) для других наук – входящих в эти пять базовых наук. Так, в физику входят такие науки, как астрономия, геология, гидрология и т. п., в биологию – ботаника, зоология, генетика и т. п., в психологию – зоопсихология и психология человека, а в культурологию – науки о материальной культуре и духовной культуре. В последние следует включить религиоведение, науковедение, искусствоведение, этику, политологию и лингвистику. Предметами их изучения являются шесть компонентов духовной культуры – религия, наука, искусство, нравственность, политика и язык.
Философия – наука наук. Она опирается на четыре частные науки – физику, биологию, психологию и культурологию, чтобы обобщить их знания в синтетическую общенаучную картину мира.
Синтетическое понимание роли философии по отношению к частным наукам идёт от Иоганна Гердера и Герберта
Спенсера. Оба они в своих великих трудах ясно показали, в чём состоит назначение философии, – в том, чтобы синтезировать и обобщать достижения частных наук. Вот почему она – наука наук, т. е. общая наука, возвышающаяся над частными науками.
Если философская наука во всей глубине не усвоит своей синтетической роли по отношению к частным наукам, она окажется в положении шекспировского короля Лира. На эту опасность указывал ещё В. Виндельбанд. Он писал: «Философия подобна королю Лиру, который роздал своим детям всё своё имущество и которого вслед за тем, как нищего, выбросили на улицу» (Виндельбанд В. Прелюдии. Философские статьи и речи. СПб., 1904. С. 16).
Е. С. Кузьмин указывал: «Философия как наука начала формироваться в глубокой древности. Однако и поныне философия, “которая есть”, всё ещё не та, “которая быть должна”. Философия всё ещё вынуждена доказывать своё право называться наукой. До сих пор идут нескончаемые споры о предмете и задачах философии, о её месте и роли в системе наук, в общественном сознании и общественной жизни людей – в отношениях человека к действительности. Философия, по определению Н. З. Чавчавадзе, должна выполнять организующую роль – давать направление жизни индивидуальной и целой культуры. Выполняя такую роль, философия обязана быть основой человеческой деятельности, руководящей силой в жизни личной и общественной» (Кузьмин Е. С. Система «Человек и мир». Иркутск, 2010. С. 37).
А на следующей странице автор этих слов уточняет своё понимание назначения философии. Оно, с его точки зрения, состоит в «выработке научной картины мира – цельной и стройной системы воззрений на мир и место в нём человека, системы, адекватно отвечающей логике вещей» (там же. С. 38).
Направлять философию на выработку научной картины мира – значит исходить из синтетического понимания её назначения. Оно позволяет ей сохранить свою дисциплинарную специфику и не оказаться за бортом науки, из которой её сейчас особенно охотно выпихивают.
П. В. Копнин писал: «Философия сохранила свой предмет и метод, своё особое отношение к миру и постигающему его знанию. Философия не просто суммирует его результаты, являясь всеобъемлющей наукой наук, а вырабатывает всеобщий метод движения знания к объективной истине» (Копнин П. В. Диалектика, логика, наука. М., 1973. С. 80).
Движение знания к объективной истине в первую очередь зависит от наличия в сознании его носителей единственно верного мировоззрения – эволюционизма. Но эволюционизм не должен оставаться привилегией философов. Он уже охватил все частные науки. Более того, он охватит в будущем обыденное сознание. Именно эволюционизм позволит человечеству выжить. Дело стало за малым – ему надо учиться, учиться и учиться. Начинать нужно с основных понятий универсального эволюционизма, которые можно представить в виде следующей таблицы:
Эволюционный смысл универсума (а человек – его частица) – слева, инволюционная атака на этот смысл – справа.
Только шесть комментариев к приведённой схеме универсума.
1. Эволюция религиозного сознания осуществляется в направлении от дьявола к Богу. Это направление можно назвать теизацией. Она сыграла положительную роль в гоминизации. Но уже Средние века показали, что вред наносимый культуре со стороны религии, преобладает над пользой. Вот почему мудрые головы видят в религии фактор, тормозящий культурную эволюцию. На его место они ставят атеизацию – движение от веры в Бога к безверию.
2. Эволюция в науке состоит в движении от лжи к истине. Это движение можно назвать сциентизацией. Без сциентизации человеческого сознания никакой прогресс в культуре невозможен. Более того, сциентизация – главный фактор очеловечения.
3. Эволюция в искусстве состоит в движении от безобразного к прекрасному. Это движение можно назвать эстетизацией. Без эстетизации человеческого сознания процесс очеловечения немыслим. Эстетически неразвитый человек есть человек неполноценный.
4. Эволюция в нравственности состоит в движении от зла к добру. Это движение называется морализацией. Без морализации человеческого сознания общественный прогресс невозможен. Человек безнравственный есть зверь.
5. Эволюция в политике состоит в движении от несправедливости к справедливости. Это движение – политизация. Без массовой политизации движение к справедливому политическому строю не представляется возможным. Человек аполитичный есть раб несправедливого социального режима.
6. Эволюция в языке состоит в движении от разобщения к единению. Это движение – лингвизация. Без лингвизации об очеловечении говорить не приходится. Недаром грузины говорят: сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Своим существованием культурная эволюция обязана человеку говорящему. Человеческий род без языка – нонсенс. Лингвизация – путь к социальности, тогда как алингвизация – путь к асоциальности.
Атеизация, сциентизация, эстетизация, морализация, политизация и лингвизация – вот шестеричный путь, ведущий нас к идеалам. Только на этом пути мы обретаем свою сущность – человечность.
Современные люди явно недооценивают свои возможности для постижения универсально-эволюционной картины мира. Видимо, у большинства из них голова кружится от самой идеи объединить знания о мире в единую систему. «Не объять необъятное» – вот их лозунг.
Между тем овладеть универсальным эволюционизмом как мировоззрением вовсе не означает всезнание. Это мировоззрение даёт нам лишь общую картину мира. Однако большинство людей вполне без неё обходится. Свет универсального эволюционизма так и не разогнал хаос в их «разорванном сознании» (Г. Гегель). Жить в хаосе стало их привычкой. «Привычка свыше нам дана: замена счастию она» (А. С. Пушкин).
Главные звенья универсально-эволюционной картины мира представляют собою эволюционную цепочку:
физиогенез → физиосфера → биогенез → биосфера → психогенез → психика → культурогенез → культура.
Последний переход превратил наших животных предков в людей, т. е. наделил их особой чертой – человечностью.
Всякий человек появляется на свете как существо, в котором совмещаются два начала – животность и человечность. На протяжении всей его дальнейшей жизни эти начала, с одной стороны, находятся в единстве, а с другой, между ними происходит борьба. Чем более успешно эта борьба разрешается в пользу человечности, тем в большей мере он становится человеком, т. е. приближается к идеалу человека. Степень человечности у конкретного человека зависит от количества культуры, которую он в себя вбирает и в создании которой участвует. Это количество переходит в качество – в том смысле, что от этого количества зависит то, на какую ступеньку культурной эволюции он поднимается в своём развитии. Победа человечности над животностью есть отрицание отрицания – в том смысле, что человечность отрицает своё отрицание – животность.
2. Частно-научные подходы к решению проблемы нравственной эволюции
2. 1. Биологические подходы
Изучайте животных, и вы поймете, как это трудно – быть человеком.
М. ШелерВ ХХ в. в орбиту эволюционной этики была втянута некоторая часть биологов-эволюционистов. В неё вошли Джулиан Хаксли и его ученик Конрад Лоренц, а позднее – Франс де Вааль.
2. 1. 1. Джулиан Хаксли
Много ли в своей жизни вы встречали людей, думающих обо всём человечестве? Смею предположить: единицы. Но думать о человечестве можно по-разному – с любовью и с ненавистью.
С ненавистью о человечестве думают люди, изверившиеся в его эволюционных возможностях. Такие люди видят вокруг себя неутомимую ложь, ненасытную жадность, неиссякаемую продажность, элементарную непорядочность, ошемляющую неблагодарность, дикую агрессивность, патологическую трусость и прочие свинцовые мерзости этой нашей с вами жалкой жизни и впадают в очередной приступ человеконенавистничества.
Но жили на этом свете чудаки, которые не ставили крест на эволюционных возможностях человечества. Они хотели сделать их лучше. К таким чудакам относятся, например, Будда, Конфуций и Сократ, Д. Бруно, И. Кант и Л. Н. Толстой, Т. Мор, Т. Кампанелла и Р. Оуэн, И. Гердер, Г. Спенсер и П. Тейяр де Шарден. Все они уповали на духовное совершенствование человека. Но нашёлся человек, который предложил новый путь к улучшению рода человеческого – селекционный. Этим человеком был родственник великого Ч. Дарвина Фрэнсис Гальтон (1822–1911).
Ф. Гальтона считают одним из основателей науки, которую он назвал евгеникой. В 1869 году вышла в свет его книга «Наследственность таланта, её законы и последствия», а спустя много лет, в 1904 г., он организовал общество по евгенике. Вот какое определение он дал этой науке: «Изучение подлежащих общественному контролю влияний, могущих улучшить или ухудшить как физические, так и умственные качества грядущих поколений» (Гершензон С. М., Бужиевская Т. И. Евгеника: 100 лет спустя // Человек, 1996, № 1: http://www. ibmh. msk. su/ vivovoco/VIVOVOCO. HTM).
Весьма туманное определение! На самом деле, евгеника (в буквальном переводе с латинского – хорошая порода) – прикладная отрасль генетики, которая усматривает свою задачу в улучшении человеческой породы тем же путём, каким улучшают породы животных, – посредством селекции. Евгеника, таким образом, как социал-дарвинизм и прагматизм, анимализирует человека.
Ещё за много столетий до появления евгеники, спартанцы пытались улучшить свой народ без особых мудрствований: они уничтожали своих детей, если они рождались слабыми. Платон (427–347 до н. э.) теоретически высказывался в своём диалоге «Государство» о необходимости контроля со стороны государства за деторождением. С другой стороны, в наше время появилась генная инженерия, одна из областей которой направлена на клонирование. Известны ошеломляющие успехи в этой области. Выведенная из клона овечка Долли в конце ХХ века стала сенсационным подтверждением непредсказуемых перспектив генной инженерии. Одна из них может состоять в возрождении евгенических мечтаний: для выведения лучшей породы людей необходимо клонировать самых лучших представителей человечества – самых здоровых, самых красивых, самых умных, самых добрых и т. д.
Среди поклонников евгеники в начале ХХ в. оказался знаменитый английский биолог, первый президент ЮНЕСКО Джулиан Сорелл Хаксли (1887–1975) – внук того самого Томаса Хаксли (1825–1895), которого прозвали Бульдогом Дарвина.
Ещё в лекции «Концепция эволюции и её приложения к делам человеческим», которая была прочитана Д. Хаксли в Райс университете в 1916 г., звучит мысль, которая стала для её автора судьбоносной, – мысль об эволюционном прогрессе. Её суть в следующем: чтобы ускорить движение к прогрессу, эволюцией следует управлять. Вот почему эволюционисты должны активно вовлекаться в органы политической власти, чтобы направлять эволюцию в русло, необходимое для социального прогресса. Мы слышим в этом призыве лишь отголоски евгенических пристрастий его автора.
В 20-е годы евгенические убеждения Д. Хаксли достигают своей зрелости. Эти убеждения вписываются в его общее представление о роли человека в эволюции. Эта роль, по мнению учёного, уникальна: человек – единственное существо, способное осознать эволюцию, а следовательно, только он способен осуществить контроль над ходом его собственной эволюции. Человеку Д. Хаксли отводил роль попечителя в контроле над его движением к социальному прогрессу.
В идее попечительства над эволюцией Д. Хаксли увидел «простую, но великолепную истину, лежащую в основе евгеники» (ГаллЯ. М. Джулиан Сорелл Хаксли. М.: Наука, 2004. С. 112). Так общие рассуждения об эволюционном прогрессе получают у него вполне конкретную форму – евгеническую.
В 1926 г. Д. Хаксли сформулировал своё евгеническое кредо в статье с выразительным названием: «Контроль над рождаемостью». В этой статье он без всяких околичностей призывают политиков принять закон об ограничении деторождения у неполноценных людей.
Д. Хаксли вовсе не сводил эволюционный прогресс к евгенике. Он искал и другие пути к приложению эволюционной биологии к «делам человеческим». В поисках широкого понимания эволюционного прогресса он пришёл к проблеме цели в эволюции. В сборнике «Очерки по популярной науке» (1926) он опубликовал очерк «Эволюция и цель», где он, в частности, писал: «Вопрос о цели в эволюции является решающим для биологии и для её вклада в общее мышление. Нужно чётко сформулировать позицию, решить, существует или не существует цель в эволюции» (там же. С. 115).
Д. Хаксли дал такой ответ на поставленный вопрос: да, цель в эволюции существует, но постичь её может только человек. Эта цель состоит в ускорении эволюционного прогресса. Только в этом случае можно расценивать эволюцию как целенаправленный процесс.
Человек, в отличие от животного, благодаря своему разуму имеет возможность контролировать эволюцию. В его движении к Человеку он может и должен принимать активное участие. Вот почему цель в эволюции существует, но не во всей, а лишь в человеческой. Только с появлением человека эволюция приобрела свою цель. Д. Хаксли писал: «Когда мы достигаем Человека, эволюция частично становится целенаправленной, поскольку человек – первый продукт эволюции, который сам способен её контролировать. Человеческая цель – одно из достижений эволюции» (там же. С. 117).
Цель человеческой эволюции – эволюционный прогресс. «Цель в жизни, – писал он в 1936 г., – не обнаружена. Но если мы можем открыть цель в эволюции, то ею должен быть эволюционный прогресс. И это прошлое направление может служить ключом в определении нашей цели для будущего» (там же. С. 129).
В 30-е годы Д. Хаксли отходит от евгеники. Его всё больше и больше увлекает идея цели в человеческой эволюции, применение которой вовсе не ограничивается одной евгеникой. В книге «Наука о жизни» (1934), которую Д. Хаксли писал в союзе с Гербертом Уэллсом и его сыном Джипом, цель человеческой эволюции он начинает связывать с планированием экономической и социальной жизни в обществе вообще. Здесь сказались его симпатии к политике, которая проводилась в это время в СССР. Он был у нас в 1931 г. Однако для его отхода от евгеники были и другие причины.
В 1933 г., как известно, в Германии к власти приходит А. Гитлер. Евгеника в ней выливается со временем в «расовую гигиену». «Евгенические программы в Германии – читаем мы в статье С. М. Гершензона и Т. И. Бужиевской, – начались с появления в конце XIX и начале ХХ столетия статей и книг по “расовой гигиене”, восхвалявших “истинно германскую высшую расу” и призывавших оградить её от загрязнения “низшими” расами. Это расистское движение резко усилилось с приходом Гитлера к власти в 1933 году и превратилось во всемерно поддерживаемую и развиваемую государством программу. Началось с принудительной стерилизации психически больных, а также немногих метисов, рождённых немками от солдат-негров французской армии, оказавшихся в Германии в конце 1-й мировой войны. Вслед за этим приступили к тотальному уничтожению в лагерях смерти всех цыган и евреев, независимо от пола и возраста… Из тысяч военнопленных (захваченных, главным образом, в боях на территории СССР и Польши) сразу уничтожались раненые, больные, физически слабые, а прочие использовались как рабочая сила. Их содержали в тяжёлых условиях до тех пор, пока они могли работать, а после этого тоже уничтожали» (Гершензон С. М., Бужиевская Т. И. Евгеника: 100 лет спустя // Человек, 1996, № 1: http://www. ibmh. msk. su/vivovoco/ VIVOVOCO. HTM).
В статье профессора Института генетики Кёльнского университета Б. Мюллер-Хилла «Генетика и массовые убийства» мы находим дополнительные сведения о стерилизации больных в гитлеровской Германии: «Евгеники (Эрвин Бауэр, Эуген Фишер, Фриц Ленц, Макс фон Грубер и др. – В. Д.) предоставили нацистам то, в чём нацисты больше всего нуждались: доверие и уважение в глазах общества. Учёные и доктора медицины не могут ошибаться, говоря, что действия антисемитов правильны и необходимы с научной точки зрения. Взамен евгеники получили от нацистов то, чего добивались, – принятия закона об обязательной стерилизации умственно отсталых, алкоголиков, шизофреников, подверженных маниакальнодепрессивному психозу, слепых и глухих от рождения, страдающих хореей Хантингтона. Закон вступил в силу 1 января 1934 г. Известно число прошедших стерилизацию: в период с 1934 по 1939 гг. оно составило от 350 до 400 тыс. человек. И это было сделано против их воли. Лились потоки слез и крови. Около 3,5 тыс. человек (1 % таких “пациентов”), большинство из них женщины, умерли в результате операции, которой они не желали. Решения о необходимости операций принимались медиками, получившими подготовку в области генетики человека. Международный комитет евгеников отреагировал на этот закон положительно, что и привело к принятию в 1935 г. так называемых Нюрнбергских законов. Действовавшие в то время в некоторых южных штатах США законы, запрещавшие браки между белыми и черными, евгеники защищали» (Мюллер-Хилл Б. Евгеника и массовые убийства // Человек, 1997, № 4: http://www. ibmh. msk. su/vivovoco/VIVOVOCO. HTM).
Здесь речь идёт главным образом об улучшении человеческой породы посредством «негативной» евгеники – стерилизации больных и прямого уничтожения немцами представителей «неполноценных» народов, а осуществлялись ли в фашистской Германии евгенические браки? Они осуществлялись по проекту, которым руководил Генрих Гиммлер с 1936 до 1945 г. Этот проект имел красивое название – «источник жизни» (Lebensborn). По замыслу его создателей, евгенические дети должны были составить золотой генофонд немецкой нации. На роль производителей отбирались немцы, отвечающие всем требованиям предъявляемым к представителям арийской расы. В роли отцов, как правило, выступали эсэсовцы. Предполагают, что евгенических детей к концу войны в Германии насчитывалось более 10 тысяч. О дальнейшей судьбе этих детей достоверные сведения отсутствуют. Фашистские руководители, таким образом, попытались на практике реализовать «позитивную» евгенику. Эта практика показывает, до какой степени одичания может привести людей анимализационная мораль – мораль, низводящая людей до животных.
В 40-е и 50-е годы Д. Хаксли продолжает обдумывать идею эволюционного прогресса. Так, 10-я, последняя, глава его главного труда «Эволюция. Современный синтез» (1942) озаглавлена «Эволюционный прогресс», а в 1953 г. выходит в свет его книга с красноречивым названием «Эволюция в действии». Эволюционный прогресс он интерпретирует в этих книгах как ступенчатое улучшение: «Мы можем определить прогресс как улучшение, которое допускает дальнейшее улучшение, или, если угодно, серию продвижений, которая не стоит на пути дальнейших продвижений» (там же. С. 196).
Каково же было изумление большинства коллег Д. Хаксли, когда они улышали от знаменитого эволюциониста, что в растительном и животном мире прогресс к настоящему времени сошёл на нет! Это значит, что эволюция в этом мире прекратилась. Она продолжается лишь у людей. Более того, они находятся лишь в начале своего пути к прогрессу. «Чисто биологический прогресс, – писал об этом Д. Хаксли в 1953 г., – фактически пришёл к концу, но человеческий прогресс только начинается» (там же. С. 197).
Остановить эволюцию за пределами человечества Д. Хаксли не удалось, зато его собственная эволюция в науке продолжалась. В его метаязыке, кроме ключевого термина эволюционный прогресс, появился новый – эволюционный гуманизм.
Этим термином Д. Хаксли решил обозначить его собственную атеистическую религию. Он писал: «Слово религия часто используется ограниченно, лишь верование в богов; но я использую его не в этом смысле. Я не хочу видеть человека с высоко поднятой головой в положении Бога, как это случалось со многими людьми в прошлом и случается в наши дни. Эволюционный гуманизм я использую в широком смысле, с целью обозначить отношение между человеком и его судьбой, включая его глубочайшие чувства… Главный смысл идеи состоит в том, чтобы научно вскрыть возможности человека, которые следует мобилизовать для осуществления благородных целей» (там же. С. 202).
Что такое гуманизм? Человеческое отношение одного человека к другому и к самому себе. Это отношение развивается в ходе человеческой (культурной), эволюции. Вот почему к существительному гуманизм Д. Хаксли понадобилось прилагательное эволюционный. Но всё-таки центральное понятие его этики – эволюционный прогресс.
Понятие эволюционный прогресс – фундамент эволюционной этики Джулиана Хаксли. К сожалению, в его интерпретации её создатель боялся оторваться от биологии. Вот почему его этика биоцентрична. Это подтверждают его собственные слова: «Психосоциальная (культурная. – В. Д.) эволюция – короткая человеческая история, которая действует путём культурно-социальной передачи из поколения в поколение, и её единицами являются сообщества, основанные на различных типах культур. Я не антрополог и не социолог, и читатель не может ожидать от меня определений таких понятий, как культура и сообщество. Я являюсь биологом и вижу человеческую историю как специфический рост биологической эволюции» (там же. С. 200).
На старости лет Д. Хаксли возвратился к евгенике. Как и в молодости, он снова стал настаивать на необходимости науки, позволяющей контролировать рождаемость. С помощью этой науки, считал он, человечество окажется способным избежать своё неминуемое вырождение. В евгенике он видел надёжное средство для улучшения генетических признаков у детей. Контроль за их рождением, по его мнению, мог бы в конечном счёте способствовать улучшению генофонда человечества в целом.
Размышления о пользе евгеники иногда отдают у Дж. Хаксли неприемлемым классовым душком. Так, он призывал к увеличению детей от родителей высших классов и их уменьшению у низших классов, поскольку у последних меньше лучших качеств, чем у первых. Но в целом его евгенические устремления носили гуманистический смысл. Он упирал, в частности, на повышение евгенического образования. Если бы оно было развитым, например, у англичан, они не утратили бы свою музыкальность, которая была для них характерна в эпоху Возрождения, а немцы сохранили бы свою былую философичность.
Практика расовой гигиены, проводимая в Германии, не могла не повлиять на евгенические убеждения Дж. Хаксли. Он её сурово осуждал. Однако до конца дней он сохранял верность евгеническим идеалам.
В своей Гальтоновской лекции в 1962 г. Д. Хаксли говорил: «В эволюционной перспективе евгеника – прогрессивное улучшение человеческого вида – неизбежно становится главной целью эволюцинирующего человека. Как должен евгеник планировать свою работу в долгосрочной перспективе? Безусловно, необходимо продолжить исследования по генетике человека, размножению, включая методы стерилизации… Мы должны продолжать исследования в области роста численности человечества и немедленно поддержать все агенства и организации, которые проводят научную политику в области контроля над размерами человеческих популяций. В таком же плане мы должны поддерживать все агенства, дающие евгенические консультации и советы по заключению браков. Мы должны наконец сделать что-то такое, чтобы люди поняли, что социального и культурного улучшения (amelioration) недостаточно. Если люди ограничатся полумерами, то они просто превратятся в плохих средовых работников (environmental tinkers), они должны комбинировать социальную мелиорацию с генетическим улучшением или, наконец, с надеждой, что всё состоится в будущем. Если всё это состоится, а я в это верю, то роль человека станет лучшей и он станет управлять эволюционным процессом на планете и руководить будущим ходом эволюции в желательном направлении. Полная реализация генетических возможностей станет главной мотивацией для усилий человека, и евгеника станет одной из основных наук о человеке» (Галл Я. М. Джулиан Сорелл Хаксли. М.: Наука, 2004. С. 257–258).
В нашей стране были свои поклонники евгеники. До конца 1930-х годов её возглавлял Николай Константинович Кольцов (1872–1940). В 1920 г. он организовал в Москве Русское евгеническое общество, в деятельности которого принимали участие выдающиеся учёные того времени – А. С. Серебровский, Ю. А. Филипченко и мн. др. Филиалы этого общества были открыты также в Ленинграде, Киеве, Одессе и Саратове. Они печатали свои труды в «Русском евгеническом журнале».
Чтобы не ошибиться в людях, которые могли бы стать родителями «евгенических» детей, сам Н. К. Кольцов занялся изучением генеалогии таких выдающихся людей, как А. М. Горький, Ф. И. Шаляпин, С. А. Есенин и др. Общий вывод о русском генофонде он сделал весьма оптимистический: «Рассмотренные нами генеалогии выдвиженцев ярко характеризуют богатство русской народной массы ценными генами» [Дубинин Н. П. Вечное движение. Воспоминания. М.: Политиздат, 1989. С. 60).
Многообещающие результаты евгенических «браков» Н. К. Кольцов связывал с огромным разнообразием русских генотипов. Он писал: «Величайшей и наиболее ценной особенностью [любой) человеческой расы является именно огромное разнообразие ее генотипов, обеспечивающее прогрессивную эволюцию человека» [там же).
При этом автор этих слов вовсе не отрицал роль воспитания евгенических детей. Вовсе недостаточно, считал он, родиться от здоровых и одарённых родителей, «требуется, чтобы каждый ребёнок был поставлен в такие условия воспитания и образования, при которых его специфические наследственные особенности нашли бы наиболее цельное и наиболее ценное выражение в его фенотипе» [там же). Но социокультурному фактору усовершенствования людей Н. К. Кольцов придавал меньшее значение, чем генетическому [наследственному).
В 1923 г. в статье «Улучшение человеческой породы» Н. К. Кольцов писал: «Многие социологи наивно, с точки зрения биолога, полагают, что всякое улучшение благосостояния тех или иных групп населения, всякое повышение культурного уровня их должно неизбежно отразиться соответственным улучшением в их потомстве и что именно это воздействие на среду и повышение культуры и является лучшим способом для облагораживания человеческого рода. Современная биология этот путь отвергает» (там же. С. 62).
В 1927 г. Н. К. Кольцов утверждал: «В начале ХХ века возникает мысль о возможности научно влиять на размножение человека с целью предохранить человеческий род от возможности вырождения и путём отбора наиболее ценных производителей (вот так! – В. Д.) улучшить человеческую породу так же, как улучшаются путём искусственного отбора породы домашних животных и культурных растений» (там же. С. 64).
Несмотря на то, что в 1929 г. А. С. Серебровский уверял читателей «Медико-биологического журнала», что евгеника могла бы в относительно быстрые сроки дать поколение людей, которые смогли бы выполнять пятилетний план социалистического строительства за 2,5 года, к концу 20-х годов деятельность евгенического общества в нашей стране была закрыта. Она была признана несовместимой с нормами социалистической морали.
Как же нам, людям XXI века, относиться к евгенике? Ответ на этот вопрос дал наш выдающийся генетик Николай Петрович Дубинин, который в 30-е годы работал в Институте экспериментальной биологии под непосредственным руководством Н. К. Кольцова, а позднее (1966–1981) возглавлял Институт общей генетики.
В книге «Вечное движение» Н. П. Дубинин так оценивает нравственную сторону евгеники: «Практика по переделке генов для современного человечества была бы губительной… В случае же попыток такого рода без преувеличения можно сказать, что на человечество обрушились бы демонические силы невежественной науки. Потребовалось бы разрушение семьи, высоких чувств любви, поэтическая сущность бытия человека была бы уничтожена. Человечество превратилось бы в экспериментальное стадо. И что взамен оно могло бы получить? Практически ничего, кроме разрушения его бесценной существующей наследственности, на которой базируются ныне и будет развиваться в будущем гений человека. Если же перед человечеством встанут задачи, которые оно не сможет решать, используя свойственный ему генетический потенциал, то оно изменит свою биологическую природу способами ещё неведомой нам новой науки, методами, достойными человека» ('Дубинин Н. П. Вечное движение. Воспоминания. М.: Политиздат, 1989. С. 60–61).
Между тем евгенический соблазн продолжает порабощать новые души. Ему поддался, например, Ричард Докинз – знаменитый британский биолог и неутомимый борец с антидарвинистами. В одной из своих блестящих книг он пишет: «Нет сомнений, что, имея достаточно времени и политического влияния, можно вывести расу превосходных бодибилдеров, прыгунов в высоту или толкателей ядра, спринтеров, сумоистов, ловцов жемчуга, а также художников, музыкантов, поэтов, математиков или сомелье» (Докинз Р. Самое грандиозное шоу на Земле. Доказательства эволюции. М., 2012. С. 52).
Свою уверенность в том, что практическая евгеника достигла бы потрясающих результатов, Р. Докинз основывает на успехах искусственного отбора животных: «Я уверен в возможностях селекции в направлении атлетических способностей потому, что необходимые для этого свойства прекрасно достигаются при разведении ломовых и скаковых лошадей, гончих и ездовых собак. В успехе (но не моральной или политической приемлемости) отбора людей согласно умственным или другим уникальным способностям я уверен потому, что есть чрезвычайно мало примеров неудачных попыток искусственного отбора животных, даже по признакам, которые могут казаться неочевидными» (там же).
Р. Докинз сокрушается: «Политические противники евгенического подхода к деторождению часто доходят в рассуждениях до абсолютно неверного утверждения, что он в принципе невозможен. Это не только аморально, говорят они, но просто невозможно. К несчастью, то, что некий процесс недопустим с точки зрения морали или политически нежелателен, не означает, что он невозможен» (там же).
Почему же «к несчастью»? Наоборот – к счастью. Мы должны радоваться, что у людей дело до искусственного отбора ещё не дошло. Они по горло сыты естественным отбором, который им навязан социал-дарвинистами самых разнообразных мастей. Если к естественному отбору прибавится ещё и искусственный, то люди окончательно превратятся в подопытное быдло.
2. 1. 2. Конрад Лоренц
Конрад Захариас Лоренц (1903–1989) родился в Вене. Его дед по отцу был мастером по изготовлению конских сбруй, однако его отец сумел выбиться в люди как преуспевающий хирург-ортопед. Он построил в Альтенберге возле Вены семейное поместье, окружённое полями и лесами. Близость к природе заразила юного Конрада, по его собственным воспоминаниям, «чрезмерной любовью к животным» (Лоренц Конрад: http://www. n-t. org/nl/).
Ещё в детстве К. Лоренц обнаружил так называемый импринтинг – одну их особых форм поведения животных в раннем возрасте, которая может выразиться, например, таким неожиданным образом: маленький утёнок может принять за свою «мать» человека, если он увидит его раньше своей настоящей матери. «У соседа, – вспоминал К. Лоренц, – я взял однодневного утёнка и, к огромной радости, обнаружил, что у него развилась реакция повсюду следовать за моей персоной. В то же время во мне проснулся неистребимый интерес к водоплавающей птице, и я ещё ребёнком стал знатоком поведения различных её представителей» (там же).
В 1922 г. Конрад поступил на медицинский факультет Колумбийского университета в Нью-Йорке, однако через полгода он вернулся в родную Австрию, чтобы продолжить изучение медицины в Венском университете, но «чрезмерная любовь к животным» (там же) взяла верх над его интересом к медицине, которую он выбрал в качестве своей специальности не по собственной воле, а по настоянию отца. Вот почему свою научную жизнь он связал не с медициной, а с этологией. В отличие от бихевиористов, он наблюдал за поведением животных не в лабораторных, а в естественных условиях. В результате он пришёл к собственной теории инстинкта.
После присоединения Австрии к Германии К. Лоренц, как ни печально об этом говорить, вступил в нацистскую партию и написал статью об одомашнивании животных, пронизанную евгеническим духом. П. Бейтсон в некрологе писал о К. Лоренце: «Когда наци пришли к власти, Лоренц поплыл по течению и в 1940 г. написал шокирующую статью, преследовавшую его всю оставшуюся жизнь. Он ненавидел влияние доместикации на виды животных и думал (без каких-либо доказательств), что люди стали жертвами их собственной самодоместикации. Его желание избавить человечество от засорения слишком хорошо соответствовало ужасной идеологии наци. Чтобы получить “наших лучших индивидов, надо установить типовую модель наших людей”, а те, кто заметно отклоняется от такой модели, должны бы элиминировать в порядке заботы о народном здоровье. После войны, во время которой Лоренцу пришлось с ужасом открыть для себя полную меру того, что наци реально делали для этого, он предпочитал, чтобы эта публикация была забыта» (Соколов В. Е., Баскин Л. М. Конрад Лоренц в советском плену // ''Природа'', № 7(923), июль 1992 г. С. 126).
Позднее К. Лоренц оправдывался: «Конечно, я надеялся, что что-то хорошее может прийти от наци. Люди лучше, чем я, более интеллигентные, верили этому, и среди них мой отец. Никто не предполагал, что они подразумевали убийство, когда говорили “селекция”. Я никогда не верил в нацистскую идеологию, но, подобно глупцу, я думал, что я мог бы усовершенствовать их, привести к чему-то лучшему. Это была наивная ошибка» (там же).
В 1942 г. К. Лоренц оказался на восточном фронте и в 1944 под Витебском попал в русский плен, возвратиться из которого на родину ему позволили лишь в конце 1947 г. В течение многих последующих лет он занимался этологией водоплавающих птиц. Но со временем он расширил диапазон своих наблюдений. Более того, он всё больше и больше сравнивал животное поведение с человеческим, что позволило ему в конечном счёте в какой-то мере воссоздать картину психогенеза в целом – от амёбы до человека включительно. Он сделал это по преимуществу в своей итоговой книге, образно названной им «Оборотной стороной зеркала» (1973). Под «оборотной стороной зеркала» он имел в виду познавательную способность, которою обладают не только люди, но и животные. Рассматриваемая в психогенетическом плане, эта способность выступает как когногенез.
Когногенез есть эволюция познавательной способности у животных и человека. К. Лоренц увидел в ней результат естественного отбора. Он писал: «В возникновении всех органических форм наряду с процессами мутации и рекомбинации генов важнейшую роль играет естественный отбор. В процессе отбора вырабатывается то, что мы называем приспособлением: это настоящий познавательный процесс, посредством которого организм воспринимает содержащуюся в окружающей среде информацию, важную для его выживания, или, иными словами, знание об окружающей среде» (Лоренц К. Оборотная сторона зеркала. М.: Республика, 1998: . org. ru/ sience/138-mirror1. html, гл. 1).
Иначе говоря, сам естественный отбор, направленный на выживание в живой природе наиболее приспособленных, рассматриваемый с информационной точки зрения, есть, по К. Лоренцу, когногенез, поскольку отбор признаков, жизненно полезных для выживания той или иной особи, осуществляется вовсе не чудесным, а когнитивным, познавательным образом.
Важнейшей составляющей биогенеза является прирост информационных ресурсов, которыми располагают его участники. Более того, вымирают именно те особи, которые оказались не способны к когнитивной эволюции. К. Лоренц ушёл дальше Ч. Дарвина, который говорил о том, что в живой природе выживает сильнейший.
С точки зрения австрийского этолога: среди отдельных представителей того или иного вида выживает умнейший. Это справедливо и по отношению к тем или иным видам в целом. Но в особенности это справедливо по отношению к людям – самым умным представителям биосферы. Однако весь парадокс здесь состоит в том, что современное человечество во многих отношениях утратило свой ум, который когда-то позволил ему создать культуру.
У сегодняшних людей, в частности, не хватает ума усвоить старую мальтузианскую истину о том, что нельзя людям размножаться на Земле до бесконечности. У него не хватает ума для решения многих других вопросов. «Зачем, – спрашивает К. Лоренц, – нужны человечеству безмерный рост его численности, всё убыстряющаяся до безумия конкуренция, возрастающее и всё более страшное вооружение, прогрессирующая изнеженность урбанизированного человека, и т. д. и т. п.?» (там же). Вот почему современному человечеству следует повнимательнее присмотреться к законам эволюции живой природы, если оно хочет выжить.
За десять лет до публикации своего итогового труда К. Лоренц издал книгу «Агрессия (так называемое зло)» (1963). Агрессией он называет в ней «инстинкт борьбы, направленный против собратьев по виду, у животных и у человека» (Лоренц К. Агрессия (так называемое зло). М.: Прогресс, 1994. С. 5). Возникает вопрос: почему автор этой книги называет этот инстинкт «так называемым злом»? Потому что агрессия признаётся им не только за отрицательное качество животных и людей, но и за положительное, поскольку она «такой же инстинкт, как и все остальные, и в естественных условиях так же, как и они, служит сохранению жизни и вида» (там же).
Без специальных механизмов, тормозящих агрессию, эволюция у животных, с точки зрения К. Лоренца, была бы невозможна. «В действительности, – писал он, – эти специальные механизмы, тормозящие агрессию, чрезвычайно нужны, потому что животные, заботящиеся о потомстве, как раз ко времени появления малышей должны быть особенно агрессивны по отношению ко всем прочим существам. Птица, защищая своё потомство, должна нападать на любое приближающееся к гнезду животное, с которым она хоть сколько-нибудь соразмерна. Индюшка, пока она сидит на гнезде, должна быть постоянно готова с максимальной энергией нападать не только на мышей, крыс, хорьков, ворон, сорок и т. д., и т. д., – но и на своих сородичей: на индюка с шершавыми ногами, на индюшку, ищущую гнездо, потому что они почти так же опасны для её выводка, как и хищники. И, естественно, она должна быть тем агрессивнее, чем ближе подходит угроза к центру её мира, к её гнезду. Только собственному птенцу, который вылезает из скорлупы, она не должна причинить никакого вреда!» (там же. С. 131).
В некоторой степени инстинкт агрессии полезен и для людей, однако у них, он достиг такого расцвета, что грозит самому существованию их вида. Вот почему им не помешает поучиться у животных некоторым ритуалам, направленным на торможение агрессии.
Вслед за своим учителем Джулианом Хаксли (1887–1975) К. Лоренц видел в ритуализованном поведении животных не что иное, как зародыш будущей духовной культуры. По поводу искусства, в частности, К. Лоренц писал: «Вряд ли можно сомневаться в том, что всё человеческое искусство первоначально развивалось на службе ритуала» (там же. С. 88).
В пятой главе книги, о которой идёт речь («Привычка, церемония и волшебство»), её автор приводит весьма убедительные аргументы, подтверждающие эволюционную цепочку «животная (предкультурная) ритуализация → человеческая (культурная) ритуализация». К. Лоренц писал: «Образование ритуалов посредством традиций безусловно стояло у истоков человеческой культуры, так же как перед тем, на гораздо более низком уровне, филогенетическое образование ритуалов стояло у зарождения социальной жизни высших животных» (там же. С. 86).
Ритуалы, ставшие частью духовной культуры, – результат человеческой эволюции. Однако у её истоков лежат ритуалы, которые были выработаны в течение многомиллионной животной эволюции. Некоторые из этих ритуалов были унаследованы от своих предков и нашими непосредственными животными предками, а от них – людьми.
Возьмём, например, ритуал ухаживания. В этом ритуале многие животные не отстают от людей: «Изумительные формы и краски сиамских бойцовых рыбок, оперение райских птиц, поразительная расцветка мандрилов спереди и сзади – всё это возникло для того, чтобы усиливать действие определённых ритуализованных движений» (там же. С. 87).
Но всё-таки до людей – в количестве ритуалов – животным очень далеко. Вот некоторые из них: «Ректор и деканы входят в актовый зал университета размеренным шагом; пение католических священников во время мессы в точности регламентировано литургическими правилами и по высоте, и по ритму, и по громкости. Сверх того, многократное повторение сообщения усиливает его однозначность; ритмическое повторение какого-либо движения характерно для многих ритуалов, как инстинктивных, так и культурного происхождения» (там же. С. 87).
Между тем у истоков многочисленных ритуалов, созданных людьми, лежит некоторое сравнительно небольшое число ритуалов, созданных нашими животными предками. Вот почему в конечном счёте, как писал К. Лоренц, «все человеческие ритуалы возникли естественным путём» (там же. С. 95).
Особое внимание К. Лоренц уделил ритуалам, с помощью которых животные тормозят агрессию своих собратьев. Эти ритуалы можно назвать умиротворяющими. Именно в них австрийский учёный видел зачатки человеческой нравственности. При этом он предупреждал об опасности чрезмерного сближения животной «морали» с человеческой.
В главе «Поведенческие аналогии морали» К. Лоренц пишет: «Как врождённые механизмы и ритуалы, препятствующие асоциальному поведению животных, так и человеческие табу определяют поведение, аналогичное истинно моральному лишь с функциональной точки зрения; во всём остальном оно так же далеко от морали, как животное от человека! Но даже постигая сущность этих движущих мотивов, нельзя не восхищаться снова и снова при виде работы физиологических механизмов, которые побуждают животных к самоотверженному поведению, направленному на благо сообщества, как это предписывают нам, людям, законы морали» (там же. С. 123).
По отношению к животным следует говорить не о морали, а лишь о предморали. Тем не менее первая началась с последней. Главное в животной предморали – умиротворение своих сородичей. Оно достигается в первую очередь демонстрацией покорности. У К. Лоренца читаем: «Животное, которому нужно успокоить сородича, делает всё возможное, чтобы – если высказать это по-человечески – не раздражать его. Рыба, возбуждая у сородича агрессию, расцвечивает свой яркий наряд, распахивает плавники или жаберные крышки и демонстрирует максимально возможный контур тела, двигается резко, проявляя силу; когда она просит пощады – всё наоборот, по всем пунктам. Она бледнеет, по возможности прижимает плавники и поворачивается к сородичу, которого нужно успокоить, узким сечением тела, двигается медленно, крадучись, буквально пряча все стимулы, вызывающие агрессию. Петух, серьёзно побитый в драке, прячет голову в угол или за какое-нибудь укрытие, и таким образом отнимает у противника непосредственные стимулы боевого возбуждения, исходящие из его гребня и бороды» (с. 145).
Улыбка и смех перешли к нам от животных. «Наш человеческий смех, – пишет К. Лоренц, – вероятно, тоже в своей первоначальной форме был церемонией умиротворения или приветствия. Улыбка и смех, несомненно, соответствуют различным степеням интенсивности одного и того же поведенческого акта, т. е. они проявляются при различных порогах специфического возбуждения, качественно одного и того же» (там же. С. 195).
Пантомимой умиротворения, напоминающей церемониальные улыбки и смех у политиков, часто пользуются макаки, «которые в качестве жеста умиротворения скалят зубы – и время от времени, чмокая губами, крутят головой из стороны в сторону, сильно прижимая уши. Примечательно, что некоторые люди на Дальнем Востоке, приветствуя улыбкой, делают то же самое точно таким же образом. Но самое интересное – при интенсивной улыбке они держат голову так, что лицо обращено не прямо к тому, кого приветствуют, а чуть-чуть в сторону, мимо него. С точки зрения функциональности ритуала совершенно безразлично, какая часть его формы заложена в генах, а какая закреплена культурной традицией учтивости» (там же).
Отчего это рекламные девы на телевидении так сладко улыбаются? Чтобы затормозить агрессию у зрителей против опостылевшей рекламы.
Самое удивительное в торможении агрессии у животных состоит в том, что иногда это торможение направлено не на сохранение у того или иного животного собственной шкуры, но и на защиту другого. В этом случае мы наблюдаем у животных проявления дружбы. К. Лоренц в связи с этим пишет: «Агрессия некоего определённого существа отводится от второго, тоже определённого, в то время как её разрядка на всех остальных сородичей, остающихся анонимными, не подвергается торможению. Так возникает различие между другом и всеми остальными, и в мире впервые появляется личная связь отдельных индивидов. Когда мне возражают, что животное – это не личность, то я отвечаю, что личность начинается именно там, где каждое из двух существ играет в жизни другого существа такую роль, которую не может сразу взять на себя ни один из остальных сородичей. Другими словами, личность начинается там, где впервые возникает личная дружба» (там же. С. 152).
В личных узах между животными, К. Лоренц видел «необходимый фундамент для постороения человеческого общества» (там же. С. 153). На основе этого фундамента произошла и происходит эволюция человека.
К. Лоренц очень высоко оценивал достижения человеческой эволюции. Он писал: «Кто по-настоящему знает животных, в том числе высших и наиболее родственных нам, и притом имеет хоть какое-то понятие об истории развития животного мира, только тот может по достоинству оценить уникальность человека. Мы – самое высшее достижение Великих Конструкторов эволюции на Земле, какого им удалось добиться до сих пор; мы их “последний крик”, но, разумеется, не последнее слово» (там же. С. 242–243).
Что значит здесь «не последнее слово»? Это значит, что современный человек ещё очень и очень далёк от совершенства. Возводить его в венец творения очень и очень преждевременно. У К. Лоренца читаем: «Возводить в абсолют и объявлять венцом творения сегодняшнего человека на нынешнем этапе его марша сквозь время – хочется надеяться, что этот этап будет пройден поскорее – это для натуралиста самая кичливая и самая опасная из всех необоснованных догм» (там же. С. 243).
Сегодняшних людей К. Лоренц расценивал в качестве промежуточного звена между животными и будущими людьми, в которых человечность одержит окончательную победу над животностью. Вот как остроумно он выразил эту мысль: «Связующее звено между животными и подлинно человечными людьми, которое долго ищут и никак не могут найти, – это мы!» (там же).
Главное препятствие у человека в его движении к Человеку – его неутолимый инстинкт агрессии. Он превзошёл в нем всех своих эволюционных собратьев. Но он превзошёл их и в других инстинктах.
К. Лоренц писал: «У человека, который собственным трудом слишком быстро изменил условия своей жизни, агрессивный инстинкт часто приводит к губительным последствиям; но аналогично – хотя не столь драматично – обстоит дело и с другими инстинктами» (Лоренц К. Оборотная сторона зеркала. М.: Республика, 1998, гл. 1).
Отсюда автор этих слов вовсе не делал вывод о том, что человеческую агрессию, как и животную, следует расценивать исключительно с негативной стороны. Более того, её отсутствие в ситуациях, где она должна быть, он квалифицировал как утрату одного из жизненно важных инстинктов, как проявление болезни, от которой нужно излечивать. В книге, о которой идёт речь, он ищет причины этой болезни (мы могли бы по его примеру добавить – этой так называемой болезни).
«Так называемой» здесь уместно потому, что речь идёт не о чём-нибудь, а об агрессии. Казалось бы, мы должны лишь радоваться такой «болезни», поскольку агрессией мы чуть ли не со дня рождения по горло сыты. Но, говорит нам К. Лоренц, агрессивный инстинкт, как и любой другой инстинкт, необходим как животному, так и человеку для их жизнестойкости. Вот почему надо искать причины его утраты, чтобы эту жизнестойкость научиться восстанавливать, т. е. возвращать больному его способность к агрессии.
Что и говорить, по тонкому льду ходил автор такой концепции агрессии! С одной стороны, надо, с его точки зрения, её восстанавливать у тех, кто её утратил, а с другой, как бы не перестараться! В лечении больных, имеющих ослабленный агрессивный инстинкт, стало быть, необходима тонкая лекарственная дозировка, чтобы направить восстановленную агрессию в безопасное русло (в это русло и направляется агрессия у здоровых особей). Но в своей книге К. Лоренц так далеко не заходит. Его главная цель в ней состояла в том, чтобы показать эволюционную необходимость агрессии у животного и человека.
Необходимость агрессии для живых существ К. Лоренц выводил из дарвиновского закона борьбы за существование. Сама эта борьба и есть агрессия, с одной стороны, одного вида против другого, а с другой, внутри представителей одного и того же вида. Агрессия полезна для сохранения вида как в первом случае, так и во втором.
Так, поясняя полезность межвидовой борьбы, К. Лоренц писал: «Функция сохранения вида гораздо яснее при любых межвидовых столкновениях, нежели в случае внутривидовой борьбы. Взаимное влияние хищника и жертвы даёт замечательные образцы того, как отбор заставляет одного из них приспосабливаться к развитию другого. Быстрота преследуемых копытных культивирует мощную прыгучесть и страшно вооруженные лапы крупных кошек, а те – в свою очередь – развивают у жертвы всё более тонкое чутье и всё более быстрый бег. Впечатляющий пример такого эволюционного соревнования между наступательным и оборонительным оружием даёт хорошо прослеженная палеонтологически специализация зубов травоядных млекопитающих – зубы становились всё крепче – и параллельное развитие пищевых растений, которые по возможности защищались от съедения отложением кремневых кислот и другими мерами. Но такого рода “борьба” между поедающим и поедаемым никогда не приводит к полному уничтожению жертвы хищником; между ними всегда устанавливается некое равновесие, которое – если говорить о виде в целом – выгодно для обоих. Последние львы подохли бы от голода гораздо раньше, чем убили бы последнюю пару антилоп или зебр, способную к продолжению рода» (там же. С. 32).
На первое место в анализируемой книге К. Лоренц поставил не межвидовую, а внутривидовую борьбу между живыми существами. Он писал: «Совсем ещё недавно были фильмы, в которых, например, можно было увидеть борьбу бенгальского тигра с питоном, а сразу вслед затем – питона с крокодилом. С чистой совестью могу заявить, что в естественных условиях такого не бывает никогда. Да и какой смысл одному из этих зверей уничтожать другого? Ни один из них жизненных интересов другого не затрагивает! Точно так же и формулу Дарвина “борьба за существование”, превратившуюся в модное выражение, которым часто злоупотребляют, непосвящённые ошибочно относят, как правило, к борьбе между различными видами. На самом же деле, “борьба”, о которой говорил Дарвин и которая движет эволюцию, – это в первую очередь конкуренция между ближайшими родственниками» (там же. С. 30).
Особенного расцвета внутривидовая борьба за существование достигла у людей. У нас она приобрела критически опасную форму. Агрессивный инстинкт у людей, по выражению К. Лоренца, сошёл с рельсов. «У нас есть веские основания, – совершенно справедливо замечает в связи с этим К. Лоренц, – считать внутривидовую агрессию наиболее серьёзной опасностью, какая грозит человечеству в современных условиях культурно-исторического и технического развития. Но перспектива побороть эту опасность отнюдь не улучшится, если мы будем относиться к ней как к чему-то метафизическому и неотвратимому; если же попытаться проследить цепь естественных причин её возникновения – это может помочь» (там же. С. 41).
В качестве главной причины неимоверной агрессивности людей по отношению друг к другу К. Лоренц, как и следовало ожидать, называет наш хвалёный разум. Когда дело доходит до собственного существования, он делает некоторых из нас хуже зверей! Кроме всего прочего, он дал нам водородную бомбу. С отчаянием австрийский этолог пророчествует: «Если бесстрастно посмотреть на человека, каков он сегодня (в руках водородная бомба, подарок его собственного разума, а в душе инстинкт агрессии – наследство человекообразных предков, с которым его рассудок не может совладать), трудно предсказать ему долгую жизнь» (там же. С. 56).
Разум даёт людям больше, чем животным, возможность предвиденья в борьбе за существование с себе подобными – в первую очередь в пределах той или иной профессии. До тех пор, пока число представителей той или иной специальности в пределах определённой местности, не превышает допустимую норму, они могут обходиться без внутривидовой агрессии, но как только это число оказывается излишним, им ничего не остаётся, как перебраться в лучшем случае в другие края, а в худшем – вступить в агрессивную борьбу за существование со своими коллегами. Что же касается форм этой борьбы, то они, разумеется, даже и в страшных снах не могут присниться нашим эволюционным братьям – животным, ибо в своём интеллектуальном развитии мы их неизмеримо превзошли. Стало быть, неизмеримо превзошли их и в способах борьбы за существование. Они становятся тем более жестокими и изощрёнными, чем более перенаселённой оказывается наша планета, поскольку её перенаселённость лишает возможности перемещения людей одной и той же профессии с одной местности на другую: всюду их оказывается переизбыток. Вот вам и вышел Томас Мальтус!
К. Лоренц ставит нам, людям, в пример животных – в особенности тех, кто обходится в своей борьбе за существование без внутривидовой агрессии, поскольку им перенаселение грозит в меньшей мере, чем людям. Он писал: «Джулиан Хаксли однажды очень красиво представил это поведение физической моделью, в которой он сравнил территории с воздушными шарами, заключёнными в замкнутый объём и плотно прилегающими друг к другу, так что изменение внутреннего давления в одном из них увеличивает или уменьшает размеры всех остальных. Этот совсем простой физиологический механизм борьбы за территорию прямо-таки идеально решает задачу “справедливого”, т. е. наиболее выгодного для всего вида в его совокупности, распределения особей по ареалу, в котором данный вид может жить. При этом и более слабые могут прокормиться и дать потомство, хотя и в более скромном пространстве. Это особенно важно для таких животных, которые – как многие рыбы и рептилии – достигают половой зрелости рано, задолго до приобретения своих окончательных размеров. Каково мирное достижение “Злого начала”! Тот же эффект у многих животных достигается и без агрессивного поведения. Теоретически достаточно того, что животные какого-либо вида друг друга “не выносят” и, соответственно, избегают. В некоторой степени уже кошачьи пахучие метки представляют собой такой случай, хотя за ними и прячется молчаливая угроза агрессии. Однако есть животные, совершенно лишённые внутривидовой агрессии и тем не менее строго избегающие своих сородичей. Многие лягушки, особенно древесные, являются ярко выраженными индивидуалистами – кроме периодов размножения – и, как можно заметить, распределяются по доступному им жизненному пространству очень равномерно. Как недавно установили американские исследователи, это достигается очень просто: каждая лягушка уходит от кваканья своих сородичей» (там же. С. 52).
Уж не доживут ли люди до времён, когда они станут завидовать лягушкам? Это будет зависеть от того, сумеет ли человек совладать со своим инстинктом к агрессии. Такой главный вывод мы можем сделать из книги К. Лоренца «Агрессия…». В человеческой агрессии, в её спонтанности автор этой книги увидел главный «симптом современного упадка культуры, патологический по своей природе» (там же). Кроме традиционных духовных ценностей (веры, надежды, любви, смирения и т. п.), для борьбы со своей агрессивностью людям нужен «великий парламент инстинктов» – их способность к гармонизации своего разума со своими инстинктами.
Для самосохранения людям жизненно необходима терпимость друг к другу, терпимость представителей одной культуры к представителям других культур. К. Лоренц писал: «Моральные выводы из естественной истории псевдовидообразования состоят в том, что мы должны научиться терпимости к другим культурам, должны отбросить свою культурную или национальную спесь – и уяснить себе, что социальные нормы и ритуалы других культур, которым их представители хранят такую же верность, как мы своим, с тем же правом могут уважаться и считаться священными. Без терпимости, вытекающей из этого осознания, человеку слишком легко увидеть воплощение зла в том, что для его соседа является наивысшей святыней. Как раз нерушимость социальных норм и ритуалов, в которой состоит их величайшая ценность, может привести к самой ужасной из войн, к религиозной войне. И именно она грозит нам сегодня!» (там же. С. 61).
До написания своего основного этического труда – «Оборотной стороны зеркала» – К. Лоренцу казалось, что одно из качеств, утраченных человеком в ходе культурогенеза, состоит в том, что он стал существом с редуцированными инстинктами. Но в дальнейшем он пересмотрел эту точку зрения на человеческий организм. Он нашёл в нём достаточно генетических ресурсов для инстинктивной деятельности. Так в чём же дело? Почему он утратил во многом свою способность к разумной организации своей жизни? Чтобы ответить на этот вопрос, К. Лоренц и написал свою главную книгу. Он обвинил в ней современное человечество в восьми смертных грехах. Из книги «Агрессия (так называемое зло)» следует, что самый большой из них – перенаселённость Земли, за ним следуют остальные: разрушение внешней среды, бег наперегонки с самим собой, исчезновение сильных чувств и эмоций, генетическая деградация, разрыв с традицией, массовость и потеря индивидуальности, ядерное оружие. В соответствии с ними он и построил в основном оглавление своего итогового труда.
1. ПЕРЕНАСЕЛЕНИЕ. К. Лоренц писал: «Все блага, доставляемые человеку глубоким познанием окружающей природы, прогрессом техники, химическими и медицинскими науками, всё, что предназначено, казалось бы, облегчить человеческие страдания, – всё это ужасным и парадоксальным образом способствует гибели человечества. Ему угрожает то, что почти никогда не случается с другими живыми системами, – опасность задохнуться в самом себе. Ужаснее всего, однако, что в этом апокалиптическом ходе событий высочайшие и благороднейшие свойства и способности человека – именно те, которые мы по праву ощущаем и ценим как исключительно человеческие, – по-видимому, обречены на гибель прежде всего. Все мы, живущие в густонаселённых культурных странах и тем более в больших городах, уже не осознаем, насколько не хватает нам обыкновенной теплой и сердечной человеческой любви. Нужно побывать в действительно безлюдном краю, где соседей разделяет много километров плохих дорог, и зайти незваным гостем в какой-нибудь дом, чтобы оценить, насколько гостеприимен и человеколюбив бывает человек, когда его способность к социальным контактам не подвергается длительной перегрузке» (Лоренц К. Оборотная сторона зеркала. М.: Республика, 1998, гл. 2).
2. ОПУСТОШЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО ПРОСТРАНСТВА. Как и в случае с перенаселением, К. Лоренц ставит животных и даже растения в пример людям и в отношении экологии. «Итак, все организмы данного жизненного пространства приспособлены друг к другу. Это относится и к тем из них, которые на первый взгляд друг другу враждебны, как, например, хищник и его добыча, пожирающий и пожираемый. При ближайшем рассмотрении, – указывал он, – обнаруживается, что эти организмы, рассматриваемые как виды, а не как индивиды, не только не вредят друг другу, но часто даже объединены общностью интересов. Совершенно ясно, что пожиратель жизненно заинтересован в дальнейшем существовании вида, служащего ему добычей, будь то животное или растение» (там же. Гл. 3).
3. БЕГ НАПЕРЕГОНКИ С САМИМ СОБОЙ. В борьбе, в соревновании друг с другом люди превзошли животных. Что же мы имеем в результате? Обожествление денег. К. Лоренц писал: «Под давлением соревнования между людьми уже почти забыто всё, что хорошо и полезно для человечества в целом и даже для отдельного человека. Подавляющее большинство ныне живущих людей воспринимает как ценность лишь то, что лучше помогает им перегнать своих собратьев в безжалостной конкурентной борьбе. Любое пригодное для этого средство обманчивым образом представляется ценностью само по себе. Гибельное заблуждение утилитаризма можно определить как смешение средства с целью. Деньги в своём первоначальном значении были средством, это ещё знает повседневный язык – говорят, например: “У него ведь есть средства”. Много ли, однако, осталось в наши дни людей, вообще способных понять вас, если вы попытаетесь им объяснить, что деньги сами по себе не имеют никакой цены? Точно так же обстоит дело со временем, для того, кто считает деньги абсолютной ценностью, изречение “Time is money” означает, что и каждая секунда сбереженного времени сама по себе представляет ценность… Возникает вопрос, что больше вредит душе современного человека – ослепляющая жажда денег или изматывающая спешка?» (там же. Гл. 4).
4. ТЕПЛОВАЯ СМЕРТЬ ЧУВСТВА. В этой главе К. Лоренц говорит об утрате людьми сильных чувств. В былые времена жизнь человека, как и животных, была переполнена чувствами. Они были связаны с борьбой за выживание. Особенно сильным было чувство опасности, которое сопровождало наших предков в тех или иных жизненных испытаниях. «.в ту пору, когда программировалась большая часть инстинктов, которые мы и до сих пор в себе носим, – писал в связи с этим К. Лоренц, – нашим предкам вовсе не приходилось “мужественным” или “рыцарским” образом искать себе жизненные испытания, потому что испытания навязывались им сами собой, насколько их ещё можно было снести. Принцип, предписывающий избегать по возможности всякой опасности и всякого расхода энергии, был навязан человеку филогенетически возникшим механизмом удовольствия/неудовольствия и был в то время вполне правилен» (там же. Гл. 4).
Но что произошло в дальнейшем? В цивилизованных обществах возник культ удовольствия, предполагающий, по крайней мере, избегание всякого рода неудовольствий. Результатом такой жизни стала изнеженность. К. Лоренц писал: «Уже в древности люди высокоразвитых культур умели избегать всех ситуаций, причиняющих неудовольствие; а это может привести к опасной изнеженности, по всей вероятности, часто ведущей даже к гибели культуры. Люди очень давно обнаружили, что действие ситуаций, доставляющих удовольствие, может быть усилено ловким сочетанием стимулов, причём постоянное изменение их может предотвратить притупление удовольствий от привычки; это изобретение, сделанное во всех высокоразвитых культурах, ведёт к пороку, который, впрочем, едва ли когда-нибудь способствует упадку культуры в такой степени, как изнеженность» (там же).
5. ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ВЫРОЖДЕНИЕ. Несмотря на то, что К. Лоренц винил себя в зрелые годы за евгенические грехи молодости, он и в анализируемой книге, хотя и в мягкой форме, высказывает идеи, близкие к евгенизму. Так, по поводу генетически неполноценных людей он писал: «Один из многих парадоксов, в которых запуталось цивилизованное человечество, состоит в том, что требование человечности по отношению к личности опять вступило здесь, в противоречие с интересами человечества. Наше сострадание к асоциальным отщепенцам, неполноценность которых может быть вызвана либо необратимым повреждением в раннем возрасте (госпитализация!), либо наследственным недостатком, мешает нам защитить тех, кто этим пороком не поражен. Нельзя даже применять к людям слова “неполноценный” и “полноценный”, не навлекая на себя сразу же подозрение, что ты сторонник газовых камер» (там же. Гл. 6). Вопрос о том, что же делать с вырожденцами, как видим, К. Лоренц унёс с собой в могилу без ответа.
6. РАЗРЫВ С ТРАДИЦИЕЙ. Культурогенез К. Лоренц уподоблял биогенезу: «В развитии каждой человеческой культуры обнаруживаются замечательные аналогии с историей развития вида… Процессы, с помощью которых культура приобретает новое знание, способствующее сохранению системы, а также процессы, позволяющие хранить это знание, отличны от тех, какие встречаются при изменении видов. Но метод выбора из многообразного данного материала того, что подлежит сохранению, в обоих случаях явно один и тот же: это отбор после основательного испытания. Конечно, отбор, определяющий структуры и функции некоторой культуры, менее строг, чем отбор при изменении вида, поскольку человек уклоняется от факторов отбора, устраняя их один за другим путём всё большего овладения окружающей природой. Поэтому нередко в культурах встречается нечто, едва ли возможное у видов животных: так называемые явления роскоши, т. е. структуры, характер которых не может быть выведен ни из какой-либо функции, полезной для сохранения системы, ни из более ранних форм системы. Человек может позволить себе таскать с собой больше ненужного балласта, чем дикое животное. Замечательно, однако, что один лишь отбор решает, что должно войти в сокровищницу знаний культуры в качестве её традиционных, “священных” обычаев и нравов. Похоже, что изобретения и открытия, происшедшие от догадки или рационального исследования, также приобретают со временем ритуальный и даже религиозный характер, если они достаточно долго передаются из поколения в поколение» (там же. Гл. 7).
Приоритетным в культурном отборе К. Лоренц считал не новизну, а сохранение старого, традиционного. «Сохранение не просто так же важно, но гораздо важнее нового приобретения, – указывал он, – и нельзя упускать из виду, что без специально направленных на это исследований мы вообще не в состоянии понять, какие из обычаев и нравов, переданных нам нашей культурной традицией, представляют собой ненужные, устаревшие предрассудки и какие – неотъемлемое достояние культуры» (там же).
Культ новизны (неофилия) в культуре, по К. Лоренцу, приводит к разрыву с традицией, что, с его точки зрения, недопустимо, даже если речь идёт о борьбе рационального с иррациональным, науки с религией. Он писал: «Заблуждение, будто лишь рационально постижимое или даже лишь научно доказуемое доставляет прочное достояние человеческого знания, приносит гибельные плоды. Оно побуждает “научно просвещённую” молодежь выбрасывать за борт бесценные сокровища мудрости и знания, заключённые в традициях любой старой культуры и в учениях великих мировых религий. Кто полагает, что всему этому грош цена, закономерно впадает и в другую столь же гибельную ошибку, считая, что наука, конечно же, может создать всю культуру со всеми её атрибутами чисто рациональным путём из ничего. Это почти так же глупо, как мнение, будто мы уже достаточно знаем, чтобы как угодно “улучшить” человека, переделав человеческий геном. Ведь культура содержит столько же “выросшего”, приобретённого отбором знания, сколько животный вид, а до сих пор, как известно, не удалось ещё “сделать” ни одного вида! Эта чудовищная недооценка нерациональных знаний, заключённых в сокровищах культуры, и столь же чудовищная переоценка знании, которые человек сумел составить с помощью своего ratio в качестве homo faber, не являются, впрочем, ни единственными, ни тем более решающими факторами, угрожающими гибелью нашей культуре. У надменного просвещения нет причин выступать против унаследованной традиции с такой резкой враждебностью. В крайнем случае оно должно было бы относиться к ней, как биолог к старой крестьянке, настойчиво уверяющей его, что блохи возникают из опилок, смоченных мочой. Однако установка значительной части нынешнего молодого поколения по отношению к поколению их родителей не имеет в себе ничего от подобной мягкости, а преисполнена высокомерного презрения. Революцией современной молодежи движет ненависть, и притом ненависть особого рода, ближе всего стоящая к национальной ненависти, опаснейшему и упорнейшему из всех ненавистнических чувств. Иными словами, бунтующая молодежь реагирует на старшее поколение так же, как некоторая культурная или “этническая” группа реагирует на чужую группу, враждебную ей» (там же).
7. ИНДОКТРИНИРУЕМОСТЬ. В своём консерватизме, обоснованном в предшествующей главе, К. Лоренц заходит не настолько далеко, чтобы дойти до обесценивания прогресса в культуре – в частности, в науке. Вот почему в научном познании он отдаёт должное гипотезе, которая, как водится, часто воспринимается представителями господствующей доктрины в штыки. Последнюю он уподобляет в этом качестве религии. «Доктрину защищают с тем же упрямством, с той же горячностью, какие были бы уместны, если бы надо было спасти от гибели испытанную мудрость, просветленное отбором знание старой культуры. Всякого несогласного с ходячим мнением клеймят как еретика, осыпают клеветой и, насколько возможно, дискредитируют. На него обрушивается в высшей степени специфическая реакции “mobbing”, общественной ненависти и травли. Подобная доктрина, ставшая всеохватывающей религией, доставляет своим приверженцам субъективное удовлетворение окончательным познанием, принимающим характер откровения» (там же. Гл. 7).
Причёсывание всех под гребёнку господствующей доктрины приводит людей к утрате ими их индивидуальности. Этот процесс К. Лоренц и назвал индокринированием (от слова «доктрина»). Политики по этому поводу любят толковать о тоталитарном сознании. В качестве примера индоктринирования в науке рубежа XIX–XX вв. К. Лоренц приводит ситуацию с психологией, которую Вильгельм Вундт пытался направить по естественно-научному, дарвиновскому пути, но господствующая в то время доктрина в науке, увела её в сторону культурологических наук. С моей же точки зрения, психология – наука, находящаяся в промежутке между биологией и культурологией. Вот почему её нельзя назвать ни естественнонаучной, ни гуманитарной. Она совмещает в себе особенности как естественных, так и гуманитарных наук.
Другие примеры индоктринирования – господство бихевиоризма в США и марксизма в СССР и Китае. К. Лоренц писал: «Люди, держащие в своих руках власть в Америке, в Китае и в Советском Союзе, в наши дни вполне сходятся между собой в одном вопросе: по их общему мнению, неограниченная конди-ционируемость людей в высшей степени желательна… Для этой доктрины все специфически человеческое нежелательно; но все рассмотренные в этой работе явления, способствующие потере человечности, ей в высшей степени на руку, ибо они делают массы более удобным объектом манипуляций. “Проклятие индивидуальности!” – таков лозунг. И крупному капиталисту, и советскому чиновнику должно быть одинаково удобно кондиционировать людей до состояния возможно более однородных, идеально неспособных к сопротивлению подданных – почти так же, как это изобразил Олдос Хаксли в своём столь жутком романе о будущем “Прекрасный новый мир”» (там же). Мы слышим здесь голос уже не этолога, который призывал людей учиться жить у животных, а западника-культуролога, который носится со своей индивидуальностью как с писаной торбой.
8. ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ. «Если сравнить угрозу атомного оружия с воздействиями на человечество семи других смертных грехов, – писал К. Лоренц, – то трудно не прийти к заключению, что из всех восьми этого греха избежать легче всего. Конечно, дурак или нераспознанный психопат может пробраться к пусковой кнопке; конечно, простая авария на стороне противника может быть ошибочно принята за нападение и вызвать чудовищное несчастье. Но можно, по крайней мере, ясно и определённо сказать, что надо делать против “бомбы”: надо её попросту не изготавливать или не сбрасывать» (там же. Гл. 9).
* * *
Лев Николаевич Толстой в своё время написал статью «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?». Свою книгу «Оборотная сторона зеркала» К. Лоренц мог бы назвать так: «Кому у кого учиться жить, людям у животных или животным у людей?». А чему животные могут научиться у людей? Непомерному расселению по Земле, опустошению естественного пространства, духовной слепоте, изнеженности, вырождению, неспособности учиться у старших и применению ядерного оружия. Выходит, не животным надо у нас учиться, даже если бы они приобрели такую способность, а нам у них. В этом и состоит суть этологической этики Конрада Лоренца. Но больше в ней оказалось не того, чему мы должны учиться у братьев наших меньших, а критики современной культуры. Вот почему голос её автора оказался созвучным с голосами других критиков культуры – Освальда Шпенглера и Альберта Швейцера. Но он оказался созвучен и с голосом Льва Толстого, который задолго до К. Лоренца увидел в современной культуре вслед за Ж.-Ж. Руссо не только источник прогресса, но и источник нравственного падения. Последнее, с точки зрения русского мыслителя, будет продолжаться до тех пор, пока впереди культуры не окажется нравственность.
«Желательно отношение нравственности и культуры такое, – писал Л. Н. Толстой в дневнике 1907 года, – чтобы культура развивалась только одновременно и немного позади нравственного движения. Когда же культура перегоняет, как это теперь, то это – великое бедствие. Может быть, и даже я думаю, что оно бедствие временное, что вследствие превышения культуры над нравственностью, хотя и должны быть временные страдания, отсталость нравственности вызовет страдания, вследствие которых задержится культура и ускорится движение нравственности и восстановится правильное отношение» (Толстой Л. Н. Собр. соч. в 20 томах. Т. 20. Дневники 1895–1910 гг. – М.: Художественная литература, 1965. С. 278).
Л. Н. Толстой и К. Лоренц шли к нравственному учению разными путями. Первый строил его на противопоставлении животного начала в человеке и духовного, тогда как второй, напротив, стремился вывести человеческую эволюцию из животной. В восьми смертных грехах современного человечества К. Лоренц видел опасное отклонение от единой животночеловеческой эволюции.
Лев Толстой и Конрад Лоренц, вместе с тем, сошлись в нравоцентризме: среди всех сфер культуры на центральное положение они поставили нравственность. Но мы продолжаем жить в условиях стихийного, рассогласованного, неуправляемого, диссипативного культурогенеза, надеясь на чудо его самоорганизации.
Новизна эволюционной точки зрения на нравственность состоит в том, что её приверженцы, среди которых почётное место принадлежит Конраду Лоренцу, сумели увидеть в высших духовных ценностях (истине, красоте, добре, справедливости и т. п.) результат естественно-культурного отбора этих ценностей среди их противоположностей. Эти ценности – вовсе не досужий плод философов-моралистов, а результат многовековой духовной эволюции человечества. Философы лишь обобщали в своих трудах его нравственный опыт. Благодаря этому опыту, люди сумели не только выжить, но и достичь грандиозных успехов в своём культурогенезе. К сожалению, они сумели достичь успехов и в своей анимализации, в своём обесчеловечении, приводящем к «деконструкции» этого опыта, за которым стоит инволюция, обесчеловечение и самоуничтожение. Как ни странно, нашлись свои певцы и у инволюции (например, французские философы-постмодернисты во главе с Жаком Дерридой). Они тоже обобщают – только не нравственный опыт человечества, а его безнравственный опыт. Вот почему так важно, чтобы голос великого эволюциониста ХХ века Конрада Лоренца был услышан.
2. 1. 3. Франс де Вааль
Строительство кирпичиков нравственности старше человечества.
Ф. де ВаальФранс де Вааль (род. в 1948) – известный американский приматолог нидерландского происхождения. Большую часть своей жизни он провёл не с людьми, а с обезьянами – в особенности с шимпанзе и бонобо. Вот почему обезьян он знает лучше, чем людей. Об этом свидетельствует его замечательная книга «Истоки морали. В поисках человеческого у приматов» (2013).
В этой книге её автор пришёл к заключению, что люди очень плохо знают обезьян. Вот почему они думают о них хуже, чем они того заслуживают. Учёный так полюбил своих подопечных, что оказался даже на грани чрезмерного сближения людей с приматами – по крайней мере, психологического.
Ф. де Вааль пишет: «Никто не сомневается в превосходстве человеческого интеллекта, но у нас нет никаких основополагающих желаний или потребностей, которых не нашлось бы у наших ближайших родичей. Обезьяны, в точности как люди, стремятся к власти, наслаждаются сексом, жаждут безопасности и симпатии, убивают за землю, ценят доверие и сотрудничество. Да, у нас есть компьютеры и самолёты, но психологически мы по-прежнему устроены так же, как общественные приматы» (Вааль Ф. де. Истоки морали. В поисках человеческого у приматов. М.: Династия, 2014. С. 28–29).
Однако в целом Ф. де Ваалю удалось избежать тех крайностей, которые всегда подстерегают исследователей, сравнивающих обезьян и людей, – гоминизации обезьян и анимализации людей. Вполне объективно он показал в своей книге, что у обезьян есть зачаточная культура, которую люди обычно недооценивают. У них есть зачатки не только материальной культуры, но и духовной.
Наблюдения показывают, что у обезьян имеются зачатки политических установлений. Однако предметом специального рассмотрения у Ф. де Вааля стали зачатки нравственности у человекообразных обезьян. После прочтения его книги в этом сомневаться не приходится.
Начало политики
Что такое политика? С древних времён известно, что это искусство управлять государством. О государстве по отношению к сообществам обезьян говорить преждевременно, но своя иерархическая структура в них существует. В какой-то мере она напоминает политическую структуру человеческого общества. Последняя, как известно, возглавляется теми или иными органами политической власти. У обезьян тоже есть подобные органы: у шимпанзе в них входят, как правило, самцы (у них патриархат), а у бонобо – самки (у них матриархат). При этом верховная власть принадлежит одному альфа-самцу или одной альфа-самке.
Но между высокоранговыми обезьянами случается и борьба за власть. Рядовые члены колонии могут выступать в таких ситуациях в роли миротворцов. Ф. де Вааль в связи с этим пишет: «В их поведении несложно различить стремление к тем самым ценностям, которые свойсвенны и нам. К примеру, известны случаи, когда самки шимпанзе буквально тащили упирающихся самцов навстречу друг другу, чтобы примирить их после ожесточённой схватки, и одновременно вырывали оружие из их лап» (там же. С. 34).
Однако борьба за власть между претендентами на положение верховного вождя в сообществе шимпанзе, например, случается нечастно. В обычное время в ней господствует один альфа-самец. Наводить порядок ему помогает его свита – другие высокоранговые самцы. Ф. де Вааль отмечает: «Высокоранговые самцы регулярно выступают в роли беспристрастных арбитров, разрешая споры в сообществе» (там же. С. 34).
Высшей политической категорией является справедливость. Чувство справедливости иногда заявляет о себе и у наших ближайших эволюционных родственников. Они способны отличить справедливость от несправедливости и даже протестовать против последней. Об этом свидетельствуют такие слова Ф. де Вааля: «Несколько лет назад мы провели эксперимент: приматы с удовольствием выполняли задания учёных за кусочки огурца, пока не увидели, что другие получают виноград, который гораздо вкуснее. Обезьяны, получавшие в награду огурцы, пришли в возбуждение, побросали свои овощи и устроили забастовку» (там же. С. 30).
Особенно сильно шимпанзе похожи на людей своей прагматичностью (самый прагматичный сейчас народ – американцы). Завидную прагматичность, надо думать, шимпанзе и люди унаследовали от их общего предка, который окончил свой век около 6 млн. лет назад.
Ф. де Вааль пишет: «Меня всегда поражает, насколько общество шимпанзе сосредоточено на взаимности: зуб за зуб, ты – мне, я – тебе. Эти человекообразные обезьяны строят на этом настоящую экономику; в обмен идёт всё, от пищи до секса и от груминга до поддержки в драке. Создаётся впечатление, что каждый шимпанзе аккуратно подсчитывает и регистрирует все оказанные ему услуги и формирует по ним ожидания и даже обстоятельства» (там же. С. 190). Через миллионы лет американцы возродили прагматичность нашего общего предка с шимпанзе и бонобо.
Начало нравственности
В своей книге Ф. де Вааль приводит множество примеров, свидетельствующих о том, что человеческая нравственность появилась не на голом месте. Преднравственностью обладали наши животные предки. О том, что она собой представляла мы можем в какой-то степени судить по зачаткам нравственности, имеющейся у человекообразных обезьян.
Приведу здесь лишь несколько примеров преднравственного поведения у обезьян.
1. Шимпанзе «Фредди действовал так же, как действуют в подобных ситуациях другие самцы-усыновители: он делился с малышом пищей, позволял тому спать в своём ночном гнезде, защищал от опасностей и старательно искал, когда тот терялся… Если не считать грудного вскармливания, эти приёмные отцы брали на себя все те обязанности, которые выполняют матери по отношению к своим детям, и резко увеличивали тем самым шансы сирот на выживание» (там же. С. 72–73).
2. «Типичный пример такой эмпатии (осознанного соучастия. – В. Д.) – то, как шимпанзе утешают расстроенных товарок объятиями и поцелуями; это настолько предсказуемо, что нам удалось документально зафиксировать буквально тысячи таких случаев» (там же. С. 13).
3. «Стоит одной особи (бонобо. – В. Д.) хотя бы слегка пораниться, и её тут же окружают сородичи, готовые осмотреть и вылизать рану или хотя бы разобрать шерсть и утешить бедняжку грумингом» (там же. С. 121).
4. «Добрые поступки совершаются и спонтанно, без участия экспериментаторов. Так, старая самка Пеони живёт вместе с другими шимпанзе в открытом вальере полевой станции Центра по изучению приматов имени Йеркса. Бывают дни, когда особенно беспокоит артрит, Пеони трудно ходить и взбираться на высоту, тогда другие самки всегда готовы помочь ей. Пыхтя и отдуваясь, старушка медленно взбирается на помост, где на сеанс груминга уже собралось несколько обезьян. При этом какая-нибудь самка помоложе (не родственница) терпеливо лезет вслед за ней, с силой подталкивая её руками под объёмистый зад передними конечностями вверх, пока Пеони наконец не присоединиться к остальным» (там же. С. 12).
5. Шимпанзе «подолгу рассматривали мёртвое тело (Рикса, их погибшего сородича. – В. Д.). Один самец свесился с ветки вниз, посмотрел на труп и захныкал. Другие подходили, трогали или обнюхивали останки. Одна молодая самка непрерывно смотрела на тело Рикса более часа, молча и не шевелясь» (там же. С. 278).
6. «В целом реакция человекообразных обезьян на смерть сородичей позволяет предположить, что им трудно расстаться с умершим (так, мать может носить мёртвого малыша неделями, пока его тельце не высохнет и не мумифицируется; они осматривают тело, пытаются оживить его и выглядят расстроенными и подавленными. Судя по всему, они понимают, что переход от жизни к смерти необратим» (там же. С. 280).
С мысли о смерти, утверждал Сократ, начинается мудрость. А с чего начинается цивилизованность? Со способности к благодарности. Способность к благодарности, утверждал А. С. Пушкин, – первый признак цивилизованного человека. Между тем зачаток этой способности Ф. де Вааль обнаружил у шимпанзе.
Учёный наблюдал несколько случаев проявления благодарности у обезьян. Один из них связан с благодарностью самки шимпанзе Джорджии за то, что он вернул её в родную колонию. Вот как она выразила эту благодарность: «Джорджия подошла ко мне и посмотрела прямо в глаза неожиданно дружелюбным взглядом. Таким образом она ко мне обращалась. Когда я взял её за лапу, самка несколько раз пропыхтела что-то в быстром ритме; эти звуки у шимпанзе демонстрируют, наверное, самое сердечное расположение к собеседнику. Она обратилась ко мне так всего один раз: больше такого никогда не происходило ни до, ни после» (там же. С. 186).
Другой пример благодарности у шимпанзе: «Два шимпанзе оказались вне запёртого убежища во время сильной грозы, и, когда Вольфганг Кёлер (немецкий и американский психолог, один из основателей гештальт-психологии, пионер в исследовании орудий труда у человекообразных обезьян; 1887–1967. -В. Д.) наткнулся на них, они уже промокли до костей и дрожали от холода. Он открыл для них дверь убежища. Но вместо того, чтобы ринуться побыстрее в сухое место, оба шимпанзе первым делом обняли профессора в знак признательности» (там же. С. 187).
Нет сомнения, что высшие приматы прошли более успешный путь по развитию их предкультуры, чем другие животные. Об этом свидетельствуют и камни, с помощью которых они разбивают орехи, и ветки, с помощью которых они добираются до термитов, и т. д. Но, чтобы избежать приматоцентризма, нужно быть справедливым по отношению к культурному потенциалу, имеющемуся и у других животных. Приведу здесь только один пример.
В Национальном зоопарке Вашингтона живёт молодой слон Кандула. Престон Фердер и Дайана Рейсс провели с ним эксперимент, подтвержающий его способность к предкультурным действиям. Они подвесили над ним ветки с фруктами. Чтобы их достать, он додумался пододвинуть подставку – ящик.
Экспериментаторы спрятали ящик, и что же? Кандула стал делать подставку из толстых досок, которые он нашёл в вольере и которые накладывал одна на другую. Его этому никто не учил.
На появление некоторых нравственных качеств у животных не следует смотреть как на чудо природы. Эти качества имеют адаптивную подоплёку: они помогают им выживать. Вот почему естественный отбор сохранял и поощрял развитие этих качеств. Но способны ли животные на альтруизм? Способны ли они помогать другим (в том числе животным другого вида) вполне бескорыстно? Ф. де Вааль пришёл к положительному ответу на этот вопрос, по крайней мере, по отношению к человекообразным обезьянам. Как у людей, так и у них альтруистическое поведение вытекает из способности поставить себя на место другого. Она приводит к эмпатии – сопереживанию и альтруистическим действиям.
Ф. де Вааль пишет: «Раньше я всегда рассказывал о том, как бонобо спас птицу, оглушённую неожиданным столкновением со стеклом, или как шимпанзе в условиях дикой природы буквально оттащил своего неопытного собрата от ядовитой змеи. Историй, в которых человекообразные обезьяны, судя по всему, ставят себя на место себе подобного, множество» (там же. С. 213).
Мы впали бы в грех идеализации обезьян, если бы забыли о том, что они не люди, а звери. Но мы впали бы в другую крайность, если бы стали закрывать глаза на наличие в их поведении некоторых нравственных качеств. Демокрит считал основополагающим для человека чувство стыда. Его зародыш имеется и у шимпанзе.
В своей книге Ф. де Вааль поведал такую историю: самец-шимпанзе Лоди в припадке агрессии откусил палец у ветеринара в зоопарке. Откушенный палец в больнице не удалось пришить. «Через несколько дней, однако, жертва вновь посетила зоопарк; при виде Лоди она подняла забинтованную левую руку и сказала: “Лоди, приятель, знаешь ли ты, что натворил?”.
При виде руки ветеринара Лоди удрал в самый дальний угол вольера и уселся там, опустив голову и обхватив себя руками» (там же. С. 268).
Ветеринар уволилась из зоопарка, где она потеряла палец. Она посетила этот злополучный зоопарк через 15 лет. Какой же была реакция Лоди на свою давнюю жертву? Он о ней не забыл, сразу подбежал к ней и стал упорно смотреть на её руку. Женщине пришлось выставить перед ним свою беспалую руку.
Эту историю Ф. де Вааль подытоживает такими словами: «Данный факт напрямую свидетельствует о том, как глубоко эти человекообразные обезьяны беспокоятся о поддержании хороших отношений» (там же. С. 269).
Итак, Франс де Вааль прекрасно показал, что у животных – в особенности у шимпанзе и бонобо – имеются зачатки нравственности. Отсюда следует, что у наших животных предков, которые были одним из видов человекоподобных существ, была преднравственность. Понадобились миллионы лет, чтобы животная преднравственность превратилась в человеческую нравственность.
В последнем абзаце своей книги Ф. де Вааль пишет: «На самом деле мораль имеет куда более низкое происхождение, которое несложно распознать в поведении других животных. Всё, что узнала наука за последние несколько десятилетий, противоречит пессимистической точке зрения; мораль – вовсе не тонкий слой лака на поверхности отвратительной человеческой природы. Напротив, без прочного эволюционного фундамента мы никогда не сумели бы продвинуться так далеко, от незнатных по своему происхождению, обезьяноподобных предков до современного человека» (там же. С. 340).
Одно хочу напомнить: процесс нравственной эволюции у современного человека ещё очень и очень далёк до приближения к её идеалу – Человеку.
2. 2. психологические подходы
Эволюционная этика – наука об эволюционном смысле человеческой жизни. Осознание этого смысла стало возможным благодаря многомиллионной психической эволюции наших животных предков и людей.
В истории науки сложилось два ведущих подхода к интерпретации психической эволюции – анимализационный и гоминизационный. В первом из них представлена тенденция к отождествлению животных и людей, а во втором мы имеем дело со стремлением его представителей выявить подлинно эволюционные отношения между ними. Первый из них нашёл отражение в бихевиоризме, а второй – у Л. С. Выготского и А. Н. Леонтьева.
2. 2. 1. Бихевиоризм (Д. Уотсон и Э. Торндайк) и необихевиоризм (К. Халл и Б. Скиннер)
В 1913 г. американский психолог Джон Уотсон (18781958) опубликовал статью «Психология с точки зрения бихевиориста». В следующем году вышла в свет его книга «Поведение. Введение в сравнительную психологию». Эти работы принято связывать с появлением в ХХ в. бихевиористской психологии.
Исходный постулат бихевиоризма – отрицание сознания в качестве объекта психологии и объявление в этом качестве поведения. Д. Уотсон и его последователи пришли к указанному постулату потому, что стремились превратить психологию в объективную науку – в науку, опирающуюся на достоверные (объективные) факты, а такие факты, с их точки зрения, могут быть обнаружены в первую очередь в поведении. Что же касается сознания, то оно постигается интроспекцией, которая, как они считали, не может не привносить в науку субъективизм. Недаром Д. Уотсон назвал мозг человека «таинственным ящиком», куда психологи-интроспекционисты прячут свои проблемы.
То, что происходит внутри живого организма, по мнению Д. Уотсона, – тайна за семью печатями. Вот почему его психику следует изучать по его поведенческим реакциям. Эти реакции доступны физической проверке. Вот почему бихевиористы боролись с ментализмом (ментальный – мыслительный). Они занимали физикалистские (объективистские) позиции. На более конкретном языке это значит, что бихевиорист должен сосредоточивать своё внимание на изучении цепочки «стимул – реакция».
Бихевиоризм не возник на голом месте. Его появлению способствовало зарождение зоопсихологии – науки о психике животных. Опираться в ней на метод интроспекции не представляется возможным.
У истоков зоопсихологии находится дарвинизм. В книге «Выражение эмоций у животных и человека» (1872) Ч. Дарвин сравнивал жестово-мимические знаки, которыми выражают свои чувства животные и люди. На материале этих знаков великий эволюционист лишний раз подтвердил животное происхождение человека. Он показал в ней, что у животных они имеют явно приспособительный смысл. Оскал зубов, например, – выражение агрессии с целью обороны от врагов. У людей подобный знак – пережиток (рудимент) их животного прошлого.
Зоопсихология в конце XIX – начале XX вв. стала чрезвычайно популярной наукой. В 1882 г. вышла книга друга Ч. Дарвина Джона Романеса (1848–1894) «Интеллект животных», за которую его обвинили в антропоморфизации животной психики, т. е. в привнесении в неё свойств человеческой психики. В ответ на эти обвинения он написал ещё две книги – «Умственная эволюция у животных» (1883) и «Умственная эволюция у человека» (1887). Эти работы – целый этап в развитии эволюционной психологии, который до сих пор не оценен в истории науки по достоинству.
Критики Д. Романеса сосредоточились на недостатках его теории, а не её достоинствах. А между тем, несмотря на присутствие в его книгах некоторой умозрительности, он во многом опережал своё время, поскольку в науке его времени и в дальнейшем упор делался в основном на резкое противопоставление животной психики и человеческой. Даже и до сих пор часто раздаются вопросы такого рода: «Думают ли животные?», «Способны ли они оперировать понятиями?» и т. п. Да, думают; да, способны. Как указывал Ч. Дарвин, всё дело лишь в степени их психического развития в сравнении с человеческим.
В своей психической эволюции человек оторвался от своих животных собратьев на огромное расстояние в первую очередь потому, что в его психику ворвалась культура. Благодаря её влиянию, он сумел достичь высочайшего уровня в своей способности моделировать: прежде, чем создать тот или иной продукт культуры – со временем всё более и более усложняющийся – этот продукт необходимо сконструировать в сознании.
Эволюционная природа человеческого сознания в первую очередь недооценивалась представителями сравнительной психологии – той области знаний, где психика животных сравнивается с психикой людей – у Конвея Ллойд-Моргана (18521936) в его «Введении в сравнительную психологию» (1894), где автор сосредоточивается на борьбе с антропорфизацией животной психики, впадая в другую крайность – резкому противопоставлению человеческой психики и животной. Впрочем, наведение эволюционных мостов между животной психикой и человеческой – дело чрезвычайно трудное. Оно и до сих пор остаётся во многом непроясненным. На рубеже ХХ в. над ним бились такие учёные, как Ж. Лёб, Г. Дженингс и А. Бетс.
В книге «Гелиотропизм животных и его соответствие гелиотропизму растений» (1890) Ж. Лёб разработал теорию тропизма. Тропизм – это элементарная форма психической деятельности, которая, по его мнению, присуща не только животным (в том числе и не имеющим нервной системы), но и растениям. Тропизм указывает на зародыш чувствительности у растений. Сущность тропизма Ж. Лёб связывал с приспособленческой реакцией организма на внешнее раздражение. Более того, в качестве предпосылки такой реакции у любого живого организма он предусматривал «ассоциативную память».
Г. Дженингс обвинил Ж. Лёба в антрпоморфизме живой природы. А между тем вопрос о психическом атоме, т. е. самой элементарной форме психического отражения, он оставил открытым. К Г. Дженингсу решительно примкнул А. Бете в своей статье «Должны ли мы приписывать муравьям и пчелам психические качества?». Он ответил на этот вопрос отрицательно, тем самым углубив пропасть, разделяющую психику животных от психики людей.
Страх перед антропоморфизацией животной психики вылился у необихевиористов в свою противоположность – анимализацию человеческой психики. Этому способствовал один из пионеров бихевиоризма – Эдвард Торндайк (1874–1949).
В 1898 г. вышла в свет книга Э. Торндайка «Интеллект животных» (так же назвал свою книгу Д. Романес). В ней опубликованы наблюдения автора за адаптивным поведением животных (в основном – кошек, меньше – собак и обезьян). Эти условия он создавал в специальных «проблемных ящиках». В них помещались определённые препятствия. Чтобы их преодолеть, животное должно было научиться приводить в действие соответственный механизм – нажать на пружину, потянуть за петлю и т. п. Животное в этой ситуации начинало метаться, царапать стенки ящика и производить подобные беспорядочные движения, пока, наконец, случайно не совершало удачное движение. Однако при многократном повторении подобных ситуаций оно всё больше и больше приучалось к спокойному выходу из создавшегося положения. В результате Э. Торндайк сделал вывод, что животные способны к научению методом проб и ошибок.
Позднее Э. Торндайк опубликовал книги «Психология научения» (1913) и «Основы научения» (1932), где он и наметил ту тенденцию, которая особенно ярко заявит о себе у Б. Скиннера – тенденцию к анимализации человеческой психики.
Как и у Д. Уотсона, у Э. Торндайка мы обнаруживаем тот способ описания психики, который и стал характерен для бихеви-ористов. При этом подходе она описывается не сама по себе, не непосредственно, а сквозь призму поведения. В этом и состоит главная особенность бихевиористской картины психики.
Среди необихевиористов выделю здесь только Берхауса Скиннера (1904–1990). Его бихевиоризм называют оперантным. Этот вариант бихевиоризма отличается большей масштабностью, чем предшествующий. Б. Скиннер расширил рамки прежней бихевиористской картины психики. За счёт чего?
Б. Скиннер не просто описывал поведение, но ставил также вопрос о его причине и умении им управлять. Но последнее тянет за собой знание, что для ортодоксального бихевиориста выглядит как еретическое отступничество: знания находятся внутри «таинственного ящика» – мозга, в сознании. Поведение, за которым кроются знания и умения, Б. Скиннер и назвал оперантным.
При описании оперантного поведения Б. Скиннер делал упор на излюбленном им подкреплении того или иного поведения у животного или человека. «Так, при обучении голубя сложной реакции – выходу из клетки при помощи нажатия клювом на рычаг, Скиннер подкреплял каждое движение голубя в нужном направлении, добиваясь того, что в конце концов он безошибочно выполнял эту сложную операцию» (Марцинковская Т. Д., Ярошевский М. Г. 50 выдающихся психологов мира. М.: Международная педагогическая академия, 1995. С. 110).
У Б. Скиннера мы обнаруживаем явную анимализацию человеческой психики, т. е. уподобление человеческой психики животной. Так, размышляя о разных видах подкрепления определённой формы поведения у животных (с помощью воды, еды, света и т. д.), он ничтоже сумняшеся уходил в область человеческого поведения, поддерживаемого тем или иным видом подкрепления.
«В любой области, – писал Б. Скиннер, – важной характеристикой которой является поведение, – образовании, управлении, семье, здравоохранении, промышленности, искусстве, литературе и т. д. – мы постоянно изменяем вероятности реакции с помощью их подкрепления. Промышленник, который хочет, чтобы его рабочие работали постоянно и без прогулов, должен заботиться о соответственном подкреплении их поведения и не только с помощью заработной платы, но также и с помощью подходящих условий работы. Девушка, которая хочет ещё раз встретиться с молодым человеком, должна быть уверена, что поведение её друга, связанное с назначением свидания и желанием сдержать своё слово, получило адекватное подкрепление» (История зарубежной психологии. Тексты / Под ред. П. Я. Гальперина, А. Н. Ждан. М.: МГУ, 1986. С. 76–77).
Как дрессировщик корректирует поведение животных с помощью подкормки, так и воспитатель должен пользоваться своими формами подкрепления при обучении детей. Он указывал: «Для того, чтобы обучить ребенка читать и петь, или играть на музыкальном инструменте, необходимо разработать программу педагогических подкреплений» (там же. С. 77).
Подкрепление у Б. Скиннера – золотой ключик, с помощью которого можно открыть любой «проблемный ящик» – будь в нём животные или люди. Но это понятие имеет биологическую природу. Перенося его на человека, Б. Скиннер анимализирует последнего, уподобляет его психику психике животного. Бихевиорист Б. Скиннер продолжил здесь дело прагматистов В. Джемса и Д. Дьюи, которые тоже переносили отношения животных в их приспособлении к миру на отношения людей.
Скиннеровская картина психики, несмотря на её более широкие рамки по сравнению с картинами его предшественников, в целом осталась вполне бихевиористской. Несмотря на то, что в ней время от времени пробиваются менталистские термины, её живописец старается стыдливо их заретушировать.
Вот, например, как Б. Скиннер писал о цели: «Цель является свойством не самого поведения, а является способом обращения к контролирующим переменным. Если мы составляем наше описание после того, как мы увидели, что человек опустил своё письмо в почтовый ящик и повернул обратно, мы приписываем ему цель события, которое заставило его идти на улицу» (там же. С. 92). Вот так следует говорить на бихевиористском языке о ментальных понятиях – в терминах поведения.
Лебединой песней бихевиоризма стала книга Д. Миллера, Ю. Галантера и К. Прибрама «Планы и структура поведения» (1965). Её авторы, хотя и стремились следовать за своими предшественниками, уже оказались не в состоянии удерживать себя в рамках бихевиоризма. В ней вырывается на свободу менталистская терминология. Но это означает, что в 60 гг. ХХ в. бихевиоризм стал сходить на нет.
Бихевиористы любили иметь дело с ящиками – и в прямом, и в переносном смысле. Мы позволим себе сказать следующее: сама их картина психики подобна «таинственному ящику», который они описывали только с наружной стороны. Но открыть этот ящик они не могли по принципиальным соображениям: психология должна опираться на объективные, а не субъективные факты. Последние так и остались у них спрятанными внутри их «ящика». Открыть его им мешала потребность к объективности. Их ошибка заключалась в том, что они и мысли не допускали, что и внутреннее содержание «таинственного ящика» тоже может стать предметом объективного исследования.
2. 2. 2. Лев Семёнович Выготский
В центре научных интересов Льва Семеновича Выготского (1896–1934) были вопросы, связанные с онтогенетической (детской) психологией человека. Её достижения в какой-то мере можно спроецировать на детство человечества.
Заслуга Л. С. Выготского состоит в том, что он заложил основы культурологической точки зрения на развитие детской психики. Эта точка зрения ставит на первый план культурное развитие ребёнка – развитие, заключающееся во врастании ребенка в культуру, в овладении им приёмами культурного поведения.
Культурное развитие ребенка, вместе с тем, осуществляется в тесном переплетении с его биотическим (естественным, натуральным) развитием. Л. С. Выготский писал: «Врастание нормального ребёнка в цивилизацию представляет обычно единый сплав с процессами его органического созревания. Оба плана развития – естественный и культурный – совпадают и сливаются один с другим» (Выготский Л. С. Психология развития как феномен культуры. М.: Институт практической психологии, Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. С. 250).
Если биофизическое развитие ребёнка тесно переплетено с его психокультурным развитием, то первая проблема, с которой начинает детский психолог, есть проблема отграничения данных видов развития друг от друга. Л. С. Выготский нашёл путь к их отграничению: он обратился к исследованию психического развития у дефектных детей, у которых, по его словам, «оба плана развития обычно более или менее резко расходятся» (Там же. С. 256).
Наблюдения за психическим развитием дефектных детей (слепых, глухих и т. п.) позволило Л. С. Выготскому в какой-то мере обособить культурное развитие ребёнка от биотического и подступиться к вопросу о периодизации культурного развития ребёнка как такового. В книге «История культурного развития нормального и ненормального ребенка» Л. С. Выготский наметил пять стадий в культурном развитии ребёнка.
Первую стадию культурного развития ребёнка Л. С. Выготский назвал магической. Она охватывает первый год его жизни. В это время ребенок ещё остается полуживотным. Учёный писал: «Каждое действие ребёнка в эту пору носит ещё смешанный животно-человеческий природно-исторический, примитивно-культурный или органически-личный характер» (Психология личности. Тексты / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтера, А. А. Пузырея. М.: МГУ, 1982. С. 162).
Вторая стадия в культурном развитии ребёнка начинается, по Л. С. Выготскому, с момента овладения им речью. Он указывал: «Овладение речью приводит к перестройке всех особенностей детского мышления, памяти и других функций. Речь становится универсальным средством для воздействия на мир. Решающим моментом в смысле развития личности ребёнка в этом периоде является осознание им своего Я… Понятие о Я развивается у ребёнка из понятия о других» (там же. С. 163).
Третью стадию в культурном развитии ребёнка Л. С. Выготский назвал «возрастом игры». Вот как он охарактеризовал эту стадию: «…ребенок на стадии игры ещё чрезвычайно неустойчиво локализует свою личность и локализует своё мировоззрение. Он также легко может быть другим, как и самим собой» (там же. С. 164).
Четвёртая стадия в культурном развитии ребёнка охватывает первый школьный период его жизни – до 12 лет. «Только к 12 годам, т. е. к окончанию первого школьного возрасти, – писал Л. С. Выготский, – ребёнок преодолевает вполне эгоцентрическую логику (т. е. неспособность стать на чужую точку зрения. – В. Д.) и переходит к овладению своими мыслительными процессами» (там же. С. 164–165).
Пятая, заключительная, стадия в культурном развитии ребёнка охватывает второй школьный период его жизни. Это так называемый переходный возраст. Он «как бы увенчивает и завершает весь процесс культурного развития ребёнка» (там же. С. 165), т. е. завершает процесс врастания ребёнка во взрослую культуру. За счёт чего это происходит? «Это есть возраст открытия своего Я, оформления личности, с одной стороны, и возраст оформления мировоззрения, отношения к миру – с другой», – отвечает Л. С. Выготский и уточняет: «Когда говорят, что в этот период подросток открывает свой внутренний мир и впервые открывает все его возможности, устраняя его относительную независимость от внешней деятельности, то с точки зрения того, что нам известно о мышлении, о культурном развитии ребёнка, это может быть обозначено как овладение этим внутренним миром. Недаром внешним коррелятом этого события является возникновение жизненного плана как известной системы приспособления, которая впервые осознается в этом возрасте» (там же. С. 165). Речь здесь, как видим, идёт уже о планах на взрослую жизнь.
2. 2. 3. Алексей Николаевич Леонтьев
Культурологическую точку зрения на психическую эволюцию человека развивал в своих трудах Алексей Николаевич Леонтьев (1903–1979). Но эволюция человеческой психики есть продолжение предшествующей психической эволюции. Вот почему исследовательский взгляд А. Н. Леонтьева охватывал всю психическую эволюцию – макроэволюцию.
Эволюционизм составляет ведущую черту картины психики у А. Н. Леонтьева. Неслучайно его главный труд называется «Проблемы развития психики» (см. 4-е его издание, вышедшее в МГУ в 1981 г.). В нём отражен генетический аспект картины психики, как его представляет его автор.
Эволюционная психология А. Н. Леонтьева – высшее достижение советской психологической науки. Её анализу посвящена книга «А. Н. Леонтьев и современная психология» (под ред. А. В. Запорожца, В. П. Зинченко, О. В. Овчинниковой,
О. К. Тихомирова. М.: МГУ, 1983). Мы остановимся здесь главным образом на взглядах А. Н. Леонтьева на психическую эволюцию.
А. Н. Леонтьев делил психическую эволюцию на четыре стадии – элементарной сенсорной психики, перцептивной, интеллектуальной и человеческой.
1. Стадия элементарной сенсорной психики
Под элементарной сенсорной психикой А. Н. Леонтьев имел в виду способность живых организмов к чувствительности или, что одно и то же, к ощущению. Ощущение, с его точки зрения, – это отправной пункт психической эволюции. «Итак, – писал он, – мы будем считать элементарной формой психики ощущение, отражающее внешнюю объективную действительность, и будем рассматривать вопрос о возникновении психики в этой конкретной его форме как вопрос о возникновении “способности ощущений”, или, что то же самое, собственно чувствительности» (Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. М.: МГУ, 1981. С. 19).
Способностью к ощущению, по мнению учёного, обладают животные, имеющие нервные клетки. Но не только! Он усматривал способность к ощущению (а следовательно, элементарную психику) не только у тех животных, у которых появились нервные клетки, либо разбросанные по всему телу, как у полипов, либо уже объединённые в сцепления, как у других кишечнополостных – кораллов и медуз, но и у тех, у которых нервные клетки ещё отсутствуют, как у губок. Их чувствительность обеспечивается на уровне протоплазмы.
Чувствительность (или способность к ощущению) возникла не на голом месте. Она возникла из раздражимости, которая является общим свойством всей живой материи. Под раздражимостью обычно понимают способность организма реагировать на температурные, световые и т. п. физические изменения в окружающей среде. Если вслед за А. Н. Леонтьевым мы примем чувствительность за начало психики, то её предтечу – раздражимость – очевидно, следует расценивать как предпсихику. Но где граница между раздражимостью (предпсихикой) и чувствительностью (психикой)? А. Н. Леонтьев писал: «Невозможность объективно различать между собою процессы чувствительности и раздражимости привела физиологию последнего столетия вообще к игнорированию проблемы этого различения. Поэтому часто оба эти термина – чувствительность и раздражимость – употребляются как синонимы» (там же. С. 26).
Отказ от разграничения раздражимости и чувствительности означает не что иное, как уход от решения вопроса о возникновения психики и, более того, от решения вопроса о том, что такое психика вообще. Вот почему А. Н. Леонтьев стал подходить к вопросу о разграничении раздражимости и чувствительности со стороны решения проблемы психики как таковой. «Психика, – писал он, – есть свойство живых, высокоорганизованных материальных тел, которое заключается в их способности отражать своими состояниями окружающую их, независимо от них существующую действительность… Психические явления – ощущения, представления, понятия – суть более или менее точные и глубокие отражения, образы, снимки действительности» (там же. С. 28).
Сущность психики, таким образом, составляет способность организма отражать внутри себя существующую действительность с помощью ощущений, представлений, понятий. Исходя из отражательной природы психики вообще, А. Н. Леонтьев пришёл к выводу о том, что ощущение как первичная форма психического отражения есть результат эволюционного развития раздражимости. Чувствительность – новая ступень в эволюции живой природы по сравнению с раздражимостью. Если раздражимость ещё не оставляет отражательных «снимков» в организме, то чувствительность их оставляет в виде ощущений. Под чувствительностью при этом имеется в виду способность организма различать элементарные свойства тех предметов, с которыми он взаимодействует в своей жизни. Эволюция психики, таким образом, началась от элементарной формы отражения действительности – ощущения, но продвигалась она к её самой сложной форме, которую А. Н. Леонтьев назвал «образом мира».
Как ощущение (начальный пункт психогенеза), так и образ мира (конечный пункт психогенеза, присущий только человеку) суть разные формы отражательной деятельности живого организма. Эта деятельность должна рассматриваться, по убеждению А. Н. Леонтьева, в контексте всей жизнедеятельности организма, в контексте деятельности, направленной на приспособление к окружающей среде. Деятельность, о которой идёт речь, есть не что иное как взаимодействие живого организма с внешним миром. Понятие деятельности выступает у А. Н. Леотьева как основополагающее. Не случайно его психологическую концепцию часто называют деятельностной. «Итак, – писал её автор, – основной вывод, который мы можем сделать, заключается в том, что для решения вопроса о возникновении психики мы должны начинать с анализа тех условий жизни и того процесса взаимодействия, который её порождает. Но такими условиями могут быть только условия жизни, а таким процессом – только сам материальный жизненный процесс» (там же. С. 36). А чуть дальше он даёт определение жизни: «Жизнь есть процесс особого взаимодействия особым образом организованных тел» (там же. С. 37).
Подобный, деятельностный, подход к вопросу о возникновении психики позволил А. Н. Леонтьеву увидеть в психогенезе продолжение биогенеза, т. е. связать жизнь в единое эволюционное целое с психикой. А. Н. Леонтьев писал: «Если рассматривать какой-нибудь процесс взаимодействия в неорганическом мире, то оказывается, что оба взаимодействующих тела стоят в принципиально одинаковом отношении к этому процессу. Иначе говоря, в неорганическом мире невозможно различить, какое тело является в данном процессе взаимодействия активным (т. е. действующим), а какое – страдательным (т. е. подвергающимся действию)» (там же. С. 43). Так обстоит дело в неживой природе. А каким является отношение между телами в живой природе?
«Совершенно другое положение мы наблюдаем в случае взаимодействия органических тел, – читаем мы у А. Н. Леонтьева. – Совершенно очевидно, что в процессе взаимодействия живого белкового тела с другим каким-нибудь телом, представляющим для него питательное вещество, отношение обоих этих тел к самому процессу взаимодействия будет различным. Поглощаемое тело является предметом воздействия живого тела и уничтожается как таковое» (там же. С. 44).
В живой природе, таким образом, субъекты взаимодействуют с их объектами. Вот почему переход неживой природы в живую можно представить как переход от бессубъектнобезобъектной формы взаимодействия материальных тел к его субъектно-объектной форме. Вот как об этом писал А. Н. Леонтьев: «Иначе это можно выразить так: переход от тех форм взаимодействия, которые свойственны неорганическому миру, к формам взаимодействия, присущим живой материи, находит своё выражение в факте выделения субъекта, с одной стороны, и объекта – с другой» (там же. С. 45).
Наличие субъекта действия и его объекта в живой природе указывает нам на наличие в ней деятельности: «Те специфические процессы, которые осуществляют то или иное жизненное, т. е. активное, отношение субъекта к действительности, мы будем называть в отличие от других процессов процессами деятельности» (там же. С. 49). Понятия деятельности и жизни у А. Н. Леонтьева, таким образом, есть эволюционно синхронные понятия.
Раздражимость, с точки зрения учёного, была самой элементарной формой деятельности живого организма, выражающейся в способности организма отвечать специфическими процессами на то или другое жизненно значимое воздействие» (там же. С. 53).
Учёный различал два вида раздражимости. Первый из них связан с реакцией организма, направленной на поддержание жизни, а второй – не направленный на поддержание жизни. Чувствительность – результат развития раздражимости первого вида. Переход «поддерживающей» раздражимости к чувствительности знаменовал собою возникновение психики у животных.
Развитие чувствительности у животных в свою очередь закреплялось появлением у них и совершенствованием органов чувствительности, эволюционировавших постепенно в органы чувств. Последние появились в результате всё большей специализации первых. В основе этого перехода лежала необходимость во всё более адекватном отражении организмом той предметной действительности, с которой он вступал во всё более и более сложные отношения.
2. Стадия перцептивной психики
Развитие органов чувств, сопровождаемое развитием нервной системы, привело животных ко второй стадии их психической эволюции – стадии перцептивной психики. В отличие от первой, она характеризуется способностью животного отражать предметную действительность не только в виде ощущений, но и в виде представлений. Последние позволили им схватывать не отдельные свойства окружающих вещей, что доступно ощущениям, а вещи в целом.
А. Н. Леонтьев писал: «Деятельность животных на самой ранней, первой стадии развития психики характеризуется тем, что она отвечает тому или иному отдельному воздействующему свойству… Следующая… стадия… характеризуется способностью отражения внешней объективной действительности уже не в форме отдельных элементарных ощущений, вызываемых отдельными свойствами или их совокупностью, но в форме отражения вещей» (там же. С. 223; 240). На второй, перцептивной, стадии психогенеза «окружающая действительность отражается животным в форме более или менее расчленённых образов отдельных вещей» (там же. С. 241).
Очевидно, следует согласиться с К. Э. Фабри, который возразил А. Н. Леонтьеву в том, что перцептивной, целостной, психикой обладают только наземные позвоночные. Опираясь на более современные наблюдения, К. Э. Фабри расширил область перцептивной психики за счёт рыб, а также высших беспозвоночных – моллюсков, ракообразных, высших насекомых и др. (Фабри К. Э. Научное наследие А. Н. Леонтьева и вопросы эволюции психики // А. Н. Леонтьев и современная психология. М.: МГУ, 1983. С. 112–113). А. Н. Леонтьев принижал перцептивные возможности животных за счёт преувеличения роли элементарной сенсорной психики, которую он приписывал по существу всем животным, кроме высших позвоночных, начиная с наземных.
Развитие перцептивной психики А. Н. Леонтьев в первую очередь связывал с совершенствованием дистантных органов чувств – зрения и слуха. Это совершенствование позволило животным подняться на новую ступень их психической эволюции, которая характеризуется освоением ими новой формы психического отражения – представлений. Представления и есть целостный образ предмета в сознании.
3. Стадия интеллекта
«Психика большинства млекопитающих животных, – писал А. Н. Леонтьев, – остаётся на стадии перцептивной психики, однако наиболее высокоорганизованные из них поднимаются ещё на одну ступень развития» (Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. М.: МГУ, 1981. С. 249). Эту новую ступень психического развития животных он назвал стадией интеллекта и стал приписывать её по преимуществу человекообразным обезьянам. Очевидно, и здесь был прав К. Э. Фабри, возражая А. Н. Леонтьеву в том, что интеллектом наделены только человекообразные обезьяны. Им обладают и другие животные, если судить о наличии интеллекта у животных и людей по их способности оперировать понятиями, т. е. обобщёнными представлениями – скажем, о дереве вообще, о собаке вообще и т. д. Интеллектуальные способности животных и до сих пор недооцениваются в зоопсихологии.
А. Н. Леонтьев видел проявление интеллекта у обезьян в первую очередь в их способности к самостоятельному научению использовать предметы, оказавшиеся рядом, в качестве орудий. Так, обезьяны научаются пользоваться палкой, чтобы с её помощью добраться до пищи. Они способны также использовать для этой цели ящики, складывая их друг на друга и т. д.
Отношение обезьян к подобным орудиям отличается от человеческого: «Когда в руках обезьяны палка выполнила свою функцию, она снова превращается для неё в безразличный предмет. Поэтому животные не хранят своих “орудий”, не передают их из поколения в поколение. Они, следовательно, не способны выполнять той, по выражению Дж. Бернала, “аккумулирующей” функции, которая свойственная культуре» (Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. М.: МГУ, 1981. С. 418–419).
4. Стадия человеческого сознания
«Итак, – писал А. Н. Леонтьев, – интеллектуальное поведение, которое свойственно высшим млекопитающим и которое достигает особенно высокого развития у человекообразных обезьян, представляет собой ту верхнюю границу развития психики, за которой начинается история развития уже совсем другого, нового типа, свойственная только человеку, – история развития человеческого сознания» (там же. С. 260–261).
Три предшествующие стадии психической эволюции – элементарной сенсорной психики, перцептивной и интеллектуальной – А. Н. Леонтьев квалифицировал как докультурные (а следовательно, как дочеловеческие). В качестве ведущего фактора психической эволюции человека он рассматривал фактор культуры. Вот почему его картину психической эволюции следует расценивать как культурологическую.
Вот какой обобщенный образ культуры А. Н. Леонтьев давал в своём основном труде: «В своей деятельности люди не просто приспосабливаются к природе. Они изменяют её в соответствии со своими развивающимися потребностями. Они создают предметы, способные удовлетворить их потребности, и средства для производства этих предметов – орудия, а затем и сложнейшие машины. Они строят жилища, производят одежду и другие материальные ценности. Вместе с успехами в производстве материальных благ развивается и духовная культура людей; обогащаются их знания об окружающем мире и о самих себе, развивается наука и искусство» (там же. С. 414).
В своей психической эволюции человек сумел так существенно оторваться от животных по той причине, что он стал создавать продукты материальной и духовной культуры. Стремление к их улучшению выступало в истории людей в качестве стимула для развития их интеллекта, поскольку любой продукт культуры первоначально моделируется в сознании его творца. Развитие культуры, таким образом, есть главный фактор развития человеческого мышления.
Основным показателем интеллектуального развития у человека является его способность к творчеству, благодаря которой и создаются новые культурные ценности. Однако прежде, чем кто-либо овладеет этой способностью, он должен освоить уже имеющиеся культурные достижения. Процесс их освоения есть не что иное, как процесс очеловечения.
А. Н. Леонтьев писал: «…каждый отдельный человек учится быть человеком. Чтобы жить в обществе, ему недостаточно того, что ему даёт природа при его рождении. Он должен ещё овладеть тем, что было достигнуто в процессе исторического развития человеческого общества. Перед человеком целый океан богатств, веками накопленных бесчисленными поколениями людей – единственных существ, населяющих нашу планету, которые являются созидателями. Человеческие поколения умирают и сменяют друг друга, но созданное ими переходит к следующим поколениям, которые в своих трудах и борьбе умножают и совершенствуют переданные им богатства – несут дальше эстафету человечества» (там же. С. 417).
Ещё более выразительно об очеловечении А. Н. Леонтьев писал так: «Человек не рождается наделённым историческими достижениями человечества. Достижения развития человеческих поколений воплощены не в нём, не в его природных задатках, а в окружающем его мире – в великих творениях человеческой культуры. Только в результате процесса присвоения человеком этих достижений, осуществляется в ходе его жизни, он приобретает подлинно человеческие свойства и способности; процесс этот как бы ставит его на плечи предшествующих поколений и высоко возносит над всем животным миром» (там же. С. 434).
Усвоить достижения предшествующей культуры и внести в неё свой вклад – вот в чём видел А. Н. Леонтьев смысл человеческой жизни. Вот почему он беспокоился о создании общественных условий, позволяющих успешно реализовывать этот смысл в жизни каждого человека. Великий психолог не сомневался в эволюционных возможностях человека, но он видел проблему в создании условий, позволяющих реализовывать эти возможности.
А. Н. Леонтьев писал: «Итак, действительная проблема заключается не в способности или неспособности людей овладеть достижениями человеческой культуры, сделать их достижениями своей личности и внести в них свой вклад. Действительная проблема заключается в том, чтобы каждый человек и все люди, все народы получили практическую возможность вступить на путь ничем не ограниченного развития. Это и есть та великая цель, которая стоит сейчас перед прогрессивным человечеством. Цель эта достижима. Но она достижима в условиях, которые способны реально освободить людей от бремени материальной нужды, уничтожить уродующее их разделение умственного и физического труда, создать систему воспитания, обеспечивающую всестороннее и гармоническое их развитие, дающее возможность каждому творчески участвовать во всех проявлениях человеческой жизни» (там же. С. 435).
Сердце обливается кровью, когда читаешь эти золотые слова! Уж очень далеко отодвинули от нас великую цель, о которой говорил Алексей Николаевич Леонтьев.
2. 3. Культурологические Подходы
Эволюционная этика – наука об эволюционном смысле жизни. Но этот смысл можно назвать также культурогеническим (очеловечивающим), поскольку высший смысл человеческой жизни заключается в максимальном участии человека в развитии культуры.
В XIX–XX веках сложилось пять ведущих подходов к объяснению развития культуры – эволюционизм, диффузионизм, критицизм, экзистенциализм и социал-дарвинизм.
2. 3. 1. Эволюционизм (Ю. Липперт, Э. Тейлор, Л. Морган, Э. Хан, К. Бюхер, Д. Фрэзер)
Кэволюционой школе в культурологии второй половины XIX в. относят целую плеяду замечательных учёных – Герберта Спенсера, Теодора Вайца, Шарля Летурно и мн. др. (Токарев С. А. История зарубежной этнографии. М.: Высшая школа. С. 46). Все они восприняли эволюционый дух своей эпохи, во многом обязанный своим существованием Чарлзу Дарвину. Они перенесли дарвиновский эволюционизм на историю культуры.
О масштабности культурологических исследований, проделанных эволюционистами в это время, можно судить хотя бы по перечню книг, написанных французским историком Шарлем Летурно (1831–1902). Вот лишь некоторые книги из этого перечня: «Эволюция морали» (1884), «Эволюция брака и семьи» (1888), «Эволюция собственности» (1889), «Политическая эволюция» (1890), «Юридическая эволюция у различных человеческих рас» (1891), «Религиозная эволюция» (1892), «Эволюция рабства» (1897) и ряд других. К сожалению, Ш. Летурно не обладал системным мышлением. Вот почему его «эволюции» изображаются совершенно изолированно друг от друга. Его картина культуры, таким образом, рассыпается на отдельные фрагменты, не связанные между собою в единую систему. Понятие культуры у него не выступает в качестве связующего, системообразующего звена при описании истории культуры, хотя он и оперировал им.
Юлиус Липперт
Австрийскому учёному Юлиусу Липперту (1839–1909) в значительной мере удалось преодолеть асистемность в описании культурно-исторических явлений. Это объясняется тем, что он нашел категорию, позволяющую связать воедино разные сферы культуры. Речь идёт о категории труда.
Дело в том, что в понятие культуры входят не только продукты культуры – пища, одежда, жилище, религия, наука, искусство и т. д., но и деятельность их творцов. Эту деятельность чаще всего называют созидательной. Она начинается, как мы знаем, с моделирования продукта культуры в сознании его творца и осуществляется с помощью определённых действий с его стороны, возможности которых увеличиваются за счёт применения техники. Созидательную деятельность человека иначе называют трудом.
Категория труда выступает у Ю. Липперта в качестве основополагающей в его понимании культуры. Вот почему в своём основном труде – «История культуры» – он писал: «История культуры есть история того труда, который поднял человечество из низменного и бедственного состояния на занимаемую им теперь высоту» (Токарев С. А. История зарубежной этнографии. М.: Высшая школа, 1978. С. 47).
Этими словами он начинает свою книгу, а ниже он добавляет к труду и его причину – нужду, имея при этом в виду в первую очередь нужду в пище, одежде и жилище, т. е. материальную нужду: «Во всех этих явлениях, как крупных, так и мелких, мы видим один и тот же могущественный рычаг – нужду и благотворный труд, побеждающий её. Этот двигатель проходит через всю историю культуры от начала до конца» (там же. С. 48)
Нужда в пище занимала у первобытных людей приоритетное положение. Вот почему Ю. Липперт начинает свою историю культуры с труда, направленного на добывание пищи. Потребность в пище в первую очередь заставляла древних людей расселяться по земной поверхности, что плодотворно в конечном счёте сказалось на их культурной эволюции.
Ю. Липперт писал: «Постоянное упражнение в достижении новых целей увеличивало силу просветляющего мышления (речь идёт о влиянии культуры на психическую эволюцию человека. – В. Д.), и мысль человека одержала верх над враждебными силами природы, в борьбе с которыми погибли многие виды животного царства. Проследить этот процесс в его подробностях и есть задача истории культуры» (там же. С. 48).
Эдвард Тейлор
Самыми крупными представителями эволюционной школы в культурологии второй половины XIX в. стали англичанин Эдвард Тейлор (1832–1917) и американец Льюис Морган (1818–1881).
Основной труд Э. Тейлора – «Первобытная культура» (1871), который дважды выходил в русском переводе – в 1872 г. и в 1939. Как последовательный эволюционист, его автор настаивал на преобладании прогресса в культурогенезе. Но вот что любопытно: он видел в истории культуры не только эволюционные (прогрессивные), но и инволюционные (деградационные, вырожденческие) процессы. В первом случае мы имеем дело с возрастающим усовершенствованием тех или иных продуктов культуры, а во втором – с их ухудшением или утратой.
Э. Тейлор замечал по второму поводу: «Необходимо ведь сначала достигнуть какого-то уровня культуры, чтобы получить возможность утратить его» (там же. С. 41–42). Выходит, на инволюционные процессы в живой природе впервые обратил пристальное внимание Ч. Дарвин, в психике – Ч. Ломброзо и в культуре – Э. Тейлор.
Как и другие эволюционисты, Э. Тейлор не мог не испытать на себе влияния Ч. Дарвина: явления культуры он уподоблял растениям и животным. Подобное уподобление в языкознании этого времени делал Август Шляйхер: он уподоблял их языкам.
Э. Тейлор перенёс дарвиновское понятие вида в культурологию. Он писал: «Для этнографа лук и стрела составляют вид» (там же. С. 42). Пользуясь понятием вида, он уточнял: «Не может быть и сомнения в возможности развития одних видов орудий, нравов или верований из других, так как развитие в культуре доказывается общеизвестными данными» (там же).
Учёный был убеждён, что история любого продукта культуры может быть представлена в виде эволюционной цепочки, в начале которой расположен его наиболее примитивный вариант, а в конце – наиболее совершенный.
Э. Тейлор в своих работах сделал набросок эволюционной картины культуры главным образом в отношении явлений духовной культуры и в первую очередь – в отношении религии. Он разработал анимистическую теорию религии.
Анимизм, по Э. Тейлору, – вера в духовные существа, основанная на убеждении, что душа способна покидать тело. Анимизм, с его точки зрения, возник у первобытных людей из их неспособности научно объяснить такие явления, как обморок или смерть. Наблюдая за ними, они приходили к выводу о том, что душа способна отделяться от тела. На новом витке их религиозного развития первобытные люди стали превращать её в то или иное духовное существо, наделённое сверхъестетсвенными (божествнными) способностями. Так анимизм приводил к развитой религии.
Льюис Морган
Основной труд Л. Моргана– «Древнее общество» (1877), который, как и основной труд Э. Тейлора, дважды издавался в русском переводе – в 1898 г. и в 1934. Труд Л. Моргана, о котором идёт речь, – высшее достижение эволюционной школы в культурологии второй половины XIX в.
Опираясь на абстрактную схему Д. Фергюссона, подразделяющую историю человечества на три эпохи – дикость, варварство и цивилизацию, Л. Морган сосредоточил своё внимание на конкретизации двух первых, каждую из которых он делил на три ступени – низшую, среднюю и высшую.
Дикость. Низшая ступень. Детство человечества. Первые люди живут ещё в тропических и субтропических лесах. Пищу добывают собирательством – плодов, орехов и т. д. Главное достижение этого периода – возникновение членораздельной речи.
Дикость. Средняя ступень. Первобытные люди начинают активно расселяться по земной поверхности. Качество пищи у них явно улучшается за счёт главного достижения этого периода – применения огня. Появляется рыбная и мясная пища. Люди активно используют в своей трудовой деятельности примитивные каменные орудия. Этому периоду Л. Морган приписал самую страшную дикость первобытных людей – людоедство.
Дикость. Высшая ступень. Начальный пункт этого периода – изобретение лука и стрелы, что позволило людям сделать дичь постоянным источником пищи. Лук для дикости был тем же достижением, что железный меч для варварства и огнестрельное оружие для цивилизации. Появляются первые деревянные постройки, ручное ткачество, плетёные корзины и т. п. продукты материальной культуры.
Варварство. Низшая ступень. В качестве отправного пункта этого периода (т. е. перехода от дикости к варварству) Л. Морган рассматривал изобретение гончарного ремесла. Главное достижение этого времени он видел в приручении животных, а также и освоении растениеводства, однако животноводство и растениеводство в это время лишь возникают, их дальнейшее развитие становится более активным в новый период.
Варварство. Средняя ступень. Л. Морган считал, что на Западе (т. е. в западном полушарии, в Америке) растениеводство опережало в своём развитии животноводство, тогда как на Востоке – наоборот. Вот почему у семитов и арийцев (индоевропейцев) был период пастушеской жизни. Между прочим, Л. Морган считал, что своим культурным опережением других народов арийцы и семиты во многом обязаны обильной молочной и мясной пище.
Варварство. Высшая ступень. Конец «доисторической» (т. е. дописьменной) культуры, поскольку переход в цивилизацию Л. Морган связывал с изобретением письма, которое позволило, в частности, фиксировать на писчих материалах произведения художественного творчества. Главные достижения высшей ступени варварства учёный выводил в первую очередь из освоения в это время железного производства. Благодаря железному плугу и использованию скота в качестве тягловой силы приобретает расцвет пашенное земледелие. Наиболее процветающий вариант данной ступени варварства мы находим в описаниях Гомера – в особенности, в «Илиаде». Вот лишь некоторые культурные приметы этого периода: кузнечный мех, ручная мельница, изготовление растительного масла, виноделие, боевая колесница, постройка судов, создание мифологии, зачатки архитектуры и т. д.
Если говорить очень обобщенно, то эпоха дикости характеризуется присвоением готовых продуктов природы со стороны первобытных людей, эпоха варварства – введением людьми животноводства и растениеводства и эпоха цивилизации – развитием промышленности и духовной культуры.
После Л. Моргана эволюционизм в культурологии начинает утрачивать былую мощь, что связано, в частности, с наступлением на него со стороны диффузионистов, о которых речь впереди. Среди эволюционистов конца XIX в., вместе с тем, выделяются ещё два крупных учёных – немец Эдуард Хан (1856–1928) и его соотечественник Карл Бюхер (1847–1930).
Эдуард Хан
В книге «Домашние животные и их отношение к хозяйству человека» (1896) Э. Хан подверг резкой критике ходячее мнение о том, что развитие материальной культуры шло в следующем направлении: охота – скотоводство – земледелие. Это мнение стало особенно популярным после работ Фридриха Листа. С точки зрения их автора, все народы начинали своё хозяйствование с охоты и рыболовства. Занятия охотой привели их к приручению животных к скотоводству. Занятия скотоводством в свою очередь привело их к земледелию.
В противовес Ф. Листу Э. Хан, как и Л. Морган, в качестве отправного пункта в развитии материальной культуры рассматривает собирательство, т. е. использование в качестве продуктов питания съедобных плодов растений. На второе место после «собирательного хозяйства» он поставил земледелие, которое первоначально появилось в «мотыжной» (ручной) форме, а затем – в «плужной». При плужном земледелии используется не только плуг, но и скот – в качестве тягловой силы, тогда как при мотыжном земледелии обработка земли производится вручную, хотя и с помощью мотыги.
Занятия земледелием (в первую очередь мотыжным) позволило людям приобрести достаточную хозяйственную устойчивость. Вот почему они смогли перейти к новым формам хозяйствования – охоте и рыбной ловле. Последние имели вспомогательное значение по отношению к земледелию. Более того, земледельческий образ жизни подготовил почву и для животноводства. Правда, Э. Хан полагал, что ему предшествовало приручение диких животных по религиозным мотивам, связанным с обожествлением древними народами тех или иных животных.
Как бы то ни было, но Э. Хан выстроил такую схему развития хозяйства: собирательство – мотыжное земледелие – охота и рыболовство – животноводство – плужное земледелие. Эта схема, бесспорно, сохраняет в целом свою актуальность до сих пор. Э. Хан, таким образом, уничтожил умозрительную теорию «трёх ступеней» (охота – скотоводство – земледелие) ещё в конце XIX в., хотя в обыденном сознании эта теория и до сих пор жива.
Карл Бюхер
Главный труд К. Бюхера – «Возникновение народноего хозяйства» (1893). Развитие хозяйственной (материально-культурной) жизни, по мнению его автора, прошло три стадии – домашнего хозяйства, городского и народного. В основу периодизации материальной культуры он положил, по его собственному выражению, «длину того пути, который должен пройти предмет от производителя к потребителю» (указ. кн. С. А. Токарева. С. 119). Далее он пояснял: «На ступени домашнего хозяйства каждый предмет потребляется в том хозяйстве, в котором он произведён; на ступени городского хозяйства он из производящего хозяйства непосредственно поступает в потребляющее хозяйство; на ступени народного хозяйства он как при возникновении своём, так и в готовом виде проходит через ряд хозяйств. На протяжении всего развития расстояние между производством и потреблением всё увеличивается» (там же. С. 119).
К. Бюхер относил к первой стадии хозяйствования те народы, для которых характерен родовой строй – сначала матриархальный, а затем и патриархальный. В конечном счёте стадия домашнего хозяйства, по К. Бюхеру, охватывает античность и раннее средневековье. Вторая стадия хозяйствования охватывает развитие городского производства в позднем средневековье. Третья же стадия хозяйствования охватывает всё остальное время и продолжается в настоящее время.
Но у К. Бюхера были и другие работы – в частности – «Работа и ритм» (1896), где он решает уже проблемы развития не материальной, а духовной культуры – в первую очередь искусства. По его теории, первые стихи, первые песни и первые танцы возникли из тех ритмических движений, которые люди совершали в своей деятельности для облегчения своего труда. Очевидно, в теории К. Бюхера имеется рациональное зерно, если иметь в виду тот факт, что духовная культура в целом возникла на основе материальной. Но у К. Бюхера ритмическое искусство чересчур прямолинейно выводится из трудовых ритмов. Очевидно, не только ритмическому труду обязано своим происхождением искусство в целом и ритмическое в частности. Очевидно, связь между материальной культурой и духовной следует понимать в первую очередь в том смысле, что первая создавала условия для появления и развития второй. Голодному человеку не до духовной культуры.
Мы видели, что Ю. Липперт, Л. Морган, Э. Хан и К. Бюхер (по преимуществу) занимались главным образом генезисом материальной культуры. Вместе с тем, Л. Морган вводит в свою теорию культурогенеза глоттогенез (происхождение языка), Э. Тейлор – теогенез (происхождение веры в бога), К. Бюхер – артогенез (происхождение искусства). Д. Фрезер был одним из первых эволюционистов, который заговорил об сциенциогенезе (происхождении науки).
Джеймс Фрэзер
Английский религиевед Джеймс Фрэзер (1854–1941) прославился своей многотомной книгой «Золотая ветвь», которая разрослась из её однотомного варианта, опубликованного в 1890 г. Д. Фрэзер поставил вопрос о периодизации не материальной культуры, а духовной. Он поделил историю духовной культуры на три стадии – магии, религии и науки. Другие сферы духовной культуры, таким образом, он оставил за пределами своей генетической теории духовной культуры.
Первая стадия духовного развития людей, по Д. Фрэзеру, была дорелигиозной. В это время первобытные люди еще не верили в богов. Вместе с тем, с помощью магических обрядов они, по их убеждениям, могли повлиять на различные явления природы – вызвать дождь, прекратить бурю и т. д.
Вторая стадия духовного развития человечества, по Д. Фрэзеру, есть время, когда люди создают религию, основным атрибутом которой является вера в чудо. Религия, таким образом, с его точки зрения, возникла потому, что магическая стадия в человеческой истории разуверила людей в их могуществе – в способности повлиять на явления природы с помощью магических ритуалов. Они обратились поэтому к богу. Но и в могуществе последнего человек со временем разуверился. Он понял, что миром управляет не бог, им управляют законы природы, доступные только научному знанию.
Наука, таким образом, – высшая форма духовного развития. Мы с радостью согласимся с Д. Фрэзером, хотя и понимаем, что сама по себе наука не справится со своей лидирующей ролью в духовной культуре, если она не будет иметь поддержки со стороны других сфер культуры.
Итак, имена культурологов-эволюционистов XIX в. – Ю. Липперта, Э. Тейлора, Л. Моргана, Э. Хана, К. Бюхера, Д. Фрэзера и др. должны быть вписаны в историю культурологии золотыми буквами. Они сделали весьма красочный набросок эволюционной картины культуры, основные черты которой не утратили своей актуальности до сих пор. В этом наброске больше красок потрачено на изображение генезиса материальной культуры, чем духовной, что совпадает с объективным ходом культурогенеза – от материальной культуры к духовной. В любом случае они стремились стоять на фундаментальной, крепкой почве – почве эволюции.
2. 3. 2. Диффузионизм (Л. Фробениус, Ф. Гребнер, В. Шмидт)
Эволюционисты исходили в своих работах по преимуществу из единства человеческой природы, из единства культуры, проявляющегося в том, что разные народы – независимо друг от друга – проходят в своём культурном развитии через одни и те же эволюционные ступени, хотя одни из них в этом отношении могут опережать другие.
На рубеже XIX–XX вв. в Европе сложился диффузионизм – культурологическое направление, представители которого стали делать упор не на внутреннее развитие культуры у отдельных народов, а на распространение (растекание, диффузию) тех или иных явлений культуры, первоначально возникших у того или иного отдельного народа, среди других народов. Подобная диффузия культуры становится возможной благодаря международным контактам, позволяющим одному народу заимствовать культуру у других народов.
Фридрих Ратцель
Наибольшую известность диффузионизм приобрел в Германии. Его основателем стал Фридрих Ратцель (1844–1904). В книге «Антропогеография» он стал связывать культурное своеобразие того или иного народа в первую очередь с географическими условиями его жизни. Но со временем, считал он, это своеобразие у любого народа всё больше и больше утрачивается, сглаживается, что обусловлено культурной диффузией. В качестве различных форм международных контактов, обеспечивающих культурные заимствования, при этом он рассматривал переселение народов, торговлю, развитие транспорта и т. п.
Ф. Ратцель отмечал, что разные предметы культуры («этнографические предметы») в разной мере поддаются заимствованию. Довольно легко, например, заимствуется одежда, но с трудом – достижения промышленности. Географические передвижения «этнографических предметов», с его точки зрения, составляют объект особой науки – антропогеографии. В названии этой науки представлен не только географический фактор культуры, но и человеческий. Он писал: «Следует считать основным положением антропогеографии, что распространение этнографических предметов может совершаться только через человека, с ним, при нём, особенно же в нём, т. е. в его душе, как зародыш идеи формы. Этнографический предмет передвигается вместе с его носителем» (Токарев С. А. История зарубежной этнографии». М.: Высшая школа, 1978. С. 136).
Ф. Ратцель положил начало тому разделу внешней культурологии, который называется физической культурологией и который исследует проблемы, связанные с отношениями между физической природой и культурой.[2]
Под влиянием Ф. Ратцеля в Германии сложилось три школы диффузионизма – Л. Фробениуса, Ф. Гребнера и В. Шмидта.
Леон Фробениус
При написании своего основного труда – «Происхождение африканских культур» (1898) Леон Фробениус (1873–1928) испытывал влияние не только со стороны Ф. Ратцеля, но и со стороны Ч. Дарвина. Культуру он стал уподоблять живому организму. Вот почему его диффузионизм приобрел биологическую форму. Он писал: «Я утверждаю, что каждая культура развивается как живые организмы, она, следовательно, переживает рождение, детство, зрелый возраст и старость и, наконец, умирает» (там же. С. 139).
Сравнение культуры с организмом позволило Л. Фробениусу подойти к осмыслению культуры с биологической точки зрения. Так, всякая культура, с его точки зрения, нуждается, как животное или растение, в питании. Оно обеспечивается рыболовством, скотоводством, охотой, земледелием и т. д. Кроме того, культура, как растение, может пересаживаться с одной почвы на другую. «Пересаживание» культуры составляет основу биологического диффузионизма Л. Фробениуса, поскольку именно благодаря ему рождаются новые культуры.
Свою теорию Л. Фробениус демонстрировал, с одной стороны, на материале африканских культур, а с другой, европейских. В Африке, с точки зрения её автора, получили развитие два типа культуры – теллурическо-эфиопско-патриархальная (короче – теллурическая) и хтоническо-хамито-матриархальная (хтоническая).
Теллурическая культура зародилась в зоне саванн, а хтоническая – в Сахаре и Северной Африке. Первая растёт вверх, а другая – вниз. Представители первой культуры строят жилища, тянущиеся к небу, создают мифы, где небесные персонажи преобладают над подземными, стремятся повышать свой социальный статус и т. д. Представители хтонической культуры, напротив, строят подземные жилища, в их мифологии преобладают подземные персонажи, они стремятся жить своим мирком, не хватая звезд с неба и т. д. Словом, первые тянутся к свету, а другие – к тьме. Или по-другому: первые тянутся к солнцу, а другие – к земле.
В результате диффузного взаимопроникновения описанных культур друг в друга появилась высокая (европейская) культура. Эта культура, таким образом, унаследовала свет и тьму, стремление к солнцу и стремление к земле. В ней сосуществует бог и дьявол, добро и зло, красота и безобразие и т. д. Всё дело лишь в том, чтобы теллурическое начало в ней преобладало над хтоническим.
Вильгельм Виндельбанд и Генрих Риккерт
Диффузионисты разошлись с эволюционистами в первую очередь потому, что их не устраивало стремление эволюционистов, направленное на поиск внутренних закономерностей в культурогенезе. Хорошим подспорьем в их позиции оказались теории известных немецких философов-неокантианцев Вильгельма Виндельбанда (1848–1915) и Генриха Риккерта (1868–1937), которые отрицали закономерности в истории культуры.
Для работ названных философов характерна общекультурологическая широта. Впервые в общей культурологии (философия культуры) они стали всерьёз обсуждать проблему специфики наук о культуре в их противопоставлении с науками о природе. В понимании культуры как таковой (но не в задачах наук о ней) они шли по верному пути. Так, В. Виндельбанд писал: «…всякая культурная работа есть сознательное творчество жизни» (Культурология. ХХ век. Антология / Под ред. С. Я. Левита. М.: Юрист, 1995. С. 66).
Как видим, в понятии «культура» здесь отмечена её созидательно-творческая суть. В продукты культурной деятельности человека В. Виндельбанд включал как продукты материальной культуры, так и продукты духовной культуры – религию, науку, искусство, нравственность, политику («право»). Но в целом мы не найдем у него строгого представления о строении культуры. Отсутствует чёткость в подобном представлении и у его ученика.
В известной работе «Науки о природе и науки о культуре» (1910) Г. Риккерт включал в культуру – «религию, церковь, право, государство, нравственность, науку, язык, литературу, искусство, хозяйство, а также необходимые для его функционирования технические средства» (в частности – «орудия производства сельского хозяйства» (там же. С. 71). Непонятно, почему у него церковь отделена от религии, государство – от права, литература – от искусства.
У В. Виндельбанда мы находим и первые подступы к решению вопроса о выработке у людей единого мировоззрения, поскольку современная культура, с его точки зрения, расщеплена на множество типов не связанных между собою точек зрения на мир. Здесь вырисовываются мировоззрения, закрепляющиеся в мифологических, научных, художественных и т. п. картинах мира. В. Виндельбанд писал: «Это самосознание творческого синтеза должно быть центральным пунктом для выработки мировоззрения, которого так жаждет наша бесконечно многогранная и вместе с тем столь расщеплённая культура и которое абсолютно необходимо ей… Такое мировоззрение, однако, нельзя составить путём простого сложения отдельных знаний, интересов, деятельности, учреждений, творений и стремлений. Для этого современная культура слишком широка и многообразна» (там же. С. 65).
В. Виндельбанд пытался найти основания для выработки единого мировоззрения в философии И. Канта. Но он не заметил эволюционизма. Универсально-эволюционное мировоззрение позволяет увидеть единство в разных частных точках зрения на мир – религиозной, научной и т. д. Это мировоззрение не разрушает дискретности (расчленённости) культуры, но оно позволяет найти то общее, что объединяет все типы картин мира. Это общее есть не что иное, как отражение в сознании человека, хотя и с разных точек зрения, одного и того же объекта – эволюционирующего мира. Последний и составляет объективную основу для единого мировоззрения, о выработке которого беспокоился В. Виндельбанд.
Вслед за своим учителем Г. Риккерт противопоставлял науки о культуре («исторические») наукам о природе («естественным»). Вот как он пояснял разницу между их объектами – природой и культурой: «Продукты природы – то, что свободно произрастает из земли. Продукты же культуры производит поле, которое человек вспахал и засеял. Следовательно, природа есть совокупность всего того, что возникло само собой. Противоположностью природе в этом смысле является культура, как то, что или непосредственно создано человеком, действующим сообразно оценённым им целям, или оно уже существовало раньше, по крайней мере, сознательно взлелеяно им ради связанной им ценности» (там же. С. 69). Словом, продукты культуры, в отличие от продуктов природы, создаются творческими усилиями человека. С этим нельзя не согласиться.
Но Г. Риккерт, как и В. Виндельбанд, увидел главную разницу между естественными и «историческими» (т. е. культурологическими) науками не в специфике их объектов – природе и культуре, а в специфике методов, с помощью которых они исследуются. Первые, с их точки зрения, пользуются генерализирующим (номотетическим) методом исследования, а другие – индивидуализирующим (идеографическим). С помощью первого в природе обнаруживаются общие закономерности (законы), а с помощью другого лишь описываются индивидуальные культурные ценности.
Вот как Г. Риккерт писал об естественных науках: «Они видят в своих объектах бытие и бытование, свободное от всякого отнесения к ценности, цель их – изучить общие абстрактные отношения, по возможности – законы… Они отвлекаются от всего индивидуального, как несущественного.» (там же. С. 90). «Исторические» же науки, напротив, сосредоточивают своё внимание на индивидуальных особенностях продуктов культуры и их производителей. Словом, естественные науки обобщают свои наблюдения до определённых законов, а культурологические ограничивают себя описанием индивидуальных событий в истории культуры.
С подобным пониманием задач естественных и культурологических наук никак нельзя согласиться. Да, действительно, в культурологических науках часто приходится иметь дело с индивидуальными объектами – например, с конкретными художниками в истории искусства или с конкретными политиками в истории политики. Но отсюда не следует, что культурологические науки должны отказаться от выведения общих закономерностей, имеющихся в культуре, в её структуре и эволюции.
Интерпретация культурологических наук, проведённая В. Виндельбандом и Г. Риккертом, не могла не прийтись по вкусу диффузионистам в их оппозиции эволюционистам, поскольку последние выявили общие закономерности, присущие разным культурам, а первые сосредоточили своё внимание на распространении тех или иных индивидуальных продуктов культуры от одного народа к другому, от одной культуры к другой.
Фриц Гребнер
Фриц Гребнер (1877–1934) – автор теории «культурных кругов». Под культурным кругом (культурой) он понимал определённый регион (ареал, область), границы которого могут не совпадать с государственной границей той или иной страны, но который характеризуется некоторым списком «культурных элементов». Так, в Австралии и Океании Ф. Гребнер насчитывал 8 культурных кругов: 1) тасманийский, 2) древнеавстралийский, 3) западнопапуасский, 4) восточнопапуасский, 5) меланизийский, 6) протополинезийский, 7) новополинезийский и 8) индонезийский.
Разные культуры, по теории Ф. Гребнера, накладываются друг на друга, подобно пересекающимся кругам. Это позволяет одной культуре заимствовать элементы другой.
Каждой культуре изначально свойствен строгий список некоторых отличительных признаков («культурных элементов»). Так, восточнопапуасская культура характеризуется такими элементами, как клубневое земледелие, сетевое рыболовство, дощатая лодка, хижина с двухскатной крышей, спиральное плетение корзин, тайные мужские союзы, пляски в масках, культ черепов, лунная мифология, круговой орнамент, сигнальный барабан, одноступные музыкальные инструменты, звучащие дощечки и т. п.
Ф. Гребнер был наиболее последовательным риккертианцем. Он расценивал каждый «культурный элемент» как уникальный (единичный, индивидуальный) в своём происхождении, т. е. считал, что любой такой элемент не мог возникнуть в разное время и в разных местах в разных культурах. С его точки зрения, наличие подобных элементов в разных культурах объясняется культурной диффузией, но не более того.
Риккертовский индивидуализирующий метод завёл Ф. Гребнера в тупик. Это объясняется тем, что нельзя рассматривать «культурные элементы» как уникальные по происхождению. На самом деле подобные виды одежды, жилья, орудий труда и т. д. сплошь и рядом создаются разными народами не только благодаря культурной диффузии, но и совершенно независимо друг от друга. Неужели, например, сетевое рыболовство перешло в Европу от восточных папуасов? По логике Ф. Гребнера выходит именно так. От них же к нам пришла и дощатая лодка… Вот до каких абсурдных утверждений можно дойти, если пытаться насильственно избавлять разные культуры от общих закономерностей.
Вильгельм Шмидт
Вильгельм Шмидт (1868–1954) придал теории Ф. Гребнера всемирно-исторический характер. Он объединил «культурные круги» в четыре группы, охватив ими все народы и расположив в исторический последовательности по мере их культурного развития. Первую группу культур составили первобытные культуры, вторую – первичные, третью – вторичные и четвёртую – третичные.
В состав первобытных культур у В. Шмидта вошли четыре типа культуры – пигмейская, австралийско-океаническая и арктическая, где оказались предки народов Севера – эскимосы, чукчи и т. п. В эту же группу вошла культура бумеранга, куда попали соответственные австралийские и африканские племена. В первичной группе «культурных кругов» оказались предки урало-алтайцев, индоевропейцев и семито-хамитов, во вторичной группе – предки народов Индии, Полинезии, Западной Азии и Южной Европы, в третичной группе – высокие культуры современных народов Европы и Азии.
Попытка эволюционизировать теорию «культурных кругов» Ф. Гребнера у В. Шмидта в конечном счёте не удалось. Его культурно-историческая схема оказалась искусственной. Заслуживает, однако, высокой оценки сам факт сближения диффузионизма в его лице с классическим эволюционизмом. Диффузионизм и эволюционизм могли бы оказаться не в отношениях противоборства, а в отношениях гармонического сочетания, хотя в реальной истории культурологии последнего и не произошло. На самом же деле эволюционный подход к культурным явлениям не исключает рассмотрения фактов культурной диффузии. Заимствованные элементы культуры вливаются в число её исконных (для данного народа) элементов, однако те и другие подчиняются единым закономерностям эволюционного развития.
2. 3. 3. Критицизм (Г. Зиммель, О. Шпенглер, А. Швейцер)
Из пяти картин культуры – эволюционной, диффузионистской, критицистской, экзистенциалистской и социал-дарвинистской – три принадлежат главным образом немецкой науке – диффузионистская, критицистская, экзистенциалистская.
Немецкой науке принадлежит, с нашей точки зрения, лидерство в культурологии. Это положение немецкие учёные заняли в культурологии неслучайно: они унаследовали концептуальную глубину своих теорий от великих философов-соотечественников – И. Канта, И. Гердера, И. Фихте, Ф. Шеллинга, Г. Гегеля, Л. Фейербаха, К. Маркса, Ф. Энгельса и др. Вот почему немецкие теории культуры обладают, как правило, глубокой философской концептуальностью. Научных теорий вообще много, но поистине концептуальных – весьма ограниченное количество. Вот почему в качестве главного критерия для отбора теорий, претендующих на изображение в них картины культуры, следует рассматривать наличие в этих теориях оригинальной концепции, глубокой и актуальной.
Философский взгляд на культуру был характерен, в частности, для критицизма и экзистенциализма. Его представители стремились исследовать культуру на фоне всей действительности, всего мирового целого, т. е. с позиций общей культурологии или философии культуры.
Теоретическое начало критическому направлению в немецкой культурологии было положено в первую очередь Георгом Зиммелем. Среди других представителей этого направления наибольшую известность получили Освальд Шпенглер и Альберт Швейцер.
Философский взгляд на культуру не мешал им, как и экзистенциалистам, видеть конфликты (трагические противоречия, культурное разложение и т. п.) в современном обществе, что и побуждало их становиться на критические позиции по отношению к нему. Отсюда условное обозначение данного направления – критицизм.
Георг Зиммель
В основе культурологической концепции Георга Зиммеля (1858–1918) лежит противопоставление жизни и культуры. В этом противопоставлении и кроется суть этой концепции. В противостоянии жизни и культуры её автор видел источник всех конфликтов, происходящих в обществе. Термин «жизнь» при этом он понимал в самом широком смысле – не только в биологическом, но и в физическом, психологическом и культурологическом. Из широкого понимания жизни вытекал её отличительной признак – отсутствие формы (бесформенность). Напротив, культура – в разные периоды своей истории – существует в определённых формах. Одни её формы были в античности, другие – в Средние века и т. д.
Во все времена, вместе с тем, жизнь, с одной стороны, должна реализовываться в рамках соответственных культурноисторических форм, а с другой, эти рамки ей время от времени становятся тесными. Обострение борьбы между бесформенной жизнью и формализованной культурой происходит тогда, когда старые формы культуры начинают отставать от требований жизни.
Отношения между жизнью и культурой во времени выглядит у Г. Зиммеля в целом следующим образом. До определённого момента между ними устанавливается относительное единство (равновесие). Это единство между жизнью и культурой существует во времена, когда созданные культурноисторические формы более или менее соответствуют требованиям жизни. Но постепенно эти формы вступают в противоречие с обновляющейся жизнью, что свидетельствует об их старении. В подобные периоды в обществе созревают условия для различных конфликтов, вытекающих из борьбы между новыми требованиями жизни и старыми формами их удовлетворения в культуре.
Вот как об этом писал сам Г. Зиммель: «О культуре мы можем говорить, конечно, только тогда, когда творческая стихия жизни создаст известные явления, находя в них формы своего воплощения. Явления эти принимают в себя набегающие волны жизненной стихии, придавая им содержание и форму, порядок и предоставляя им известный простор. Таковы общественное устройство, художественные произведения, религии, научные познания и техника и т. п… Но жизнь быстро выходит из этих поставленных ей пределов, не находя в них достаточного простора. В момент творчества они (явления культуры. – В. Д.), быть может, ответствуют жизни, но по мере раскрытия последней постепенно становятся ей чуждыми и, даже больше того, враждебными» (Культурология. ХХ век. Антология / Под ред. С. Я. Левита. – М.: Юрист, 1995. С. 378).
Борьба обновляющейся жизни с устаревающими культурно-историческими формами её реализации осуществляется как в области материальной культуры (экономики), так и в области духовной культуры (духовности). Так, по поводу борьбы жизни с экономическими формами её существования Г. Зиммель писал: «Рабовладельчество и цеховой порядок, крепостничество и другие формы рабочей организации в исторический момент своего образования были выражением того, к чему стремится данная эпоха и что для неё достижимо. Но поскольку они подвергались нормированию и ограничению, постоянно усиливался рост хозяйственных сил, которые, не вмещаясь в поставленные им пределы, свергали с себя, то в медленно протекающих, то бурных революциях, растущий гнёт застывших форм с целью заменить их другим способом производства, более соответствующим действительному соотношению сил. Сама жизнь – в данном случае в своей экономической структуре – с её бурным стремлением вперёд, с её изменчивостью и дифференциацией – единственный источник сил для всего движения» (там же. С. 379).
Особенно заметны, с точки зрения Г. Зиммеля, конфликты, происходящие между старыми и новыми культурными формами, в области духовной культуры – в частности, в области нравственности. Философ писал: «Моралисты, ценители старого доброго времени, люди строгого чувства стиля совершенно правы, жалуясь на всё растущую “бесформенность” современной жизни. Но они обыкновенно не замечают того, что происходит не только отмирание традиционных форм, а что причиной смены этих форм является положительный инстинкт жизни» (там же. С. 380).
Носителем новых форм в культуре обычно выступает молодёжь. Их борьба со старым часто приобретает эпатажную (вызывающую) форму. В области нравственности, в частности, время от времени появляются люди, отрицающие брак и проповедующие свободную любовь. Непомерное стремление к оригинальности в искусстве в свою очередь привело в ХХ в. некоторых художников к абстракционизму, воображающему, что он свободен от всяких форм.
Г. Зиммель писал: «…у части современной молодежи чувствуется тоска о совершенно абстрактном искусстве. Это объясняется тем, что жизнь в своём страстном стремлении выказать себя непосредственно, без всяких прикрытий, легко запутывается в противоречиях. Необычайна подвижность жизненной стихии у юного поколения доводит эту тенденцию до абсолютной крайности» (там же. С. 387).
Отсюда, в частности, следует, что борьба нового со старым в культуре не всегда должна разрешаться в пользу нового. Новое должно найти себе такие формы своего существования, которые способствуют развитию культуры, а не её разрушению.
Как подчеркивал Г. Зиммель, конфликты, возникающие в результате борьбы между жизнью и культурой, происходят внутри каждой сферы культуры. Всюду старые формы культуры вступают в противоборство с новыми. Однако для определённых исторических эпох характерно выдвижение на первый план таких идей (Г. Зиммель называл их «центральными»), которые выступают в качестве ведущих факторов формотворчества в культуре. В понятии «центральной идеи» у него вырисовывается понятие культурной доминанты, от которой зависят все другие сферы культуры в определённый период их развития.
Опираясь на понятие «центральной идеи», Г. Зиммель набросал такую картину истории европейской культуры: «Для классического греческого мира это была идея бытия, единого субстанциального, божественного, отнюдь не пантеистически бесформенного, но данного и воплощённого в пластические формы. На её место христианское средневековье поставило понятие божества, источника всей действительности, неограниченного властелина человеческого существования, однако требовавшего свободного повиновения себе и преданности. С эпохи Возрождения это высшее место в интеллектуальной жизни стало постепенно занимать понятие природы. Она представлялась, с одной стороны, безусловным, единственно сущим и истинным, а с другой – идеалом, который необходимо предварительно создать и осуществить, что в первую очередь относится к области художественного творчества… XVII столетие концентрировало мировоззрение вокруг понятия законов природы… Вместе с тем в конце эпохи преобладающее значение получает центральное понятие личного душевного «Я». Весь XIX век. не выдвинул такой всеобъемлющей, господствующей идеи. Ограничиваясь исключительно человеком, XIX век создал понятие общества как подлинную реальность жизни, а индивидуум стал рассматриваться как простой продукт скрещения социальных сил. Лишь на пороге ХХ столетия широкие слои интеллектуальной Европы стали объединяться на новом основном мотиве мировоззрения: понятие жизни выдвинулось на центральное место, являясь исходной точкой всей действительности и всех оценок – метафизических, психологических, нравственных и художественных» (там же. С. 381382).
Выделить центральные идеи для целых исторических эпох – дело многотрудное. Мне кажется, что в качестве доминанты в истории культуры целесообразнее рассматривать ту или иную сферу культуры, которая в данную эпоху играла ведущую роль по отношению к другим её сферам. Так, если оставить в стороне материальную культуру, эту роль в античности, очевидно, играла языческая религия, в Средние века – христианская религия, а эпоху Возрождения – искусство, в эпоху Просвещения – наука, в XIX в. – нравственность и в ХХ в. – политика.
Г. Зиммель дал вполне логичное объяснение конфликтам, которые возникают в области культуры: они возникают, с его точки зрения, потому, что жизнь в определённые периоды времени перестают устраивать старые формы культуры. На смену им приходят новые – более удовлетворяющие в это время запросы жизни. Между старыми формами культуры, не поспевающими за требованиями жизни, и новыми, которые на первых порах в большей мере гармонируют с жизнью, возникает борьба. Как правило, она заканчивается победой новых культурных форм над старыми.
В смене старых форм культуры новыми Г. Зиммель видел закономерный процесс. Вот почему его культурологическая концепция в целом вполне оптимистична. Вполне естественно, считал он, что рабовладение заменяется феодализмом, а классицизм – романтизмом. Жало его критики культуры было направлено лишь на крайности, которые иногда возникают в культуре, когда она ищет новые формы своего существования. Но в целом критицизм в его концепции культуры носит поверхностный характер и тем более он не окрашен в трагедийные тона, как у Освальда Шпенглера.
Освальд Шпенглер
Книга Освальда Шпенглера (1880–1936) «Закат Европы» (1918) принесла её автору мировую известность. От её названия веет трагизмом, поскольку оно предвещает европейской цивилизации, кажется, неминуемую гибель. Впрочем, точную дату её гибели он не указывал. Вот как начинается эта книга: «В этой книге впервые делается попытка предопределить историю. Речь идёт о том, чтобы проследить судьбу культуры, именно, единственной культуры, которая нынче на этой планете находится в процессе завершения, западноевропейско-американской культуры, в её еще не истекших стадиях» (Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. 1. М.: Мысль, 1993. С. 128). Таким образом, кое-какое время у западноевропейско-американской культуры ещё осталось.
Идея гибели западной культуры у О. Шпенглера имеет биологизаторский источник. Как и Л. Фробениус, он уподоблял культуру живому организму, который рождается, растёт, достигает зрелости, стареет и умирает. Он писал, в частности: «Есть расцветающие и стареющие культуры, народы, языки, истины, боги, ландшафты, как есть молодые и старые дубы и пинии, цветы, ветви и листья… У каждой культуры свои новые возможности выражения, которые появляются, созревают, увядают и никогда не повторяются. Эти культуры, живые существа высшего ранга, растут с возвышенной бесцельностью, как цветы в поле. Подобно растениям и животным, они принадлежат к живой природе Гёте, а не к мертвой природе Ньютона. Я вижу во всемирной истории картину вечного образования и преобразования, чудесного становления и прехождения органических форм» (там же. С. 151).
Поскольку любая культура, по О. Шпенглеру, рано или поздно умирает, то в судьбе западной культуры нет ничего уникального: подобно древним культурам, она тоже рано или поздно умрёт. Во всяком случае, срок её жизни уже на исходе. Мы же с вами, выходит, свидетели «заката Европы», т. е. приближения её к смерти. Но биологизм не исчерпывает всего содержания культурологической концепции О. Шпенглера. Его теория культуры обладает и другими методологическими особенностями. Так, после биологизма мы можем обнаружить в ней культурный «плюрализм», т. е. утверждение идеи и «множеств мощных культур» (там же), существовавших или существующих в истории по преимуществу независимо друг от друга, параллельно, продвигаясь по одинаковому биологическому циклу – рождение, юность, расцвет, зрелость, упадок, смерть. К этой идее он пришёл через критику евроцентризма, характерного для западной культурологии.
Западноевропейская наука, по мнению О. Шпенглера, при описании истории культуры из упрощенной линеарной схемы, вкладывающейся в цепочку «Древний мир – Средние века – Новое время». Эту схему она применяла к описанию не только европейской истории, но и к описанию истории других, неевропейских, культур. В этом проявился её ограниченный, евро-центрический, взгляд на неевропейские культуры, к которым подобная схема, с его точки зрения, не применима. Более того, она устарела даже и в отношении западной культуры. «…ряд «Древний мир – Средние века – Новое время», – отмечал учёный с удовлетворением, – исчерпывает наконец своё влияние» (там же. С. 151).
Чем же объяснял О. Шпенглер ущербность линеарной картины культурной истории? Почему отмеченная схема западноевропейской истории культуры не годится для описания истории других культур? О. Шпенглер связывал ответ на этот вопрос с уникальным своеобразием каждой культуры. В значительной мере он был прав в подобных размышлениях. Египетская, индийская, греко-римская и т. п. культуры, на самом деле, в существенной мере отличаются друг от друга. Вот почему ошибочно описывать их целиком по образу и подобию западноевропейской культуры. У каждой культуры, действительно, своя историческая судьба. Подходить же к описанию всех культур с мерками, выработанными в западноевропейской науке, означает научное насилие над их своеобразием.
В критике евроцентризма культурологической («исторической») науки, таким образом, О. Шпенглер был в значительной мере прав. Но он заходил в этой критике слишком далеко. Он чересчур увлёкся идеей несходства разных культур, на основе которой он и строил свою антиевроцентрическую позицию. Иначе говоря, чтобы показать несостоятельность евроцентризма, чтобы подтвердить эту несостоятельность, он делал упор на различия между разными культурами. Логика его была очень простой: если эти различия очень большие (а он считал, что это именно так), то для описания культур, оказавшихся за пределами западной культуры, методы западноевропейской науки не могут иметь силы.
На какие же различия между людьми, принадлежащими к разным культурам, указал О. Шпенглер? Приведём лишь некоторые выдержки из его основного труда: «Русскому мышлению столь же чужды категории западного мышления, как последнему – категории китайского или греческого (выходит, мы, русские, находимся от Запада на таком же расстоянии, как китайцы. Далековато же он нас отодвинул от западной культуры. – B. Д.)… Но в каком же отношении находится понятие дионисического к внутренней жизни высокоцивилизованных китайцев эпохи Конфуция или какого-нибудь современного американца? Что значит тип сверхчеловека – для мира ислама?. Что общего у Толстого, из самой глубины своей человечности отвергающего весь идейный мир Запада как нечто чуждое и далекое. с Данте, с Лютером; что общего у какого-нибудь японца с Парсифалем и Заратустрой, у какого-нибудь индуса с Софоклом? А разве просторнее мир Шопенгауэра, Конта, Фейербаха?.» (там же. C. 153–154).
Одного примера с Л. Н. Толстым достаточно, чтобы увидеть, что О. Шпенглер явно преувеличивал культурные различия между разными нациями: Л. Н. Толстой уже потому не мог отвергать «весь идейный мир Запада», что он формировал своё мировоззрение на идеях многих западноевропейских мыслителей – И. Канта, Ж. -Ж. Руссо и др. Если он отвергал У. Шекспира и И. Гёте, то это не означает, что он отвергал «весь идейный мир Запада». А разве можно, скажем, отделять, как это делает О. Шпенглер, греко-римскую античность от истории западноевропейской культуры, которая в первую очередь питалась греко-римской культурой?
Тем не менее О. Шпенглер это делал с полной убеждённостью, что греки, в частности, обладали аисторическим мышлением в отличие от европейцев, для которых характерен историзм. Для античной (греко-римской) культуры, с его точки зрения, было характерно «отрицание времени». Её представители жили «чистым настоящим». «…античная культура, – утверждал О. Шпенглер, – не обладала памятью» (там же. С. 135).
Опираясь на подобные наблюдения, связанные с культурными различиями между разными народами, О. Шпенглер пришёл к выделению восьми «мощных культур», при описании которых следует избегать евроцентризма: египетской, индийской, вавилонской, арабо-византийской, китайской, грекоримской, западноевропейской и культуры майи. Русская культура, таким образом, не попала у О. Шпенглера в число «мощных» и «зрелых» культур. Что же, значит, у нас всё впереди – в то время, как западноевропейская культура пришла к «закату». Но отсюда не следует, что наша культура будет вечной. У неё, по О. Шпенглеру, тоже будет свой «закат». Она только моложе других культур. В целом же любая культура, с его точки зрения, имеет свой срок существования – приблизительно 1000 лет.
В своём основном труде О. Шпенглер главным образом сравнивал между собой две культуры – греко-римскую (античную, аполлоновскую) и западноевропейскую (фаустовскую). Как я уже отмечал, для первой из них, по О. Шпенглеру, был характерен аисторизм (т. е. стремление сосредоточивать своё внимание на настоящем), а для другой – историзм. Другое фундаментальное различие между ними он видел в стремлении первой к телесности и в стремлении к духовности другой. Вот почему, в частности, античные боги были в представлении древних греков и римлян вполне телесными существами, тогда как библейский бог представлялся европейцам существом бестелесным и бесконечным.
О. Шпенглер был против признания преемственных отношений между западноевропейской культурой и античной. Он писал: «Нам надо бы, наконец, преодолеть почтенный предрассудок, будто античность внутренне близка нам, так как мы-де были её учениками и отпрысками, тогда как фактически мы были её поклонниками. Понадобилась вся религиозно-философская, историко-художественная, социально-критическая работа XIX столетия, не для того, чтобы научить нас понимать драмы Эсхила, платоновское учение, Аполлона и Диониса, афинское государство, цезаризм – от этого мы ещё очень далеки, – но чтобы внушить нам наконец, как неизмеримо чуждо и далеко нам всё это во внутреннем смысле, более чуждо, пожалуй, чем мексиканские боги и индийская архитектура» (там же. С. 158).
Для доказательства чуждости, имеющейся между культурами, о которых идёт речь, автор «Заката Европы» прибегал к противопоставлению их не только на уровне оппозиций («аисторизм – историзм» и «телесность – духовность», но также и на уровне других оппозиций. Так, античная физика, с его точки зрения, была сосредоточена на атомистике, а западноевропейская – на механике. Он считал также, что античное искусство изображает по преимуществу ставшее, а западноевропейское – становящееся. «Аполлоновский язык форм, – пояснял О. Шпенглер, – вскрывает ставшее, фаустовский – прежде всего становление» (там же. С. 441).
По поводу различий в нравственности в свою очередь учёный писал: «Античная этика созидает отдельного покоящегося человека как тело среди тел. Все оценки Запада относятся к человеку, поскольку он представляет собой центр приложения силы некоей бесконечной всеобщности» (там же. С. 531). Но, несмотря на эти и подобные им аргументы, направленные на отграничение западноевропейской культуры от греко-римской, О. Шпенглеру не удалось разрушить традиционное представление о преемственности первой из них по отношению ко второй.
Эволюционная идея преемственности по отношению к исторически родственным культурам не укладывалась у О. Шпенглера в прокрустово ложе его теории множественности культур, в соответствии с которой каждая культура существует независимо от других, хотя и проживает подобные этапы в своей истории.
Любая культура, по О. Шпенглеру, переживает три этапа. В первый из них она, подобно живому существу, переживает время своего созревания, во второй – время зрелости, и в третий – время старения, когда она утрачивает достижения предшествующих этапов своего развития.
Чтобы подчеркнуть «старческую» природу западноевропейской культуры, О. Шпенглер выработал своё понимание термина «цивилизация». С одной стороны, он понимал под цивилизацией завершающий этап в жизни той или иной культуры, характеризующийся её угасанием, окостенением, омертвлением, а с другой стороны, он противопоставлял цивилизацию культуре, понимая под первой противоположность последней (антикультуру). Имея в виду первое значение термина «цивилизация». Он писал: «…у каждой культуры есть своя собственная цивилизация» (там же. С. 163). Имея в виду антикультурное значение этого термина, с другой стороны, он указывал: «Современная эпоха – эпоха цивилизации, а не культуры» (там же. С. 174).
В чём же О. Шпенглер усматривал признаки «цивилизации»? В первую очередь – в сверхурбанизме, т. е. в появлении крупных («мировых») городов, противостоящих провинции. Он писал: «Мировой город и провинция – этими основным понятиями каждой цивилизации очерчивается совершенно новая проблема формы истории, которую мы, нынешние люди, как раз переживаем, не имея даже отдалённого понятия обо всех её возможных последствиях. Вместо мира – город, некая точка, в которой сосредоточивается вся жизнь далёких стран, между тем как оставшаяся часть отсыхает; вместо являющего многообразие форм, сросшегося с землею народа – новый кочевник, паразит, обитатель большого города, чистый, оторванный от традиций, возникающий в бесформенно флюктуирующей массе человек фактов, иррелигиозный, интеллигентный, бесплодный, исполненный глубокой антипатии к крестьянству (и к его высшей форме – поместному дворянству), следовательно, чудовищный шаг к неорганическому, к концу.» (там же. С. 165).
Развивая мысль об отрицательном значении мировых городов для судеб культуры, О. Шпенглер рисовал такую безрадостную картину: «Мировой город означает: “космополитизм” вместо “отчизны”, холодный фактический смысл вместо благоговения перед преданием и старшинством, научная иррелигиозность как петрефакт преставившейся религии сердца, “общество” вместо государства, естественные права вместо приобретённых… К мировому городу принадлежит не народ, а масса. Её бестолковость по отношению ко всякой традиции, означающая борьбу против культуры (дворянства, церкви, привилегий, династий, конвенций в искусстве, границ познавательных возможностей в науке), её превосходящий крестьянскую смышлёность острый и холодный ум, её натурализм совершенно нового пошиба, в своем стремлении назад далеко опережающий Сократа и Руссо и опирающийся во всём, что касается сексуального и социального, на первобытночеловеческие инстинкты и состояния, то самое “хлеба и зрелищ”, которое нынче снова всплывет под видом борьбы за увеличение заработной платы и спортивной площадки, – всё это знаменует. новую, позднюю и бесперспективную, но вместе с тем неизбежную форму человеческой экзистенции» (там же. С. 166).
В качестве других признаков «цивилизации» – кроме суперурбанизма – О. Шенглер указывал также на развитие в «цивилизованных» странах империалистической формы государственной власти и, как ни странно, стремление к социализму. Таким образом, империализм и социализм у него оказались в одном, упадническом, ряду.
Предсказывая гибель цивилизаций, О. Шпенглер сурово предупреждал: «Мы цивилизованные люди, а не люди готики и рококо; нам приходится считаться с суровыми и холодными фактами закатывающеейся жизни. Но я не вижу никакого вреда в том, если трудолюбивое и распираемое неограниченными надеждами поколение вовремя узнает, что какой-то части этих надежд не суждено сбыться. Пусть то будут самые дорогие надежды; кто чего-нибудь да стоит, тот оправится от этого удара. Правда, для некоторых он может кончится трагически, если в решающие годы ими овладеет уверенность, что в сфере архитектуры, драмы, живописи им нечего уже покорять. Пусть же такие погибнут» (там же. С. 175).
Вот так! «Цивилизации, – выносил он безжалостный приговор будущим поколениям, – неизбежная судьба культуры… Они – конец, без права обжалования.» (там же. С. 163–164). Словом, гибель цивилизации, как это ни тяжело признавать, неизбежна, как смерть живого существа.
О. Шпенглер, таким образом, довёл критику культуры («цивилизации») до трагического накала, поскольку в уподоблении истории культуры жизни он сосредоточил внимание не столько на самой жизни, сколько на её конце – смерти.
Альберт Швейцер
Альберт Швейцер (1875–1965) поставил в центр своего внимания жизнь, а не смерть. Его теория культуры, несмотря на её критическую направленность по отношению к современной действительности, пронизана оптимизмом. Истоки этого оптимизма её автор видел в первую очередь в «благоговении перед жизнью». Под этим названием в 1992 г. у нас и вышла его книга – «Благоговение перед жизнью».
А. Швейцер был замечательным человеком. Он был и богословом, и философом, и естествоиспытателем, и философом культуры, и моралистом, и врачом, и музыкантом-органистом, и музыковедом (ему принадлежит книга о И. Бахе). Его заслуги перед человечеством были отмечены в 1952 г. Нобелевской премией.
А. Швейцер подчёркивал эволюционную (прогрессивную) природу культуры. «В наиболее общих чертах, – писал он, – культура – это прогресс, материальный и духовный прогресс как индивидов, так и всевозможных сообществ» (Швейцер А. Благоговение перед жизнью. М.: Прогресс, 1992. С. 55). В другом месте он делал упор на приоритет духовной стороны культуры над её материальной стороной (т. е. на приоритет духовной культуры по отношению к материальной): «Культура – совокупность прогресса человека и человечества во всех областях и направлениях при условии, что этот прогресс служит духовному совершенствованию индивида как прогрессу прогрессов» (там же. С. 95).
Подчёркивая прогрессивную (эволюционную) природу культуры, А. Швейцер, вместе с тем, признавал и регрессивные процессы в истории культуры. Как и Л. Н. Толстой, он видел главный источник регресса в культуре в падении нравственности. Для его культурологической картины был характерен нравоцентризм, т. е. постановка нравственности (морали) на центральное, ведущее место в культуре по отношению к другим её сферам. Вот почему решающее значение в культурогенезе он придавал нравственному прогрессу. Поступательно развитие различных областей культуры, с его точки зрения, только тогда может происходить гармонично, когда нравственный прогресс опережает все другие виды прогресса. Вот почему нравственный прогресс – это «прогресс прогрессов».
Из нравоцентристской установки он исходил и в критике современной культуры. В первую очередь он видел в ней перекос, связанный с преобладанием в ней материальных ценностей над духовными. Определённую долю ответственности за этот перекос он возлагал на предшествующую философию и культурологию. Первая способствовала выдвижению на приоритетное положение материальной культуры по отношению к духовной главным образом своей поощрительной позицией в отношении к позитивизму, а вторая – выдвижением в картине культуры на первый план науки. Люди, ставящие на центральное положение в культуре науку, называются сциентистами. Если сам А. Швейцер был сторонником нравоцентризма в культурологии, то позитивисты, с его точки зрения, исходили из абсолютизации роли науки в культурном прогрессе, т. е. из сциентизма. Позитивизм и сциентизм, с его точки зрения, получили непомерное влияние в мировоззрении европейцев ещё в XIX веке, а в ХХ в. это влияние укрепилось и принесло свои плоды, связанные с недооценкой культурно-духовных ценностей и с переоценкой внешних, материальных благ. Подобный перекос материальной культуры над духовной особенно ярко проявился в американской культуре.
Развитие промышленного производства, по мнению А. Швейцера, способствовало утрате творческой природы труда, а творчество, как известно, составляет сущность культуросозидающей деятельности. Промышленный рабочий в ХХ веке превратился в придаток машины, автоматически, без особых творческих усилий, совершающий одни и те же операции. Его отдых в свою очередь также перестаёт способствовать развитию у него творческой позиции в жизни: кабаре ему заменяет театр, развлекательная литература – классику, наркотическое забытье – сосредоточенное размышление, унылое одиночество – дружбу.
Кроме перекоса культуры в сторону преобладания у современных людей материальных интересов над духовными, А. Швейцер критиковал своих современников за утрату ими мировоззрения, т. е. единого представления о мире в целом и о человеке в нём в частности. Утрата мировоззрения, по его мнению, приводит людей к потере смысла своей жизни и к непониманию той роли, которую призвано выполнять на Земле всё человечество. Он писал: «…для общества, как и для индивида, жизнь без мировоззрения представляет собой патологическое нарушение высшего чувства ориентированности» (там же. С. 82). К сожалению, А. Швейцер не указал нам, каким должно быть мировоззрение современного человека. Оно должно быть эволюционным. Эволюционизм – вот мировоззрение будущего, которое позволит соединить разрозненные представления о мире в единое представление и укажет на эволюционное назначение жизни отдельного человека и человечества в целом.
Выработке единого мировоззрения у людей, по А. Швейцеру, в значительной мере может способствовать синтез западной культуры и восточной. В отличие от О. Шпенглера, рассматривающего каждую культуру как некое замкнутое временное пространство, А. Швейцер считал, что разрыв между западной культурой и восточной может быть преодолён. Когда это произойдет, человечество поднимется на новую ступеньку своего культурного развития и, в частности, сможет подойти к выработке единого мировоззрения, которое впитает в себя воззрения лучших мыслителей как Запада, так и Востока. Для объединения западной культуры с восточной, считал А. Швейцер, в первую очередь необходимо создание единого информационного пространства. В далеком же будущем, по А. Швейцеру, возможно объединение всех культур. Оно позволит выработать в будущем общечеловеческое мировоззрение.
А. Швейцер критиковал современную культуру не только за имеющийся в ней перекос, связанный с преобладанием материальных ценностей над духовными, и за отсутствие в ней мировоззрения, но и за присущий её носителям аморализм. Из своего критического отношения к современной действительности он, в отличие от О. Шпенглера, не делал пессимистических выводов. Его этика полна оптимизма.
Этика занимает центральное место в культурологии А. Швейцера. Подобно этике Л. Толстого, она может быть названа этикой самосовершенствования. Высшую цель этой этики он видел в достижении человеком своей собственной, человеческой, сущности, т. е. человечности. «Ницше, – писал он, – мечтал о “сверхчеловеке” – мы жаждем человека человечного» (Философия культуры. Становление и развитие / Под ред. М. С. Кагана и др. СПб.: СПбУ, 1995. С. 166). В этике, таким образом, А. Швейцер стоял на вполне эволюционной позиции.
Своё движение к этике самосовершенствования А. Швейцер начал ещё в те годы, когда он увлёкся А. Шопенгауэром. Он взял у него идею сострадания. Но и его собственное мироощущение было вполне подготовлено к этой идее. В старости он вспоминал: «Лишь в редкие минуты я действительно радовался своему существованию. Я не мог не переживать всё время сам всю боль, которую я видел вокруг себя не только у людей, но также у всех созданий. Я никогда и не пытался избавиться от этого сострадания» (Хюбшер А. Мыслители нашего времени. М.: ЦТР МГП ВОС, 1994. С. 113).
По воспоминаниям А. Швейцера, однажды в Африке, во время путешествия по воде на него нашло озарение: он внезапно понял главный жизненный стимул – это благоговение перед жизнью. Благоговение перед жизнью выступает у А. Швейцера как ведущий этический принцип. Его смысл состоит в признании жизни за высшую ценность. Это означает, что всё то, что способствует её развитию, должно быть признано нравственным и наоборот: плохо, безнравственно всё то, что препятствует её развитию, мешает признать жизнь (в самом широком смысле) за высшую ценность.
Под жизнью А. Швейцер понимал всю совокупность переживаний живого существа и его действий, направленных на активное взаимоотношение человека с миром. Чтобы подчеркнуть высшую ценность жизни, А. Швейцер вывел такую формулу: «Я – жизнь, которая хочет жить среди жизни, которая хочет жить». Отсюда следует, что благоговеть следует не только перед своею, но и чужими жизнями, проникаясь последними, сопереживая и сострадая им.
Опираясь на принцип «благоговения перед жизнью», верил А. Швейцер, человечество сможет преодолеть кризис культуры и рано или поздно придет к её новому возрождению. Он верил также и в то, что люди смогут в будущем выработать такую систему взглядов, которая станет господствующей в сознании всех людей. Эта система и позволит в конечном счёте объединить всех людей на единой мировоззренческой основе, позволяющей видеть в культуре высшую ценность. Для этого, как минимум, человеку необходимо стать мыслящим и свободным.
Великий гуманист писал: «Способность человека быть носителем культуры, то есть понимать её и действовать во имя её, зависит от того, в какой мере он является одновременно мыслящим и свободным существом» (Швейцер А. Благоговение перед жизнью… С. 48).
Таким и стремился быть сам Альберт Швейцер. Только от одного чувства он не был свободен – от сострадания. Это чувство его побудило создать в Африке больницу для негров, поражённых проказой. Этой больницей он руководил до самой своей смерти. Возле неё он и похоронен.
2. 3. 4. Экзистенциализм (А. Камю и К. Ясперс)
От животных людей отделяет бездна.
К. ЯсперсЭкзистенциалисты – теоретики экзистенции. В переводе с латинского это слово означает существование. Представители экзистенциализма придают ему субъективный смысл, имея в виду переживание человеком своего существования в мире (экзистенции). В этом переживании разные экзистенциалисты подчёркивали разные доминанты. Так, у Сёрена Киркегора (1813–1855), к которому возводят экзистенциализм, на первый план выдвинуты страх и трепет перед Богом, у Жана Поля Сартра (1905–1980) – стремление к свободе, у Альбера Камю (1913–1960) – ощущение безнадежной отчуждённости от бессмысленного мира, у Карла Ясперса (1883–1969) – сознание человеком своей конечности в мире, у Мартина Хайдеггера (1889–1976) – страх.
Самой яркой фигурой во французском зкзистенциализме стал Альбер Камю, в немецком – Карл Ясперс. Первый из них занимал инволюционную позицию в этике, а второй – эволюционную.
Альбер Камю
А. Камю – трагическая фигура. У него была тонкая, ранимая, глубокая душа. Всю жизнь он страдал от отчуждённости окружающих. Это существенным образом сказалось на его мироощущении. Он стал глашатаем бессмысленности жизни.
У А. Камю были предшественники – Экклезиаст и Артур Шопенгауэр. Первый из них выразил отсутствие смысла в человеческой жизни очень ясно: «Всё – суета. Сута сует и томление духа», а второй подтвердил эту мысль множеством афоризмов. Вот только некоторые из них:
1. «Мир всё равно, что ад, в котором люди, с одной стороны, мучимые души, а с другой – дьяволы».
2. «Человек в сущности есть дикое, ужасное животное. Мы знаем его только в укрощённом и прирученном состоянии, которое называется цивилизацией: поэтому нас ужасают случайные взрывы его натуры. Но когда и где спадают замки и цепи законного порядка и водворяется анархия, там обнаруживается, что он такое… Гобино (Gobineau. Des races humaines) назвал человека l'animal mechant par excellence (злым животным по преимуществу), что не понравилось людям: они чувствовали себя обиженными. Но он был прав. Никакое животное никогда не мучит только для того, чтобы мучить; но человек делает это – что и составляет сатанинскую черту его характера, который гораздо злее, чем простой зверский.».
3. «Итак, в сердце каждого действительно сидит дикий зверь, который ждёт только случая, чтобы посвирепствовать и понеистовствовать в намерении причинить другим боль или уничтожить их, если они становятся ему поперек дороги, – это есть именно то, из чего проистекает страсть к борьбе и к войне, именно то, что задаёт постоянную работу своему спутнику – сознанию, которое его обуздывает и сдерживает в известных пределах. Это можно бы во всяком случае назвать радикальным злом, что угодило бы по крайней мере тем, для которых слово занимает место объяснения. Но я говорю: это в о л я, хотение жизни (der Wille zum Leben), которая, будучи всё более и более озлобляема постоянным страдальческим существованием, старается облегчить собственные муки, причиняя их другим. Ибо ненавистливость нашей натуры легко могла бы когда-нибудь из каждого сделать убийцу, если бы в неё не было вложено для удержания в известных границах надлежащей дозы страха».
4. «Мы похожи на ягнят, которые резвятся на лугу в то время, как мясник выбирает глазами того или другого, ибо мы среди своих счастливых дней не ведаем, какое злополучие готовит нам рок – болезнь, преследование, обеднение, увечье, слепоту, сумасшествие и т. д.».
5. «Мучительности нашего существования немало способствует и то обстоятельство, что нас постоянно гнетет время, не даёт нам перевести дух и стоит за каждым, как истязатель с бичом. Оно только того оставляет в покое, кого передало скуке… И, однако же, как наше тело должно было бы лопнуть, если бы удалить от него давление атмосферы; точно так же, если бы изъять человеческую жизнь из-под гнета нужды, тягостей, неприятностей и тщетности стремлений, – высокомерие людей возросло бы, если не до взрыва, то до проявлений необуздан-нейшего сумасбродства и неистовства. Человеку даже необходимо, как кораблю балласт, чтобы он устойчиво и прямо шёл, во всякое время известное количество заботы, горя или нужды… Работа, беспокойство, труд и нужда есть, во всяком случае, доля почти всех людей в течение всей жизни. Но если бы все желания исполнялись, едва успев возникнуть, – чем бы тогда наполнить человеческую жизнь, чем убить время?».
6. «Смерть, бесспорно, является настоящей целью жизни и нельзя указать другой цели нашего бытия, кроме уразумения, что лучше бы нас совсем не было. Это самая важная из всех истин» (Шопенгауэр А. Parerga und Paralipomena: (. html).
Главный этический труд А. Камю – «Миф о Сизифе. Эссе об абсурде», где он рисует обобщённый образ человека, обречённого влачить бессмысленное, иррациональное, абсурдное существование. Этот миф повествует о том, как Сизиф был наказан богами за непослушание: он должен вечно поднимать на гору камень, который опускается к нему снова и снова. Какой же смысл извлёк А. Камю из этого древнегреческого мифа?
«Этот миф трагичен, – писал А. Камю, – поскольку его герой наделён сознанием, о какой каре могла бы идти речь, если бы на каждом шагу его поддерживала надежда на успех? Сегодняшний рабочий живёт так всю свою жизнь, и его судьба не менее трагична. Но сам он трагичен лишь в те редкие мгновения, когда к нему возвращается сознание. Сизиф, пролетарий богов, бессильный и бунтующий, знает о бесконечности своего печального удела; о нём он думает во время спуска» (Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде: / library/camus/01/4. html).
Что и говорить, невесёлую картинку о человеческом труде нарисовал перед нами автор эссе «Миф о Сизифе». Да и не только о труде! Он увидел источник наших страданий ещё и в человеческом разуме, который, с точки зрения его автора, только на то и годится, чтобы в перерывах от каждодневных забот осознавать бессмысленность своей жизни. Животным, выходит, легче: их разум не настолько развит, чтобы понять, что «трагедия начинается вместе с познанием» (там же).
Любимым словом А. Камю было слово абсурд. В сборнике статей, объединённых названием «Миф о Сизифе. Эссе об абсурде», кроме анализа самого этого мифа, мы находим ещё и такие эссе: «Абсурдное рассуждение», «Абсурдный человек» и «Абсурдное творчество».
Абсурд – это бессмыслица. А. Камю искал её повсюду – в мифологии, в философии, в искусстве, в политике. Но делал он это в конечном счёте для выполнения своей главной задачи – показать бессмысленность, абсурдность, иррациональность этого мира вообще. Следовательно, его поиск абсурда был направлен в конечном счёте на объяснение его ведущей «нравственной» установки, состоящей в показе бессмысленности человеческого существования в этом бессмысленном мире.
В поиске абсурда А. Камю и видел своё «подлинное существование», свою «подлинную экзистенцию». Поиск абсурдного стал его болезненной страстью. Надо отдать ему должное: в этом поиске он весьма преуспел. Абсурд мерещился ему повсюду. «Чувство абсурдности, – писал он, – поджидает нас на каждом углу. Это чувство неуловимо в своей скорбной наготе, в тусклом свете своей атмосферы. Заслуживает внимания сама эта неуловимость» (там же).
Овладев тонкой методикой поиска абсурда, наш философ заявлял: «Мир абсурден, но это сказано чересчур поспешно. Сам по себе мир просто неразумен, и это всё, что о нём можно сказать» (там же).
А. Камю был честен. В эссе «Асурдный человек» он честно написал: «Нам не до учёных рассуждений о морали. Дурные человеческие поступки сопровождаются изобилием моральных оправданий, и я каждый день замечаю, что честность не нуждается в правилах. Абсурдный человек готов признать, что есть лишь одна мораль, которая не отделяет от бога: это навязанная ему свыше мораль. Но абсурдный человек живёт как раз без этого бога. Что до других моральных учений (включая и имморализм), то в них он видит только оправдания, тогда как самому не в чем оправдываться. Я исхожу здесь из принципа его невиновности» (там же).
Моралью автора этих слов стал имморализм. В этом нет ничего удивительного, поскольку он был абсурдистом. Если смысл жизни он усматривал в его отсутствии, то почему бы мораль ему не усмотреть в её отсутствии – имморализме?
А. Камю был писателем, но и творчеству он приписывал абсурдность. В чём состоит абсурдность творчества? В том, что оно, как и абсурдисткая философия А. Камю, совершенно бесполезно. Вот почему он и писал в эссе «Абсурдное творчество»: «Итак, я предъявляю к абсурдному творчеству те же требования, что и к абсурдному мышлению. Это – бунт, свобода и многообразие. Отсюда вытекает полная бесполезность творчества» (там же).
Не мудрствуя лукаво, А. Камю ставит главную проблему человеческого существования: а стоит ли нам вообще существовать? А не разумнее ли покончить со своим абсурдным существованием разом – накинув себе петлю на шею? Этот гамлетовский вопрос А. Камю и считал главным философским вопросом.
А. Камю писал: «Есть лишь одна по-настоящему серьезная философская проблема – проблема самоубийства. Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы её прожить, – значит ответить на фундаментальный вопрос философии. Всё остальное – имеет ли мир три измерения, руководствуется ли разум девятью или двенадцатью категориями – второстепенно. Таковы условия игры: прежде всего нужно дать ответ. И если верно, как того хотел Ницше, что заслуживающий уважения философ должен служить примером, то понятна и значимость ответа – за ним последуют определённые действия» (там же).
Дальше читаем: «Покончить с собой значит признаться, что жизнь кончена, что она сделалась непонятной. Не будем, однако, проводить далёких аналогий, вернёмся к обыденному языку. Признаемся попросту, что “жить не стоит”. Естественно, жить всегда нелегко. Мы продолжаем совершать требуемые от нас действия по самым разным причинам, прежде всего в силу привычки. Добровольная смерть предполагает, пусть инстинктивное, признание ничтожности этой привычки, осознание отсутствия какой бы то ни было причины для продолжения жизни, понимание бессмысленности повседневной суеты, бесполезности страдания» (там же).
Эти слова были обнародованы в 1942 году, когда их автору было 29 лет. История умалчивает о том, какое число почитателей А. Камю, ставшего Нобелевским лауреатом, нашли в них вдохновение для своего решения уйти из жизни.
Карл Ясперс
Главный культурологический труд К. Ясперса – «Истоки истории и её цель» (1949). Его автор поделил мировую историю на три эпохи – доосевую (мифологическую), осевую и постосевую. В центр истории он ставит осевое время. Через него, с его точки зрения, проходит ось времени – около 500 года до н. э.
Три названные эпохи – доосевая, осевая и постосевая – рассматривались К. Ясперсом как «история», но им предшествовала, в его терминологии, «доистория», т. е. время, существовавшее до мифологической эпохи.
В описании «доистории» К. Ясперс демонстративно игнорировал дарвинизм. «Эмпирически, – писал он, – решить вопрос о монофилетическом или полифилетическом происхождении человека невозможно, ибо мы ничего не знаем о его биологическом происхождении» (Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994. С. 69).
В другом месте К. Ясперс говорит о происхождении человека как о тайне за семью печатями ещё с большей обстоятельностью: «Первое становление человека – глубочайшая тайна, до сих пор нам недоступная, непонятная. Такие обороты речи, как “постепенно”, “переход”, лишь маскируют её. Можно, конечно, фантазировать по поводу возникновения человека, однако эти фантазии очень быстро оказываются несостоятельными: представление о человеке всегда уже есть в момент, к которому относят его становление» (там же. С. 62).
Подобные заявления не пристало бы делать такому образованному человеку, каким был К. Ясперс, – тем более в середине ХХ века. От них веет обыкновенным воинственным невежеством, совершенно игнорирующим достижения эволюционной науки.
Вместе с тем у К. Ясперса имеется мысль, очевидно, заимствованная им у А. Гелена, о том, что наши предки потому стали отрываться от своих животных прародителей, что их телесная организация было более хрупкой, чем у других животных. Компенсировать свою телесную ущербность они могли только посредством своего духовного развития.
К. Ясперс писал: «Если человек уже изначально является существом, избегающим окончательного утверждения своих возможностей, то при всей его слабости по сравнению с животными он должен превосходить их по своему мышлению и духовному развитию. Благодаря неспециализированности органов для него оказалась открытой возможность преобразования среды посредством замены развитых органов орудиями. Поскольку человек (по сравнению с животными) хрупок, он может силою свободного решения стать на путь духовного преобразования, ведущего к необозримым высотам» (там же. С. 64).
К. Ясперс считал более правомочной монофилетическую точку зрения на происхождение первых людей, чем полифилетическую, т. е. выводил всё человечество из единого корня. Он писал, в частности, по этому поводу следующее: «Биологически в пользу монофилетического происхождения говорит и способность рас порождать при скрещивании потомство, которое в свою очередь имеет потомство; в духовном аспекте об этом свидетельсвует совпадение основных проявлений человеческой природы, которое становится очевидным при сравнении человека с приматами. Расстояние, отделяющее человека от животного, несравненно больше, чем расстояние разделяющее людей самых отдаленных рас. По сравнению с дистанцией между человеком и животным между всеми людьми существует близкое родство… От животных… людей отделяет бездна» (там же. С. 69).
Отсюда, однако, не следует, что люди не произошли от животных, но именно на это К. Ясперс старается закрывать глаза. Имя Ч. Дарвина он даже не упоминает, говоря о «доистории».
Доосевое время
С этой эпохи, по К. Ясперсу, начинается «история», т. е. то время в истории человечества, о котором мы можем судить по тем или иным свидетельствам, дошедшим до нашего времени – памятникам письменности, археологическим раскопкам различных продуктов культуры. Подобные данные свидетельствуют о том, что в доосевую эпоху получили расцвет следующие культуры – шумеро-вавилонская, египетская, культуры эгейского мира, доарийская культура долины Инда и архаическая культура Китая.
Как же выглядят в глазах К. Ясперса доосевые культуры? «По сравнению с ясной человеческой сущностью осевого времени предшествующие ему древние культуры как бы скрыты под некоей своеобразной пеленой, будто человек того времени ещё не достиг подлинного самосознания. Монументальность в религии, в религиозном искусстве и в соответствующих им огромных авторитарных государственных образованиях была для людей осевого периода предметом благоговения и восхищения, подчас даже образцом (например, для Конфуция, Платона), но таким образом, что смысл образцов в новом восприятии совершенно менялся» (там же. С. 37).
Все дороги, как видим, у К. Ясперса ведут. в осевое время. Им он меряет и предшествующую, мифологическую, эпоху и последующую, постосевую.
Осевое время
Осевое время, по К. Ясперсу, охватывает период приблизительно с 800 г. до 200 до н. э. Он, таким образом, начинает его за 300 лет до оси времени и заканчивает спустя 300 лет после неё.
В осевую эпоху «произошёл самый резкий поворот в истории. Появился человек такого типа, какой сохранился и по сей день» (указ. кн. С. 32).
К. Ясперс, таким образом, подчёркивает историческую преемственность между древней культурой (в первую очередь – греческой) и последующей (в первую очередь – западноевропейской). Тем самым он порывает с представлением О. Шпенглера о циклическом развитии отдельных культур, предполагающем их автономию друг от друга.
Более того, К. Ясперс сближает свою позицию с эволюционистами, признавая единство человеческой культуры и строит своё представление о её истории, исходя из постулата о её линейности, а не цикличности. Вот почему в разных культурах, принадлежащих одним и тем же эпохам, он стремился обнаружить общие черты.
К осевым народам К. Ясперс относил не только китайцев, индийцев и греков, но также иранцев и евреев. В отличие от других народов, они «заложили основу духовной сущности человека» (там же. С. 76). Таким образом, не все народы, жившие в период с 800 г. по 200, совершили прорыв в «осевое время», а только те, которые определили «духовную сущность человека».
К сожалению, у К. Ясперса проскакивают в его главном культурологическом труде пренебрежение к другим, неосевым, народам. Он называет их первобытными. При этом имеется в виду не только время с 800 г. по 200. Судите сами. «Все народы, – писал он, – делятся на тех, основой формирования которых был мир, возникший в результате прорыва (в осевое время. – В. Д.), и тех, кто остался в стороне. Первые – исторические народы; вторые – народы первобытные» (там же. С. 78).
Выходит, народы, не приобщившиеся к осевым, до сих пор находятся в первобытном состоянии. В одном не сомневался
К. Ясперс, что западноевропейские народы к осевым народам приобщились. Что же касается других народов (например, русских), то они, по К. Ясперсу, в той мере прорываются в «историю», в какой они приобщаются к осевым народам, тем самым отрываясь от своего «первобытного» состояния. Хочешь – не хочешь, но, чтобы не прослыть первобытными, надо нам приобщаться к китайской, индийской, греческой (а вслед за нею и западноевропейской), иранской и иудейской культурам.
Впрочем, среди современных культур К. Ясперс ставил на первое место западные культуры – западноевропейскую и американскую, хотя и сурово их критиковал. Вывод отсюда вытекает сам собой: не ломай голову о своём пути в истории, а становись на путь Запада. Чтобы подчеркнуть приобщённость Запада к осевым народам, К. Ясперс связывал его не только с Грецией, но также Китаем и Индией: «Китай и Индия близки Западу не только в силу того, что они существуют по сей день, но и в силу того, что они совершили прорыв в осевое время» (там же. С. 77).
Приоритетное положение западной культуры в мире К. Ясперс объяснял следующим образом: «Невзирая на серьёзные катаклизмы, разрушения и как будто бы полный упадок, непрерывность в формировании культуры Запада не была утеряна» (там же. С. 83). Главные истоки западной культуры он видел в Древней Греции.
Фундаментальный признак осевого времени К. Ясперс нашёл в осмыслении его представителями трагизма жизни. Этот трагизм в какой-то мере преодолевался древними греками в религии (мифологии), науке (философии) и искусстве. Так, греческая мифология компенсирует конечность человеческой жизни бессмертием её божественных персонажей. Философы, подобные Сократу, преодолевают трагизм жизни посредством углубления в вечные вопросы бытия. Художники в свою очередь преодолевают трагизм жизни обязательным разрешением конфликта между героями в их произведениях.
Осознанию трагизма, связанного с концом человеческой жизни (смертью), К. Ясперс придавал фундаментальное значение в характеристике осевого времени. Он писал: «Новое, возникшее в эту эпоху в трёх упомянутых культурах, сводится к тому, что человек осознает бытие в целом, самого себя и свои границы. Перед ним открывается ужас мира и собственная беспомощность. Стоя над пропастью, он ставит радикальные вопросы, требует освобождения и спасения» (там же. С. 33).
В развёрнутой характеристике осевое время, по К. Ясперсу, выглядит так: «Мифологической эпохе с её спокойной устойчивостью пришёл конец. Основные идеи греческих, индийских, китайских философов, мысли еврейских пророков о Боге были далеки от мифа. Началась борьба рациональности и рационально проверенного опыта против мифа (логоса против мифа)… Древний мифический мир медленно отступал, сохраняя, однако, благодаря фактической вере в него народных масс своё значение в качестве некоего фона, и впоследствии мог вновь одерживать победы в обширных сферах сознания. Все эти изменения в человеческом бытии можно назвать одухотворением: твердые изначальные устои жизни начинают колебаться, покой полярностей сменяется беспокойством противоречий и антиномий. Человек уже не замкнут в себе. Он не уверен в том, что знает себя, и поэтому открыт для новых безграничных возможностей. Впервые появились философы. Человек в качестве отдельного индивидуума отважился на то, чтобы искать опору в самом себе. Отшельники и странствующие мыслители Китая, аскеты Индии, философы Греции и пророки Израиля близки по своей сущности, как бы они не отличались друг от друга по своей вере. Человек может теперь внутренне противопоставить себя всему миру. Он может отказаться от всех мирских благ, уйти в пустыню, в лес, в горы; став отшельником, познать творческую силу одиночества и вернуться в мир обладателем знания, мудрецом, пророком. В осевое время произошло открытие того, что позже стало называться разумом и личностью. Человечество в целом совершает скачок» (там же. С. 33–35).
Постосевое время
По соотношению веры и знания три эпохи, выделенные К. Ясперсом в мировой истории, могут быть охарактеризованы следующим образом: в доосевое время господствовал миф как таковой, в осевое он сосуществует со знанием, сохраняя с ним некоторое единство, в постосевое, наконец, единство между мифом и знанием разрушается.
Свою задачу К. Ясперс видел в том, чтобы возродить единство между мифом (верой, религией) и знанием (наукой, разумом, рационализмом). Эту задачу, считал он, может выполнить только «философская вера» – область культуры, синтезирующая веру и знание, религию и науку.
«Признаком философской веры, веры мыслящего человека, – говорил К. Ясперс в своих лекциях в Базеле в 1947 г., – служит всегда то, что она существует лишь в союзе со знанием. Она хочет знать то, что доступно знанию, и понять самоё себя. Безграничное познание, наука – основной элемент философствования» (там же. С. 423).
Свой образ будущего К. Ясперс связывал с возрождением осевого времени. Как древние греки, по мнению учёного, стремились видеть мир в его единстве, так и люди будущего придут – на новом витке своего развития – к такому единству. «Предпосылкой здесь служит, – пояснял он, – реализованная возможность всемирного общения» (там же. С. 95). В человеческом единении он видел смысл и назначение истории.
2. 3. 5. Социал-дарвинизм
В «Большой советской энциклопедии» читаем: «Социальный дарвинизм – идейное течение в буржуазном обществоведении конца XIX – начала XX вв., которому свойственно сведение закономерностей развития человеческого общества к закономерностям биологической эволюции и выдвижение принципов естественного отбора, борьбы за существование и выживания наиболее приспособленных в качестве определяющих факторов общественной жизни».
В качестве главного предшественника социал-дарвинизма обычно называют Томаса Роберта Мальтуса (1766–1834). Он увидел в людях прежде всего детей природы, а уж затем – детей человечества. К анимализации человека он шёл через экономику. Между тем он был ещё и священником. Его главным экономическим трудом стал «Опыт о законе народонаселения» (1798), где он выступил как ярый враг социалистов-утопистов и экономист-анималист.
Пытаясь объяснить бедственное положение трудящихся и безработицу, Т. Мальтус поставил человечество на один уровень с животными, которые не контролируют размеров своей популяции. Между людьми и животными он поставил знак равенства в том отношении, что тем и другим одинаково присуще стремление «размножаться быстрее, чем это допускается находящимся в их распоряжении количеством пищи» (http:// referatfrom. ru/ref. html).
Суть мальтусовского закона народонаселения сводится к следующему: число людей на Земле растёт в геометрической прогрессии, а возможности удовлетворения их потребностей – лишь в арифметической. Действие этого «естественного закона» Т. Мальтус объяснял «абсолютным избытком людей». Вот почему его автор объявил голод и войны необходимым благом для человечества: они помогают сокращать чересчур быстро увеличивающееся народонаселение нашей планеты.
Т. Мальтус писал: «Все народы, об истории которых имеются достоверные данные, были столь плодовиты, что увеличение их численности оказалось бы стремительным и непрерывным, если бы оно не задерживалось либо нехваткой средств существования, либо… болезнями, войнами, убийствами новорожденных или, наконец, добровольным воздержанием» (там же).
Как показало наше время, в мальтузианстве имеется рациональное зерно. Если ещё в XVIII в. население Земли не превышало 1 млрд., а к 1820 достигло лишь одного миллиарда, то в настоящее время оно перешагнуло через семимиллиардный рубеж. Если население нашей планеты будет увеличиваться в подобных темпах и дальше, то придётся всё чаще и чаще вспоминать о Т. Мальтусе.
Но не Т. Мальтусу обязан своим существованием социал-дарвинизм. Он обязан своим существованием Ч. Дарвину, хотя
Ч. Дарвин не имеет никакого отношения к социал-дарвинизму. Он вовсе не виноват в том, что категории, выработанные им на материале растений и животных, прямолинейно перенесли на людей. Кто это сделал?
В социал-дарвинизме сложилось три направления – расизм, прагматизм и неолиберализм.
2. 3. 5. 1. Расизм (Ж. Гобино, Л. Вольтман, Й. Геббельс)
Расистская мораль – двойная мораль. Одни народы она возвышает, а другие принижает. Так, евроцентрист-ская расовая этика благославляет презрение индоевропейцев к другим народам, объявляя их неполноценными. С этим презрением представители индоевропейцев скальпировали коренные народы Америки и загоняли их в резервации. С этим презрением британские и французские колонизаторы относились к порабощённым ими народам Африки и Азии. С этим презрением в ХХ веке Адольф Гитлер будет отдавать приказы об уничтожении людей, принадлежащих к неполноценным расам.
Расизм порождает две морали: одну – для своих и другую – для чужих. То, что считается предосудительным в отношении к своим (обман, грабёж, насилие и т. д.), в отношении к чужим выглядит вполне законным. В основе этой «законности» лежит анимализм: если низшие расы близки к животным, то можно ли по отношению к ним применять высокие нравственные категории – красоты, любви, справедливости и т. д.? Чего они в этом понимают? Чего, например, понимает в красоте какой-нибудь папуас?
Люсьен Леви-Брюль (1857–1939) в своих книгах («Мыслительные функции в низших обществах» (1910), «Первобытное мышление» (1922), «Примитивная душа» (1927) и «Примитивная мифология» (1935)) попытался теоретически обосновать необходимость двойной морали – для цивилизованных людей и для примитивных.
Законы логики, с точки зрения Л. Леви-Брюля, действуют лишь в сознании цивилизованных людей, тогда как примитивным народам присущ особый тип мышления, своеобразие которого состоит в его мистичности, пралогичности, подчинённости закону сопричастности и коллективности.
Мистичность первобытного мышления, по Л. Леви-Брюлю, состоит в установлении нереальных связей между предметами, пралогичность – в свободе от диктата логических законов (в частности, от закона противоречия), подчинённость закону сопричастности – в том, что первобытное мышление неоправданно переносит свойства одних предметов на другие, и, наконец, коллективность – в господстве у его носителей коллективных представлений над индивидуальными.
Как показали в дальнейшем критики Л. Леви-Брюля, все эти признаки «первобытного» мышления могут быть присущи и мышлению цивилизованного человека. Главная ошибка Л. Леви-Брюля проистекала из ложного постулата, состоящего в психологизации культурных особенностей нецивилизованных народов. Но ортодоксальные расисты делали упор на биологические отличия между народами, принадлежащими к разным расам.
Жозеф Гобино
Главный труд Жозефа Артюра Гобино (1816–1882) – «Опыт о неравенстве человеческих рас» (1853). Трудно поверить, что его написал утончённый французский аристократ, имеющий титул графа. Его вдохновила на написание этой книги далеко не благородная идея о том, что степень развития культуры у тех или иных народов определяется в первую очередь их расовыми (биологическими) особенностями. Книга Ж. А. Гобино получила шумную известность. Её стали называть евангелием расизма.
Низшей расой Ж. А. Гобино считал чёрную, а высшей – белую. На промежуточное положение между ними попала жёлтая раса. Но и внутри этих рас он выделял определённые расовые группировки. Так, среди белых он на первое место ставил арийцев (индоевропейцев), но и среди арийцев он обнаружил неравенство: самой развитой группой арийцев он считал, как ни странно, не своих предков – романцев, а германцев.
Ж. А. Гобино выделил десять цивилизаций, имевших место в истории человечества, но каждую из них, по его мнению, создавали белые. Вот список этих цивилизаций: индийская, египетская, ассирийская, греческая, китайская (её тоже основали белые!), римская, германская, аллеганская, мексиканская и перуанская. Все они были основаны белыми, а точнее индоевропейцами – в том числе египетская, китайская, мексиканская и т. п., население которых составляют жёлтые. Даже американские цивилизации (например, мексиканская), с его точки зрения, были основаны арийцами, которые оказались в Америке, как он утверждал, задолго до Х. Колумба.
С особым трепетом, по Ж. Гобино, мы должны относиться к германцам, поскольку им мы обязаны своими высшими достижениями. В частности, мы обязаны германцам тем, что они установили культурный центр в средневековой Европе во главе с Римом и образовали в ней целый ряд государств – в том числе и Русь «Без них (германцев-норманнов), – писал Ж. А. Гобино, – Россия не существовала бы» (Токарев С. А. История зарубежной этнографии. М.: Высшая школа, 1978. С. 173).
Но подвижническая деятельность германцев и арийцев в целом не прошла для них даром. Создавая другие цивилизации, они смешивались с другими расами и тем самым утрачивали свою расовую чистоту, что всё больше и больше приводило их к утрате первоначальной культуросозидающей энергии.
Расовое смешение, как предполагал Ж. А. Гобино, приведёт в будущем к утрате культуры вообще. Вот какая неутешительная картина жизни нас ожидает в будущем: «Нации – нет, стада человеческие, погружённые в угрюмую дремоту, – будут жить, оцепенелые в своём ничтожестве, как буйволы, жующие свою жвачку на стоячих лужах Понтийских болот» (там же. С. 173).
Но и это ещё не всё: придёт время, когда, как пишет Ж. А. Гобино, «земной шар, онемевший, будет уже без нас (т. е. без людей, без человечества, которое вымрет. – В. Д.) продолжать описывать свои бесстрастные круги в пространстве» (там же).
Оптимистически настроенные читатели Ж. А. Гобино, как например, немецкие нацисты, могли из подобных рассуждений сделать только один вывод: чтобы человечество не погибло, надо возродить расовую чистоту – если уж не всем германцам, то, по крайней мере, немцам, и, пока не поздно, создавать новую арийскую цивилизацию.
Людвиг Вольтман
Людвиг Вольтман (1871–1907) – сын плотника, ставшего в дальнейшем владельцем мебельного магазина. Это позволило юному Людвигу получить университетское образование. Он изучал медицину и философию в Марбурге, Бонне, Мюнхене, Фрайбурге и Берлине. В 17 лет он объявил себя социал-демократом. Интерес к трудам К. Маркса и Ф. Энгельса он совмещал с изучением Платона, Аристотеля, Спинозы, И. Канта и других философов, но поворотным в его мировоззрении стало знакомство с эволюционной теорией Чарлза Дарвина.
Катехизисом социал-дарвинизма стала книга Л. Вольтмана «Политическая антропология. Исследование о влиянии эволюционной теории на учение о политическом развитии народов», которая появилась в начале ХХ века. Вот начало этой книги: «Биологическая история человеческих рас есть естественная и основная история государств. Вместо неё до сих пор, почти исключительно, развитие политических учреждений и идей делали самым односторонним образом предметом исторических исследований, забывая реальных людей, живые расы, семьи и индивидуумов, как органических творцов и носителей политической и духовной истории» (Авдеев В. Политическая антропология Людвига Вольтмана: http://www. metakultura. ru/vgora/ ezoter/woltman1. htm).
Сразу же после этого исходного пункта своей теории, он заявил о её биологической основе: «Человеческие расы, однако, подчинены тем же общим биологическим законам изменчивости и унаследования, приспособления и подбора, внутривидового размножения и смешения, усовершенствования и вырождения, как все прочие организмы животного и растительного мира».
Каковы основные идеи «Политической антропологии» Л. Вольтмана?
1. «Чистые расы первоначально были повсюду, и лишь процесс миграций создал ублюдков, которые в той или иной системе органов склоняются преобладающим образом к той или иной расе… Крайние расовые скрещивания порождают по физиологическим причинам дисгармоничные и нестойкие характеры» (там же).
2. «Добродетели и преимущества встречаются гораздо чаще у тех рас, которые сохраняют себя чистыми, и что помесные расы обладают большей частью недостатками и пороками своих родителей, наследуя их дурные, но отнюдь не хорошие стороны» (там же).
3. «На основании чисто морфологических и физиологических соображений мы должны поэтому придти к заключению, что великорослый, с большим черепом человек, с фронтальной долихоцефалией и светлым пигментированием (северноевропейская раса) будет самым совершенным представителем человеческого рода и высшим продуктом органического развития. Самая светлая раса в то же время – и самая даровитая и благородная» (там же).
Как видим, единственный источник культурного прогресса у того или иного народа, по Л. Вольтману, состоит в расовой чистоте этого народа. Его идеи унаследовали в ХХ веке немецкие теоретики расизма (Ойген Фишер (1874–1967), Фриц Ленц (1887–1976) и мн. др. Но у Л. Вольтмана появился недавно новый поклонник – Владимир Борисович Авдеев. Он – исследователь и издатель трудов Л. Вольтмана на русском языке.
Вот как В. Б. Авдеев оценивает вклад Л. Вольтмана в развитие расовой теории: «Мы… считаем Людвига Вольтмана – гением Белой расы, несправедливо преданным забвению. Его вклад в науку XX века ещё в полной мере не оценён, а его методология весьма актуальна и сегодня, особенно для современной России. Вооружившись “Политической антропологией” мы без особого труда уясним биологические причины исторических процессов в нашей стране» (там же).
В. Б. Авдееву не стоит переживать по поводу забвения расистской морали. Её уже возродили в наше время идеологи современной глобализации (Жак Аттали, Збигнев Бзежинский и др.). Страны «золотого миллиарда» представляются им той «расой», которая в борьбе за существование опередила другие страны в силу своего превосходства над ними.
«Собственно, глобалистская теория естествнного отбора, – писал по этому поводу А. С. Панарин, – именно это и утверждает с обескураживающей откровенностью. Она говорит, что правом пользоваться дефицитными планетарными ресурсами, развивать собственную промышленность, науку и культуру должны лишь те страны, которые выиграли мировой конкурс рентабельности, экологичности, минимальной энергоёмкости… На место неприспособленных предприятий или отдельных социальных категорий теперь выступают неприспособленные народы, которым следует отказать в “кредите развития”, дабы они не наводняли нашу тесную планету недоброкачественным человеческим материалом. Так экономический социал-дарвинизм оказывается обыкновенным расизмом» (Панарин А. С. Искушение глобализмом. М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. C. 150).
Йозеф Геббельс
Дайте мне средства массовой информации и я из любого народа сделаю стадо свиней.
Й. ГеббельсВ своей дикой форме социал-дарвинизм представлен в фашизме. Его поклонником был Йозеф Геббельс (1897–1945).
Вот только три записи Й. Геббельса в его дневнике, свидетельствующие о его движении от человека к животному – иными словами, об его анимализации (оживотвлении):
1. «Разве борьба за существование – между человеком и человеком, государствами, расами, частями света – не самый жестокий в мире процесс? Право сильного – мы должны вновь явно увидеть этот закон природы, и тогда разлетятся все фантазии о пацифизме и вечном мире… Разве мы не хотим вернуться к природе? Проповедуйте пацифизм перед тиграми и львами! Что же ты хочешь от меня, если я сильнее?» (15 июня 1924; Ржевская Е. М. Геббельс: портрет на фоне дневника. М.: АСТ-Пресс Книга, 2004. С. 8).
2. «Человек был и остаётся животным. С низкими или высокими инстинктами! С любовью и ненавистью! Но животным он останется всегда» (16 августа 1925; там же. С. 42).
3. «Жизнь – большой обезьяний театр. И человек участвует в нём как обезьяна» (24 апреля 1926; там же. С. 57). «Обезьяний театр» – в том смысле, что люди лишь изображают людей, а по сути своей они обезьяны.
Опираясь на социал-дарвинизм в его нацистской форме, Й. Геббельс выдавливал из себя всё человеческое. Е. М. Ржевская писала: «Нацистом он всё же не родился. Он манипулировал сам собой, отсекая всё, что лишне национал-социалисту. Лишней была склонность к чтению, к размышлению над прочитанным. Лишним было эстетическое чувство. Лишним было всё человеческое» (там же. 206).
Человек без человечности в пределе есть животное. Но именно к животному нацисты сводили человека. Им это было на руку: если люди – животные, стало быть, в отношении к ним всё позволено! Гитлеровским пропагандистам (Й. Геббельс был рейхсминистром народного просвещения и пропаганды Германии с 1933 г. по 1945) понадобилось не так уж много времени, чтобы сделать из значительной части немцев полуживотных. Податлив человек! Как в одну сторону – к человечности, так и в другую – к озверению. К человечности ведёт эволюционная этика, а к озверению – инволюционная (социал-дарвинистская).
2. 3. 5. 2. Прагматизм (Ч. Пирс, У. Джемс, Д. Дьюи)
Основателем прагматизма стал Чарлз Пирс (18391914). Эволюционные идеи Ч. Дарвина приобрели у него интерпретацию мышления как особого вида приспособительной деятельности организма к окружащей среде и вылились в вульгарную анимализацию человека, т. е. в чрезмерное его сближение с животным.
Однако главным источником прагматизма для Ч. Пирса стала Америка – обыденное сознание её жителей и их образ жизни. «Но мировоззрение Пирса испытало воздействие и обыденного сознания буржуазно-предпринимательской Америки, – писал Ю. К. Мельвиль, – в его мышление проник дух “здравого смысла”, практицизма и утилитаризма, характерный для “американского образа жизни”» (Буржуазная философия кануна и начала империализма / Под ред. А. С. Богомолова, Ю. К. Мельвиля, И. С. Нарского. М.: Высшая школа, 1977. С. 303).
Если Ч. Пирс – вслед за Г. Гегелем – ещё пытался истолковывать понятие практики, не только с позиций здравого смысла, присущего американскому обывателю, но и с собственно философской (гносеологической) точки зрения, то у двух знаменитых его последователей – У. Джемса и Д. Дьюи – это понятие подверглось полной этикализции и стало синонимом выгоды.
У. Джемс и Д. Дьюи стали певцами американской предприимчивости. Лучше, чем кто-либо, они изложили в своих работах позицию человека, который в любой ситуации ищет для себя максимальную выгоду. Они видели главный смысл своих сочинений не в том, чтобы решать проблемы философов, а в том, чтобы помочь обычным людям, чувствовать себя во Вселенной как дома.
Сущность прагматизма была выражена Д. Дьюи в таких словах: «Функция интеллекта состоит не в том, чтобы копировать объекты окружающего мира (т. е. познавать их истинную сущность. – В. Д.), а скорее в том, чтобы устанавливать путь, каким могут быть созданы в будущем наиболее эффективные и выгодные отношения с этими объектами» (Современная буржуазная философия / Под ред. А. С. Богомолова, Ю. К. Мельвиля, И. С. Нарского. М.: Высшая школа, 1978. С. 24).
Уильям Джемс (1842–1910) получил европейское образование, учась в школах разных стран – в Швейцарии, Германии, Франции и Англии. На своей родине он окончил медицинский факультет Гарвардского университета, где он стал преподавать анатомию, физиологию, психологию, а затем и философию, которая сводилась у него главным образом к прагматистской этике, замешанной на социал-дарвинизме. В отличие от своих европейских коллег, которые, как мы только что видели, придали социал-дарвинизму расовую форму, У. Джемс станет использовать категории Ч. Дарвина вне этой формы. Он придаст им прагматическую форму, предполагая за ней «философию» выживания. От Ч. Дарвина он заимствовал в первую очередь категорию приспособления живого организма к окружающей среде.
Человек, с точки зрения У. Джемса, обладает удивительной живучестью. В этом свойстве он намного превосходит животных, поскольку обладает, в отличие от них, развитым сознанием. Всё дело лишь в том, чтобы умело пользоваться этим преимуществом. Он должен научить себя относиться к окружающему миру исключительно с прагматической точки зрения, чтобы чувствовать себя во вселенной как дома. Как же это сделать?
В том потоке сознания, который проходит через наши головы, необходимо оставлять только те идеи, из которых мы можем извлечь практическую пользу для своей личной жизни.
В практической выгоде той или иной идеи он и видел её истинность. Что же касается прочих идей, то они должны быть безжалостно отброшены в сторону, поскольку они лишь отвлекают нас от борьбы за существование. Среди идей, приносящих выгоду, он, между прочим, называл идею бога. Дело не в том, существует бог или не существует, а в том, что вера в него помогает человеку преодолевать жизненные препятствия.
Джона Дьюи (1859–1952) считают систематизатором прагматических идей Ч. Пирса и У. Джемса. Он делал это в своих статьях и книгах, а также в лекциях, которые читал в Мичиганском, Чикагском и Колумбийском университетах. Своих предшественников он превозносил до небес, поскольку они, в отличие от других философов, не летали в заоблачных высях чистой мысли, а стремились дать людям практическую философию – философию, заключающуюся в том, чтобы достигнуть в своей жизни действительного успеха. Вот почему появление прагматизма он уподоблял коперниковской революции в области практической философии.
Вслед за У. Джемсом Д. Дьюи видел свою миссию в том, чтобы учить людей, как в безграничном потоке представлений, составляющих наш обыденный опыт, отбирать лишь те, из которых мы можем извлечь личную выгоду. Новый аспект в практической философии Д. Дьюи – планирование счастливого будущего и поиск средств для его осуществления.
Но какие препятствия могут повредить человеку достичь процветания в жизни? Главное препятствие – страх перед враждебным ему миром. Он писал: «Человек боится потому, что он существует в страшном, ужасном мире. Мир полон риска и опасен» (там же).
А разве легче нашим животным собратьям? Борьба за существование и не может быть лёгкой. В этой борьбе выживает и достигает успеха лишь сильнейший. Вот так незаметно Д. Дьюи подвёл нас к прагматической нравственности. Её суть понятна каждому смертному: чтобы достичь успеха в этом страшном мире, нужно стать сильнейшим, ибо только сильнейший, только наиболее приспосабливающийся к окружающей среде, наиболее активный и предприимчивый человек может стать богатым.
Незаметно для себя, мы перешли к описанию той группы людей, которые чуть ли не в одночасье, растолкав своих менее проворных собратьев по бизнесу, вознеслась в полуразрушенной России на вершину личного процветания. Знать, хорошо они усвоили основы прагматической этики! Её приверженцы строят свои отношения с другими людьми на основе исключительно взаимовыгодных отношений.
Более того, сквозь прагматическую призму они стремятся смотреть на весь мир. Всё, что выходит за пределы их эгоистической выгоды, безжалостно ими отметается – включая науку, искусство, нравственность и прочее. Они живут делом и поэтому им не до сантиментов! Весь мир для них есть не что иное, как материал, на котором они делают деньги.
В некоторых отношениях Д. Дьюи ушёл дальше своих предшественников. Так, в отличие от У. Джемса, который говорил лишь о полезности идеи вообще, Д. Дьюи уточнял: следует говорить о полезности той или иной идеи применительно к конкретной ситуации, ибо, как говорил Г. Гегель, истина всегда конкретна. Если У. Джемс уподоблял истину кредитной карточке, которую можно обменять на другую кредитную карточку-истину, то Д. Дьюи его поправил: надо учитывать конкретную ситуацию. Надо найти такую ситуацию, где одну и ту же «истину» можно продать подороже, чем это можно сделать в другой.
Только слепой не увидит рациональное зерно в прагматизме, поскольку он учит человека активному, предприимчивому отношению к жизни, но надо ослепнуть, оглохнуть и обезуметь, чтобы не распознать его волчью сущность, которую он заимствовал из социал-дарвинизма. За внешне благопристойными рассуждениями его основателей скрывается не что иное, как закон джунглей, возвращающий нас в царство животных, в царство хищников. Кто такой хищник? Тот, кто в любой момент пытается вырвать из своей жертвы лакомый кусок. Но именно этому и учит в конечном счёте прагматизм.
Вдумаемся в основополагающий постулат прагматизма, состоящий в сведении истины к выгоде (как сказал бы Д. Дьюи, «к установлению выгодных отношений с объектами»). Выгодно мне верить, что Иисус воскресил мёртвого Лазаря, я верую; выгодно мне считать квазихронологию А. Т. Фоменко за великое открытие ХХ века, я считаю; выгодно мне признать в «Чёрном квадрате» К. Малевича гениальное художественное полотно, я признаю.
Да что там К. Малевич! Выгодно продажному адвокату выставить за ангела отъявленного преступника (вора, насильника, убийцу и т. д.), он приделает ему крылышки. Выгодно беспринципному менеджеру организовать авангардистскую выставку, где в качестве художественного произведения преподносится композиция из дохлых крыс, он её организовывает. Истина там, где платят! Вот вам и «установление выгодных отношений с объектами»! Вот вам и прагматизм! Его идеальное воплощение – деятельность беспринципного торговца и продажного адвоката.
Впрочем, на их место можно поставить любого, кто в любой ситуации стремится «установить выгодные отношения с объектами». В качестве этих объектов для прагматика выступает в идеале весь мир. Но особенно лакомый кусок американский прагматик видит сейчас в нашей стране – в России. Его орлиный взор с вожделением охватывает её просторы, всё ещё богатые природными ресурсами.
2. 3. 5. 3. Неолиберализм (А. П. Никонов)
Во всех наших поступках нами до сих пор руководит обезьяна, которая сидит внутри нас.
А. П. НиконовК разграничению добра и зла друг от друга следует подходить с эволюционной точки зрения: всё, что с п особствует нашему очеловечению, есть добро; всё, что этому препятствует, есть зло.
Способствует ли нашему очеловечению стремление к истине, прекрасному, любви, справедливости и тому подобным добродетелям? Вопрос риторический. В своей совокупности подобные добродетели и составляют нравственность. Безнравственность же, напротив, наполнена их противоположностями – ложью, безобразным, ненавистью, несправедливостью и прочими пороками.
Между нравственным началом и безнравственным в каждом из нас идёт борьба. Победа первого над вторым приближает нас к главному нравственному идеалу – Человеку. Победа же безнравственности над нравственностью, напротив, возвращает нас к нашим эволюционным предкам – животным. Если в первом случае мы имеем дело с очеловечением (гоминизацией), то во втором – с озверением (анимализацией).
Основателем анималистской псевдоэтики в Европе стал Маркиз де Сад (1740–1814). Устами своих героев из «Жюстины» и «Жульетты» он призывает своих читателей жить по законам природы. Но что он понимал под природой? Только ту её часть, которая составляет царство животных. Следовательно, жить по законам природы в устах их создателя означает не что иное, как озверение. Это озверение он и демонстрирует в своих книгах.
Главный и единственный принцип, на котором держится анималистская псевдоэтика Маркиза де Сада, есть принцип релятивизма, с помощью которого он без всяких угрызений совести стирает границы между добром и злом, исходя из разных представлений о них у разных народов и сводя эти представления к животным истокам. Поскольку эти представления могут у разных народов не совпадать, в его книгах делается неизменный вывод о том, что любая традиционная добродетель – выдумка, суеверие.
Вот что, например, мы можем прочитать у Маркиза де Сада о любви: «Любовь – не что иное, как национальное суеверие… Три четверти народов мира, которые обычно содержат своих самок взаперти, никогда не были жертвами этого безумия» (Маркиз де Сад. Жульетта. Т. 1. М.: НИК, 1992. С. 354).
Стирание разницы между добром и злом есть неприкрытый инволюционизм в области нравственности. За ним стоит не что иное, как анимализация – стремление к отождествлению человека с животным. Человечество в этом случае уподобляется царству животных, а стало быть, закономерности, действующие в последнем, переносятся на первое. В этом случае анимализации подвергаются все человеческие ценности.
В этом по преимуществу и увидел главный смысл своей жизни Маркиз де Сад. В своём поведении его герои ушли намного дальше животных, поскольку ни одно животное не способно на такую извращённую жестокость, на которую способны его персонажи. Так, некто Минский наслаждается сценами, где больные и беспомощные девушки разрываются на куски голодными львами и тиграми. Этот Минский, между тем, – «философ», предвосхищающий социал-дарвинистский закон джунглей: среди людей, как и среди животных, выживает сильнейший. В этом законе он и видел проявление подлинной справедливости, состоящей в удовлетворении эгоистического интереса. Разумеется, он опирался при этом на релятивистскую логику.
«Прежде чем решить, достойно ли осуждения моё поведение, в котором вы усматриваете несправедливость, – разглагольствует Минский перед Жульеттой, – мне кажется, надо чётко определить, что мы подразумеваем под справедливым или несправедливым деянием. Если вы немного поразмыслите над понятиями, которые скрываются за этими эпитетами, вам придётся признать, что они весьма относительны и им недостает реального смысла. Подобно понятиям добродетели и порока они зависят от географического положения. То, что порочно в Париже, оказывается, как вам известно, добродетельным в Пекине, точно так же дело обстоит и в нашем случае: то, что справедливо в Исфагане, считается несправедливым в Копенгагене. Разве существует что-нибудь постоянное в нашем изменчивом мире?» (там же. Т. 2. С. 5).
Любителям релятивистской логики можно задать один-единственный вопрос: если представления от добре и зле являются относительными, т. е. являются разными у разных народов, то не могли ли бы они назвать такой народ, у которого за подлинные добродетели принимались бы ложь и несправедливость, жестокость и ненависть, прелюбодеяние и сластолюбие и им подобные качества людей?
Таких народов нет. Вот почему имеющиеся между разными народами расхождения в оценке тех или иных нравственных категорий отнюдь не снимают их абсолютную общечеловеческую ценность.
Стереть грани между животным и человеком невозможно даже гениальному релятивисту: слишком велика пропасть между ними. К. Ясперс называл её бездной. Но отсюда не следует, что релятивизм бесполезен. Он оказался очень полезен, например, для Александра Петрович Никонова (род. в 1965) – автора книги с мудрёным названием: «Апгрейд обезьяны. Большая история маленькой сингулярности». Именно релятивизм руководил им в отборе и интерпретации этологических фактов. Он подбирал и комментировал их так, чтобы убедить читателя в том, что люди преувеличивают разницу между животными и людьми. Чтобы её уменьшить, он забрасывал бездну между ними релятивистски обработанными фактами это-логической науки.
Релятивизм – проверенное орудие всех реформаторов. Недаром А. П. Никонов поёт дифирамбы относительности истины за счёт отрицания истины абсолютной. При этом релятивизм у него, как и полагается, плавно переходит в плюрализм: в отношении к (относительной) истине все равны, у каждого – своя правда. Вот как это внушительно у него сформулировано: «…раз Абсолютной Истины не существует, отпадает нужда нести её слепцам силой. Передовая политическая мысль в развитых странах пришла к выводу: раз всё относительно и все правы (или неправы – это одно и то же), значит, воевать за Истину (спасибо за большую букву. – В. Д.) бессмысленно. Пущай будет плюрализм. А те граждане, партии и государства, которые этого ещё не поняли, психологически находятся на уровне Средневековых крестовых походов – в романтической юности человечества. Тем и опасны романтики – и в политике, и в быту» (Никонов А. П. Апгрейд обезьяны. Большая история маленькой сингулярности. М.: НЦ ЭНАС, 2005. С. 60).
Вот ведь как ставится вопрос: если ты ещё не отказался от поиска Истины, ты – отпетый ретроград и опасный романтик. Слава богу, хоть не враг народа.
Апргрейд – совершенствование. Уже отсюда следует инво-люционизм автора книги, о которой идёт речь: хоть человек и усовершенствованная, цивилизованная, культурная, но – обезьяна. Обезьянье начало в человеке, идущее от его животных предков, А. П. Никонов показал блестяще.
Из древесной стадии их существования А. П. Никонов вывел индивидуализм (в отличие от хищников, им не нужен был коллективизм, необходимый для корпоративной охоты), нечистоплотность (нечистоты не нужно было прятать, они сами сваливались с деревьев вниз), любовь к сладкому (питались сладкими плодами), острота зрения и уменьшение носа (способствовали поиску плодов) и т. п. Из водной стадии – облысение тела (для обтекаемости), увеличение мозга (чтобы иметь запас нервных клеток для преодоления кислородного голодания при нырянии), выпрямление тела и удлинение ног (положение в воде вынуждало) и т. д.
Всё это представлено убедительно, логично, талантливо! Прекрасный, доходчивый слог! Всё, казалось бы, замечательно. Но что остаётся в результате? В результате обезьяна в человеке у него заслоняет человека как существо, ушедшее от своих животных предков по пути культурной эволюции на изрядное расстояние. Н. П. Никонов сокращает это расстояние. Вот тут-то и зарыта собака его инволюционизма.
Недооценка культурного начала в человеке ведёт к его анимализации. Старый вопрос о соотношении биологического начала в человеке и социокультурного решается у А. П. Никонова в конечном счёте в сторону первого. «Романтические» идеалы гоминизации (истина, красота, добро, справедливость, единение и т. п.) заслоняются у него их антиподами. Так он вливается в число социал-дарвинистов.
Свою громогласную книгу А. П. Никонов начал за здравие, а кончил за упокой: с гордой высоты эволюционизма, он опустился в грязное болото инволюционизма. При этом вот что характерно: инволюцию в культуре он выдаёт за новейший эволюционизм. Заявив о себе, как о «технаре, вооружённом методологией общего эволюционизма» (там же. С. 267), он превратился в певца суицида, наркомании, разврата и прочих прелестей культурной инволюции, которую он называет новой либеральной нравственной парадигмой.
Что эта за парадигма? А это когда полнейшая свобода. От всяких нравственных «предрассудков». Это когда делай, что хочешь. Как в Телемском аббатстве у Ф. Рабле. Хочешь покончить с собой – пожалуйста, хочешь быть наркоманом – пожалуйста, хочешь наслаждаться развратом – пожалуйста.
Вот некоторые перлы инволюционной псевдоэтики из книги А. П. Никонова:
1. «Итак, одним из следствий либеральной нравственной парадигмы, которая, повторюсь, уже завоевывает себе место на планете, является безусловное право на самоубийство. Но если человек имеет право на самоубийство, вправе ли социум запрещать способы самоубийства? Прыгнуть с крыши можно? Перерезать вены? Застрелиться? Повеситься? Спиться? Всё вышеперечисленное не запрещено. Не запрещены законодательно никакие быстрые способы самоубийства. Не запрещены также некоторые медленные способы сокращения жизни. Можно спиться. Трое моих знакомых – два одноклассника и один коллега по работе – умерли от пьянства в тридцать с небольшим… Можно сокращать свою жизнь неправильным питанием – жрать острое, кислое, соленое, сладкое, жареное. Можно сокращать свою жизнь гиподинамией» (там же. С. 293).
2. «Можно расправляться с собой, принимая легальные наркотики – алкоголь, табак. Можно ввести себе шприцем в вену бензин или воздух – и умереть тут же. А вот героин ввести нельзя. Хотя героин убивает не сразу, дает ещё пожить годика четыре. Почему такая несправедливость? Об этом стоит поговорить. В развитых странах общественное сознание медленно сдвигается в сторону большей наркотолерантности. Про Голландию и Швейцарию и речи нет, они уже давно в этом смысле притча во языцех. А вот не так давно Британия легализовала медицинское (пока что) применение марихуаны… В Германии принят закон о создании в стране «Fixerstuben» – сети пунктов бесплатной раздачи и употребления слабодействующих наркотических препаратов. Первые пункты уже действуют в Гамбурге, Ганновере и Франкфурте-на-Майне. Аналогичные программы существуют в Швейцарии, Испании» (там же. С. 293).
3. «Решайте для себя сами, хотите ли вы тратить душевные силы на поддержание в своей голове общественных сексуальных предрассудков или смело отправитесь с женой в клуб свингеров. Человеку разумному предрассудки не нужны: у него есть техника безопасности» (там же. С. 166).
Если вы не хотите прослыть ретроградом (ханжой), то толерантно принимайте всё, как есть, – проституцию, гомосексуализм, однополые браки и т. п. А уж о таком пустяке, как супружеская измена, и говорить, с точки зрения неолиберальной нравственной парадигмы, излишне.
В главе «Сексу – да!» новоявленный моралист пишет: «Разврат, говорите вы? О'кей! Разврат. Но разврат – это очень хорошо! Что такое разврат? Разврат – это более лёгкое отношение человека к чему-либо» (там же. С. 167). А завершает он эту жизнерадостную главку призывом «Голосуйте за разврат» (там же. С. 168). Почему бы в таком случае не проголосовать и за педофилию?
А. П. Никонов способствует своей книгой не дальнейшей гоминизации человека, не дальнейшему его культурогенезу, а его анимализации, возвращению к животному. Если животные, например, используют одуряющие средства, почему людям в этом отставать? Что естественно – небезобразно. Его «Апгрейд обезьяны» способствует не уменьшению обезьяны в человеке, а её увеличению в нём. Главный лейтмотив его книг, как ни странно, – призыв к одичанию, ибо с животными «мы братья по крови» (там же. С. 183).
Вооружившись этологическими знаниями, А. Н. Никонов упорно убеждает своего читателя в том, что обезьяны в нём, как и в любом другом человеке, неизмеримо больше, чем человека. А раз так, зачем себя насиловать? Отдайся на волю своих животных инстинктов и живи в своё удовольствие.
От понятливого читателя книг А. П. Никонова требуется, в частности, вот что: понять, что слова «честь», «долг», «любовь» и т. п. люди придумали лишь для того, чтобы скрыть свою животную сущность. «…эти слова, – объясняет он непонятливому читателю, – не объясняют, а лишь прикрывают, как краска ржавчину, естественно-животные корни человеческого поведения» (Никонов А. П. Судьба цивилизатора. Теория и практика гибели империй. М.: ЭНАС, 2008. С. 40).
Надо прямо сказать, показывает А. П. Никонов упомянутые «естественно-животные корни человеческого поведения» просто виртуозно! Чуть ли не на каждой странице, он напоминает нам о том, что мы. животные. По сути своей! По большому счёту. Мы только обогнали других животных в развитии средств, служащих для удовлетворения своих потребностей, но по сути своей, по большому счёту остались обезьянами. И воюем мы так же, как павианы, и родину мы защищаем, как павианы, повинуясь территориальному инстинкту, и радуемся солнцу, как павианы. Анимализация в этом случае переходит в приматизацию (от «примат»). При этом А. П. Никонов доходит до таких её тонкостей, что иногда вместе с ним приходится жалеть, что мы произошли от обезьян, а не от свиней, например.
В самом деле, по обезьяньей традиции взрослые люди отправляют на войну своих детей. «У кабанов, скажем, совсем не так, – ставит кабанов в пример людям автор этих слов. – У них сражаются только секачи – матёрые, здоровенные, седые самцы с жёлтыми клыками. А обезьяны посылают в бой более слабых – молодняк. Благородные звери, что тут скажешь.» (там же. С. 37).
Что и говорить, велика сила зверя, живущего в человеке! На недооценку биологической природы человека указывал наш знаменитый хирург Н. М. Амосов. В «Энциклопедии Амосова» читаем: «Итак, человек. Почитаешь наших учёных, так получается, что всё, что ниже глаз, – почти как у шимпанзе, а выше – продукт общества: сделай революцию, уничтожь частную собственность, повторяй лозунги – коммунизм обеспечен» (Амосов Н. М. Энциклопедия Амосова. Донецк: Сталкер, 2002. С. 429). В другом месте у него же читаем: «…в среднем человек, в сравнении с другими животными, выглядит неважно. Он агрессивен, жаден, сексуален, эгоистичен» (там же. С. 443).
Однако, в отличие от А. П. Никонова, Н. М. Амосов не останавливался на сближении человека с животным. Дальше он пишет: «Правда, не труслив, любопытен, способен к азарту и риску, когда сопротивление желаниям и действиям мобилизует эмоции и напряжение. Но самое главное: он обучаем и воспитуем» (там же).
А. П. Никонов мог бы при желании найти в Н. М. Амосове своего союзника. Последний не без гордости заявлял: «Я всю жизнь исповедовал примат биологии в человеке и обществе» (там же. С. 235). Возьмём для примера такую цитату из его книги: «Потребности и чувства являются производными от основных инстинктов и сложных рефлексов. Самосохранение дало нам страх, голод и жадность, эмоции гнева и ужаса. Стремление к продолжению рода породило нежность, сексуальные чувства, любовь к детям, а также горе от потери близких. Наиболее сложен самый молодой из инстинктов – стадный. Он даёт целую гамму потребностей-чувств: сначала общение, потом подражание и подчинение, дальше самовыражение, ещё дальше лидерство и властолюбие. Всё это в двух измерениях – эгоизма или альтруизма. Думаю, что важнейшую роль в создании цивилизаций сыграло не трудолюбие, а агрессивность» (там же. С. 234; 444).
Анимализация человека в этих словах не подлежит сомнению. Но всё-таки их автор не заходил в ней чересчур далеко. Так, за только что представленной биологической интерпретацией культурогенеза сразу же следует собственно культурологическое объяснение разницы между человеком и животным: «Человека отличает от животного способность к творчеству, которая позволяет создавать новые модели, а высокая трени-руемость нейронов придаёт им такую активность, что они могут побороть биологические потребности» (там же. С. 234).
Николай Михайлович Амосов (1913–2002), этот великий врач и выдающийся эволюционист-просветитель, – наша гордость. На личном примере он блестяще продемонстрировал истинность приведённых слов. С героическим упорством он боролся со своими биологическими потребностями почти полвека. Благодаря разработанному им режиму ограничений и нагрузок, он продлил свою жизнь до 89 лет. Вот истоки этого режима: «На войне впервые был приступ радикулита, потом он часто повторялся, возможно, от длительных операций. В 1954 году стало совсем плохо: на рентгене определились изменения в позвонках. Тогда я и разработал свою гимнастику 1000 движений: 10 упражнений, каждое по 100 (по мере старения он стал увеличивать количество движений всё больше и больше. – В. Д.). Это помогло. Чари (собака. – В. Д.) добавила утренние пробежки. Система дополнилась ограничениями в еде: строго удерживал вес не более 54 кг (при росте 168/166 см. – B. Д.). Продумал физиологию здоровья и получился “Режим ограничений и нагрузок” – любимая тема для публики» (там же. C. 12).
Н. М. Амосов был великим тружеником. На пути к очеловечению он достиг фантастических успехов в первую очередь благодаря его железной воле, которую он определил очень точно: «Воля – механизм доведения намеченного плана до конца, до исполнения» (там же. С. 234).
Что и говорить, как только дело доходит до выживания, до ущемления наших телесных интересов, до средств нашего драгоценного существования, так сразу же в нас просыпается мощный инстинкт самосохранения, напоминающий нам о нашем эволюционном родстве с животными. Сколько нравственных уступок совершает человек ради сохранения своей плоти! Сколько крови он пролил ради неё! На какие только подлости он ни шёл, чтобы выжить! Но что же отсюда следует? Есть два ответа на этот вопрос: отдаться целиком на волю своей животной плоти или, как это и подобает Человеку, сопротивляться её ненасытным потребностям. Первый ответ ведёт к анимализации человека, а второй – к его дальнейшей гоминизации.
Нельзя недооценивать животное (биологическое) начало в человеке, но нельзя его и переоценивать за счёт начала социокультурного. Не получается между этими началами и золотой середины. Без приоритета одного над другим здесь не обойтись. В былые времена был общепринят приоритет социокультурного начала в человеке над биологическим (животным). Вот как о нём писал, например, выдающийся советский генетик Н. П. Дубинин: «Признавая примат социального в человеке, мы не умаляем того факта, что биологическое имеет огромное значение для его жизнедеятельности. Однако, утрачивая своё сущностное значение, оно выступает в качестве необходимых предпосылок развития труда, духовной и материальной культуры. Биологическое, представляя низшую форму движения материи, не входит в социальную сущность» (Дубинин Н. П. Что такое человек. М.: Мысль, 1983. С. 269).
Это надо понимать так: в сущность человека животность не входит, а входит в неё то, что отличает человека от животного. Это качество и есть то, что делает человека человеком, т. е. человечность. Это качество и составляет социокультурное начало в человеке. Благодаря ему, наши предки создали культуру. Обезьяны продвинулись в своём развитии дальше других животных, но и они сумели в своей эволюции подняться лишь до предкультуры. Между их предкультурой и человеческой культурой – бездна.
Эволюционная этика исходит из приоритета культурного (социокультурного) начала в человеке над биологическим, поскольку первое было приобретено человеком в ходе его культурной эволюции, а второе унаследовано им от животных предков. Конечно, в конкретных людях эти начала представлены в разных пропорциях, что позволяет нам говорить о том, что один человек прошёл в своём культурном развитии больший путь, чем другой. Более того, в разных пропорциях эти начала сосуществуют и в одном человеке – в разные периоды его жизни и в разных обстоятельствах. Не для кого не секрет, что в каждом из нас дремлет зверь, который может взять над нами власть, если мы ему поддадимся.
Приоритет культурного над биологическим вовсе не даётся каждому из нас как дар божий. Он требует от нас каждодневных усилий. У людей, тонко чувствующих, борьба между человеческим и животным началами может приобрести мучительную форму.
Такого героя – Гарри – изобразил в своем романе «Степной волк» Герман Гессе. В жизни Гарри человек боролся с волком: «…когда Гарри чувствовал себя волком и вёл себя, как волк, когда испытывал ненависть и смертельную неприязнь ко всем людям, к их лживым манерам, к их испорченным нравам. в нём настораживался человек, и человек следил за волком, называл его животным и зверем, и омрачал, и отравлял ему всякую радость от его простой, здоровой и дикой волчьей повадки» (Гессе Г. Избранное. М.: Художественная литература, 1997. С. 244).
Развивая мысли о формах животности в человеке, Гессе писал: «Итак, у Степного волка (т. е. у Гарри. – В. Д.) было две природы, человеческая и волчья; такова была его судьба, судьба, возможно, не столь уж особенная и редкая. Встречалось уже, по слухам, немало людей, в которых было что-то от собаки или от лисы, от рыбы или от змеи.» (там же. С. 243).
Н. П. Никонов эволюционее Г. Гессе, поскольку увидел в людях больше всего сходства с нашими ближайшими эволюционными предками – обезьянами.
Хочется спросить Александра Петровича: «Ну, хорошо. Выполнили Вы свою заветную цель – доказали, что обезьяньего в нас. хоть пруд пруди. И что дальше? На этом и поставим точку? Не стоит останавливаться на достигнутом. Надо писать новую книгу – о превращении обезьяны в человека. Объяснить этот мир – прекрасно, но надо стремиться ещё и изменить его к лучшему».
А в какую сторону изменяют мир книги А. П. Никонова, о которых здесь шла речь? Они энциклопедичны. В этом их просветительская роль. Но мировоззренческая сверхзадача этих изысканий, увы, далека от подлинного энциклопедического эволюционизма, поскольку они ведут доверчивого читателя не к Человеку, а к обезьяне. Инволюцию их автор сплошь и рядом выдаёт за эволюцию.
Люди дичают не потому, что обезьянье начало в них непреодолимо, а потому, что их ставят в животные условия – условия выживания. Анимализация в таких условиях неизбежна: они направлены на стирание граней между человеком и животным. Каков век, таков и человек.
3. Эволюция духовной культуры в Европе
Идеал культурного человека есть не что иное, как идеал человека, который в любых условиях сохраняет подлинную человечность.
А. ШвейцерВ своём движении от животного к Человеку каждый из нас становится всё больше и больше человеком. В этом и стоит человеческая эволюция. Но в этом же состоит и культурная эволюция, поскольку первая – синоним второй. Иначе говоря, история очеловечения есть не что иное, как история культуры, поскольку своим очеловечением мы обязаны всей предшествующей культуре.
В ХХ в. получили распространение упрощённые схемы культурной эволюции. Так, под влиянием О. Шпенглера были созданы культурологические теории Арнольда Тойнби (1889–1975) и Питирима Сорокина (1889–1968).
В своей теории локальных цивилизаций А. Тойнби исходил из деления цивилизаций (культур) на три поколения – первое, второе и третье. Для первого поколения характерен примитивный уровень развития культуры – в них имеются элементы материальной культуры, но отсутствуют развитые формы духовной культуры (науки, искусства и т. д.). В цивилизациях второго поколения происходит расцвет не только материальной культуры (рост больших городов вроде Рима, разделение труда, активный товарообмен и т. д.), но и духовной. Яркий пример цивилизации этого поколения – китайская или южноамериканская. Цивилизации третьего поколения, наконец, формируются на основе религии, которая подчиняет себе всю культуру в них. Сюда входят христианские, исламские, индуистские и т. п. цивилизации.
В интеграционной теории культуры П. Сорокина тоже выделяется три типа культуры – идеационный, идеалистический и сенситивный. Для первого типа характерен теоцентризм.
Пример этого типа культуры – западноевропейская культура раннего Средневековья. Для второго типа культуры характерно сосредоточение на идеальном миропорядке (пример – позднее Средневековье в Западной Европе). Наконец, третий тип культуры характеризуется сосредоточением его представителей на чувственных благах (пример – эпоха Возрождения в Западной Европе).
О. Шпенглер, А. Тойнби и П. Сорокин были циклистами в культурологии, т. е. людьми, считающими, что любая культура в своей эволюции проходит через определённые этапы (каждый тип цивилизации или культуры интерпретировался ими в эволюционном смысле). Но этапы, выделяемые ими в истории культуры, выглядят чересчур примитивно. Неужели, например, историю любой культуры можно разделить, как это делал П. Сорокин, на бесконечные циклы, включающие в себя только три этапа – этап идеационной культуры, идеалистической и сенситивной? Вопрос риторический.
Приблизительно с конца 50 гг. в культурологической науке наметился возврат к той форме эволюционизма, которая была характерна для культурологов-эволюционистов XIX в. (Ю. Липперта, Э. Тейлора, Л. Моргана и др.). Эта форма, хотя и не отказывается от выделения определённых этапов в эволюции культуры, исходит из положения о том, что история культуры – сложнейший процесс, знающий как периоды прогресса, так и периоды регресса и застоя. Возврат к традиционному эволюционизму в современной культурологии часто связывают с американским учёным Лесли Уайтом (1900–1975). В 1959 г. он говорил: «Теперь есть признаки того, что эра антиэволюционизма в культурной антропологии приближается к концу. Мы как будто выходим из тёмного туннеля или просыпаемся от дурного сна. Потеряно много драгоценного времени на борьбу с этим полезным научным понятием эволюции, но теория эволюции займет вновь своё место и продемонстрирует свою ценность в культурной антропологии, как это было уже давно в других областях науки» (Токарев С. А. История зарубежной этнографии. М.: Высшая школа, 1978. С. 291).
Своим возникновением культурогенез обязан своей предшествующей, дочеловеческой, эволюции – физической, биологической и психической. На её выходе мы видим наших животных предков, подготовленных к гоминизации, т. е. к превращению в людей, к очеловечению.
Гоминизация наших предков стала возможной лишь потому, что в результате эволюции они пробрели способность к культуросозидающей, творческой деятельности, результатом которой стали её продукты – продукты материальной и духовной культуры. Я остановлюсь здесь главным образом на краткой характеристике основных периодов в истории европейской культуры – античной (на примере греческой), средневековой, эпохи Возрождения, Нового времени, XIX и ХХ вв. А какой была культура до античного периода в её развитии? Первобытной. Она длилась больше двух миллионов лет.
3. 1. Первобытная культура
У А. А. Зубова читаем: «Становление рода Homo, несомненно, было эволюционным скачком, причём в те времена и в той среде это был “скачок через пропасть” (имеется в виду ухудшение климатических условий в середине III миллионолетия до н. э. на прародине первых людей – в Восточной Африке. – В. Д.). Исключительность таксона Homo проявилась ещё в одном необычайно важном его свойстве – способности к систематическому использованию, а затем и к обработке камня. Практически одноврменно с возникновением человеческого рода и возникла первая, постоянно совершенствующаяся технология» (Зубов А. А. Становление и первоначальное расселениие рода Homo. СПб.: Алетейя, 2011. С. 27).
Когда появились первые люди? А. А. Зубов в только что процитированной мною книге допускает, что это произошло около 3 млн. лет назад, однако его удерживают от этой цифры данные антропологии, которые, возможно, со временем подтвердят и более долгий эволюционный возраст человечества. В настоящее же время считается, что переход от человекообразных обезьян к людям начался приблизительно 2,5 миллиона лет назад. «Таким образом, – читаем у А. А. Зубова, – датировка возникновения первых людей, во всяком случае, по мнению антропологов, пока ограничивается рубежом 2,5 млн. лет» (там же).
Следует обратить особое внимание на это «пока», поскольку в антропологии действует тенденция к удлинению эволюционного возраста людей. Если мы посмотрим книгу П. И. Борисковского «Древнейшее прошлое человечества» (М.: Наука, 1979) на 32 стр., то на месте теперешних 2,5 млн. лет увидим 1,75-1,85 млн. лет. М. А. Дерягина в своей книге «Эволюционная антропология: биологические и культурные аспекты» (М.: УРАО, 1999) увеличила последнюю цифру до 2 млн. лет (с. 67). Вполне возможно, что со временем дело дойдёт до узаконивания эволюционного возраста человечества в 3-4-5 млн. лет. Тем более, что современная антропология – наука бурно развивающаяся. Ей на помощь к тому же всё активнее приходит генетика.
Итак, вслед за А. А. Зубовым будем считать, что первые люди появились приблизительно 2,5 млн. лет назад в Восточной Африке – на территории современной Кении, Эфиопии и Танзании. Уже с начала II миллионолетия до н. э. они стали расселяться по африканскому континенту во все четыре стороны, а со временем добрались до Европы, Азии, Австралии и Америки. При этом они, естественно, становились людьми всё в большей и большей степени. Иначе говоря, они осуществляли свою человеческую эволюцию.
Только один вид благополучно дожил до настоящего времени – это мы, Homo saptens. Но наш вид, как считают теперь, появился лишь 100 тысяч лет назад (некоторые исследователи увеличивают его возраст вплоть до 250 тысяч лет). Возникает вопрос, кто мы и откуда? Иначе говоря, какова периодизация человеческой эволюции?
Картина антропогенеза, как она изображена в современной науке, характеризуется крайней неустойчивостью. А. В. Марков это объясняет её бурным развитием. Он пишет: «Изучение антропогенеза в последние годы продвигается семимильными шагами. Сенсационные открытия совершаются чуть ли не ежемесячно» (Марков А. В. Эволюция человека. В 2 кн. Кн. 1: Обезьяны, кости и гены. М.: Астрель: CORPUS, 2012. С. 16).
Я постараюсь обойти сенсационные страницы в изучении антропогенеза. Я не буду здесь рассказывать, например, об открытии карликовых людей («хоббитов») Homo florensiensis, остатки которых были обнаружены в 2003–2004 гг. в Индонезии М. Морвудом и П. Брауном на острове Флорес и которые жили, как предполагают, 95–12 тыс. лет назад.
Я не буду также анализировать ситуацию, возникшую с денисовским человеком, останки которого обнаружены в Денисовской пещере на Алтае (см. о ней указ. кн. А. М. Маркова на с. 325–338). Я не буду также обсуждать здесь вопрос о каннибализме у антесессоров. Весьма подробную картину антропогенеза можно найти в книгах А. А. Зубова, А. В. Маркова, С. А. Бурлак и др.
Я здесь ставлю перед собой задачу поскромнее: обрисовать периодизацию антропогенеза в её более или менее устойчивом виде.
Человеческую историю делят на три больших периода. Первый из них охватывает историю ранних Homo, второй – средних Homo (архантропов), и третий – поздних Homo. Первый начался приблизительно 2,5 млн. лет назад, второй – 2 млн. лет назад и третий – 200–100 тыс. лет назад.
Ранние Homo
Прародителем человека (а стало быть, самым первым человеком) считают человека умелого – хабилиса (Homo habilis). Останки его 12-летнего ребёнка обнаружил в Олдувайской пещере в Танзании в 1960 г. кенийский антрополог Луис Лики (1903–1972) со своей женой Мэри (1913–1996).
Мозг взрослого хабилиса был в среднем больше, чем у ав-тралопитеков – приблизительно 650 см3 (у современных людей он колеблется между 1000 и 1800). Он был прямоходящим.
Однако главное его эволюционное приобретение – высокая степень развития кистей рук, благодаря которому он изготавливал орудия труда – из палок, костей, рогов, но в особенности из камней.
Хабилис стал творить материальную культуру, которую назвают Олдувайской. Главное её свидетельство – каменные ножи. Они представляли собой обломки камней с заострёнными краями, которые умелые люди изготавливали с завидным упорством. Эти камни использовались для обработки растительной и животной пищи, для разделки туш животных и т. п.
Но дело у хабилисов не ограничивалось материальной культурой. Они владели языком, а язык – продукт духовной культуры. Об этом свидетельствует строение их органов произношения: челюсти стали менее массивными, чем у их животных предков – автралопитеков, а гортань была в какой-то мере уже похожа на гортань современных людей). Более того, по строению их черепа было даже обнаружено наличие в их мозге центра речи – центра Брока. А. В. Марков в связи с этим пишет: «Для мозга хабилисов по сравнению с австралопитеками характерно усиленное развитие участков, которые у современных людей связаны с речью и координацией движений рук. Таким образом, хабилисы – первые гоминиды, у которых заметны признаки эволюционного движения в сторону развития речи» (там же. С. 142).
Архантропы
К архантропам относят человека прямоходящего – эректуса (Homo erectus). Он произошёл от хабилиса, хотя и, по утверждению А. В. Маркова, сосуществовал со своим предком в течение полумиллиона лет.
Именно эректус стал продвигаться из Африки около 2 млн. лет назад на Ближний Восток, Европу и Азию. Африканского эректуса называют человеком работающим – эргастером, европейского – гейдельбергским человеком, китайского – синантропом и индонезийского – питекантропом. Последние чуть ли не дожили до нашего времени: последние питекантропы в Индонезии вемерли 27 тысяч лет назад.
Эректусы стали намного больше походить на сапиенсов, чем хабилисы. Объём их мозга чуть ли не сравнялся с современным человеком – от 900 до 1200 см3. Они – основатели ашёльской культуры. Так назвали первую культуру за пределами Африки (по месту её продуктов во Франции – Сент-Ашёль). Она возникла приблизительно 1,8 млн. лет назад. Представители этой культуры существенно продвинулись на пути очеловечения. Они изготавливали более сложные орудия труда, чем хабилисы. Пользовались деревянными копьями. Жили в пещерах. Носили одежду и т. д.
Психическая и культурная эволюция эректусов влияла на их языковую эволюцию, которая в свою очередь способствовала их дальнейшему психогенезу и культурогенезу.
О развитии языка у эректусов свидетельствует в первую очередь два факта: 1) их челюсти мало чем отличаются от челюстей современных людей; 2) строение их черепа свидетельствует о значительном увеличении центра Брока – центра речи в мозге.
Поздние Homo
Их главные виды – неадерталец (Homo neaderthalensis) и кроманьонец, сапиенс (Homo sapiens – человек разумный).
Неадерталец (по месту находки его останков в 1856 г. в ущелье Неадерталь в Германии) и сапиенс, по-видимому, произошли от разных подвидов эректуса: первый – от европейского (гейдельбергского человека), а другой – от африканского (эргастера). По мнению А. В. Маркова, они появились на сцене мировой истории в одно и то же время – приблизительно 130–125 тыс. лет назад (Марков А. Эволюция человека. В 2 кн. Кн. 1: Обезьяны, кости и гены. М.: Астрель: CORPUS, 2012. С. 451). Однако борьба не на жизнь, а на смерть между ними развернулась примерно 45 тысяч лет назад, когда сапиенсы, которые долго осваивали Азию и даже перебрались в Австралию, стали, наконец, переселяться в Европу, которая была уже оккупирована неадертальцами.
Борьба между двумя видами людей – неадертальцами и кроманьонцами – закончилась исчезновением первых предположительно через 5 тысячелетий. Следовательно, 40 тыс. лет мы, люди, живём на Земле в единственном числе. Все остальные виды людей – хабилис, эректус с четырьмя его подвидами (эргастер, гейдельбергский человек, синантроп и питекантроп) и неадертальцы канули в Лету.
Первобытные люди пользовались главным образом каменными орудиями. Вот почему начальную эпоху их культуры называют каменным веком, который перешёл в бронзовый и железный века уже в античности (с конца IV тысячелетия до н. э.). В каменном веке люди осваивают упрощённые формы животноводства и земледелия, изготовляют всё более усложняющуюся одежду, строят примитивные жилища – полуземлянки, бревенчатые и свайные. Освоение огня позволяет им улучшать качество пищи и утеплять жилища.
Скудные свидетельства о первобытном времени говорят нам о том, что процесс гоминизации наших предков начался с материальной культуры. Недаром слово «культура» у римлян имело земледельческий смысл. Старое, материальное, значение этого слова сохранилось и до сих пор – когда мы слышим о культуре земледелия, культуре обработки земли, о сельскохозяйственных культурах и т. п.
Материальная культура, бесспорно, была и будет основой, на которой развивалась и будет развиваться духовная культура. Но только один компонент духовной культуры возник одновременно с материальной культурой – это язык. В этом нет сомнения, поскольку без языка невозможна культуросозительная деятельность и поскольку у наших животных предков он уже в зародышевой форме существовал.
Другой формой духовного освоения мира стала мифология. Э. Тейлор писал: «Первая и главная причина превращения фактов ежедневного опыта в миф есть верование в одушевление всей природы – верование, которое достигает высшей своей точки в олицетворении её… Для примитивных человеческих племен солнце и звезды, деревья и реки, облака и ветры становятся личными одушёвленными существами, которые живут наподобие людей или животных и исполняют предназначенные им в мире функции с помощью членов, как животные, или искусственных орудий, как человек» (Тейлор Э. Б. Первобытная культура. М.: Политиздат, 1989. С. 129).
Новой формой духовного освоения мира стало первобытное искусство. Люди в это время создавали наскальные рисунки (петроглифы), изготовляли скульптурные фигурки животных и людей из глины, дерева и других материалов.
3. 2. Античная культура
Наибольшего расцвета древняя культура достигла в Греции (Элладе). Историю древнегреческой культуры обычно делят на три периода – доклассический, классический и постклассический (эллинский).
Классический период охватывает V–IV вв. до н. э. Его называют золотым веком в истории античной культуры. «Литература и философия, скульптура и архитектура этого периода, – читаем мы в первой части «Введения в культурологию» под ред. В. А. Сапрыкина (М.: МГИЭМ, 1995) на стр. 93, – стали нормой и образцом для всей последующей античности. Это время политиков-реформаторов Солона и Ликурга; скульпторов Фидия, Поликтета, Праксителя; величайших философов Сократа, Платона, Аристотеля; трагиков Эсхила, Софокла и Еврипида и творца античной комедии Аристофана».
Существует мнение, по которому определяющая роль в развитии древнегреческой культуры в целом и её классического периода в частности отводится искусству. Так, В. Бычков писал: «Античная духовная культура вся пронизана искусством. Греческая философия теснейшим образом связана с эстетикой и без последней. не может быть понята. Греческая математика, физика, астрономия – “скульптурны и осязательны”» (указ. соч. С. 88).
Данную точку зрения на древнегреческую духовную культуру можно назвать артоцентрической, поскольку люди, разделяющие её, ставят в центр этой культуры искусство, считая данную сферу духовной культуры определяющей по отношению к другим – религии (мифологии), науке, нравственности, политике. Но артоцентризм не учитывает прежде всего того общепризнанного факта, что само античное искусство было насквозь пронизано мифологией.
Мифологизированными у греков были архитектура, скульптура, литература. Так, самый знаменитый храм Древней Греции Парфенон, построенный в Афинах под руководством Иктина и Калликрата в V в. до н. э. был построен в честь богини Афины. В Олимпии, где каждые четыре года проводились Олимпийские игры, считающиеся священными, был построен храм в честь победы Зевса над своим жестоким отцом Кроном. В Дельфах же красовался храм Аполлона, где прорицательница-пифия предсказывала будущее и т. д. Эти храмы украшались величественными скульптурными изображениями Афины, Зевса Аполлона, Артемиды и других богов.
Не вызывает сомнения глубочайший мифологизм древнегреческой художественной литературы. Поэмы Гомера и Гесиода являются не только художественными произведениями, но и мифологическими. Но и классическая литература Греции насквозь пронизана мифологией. Для подтверждения этого достаточно упомянуть о названиях трагедий Эсхила – «Агамемнон» и «Прикованный Прометей», Софокла – «Царь Эдип» и «Антигона». Еврипида – «Медея» и «Киклоп», где участвуют мифологические персонажи.
Факт мифологизации греческого искусства может рассматриваться как аргумент против артоцентрической точки зрения на историю древнегреческой культуры. Более оправданной, на наш взгляд, является мифоцентрическая (теоцентрическая) точки зрения на неё. В отношении к греческой художественной культуре её правомерность ни у кого, надо полагать, не вызывает сомнения: мифология лежит в её основе. В меньшей мере мифологизированными оказались у древних греков другие сферы духовной культуры – наука, нравственность и политика. Но и здесь мифология играла свою ведущую роль.
Конечно, зародившаяся приблизительно в VI в. до н. э. наука в Древней Греции была во многом антиподом религии, поскольку мифологический взгляд на мир она стремилась заменить на научный, обнаруживая в нём объективные закономерности. Однако подобное противостояние, очевидно, тоже можно рассматривать как аргумент в пользу мифоцентризма древнегреческой культуры, поскольку миф выступает здесь в качестве отправного пункта для развития науки. Более того, мифологизм во многом проник в само научное мышление античного времени. Так, Пифагорейский союз, основанный Пифагором в последней трети VI в. до н. э., был задуман его основателем как тайная организация, в какой-то мере похожая на религиозную. Членам союза запрещалось употреблять в пищу бобы, поскольку они почитались ими за священное растение. По преданию, Пифагор погиб от рук преследователей около бобового поля, где он мог спастись, но он предпочел погибнуть, чем осквернить священное растение. Другой религиозный момент в его мышлении – вера в переселение душ, а также в магию.
Мифологизированным было мышление и у Платона (428348 до н. э.). Эйдосы (идеи) в его учении обитают в занебесном царстве. Его венчает главный эйдос – эйдос Добра. Душа каждого человека – но до его рождения – созерцает эти идеи, но после его рождения забывает о них. Реальные предметы – лишь тени занебесных идей. Процесс познания, по Платону, – это процесс припоминания этих идей.
Наиболее атеистичен был Аристотель (384–322 до н. э.) – гениальный систематизатор научных знаний в античности. Но и он выводил движение небесных тел вокруг Земли из божественного первотолчка. Освобождение науки от религии будет продолжаться, как мы знаем вплоть до нашего времени. А. Ф. Лосев утверждал, что «наука всегда мифологична»
[Лосев А. Ф. Из ранних произведений. М.: Правда, 1990. С. 403). Но отсюда не следует, что она такой и должна оставаться!
Нет сомнения и в мифологичности нравственных представлений у древних греков. Свои нравственные поступки они соразмеряли с волей богов. Вместе с тем, у них не было религиозного фанатизма, свойственного западноевропейскому Средневековью. Во многом это объясняется антропоморфностью греческой мифологии. Древнегреческие боги, как известно, не только внешне, но и внутренне очень похожи на людей. У них, конечно, имеются определённые отличительные признаки: они – бессмертны, обладают чудодейственными способностями и т. д., но в целом они ведут тот же образ жизни, что и люди – страдают, влюбляются, ревнуют, ссорятся, мстят и т. д. Но всё-таки они были, в представлении древних греков, выше людей, они были богами. Вот почему вера в них выполняла у них свою этическую, сдерживающую функцию. Вот почему они приносили богам жертвы, чтобы ублаготворить их на будущее.
Мифологизм, конечно, был присущ и политике, которая проводилась в Греции. Неслучайно наиболее властолюбивые её представители стремились возводить свою родословную к самим богам. Понятно, что это делалось не из почтения к богам, а из любви к власти. В Древней Греции, как известно, существовало рабовладение. Рабов там не считали за людей. Даже образованнейший Аристотель утверждал, что раб – не человек, не личность, а лишь одушевлённое физическое тело. Материальная культура у греков в основном создавалась этими «физическими телами». Рабы давали свободным гражданам наслаждаться духовной культурой.
Главным политическим достижением в Древней Греции была афинская демократия, достигшая своего расцвета при Перикле [годы его правления в должности первого стратега в Афинах – с 444 по 429 г. до н. э.). Эти годы называют золотым веком афинской демократии. Главное её достижение заключалось в том, что каждый свободный афинянин [в Афинах в то время проживало приблизительно 70 тысяч человек) имел возможность участвовать в управлении государством. Каждый свободный гражданин Афин мог оказаться в высшем государственном органе – совете пятисот, если на его долю выпадал такой жребий. Голосованием же выбирались высшие должностные лица – стратеги, начальники конниц, казначеи, поскольку выбор подобных лиц нельзя отдать на откуп слепого жребия.
Демократический порядок управления Афинами, установленный Периклом, сочетался с государственным контролем за деятельностью избранных политиков со стороны суда – гелизы. Знатное происхождение не помешало Периклу установить политическое равенство между свободными гражданами Афин. Его демократия, вместе с тем, была ограниченной: она не распространялась на рабов и женщин. Рабами же в Греции того времени становились не только пленники, но и коренные жители Афин, если они теряли собственность. Беднякам же, т. е. людям имеющим небольшую собственность, он давал равные политические возможности с богачами. Перикл говорил: «Скромность знания не служит бедняку препятствием к деятельности, если только он может оказать какую-нибудь услугу государству» (Немировский А., Ильинская Л., Уколова В. История древнего мира. Греция и Рим. Т. 1. М.: Дрофа, 1996. С. 168).
3. 3. Культура Средних веков
Средние века охватывают целое тысячелетие – с V в. до XV. Большая часть Европы в это время приняла христианскую религию. Роль этой религии в средневековой Европе оказалась столь велика, что главной чертой европейской культуры в Средние века стал христианский теоцентризм.
Если в античной Греции роль культурной доминанты играла национальная языческая мифология, то в Средние века в Европе эту роль стало исполнять христианство, которое стало одной из мировых религий (наряду с буддизмом и исламом). О христианском теоцентризме средневековой духовной культуры хорошо писал П. А. Сорокин: «Возьмём, например, культуру Запада средних веков. Её главным принципом или главной истиной (ценностью) был Бог… Архитектура и скульптура средних веков были «Библией в камне». Литература также была насквозь пронизана религией и христианской верой. Живопись выражала те же библейские темы в линии и цвете. Музыка почти исключительно носила религиозный характер. Философия была практически идентична религии и теологии и концентрировалась вокруг той же основной ценности или принципа, каким являлся Бог. Наука была всего лишь прислужницей христианской религии. Этика и право представляла собой только дальнейшую разработку абсолютных заповедей христианства» (указ. кн. под ред. В. А. Сапрыкина. С. 115).
Христос по-гречески значит помазаник, мессия, спаситель. Его жизнеописание и учение изложены в «Новом завете» – второй части «Библии» – в четырёх святых благовествованиях – от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна.
Первое имя Христа – Иисус. Он родился в Галилее (Назарете) от девы Марии, зачавшей его от святого духа. Став взрослым, он провозгласил себя сыном Божиим, за что и был распят на Голгофе по приказу римского прокуратора Понтия Пилата. Но на третий день после смерти Иисус воскрес и вознёсся на небо. Христиане верят, что придёт время, когда состоится второе пришествие Христа на Землю и когда совершится страшный суд над грешниками.
Главный постулат христианства – неукоснительная вера в Христа и безропотное следование его учению, главное содержание которого составляет проповедь смирения, но вера в Христа у европейцев накладывалась на веру в своих, национальных, языческих богов. Вот почему христианская церковь приложила гигантские усилия, чтобы вытравить из европейского сознания языческие представления. В этом она немало преуспела, хотя до конца это ей не удалось сделать. Католическая церковь отличалась от православной большим фанатизмом, выразившимся, в частности, в крестовых походах, инквизиции и охоте на ведьм. Религиозным фанатизмом католической церкви во многом объясняется христианский теоцентризм средневековой западноевропейской культуры.
Наука в Средние века по существу сливается с теологией. Страх перед перспективой оказаться в числе еретиков заставлял философов-богословов этого времени втискивать свою «дрожащую мысль» (выражение Будды) в прокрустово ложе библейских мифов. Главный вопрос, который стоял перед ними в первую очередь, был вопрос о соотношении веры и разума (науки и религии). В решении этого вопроса теолого-философская мысль прошла через три этапа – тертуллиановский (со II в.), августиновский (с V в.) и оккамовский (с XIV в.).
Квинт Тертуллиан (160–222) ещё до начала Средневековья провозгласил: вера и разум несовместимы. Вывод он из этой справедливой мысли сделал несправедливый: чтобы прийти к Богу достаточно одной веры, а разум человеку не нужен не только для этой цели, но и вообще, ибо человеку в этом мире, по его мнению, достаточно одной веры в Бога и следования его заповедям. К. Тертуллиан пришёл, таким образом, к отрицанию науки (её полезности) вообще.
Аврелий Августин (354–430) не был столь ретрограден, как К. Тертуллиан. Он признавал полезность науки, но не самой по себе, а для обоснования религии. А. Августин, таким образом, считал, что вера и разум могут быть совместимы, однако, как правоверный христианин, ставил разум (науку) в зависимое положение по отношению к вере (религии). В отличие от К. Тертуллиана, ему казалось, что разум может способствовать утверждению у человека веры во Всевышнего. В духе А. Августина в конечном счёте рассуждали в дальнейшем Эриугена (810–877), который дошёл до отождествления теологии и философии, Пьер Абеляр (1079–1142), который стремился поднять роль разума для обоснования религиозных догм, и самый влиятельный богослов позднего Средневековья Фома Аквинский (1225–1274), который стремился доказать бытие Бога с научной точки зрения.
Подчинённое положение науки по отношению к религии, утверждённое А. Августином, проходит красной чертой через всё Средневековье, однако Уильям Оккам (1300–1350) возвратился к тертуллиановской несовместимости веры и разума. Но он, в отличие от К. Тертуллиана, пошёл по пути их отграничения, признавая их самостоятельную ценность. Синтез науки с религией считал невозможным и Роджер Бэкон (1214–1294). У. Оккам и Р. Бэкон, таким образом, положили начало той борьбе за освобождение науки от религии, которая достигнет успеха лишь в Новое время.
В не меньшей зависимости от религии, чем наука, было в средневековой Европе и искусство. В «Культурологии» под ред. Г. В. Драча (Ростов на Дону, Феникс, 1995) на 209 стр. читаем: «В духовной культуре средневековой Европы достаточно сложным и противоречивым были положение и роль искусства. Это вызвано его взаимоотношениями с христианской идеологией, которая отвергала идеалы, воодушевляющие античных художников (радость бытия, чувственность, телесность, правдивость, воспевание человека, осознающего себя как прекрасный элемент Космоса), разрушила античную гармонию тела и духа, человека и земного мира. Главное внимание художники средневековья уделяли потустороннему, Божественному миру, их искусство рассматривалось как Библия для неграмотных, как средство приобщения человека к Богу, постижения его сущности. Переход из пространств внешнего во внутреннее “пространство” человеческого духа – вот главная цель искусства. Она выражена знаменитой фразой Августина: “Не блуждай вне, но войди внутрь себя”». Этот переход нагляден в храмовом зодчестве.
В храмовой архитектуре сформировалось два главных стиля – романский и готический. Первый достиг своего расцвета в XI–XII вв., а другой зародился во второй половине XII в. и существовал вплоть до ХХ в. Для романского стиля характерны такие особенности храмовых сооружений, как господство горизонтальных и вертикальных линий, величественная простота строгих геометрических форм, наличие узких окон и дверей при толстых стенах и т. п. В романской стиле, например, построена знаменитая Пизанская башня в Италии, которая «падает» уже несколько веков. Готическая архитектура характеризуется наличием башен с остроконечными шпилями, тонкими резными узорами, перемежающимися со скульптурами, изящной соразмерностью других декоративных форм. В готическом стиле построены Собор Парижской Богоматери во Франции и Вестминистерское аббатство в Англии, где находится усыпальница английских королей, и др. сооружения.
На первое место в средневековой живописи выступила иконопись. Наивысшего расцвета в Древней Руси она достигла в творчестве Андрея Рублева (1360–1430). Вместе с Даниилом Чёрным он участвовал в создании росписей и икон Успенского собора во Владимире, Спасского собора Андроникова монастыря в Москве и др. Им написана знаменитая «Троица».
В художественной литературе становится популярным житийный жанр, раскрывающий жизнь христианских святых. Вместе с тем, Средние века – время создания героического эпоса в Западной Европе. В Германии, например, это «Песнь о Нибелунгах», а в Скандинавии – «Эдда». Вершиной художественной литературы позднего средневековья стала «Божественная комедия» Данте Алигьери (1265–1321).
Нравственным идеалом Средних веков стал Иисус Христос. Нравственную квинтэссенцию его учения составляет его нагорная проповедь. Вот, пожалуй, самый важный отрывок из неё: «Вы слышали, что сказано: “Око за око, и зуб за зуб”. А я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: “Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего”. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас… Итак, будьте совершенны, как совершен Отец наш Небесный» (Еванг. от Матф., гл. 5).
Смиренная любовь – вот основа христианской морали. Её главный враг – наше тело. От него идут чревоугодие и сластолюбие, честолюбие и гордыня, слабоволие и трусость – всё, что мешает нам жить душою. Монашество – один из способов убежать от своих телесных грехов, возрастающих по мере обогащения. Вот почему монахи Францисканского ордена (XIII в.), например, основанного Франциском Ассизским, стремились подражать нищенской жизни Христа на земле.
Политическую картину Средних веков определял феодализм, пришедший на смену рабовладельчеству. С одной стороны, он способствовал техническому прогрессу (изобретение водяной и ветряной мельниц, рулевого управления у судов и т. д.), а с другой, он делил людей на богатых феодалов и бедных крестьян.
Церковная знать оказалась, естественно, среди богатых. Церковь в Средние века не просто влияла на государственную власть, во многих случаях она её определяла. Яркий пример тому – крестовые походы. Под христианской личиной крестоносцы решали светские задачи – завоевание других народов и их покорение. Отголоски былых политических амбиций сохранились даже у современного папства. Правда, у современной церкви большие претензии в области нравственности, поскольку у многих людей и до сих пор живёт средневековой предубеждение, что без веры в Бога нравственным человек быть не может. В этом предубеждении есть доля истины: светлый образ Христа сохранил для нас нравственную ценность.
3. 4. Культура эпохи Возрождения
Термин возрождение (ренессанс) в применении к одному из периодов в истории Европы возник в начале XIX в. Потребность в нём объясняется тем, что в западноевропейских странах в XV–XVI вв. стали возрождаться культурные ценности античного (греко-римского) мира. Процесс их возрождения начался в Италии ещё в XIV в. Вот почему некоторые исследователи (напр., Д. А. Силичев) продолжительность эпохи Возрождения в Италии увеличивают до трёх столетий – с XIV в. по XVI. В других же западноевропейских странах она продолжалась в течение двух веков – с XV в. по XVI.
На положение духовно-культурной доминанты в эпоху Возрождения выдвигается искусство. Вот почему её культуру следует охарактеризовать как артоцентрическую. Отсюда не вытекает вывод о том, что религия в это время полностью утратила своё влияние в духовной культуре Западной Европы. Её влияние оставалось весьма сильным, но её прежняя монополия в жизни западноевропейского общества в эпоху Возрождения была повержена.
Артоцентрическая точка зрения на эпоху Возрождения подтверждается тем, что наиболее ярко в это время возрождались культурные ценности античности именно в искусстве. Недаром в сознании последующих поколений эпоха Возрождения в первую очередь ассоциируется с великими творениями ренессансного искусства. Великие художники Возрождения сумели пробить брешь в клерикализованном (оцерковленном) сознании современников. Они смогли расшатать устои средневековой жизни не только в самом искусстве, но и за его пределами – в нравственности, политике и других областях духовной культуры того времени. Критика этих устоев велась с позиций возвышения человека, низведённого в Средние века до положения ничтожного раба Божьего, «твари дрожащей».
В сознании некоторых титанов Возрождения человек начинает конкурировать с самим Богом. Более того, многие из них стали ставить человека даже выше Бога. В их представлении, не Бог, а человек находится в центре Вселенной. Возрождается протагоровское «Человек – мера всех вещей». Возвышение человека в эпоху Возрождения составляет сущность ренессансного мировоззрения. Эту её особенность стали называть гуманизмом.
Характерно, что основателем гуманизма и всей ренессансной культуры стал художник – великий итальянский поэт Франческо Петрарка (1304–1374). Он был первым, кто заговорил о необходимости возрождения культурных достижений античности в Италии, о возврате к Гомеру и Вергилию.
Он был первым, кто стал подчёркивать значение гуманитарных наук. Он был первый, кто поднял голос в защиту собственно человеческих достоинств – безотносительно к Богу. Последователями Ф. Петрарки стали многие выдающиеся деятели Возрождения – Лоренцо Валла, Пико делла Мирандолла, Мишель Монтень и др. гуманисты.
Гуманисты провозгласили лозунг о гармоническом развитии личности, подчёркивая её активную, творческую природу. Они отвергли монополию теологии на обладание истиной. Они резко выступили против религиозного аскетизма, признавая радости этой, земной, жизни. Они признали возможность счастья здесь, на Земле, а не в христианском раю. Они увидели источник вдохновения не в приобщении к божественным тайнам, а в реальной природе, в реальном мире. Гармонией природы они проверяли гармонию искусства. Греховное тело человека стало для них источником красоты.
В области религиозной жизни главным событием в эпоху Возрождения стала Реформация – движение, направленное на реформирование церкви. Результатом этого движения стало отделение от католицизма протестантизма, охватившего всю Англию, значительную часть Германии, Франции и Швейцарии. В результате в христианстве образовалось три течения – православие, католицизм и протестантство. Деление христианства на православие и католицизм произошло ещё в 1054 г. Как в православии, так и в католицизме Бог выступает в трёх ликах – Отца (Иеговы), Сына (Иисуса Христа) и Духа святого. Но католики считают, что Дух святой исходит как от Бога-отца, так и от Бога-сына, тогда как по православным повериям он исходит только от Бога-отца.
Лидерами протестантизма стали Мартин Лютер (14831546) и Томас Мюнцер (1490–1525) в Германии, и Жан Кальвин (1509–1564) во Франции. Главную роль в Реформации сыграл М. Лютер.
Несмотря на сопротивление своего отца, владельца медных рудников, М. Лютер стал священником. В 1512 г. он стал доктором богословия и вступил в борьбу с окружающим религиозным обскурантизмом. Эта борьба и привела его к положению лидера Реформации. В первую очередь М. Лютер выступил против папских индульгенций – грамот, которые давали право их покупателям на отпущение любых грехов. Владелец индульгенций получал определённые привилегии. Так, ему разрешалось в пост есть яйца и масло. Индульгенции – открытая форма обогащения католической знати. Ещё за столетие до М. Лютера против них выступал великий чешский просветитель Ян Гус, за что он и был сожжён на костре по приговору инквизиции.
Борьба М. Лютера против папских индульгенций вылились в формирование протестантизма. Главной его особенностью является отрицание посреднической роли церкви между верующими и Богом. Спасение у протестантов – личное дело человека. Тем самым его основатели способствовали усилению в самой религии личного (человеческого) начала, что сближает их с гуманистами.
Движение Реформации вызвало во второй половине XVI в. Контрреформацию, в который особо зловещую роль сыграл Орден иезуитов, созданный Игнатием Лойолой (1491–1556). Именно этот орден организовал резню протестантов-гугенотов в Париже. В Варфоломеевскую ночь (с 24 на 25 августа 1572 г.) в Париже их было убито две тысячи человек, а в последующие две недели – ещё 30 тысяч. Варфоломеевская ночь показала, что католическая церковь в эпоху Возрождения продолжала сохранить свою зловещую силу, хотя в целом религия в это время и стала утрачивать доминирующую роль в жизни Западной Европы.
Главным событием в научной жизни в эпоху Возрождения стала замена геоцентризма гелиоцентризмом, осуществлённая в первую очередь благодаря Николаю Копернику (1473–1543). Его продолжателем в эпоху Возрождения стал великий мученик науки Джордано Бруно (1548–1600).
Гелиоцентризм, пришедший на смену геоцентризму, казалось бы, должен был бы вступить в конфликт с гуманистическими установками деятелей Возрождения, поскольку с низведением Земли до положения одной из планет солнечной системы, с утратой у Земли статуса центра Вселенной должно было бы оказаться приниженным не только положение Земли, но и её обитателей – людей. Но гелиоцентризм вовсе не поколебал ренессансный гуманизм. Напротив, косвенным образом он способствовал возвышению человека – человека познающего, человека науки, его разума, способного низвергнуть, казалось бы, незыблемые представления, закреплённые в теологии, которая, как известно, приняла на вооружение аристотелевский геоцентризм.
Главной чертой культуры Возрождения стал её артоцентризм. Из артоцентрических позиций исходил в решении вопроса о соотношении науки и искусства гениальный художник и учёный Возрождения – Леонардо да Винчи (1452–1519). В конечном счёте он решал его в пользу превосходства искусства над наукой. Подобным образом решал этот вопрос и немецкий живописец Альбрехт Дюрер (1471–1528). Справедливость артоцентрической точки зрения на культуру Возрождения, таким образом, в какой-то мере подтверждается и на примере культурологических установок представителей самой этой эпохи.
Леонардо был энциклопедистом. Он собирался осуществить пересмотр всех наук своего времени – автрономии, геологии, анатомии, мелиорации и др. Правда, к решению многих проблем он подходил с антинаучных позиций. Так, он отрицал эволюцию природы, не признавал силу притяжения у падающих тел и т. д.
В большей мере Леонардо прославился не как учёный, а как художник-живописец. Правда, он сам стремился совместить в себе того и другого: изображая, он изучал. В. И. Рутенбург писал: «И к живописи, и к её техническим средствам Леонардо подходил как исследователь, так как и живопись, по его представлениям, – наука, ибо она является средством познания жизни» (Рутенбург В. И. Титаны Возрождения. СПб.: Наука, 1991. С. 43). Но в конечном счёте Леонардо отдал предпочтение искусству перед наукой – не только в собственной жизни, но и по их познавательным возможностям вообще, считая, в частности, что живопись выше геометрии.
Жемчужиной Возрождения стала итальянская живопись. Её гениальными представителями стали Сандро Боттичелли (1445–1510), Леонардо да Винчи (1452–1519), Рафаэль Санти (1483–1520), Микеланджело Буанароти (1475–1564), Тициан Вечеллио (1476–1576).
Наибольшую известность получили две картины С. Боттичелли – «Весна» (1478) и «Рождение Венеры» (1484). В центре обеих этих картин изображена Венера – богиня любви и красоты. Как истинный возрожденец, их автор возрождает на них персонажей греко-римской мифологии. На первой из них над Венерой парит с луком божок любви Амур, слева от неё стоит богиня Флора, олицетворяющая весну, а рядом с нею изображена нимфа, преследуемая фавном. Справа от Венеры – Меркурий – вестник богов – и три прекрасные грации в полупрозрачных одеждах. Все они изображены на фоне райского пейзажа – цветов, фруктовых плодов, высоких деревьев. На второй картине Венера изображена обнажённой. Прелести её греховного тела, очевидно, наводили ужас на церковников.
Как и у других живописцев эпохи Возрождения, С. Боттичели разрабатывал сюжеты, связанные не только с греко-римской мифологией, но также с «Библией» («Мария с Младенцем и Иоанном Крестителем») и с реальной жизнью («Покинутая»). На второй из этих картин изображена девушка, сидящая у запёртых бронзовых ворот. Её лицо закрыто руками, скрывающими её страдания, безнадёжность и одиночество. «Покинутая» свидетельствует о трагическом переломе в жизни С. Боттичели, который произошел в начале 90-х гг. XV в. В это время он испытал сильное влияние со стороны монаха Саванаролы, гневно обличавшего папство и аристократию за разврат, жадность, лицемерие. Он был повешен инквизицией и затем его тело было сожжено на костре. Его казнили как бы дважды.
Великий мастер Леонардо в первую очередь ассоциируется в нашем сознании с его всемирно известной «Джокондой» (1503). На этой картине изображена Мона Лиза – жена богатого флорентийца Франческо ди Джокондо. Всем известен её загадочный взгляд, совмещающий в себе не то усмешку, не то грусть, не то мудрое спокойствие.
Великий Рафаэль в свою очередь ассоциируется у нас с его «Сикстинской Мадонной» (1519). На ней изображена Матерь Божия с маленьким Иисусом. Выражение лица у божественного младенца не по возрасту глубокомысленное, а сама Мария – образ совершенной красоты. Среди фресок Рафаэля наибольшую известность приобрела «Афинская школа», где Платон, похожий на Леонардо да Винчи, указывает пальцем на небо, а Аристотель – на землю. Эти жесты символизируют идеализм одного и материализм другого. На этой же фреске изображены Сократ, Диоген, Пифагор, Гераклит, Эвклид и, как ни странно, сам Рафаэль.
Микеланджело – автор колоссальной мраморной статуи Давида (1504), высотой в пять с половиной метров. Она олицетворяет безграничную мощь человека. Как живописец, Микеланджело прославился в первую очередь благодаря своим фрескам, посвящённым библейским сюжетам – грехопадению и изгнанию из рая, страшному суду и т. п. На фреске «Сотворение Адама» изображён не только Адам с телом атлета, но и Бог Сафаоф (Яхве, Иегова). Иудеи не могли одобрить этой фрески, поскольку их религия запрещает изображение Бога.
За свою почти столетнюю жизнь Тициан успел сделать очень много, но самой знаменитой его картиной стала «Даная», где её героиня полулежит на постели в ожидании Зевса. Другая знаменитая его картина – «Венера Урбинская» (1538). Такую странную «фамилию» римская богиня получила потому, что картина, на которой она изображена, была предназначена для герцога Урбинского. По сравнению с «Лежащей Венерой» Джорджоне (1476–1510) Венера Тициана изображена на фоне реальной жизни – на дальнем плане на ней представлена служанка, достающая платье из сундука и одетая в современный автору наряд.
Наибольшую известность среди итальянских художников слова приобрели Франческо Петрарка и Джовани Бокаччо. «Книга песен» Ф. Петрарки – непревзойденный апофеоз любви поэта к Лауре. Её смерть для поэта была ничем невосполнима. Его не трогала «ни пёстрым зверем полные леса, ни всадники в доспехах средь поляны, ни гости с вестью про чужие страны, ни рифм любовных сладкая краса, ни милых жён поющих голоса во мгле садов, где шепчутся фонтаны…»
Если в душе Ф. Петрарки ещё боролись две стихии – христианская и гуманистическая, то Д. Бокаччо в своём «Декамероне» находится во власти последней. Своими фривольными новеллами он развенчивал средневековую мораль. Для тех, кто их читал, ясно, что он заходил в этом иногда чересчур далеко, предвосхищая половую распущенность последующих времен. Эти новеллы имели для своего и последующего времени не только положительный эффект в области нравственности, но и отрицательный. А. В. Лосев писал: «Монахини (в эпоху Возрождения. – В. Д.) читают “Декамерон” и предаются оргиям, а в грязных стоках находят детские скелеты как последствия этих оргий» (Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М.: Мысль, 1978. С. 122).
Возрожденческая свобода от христианских заповедений Средневековья приносила не только положительные плоды. В разделе «Обратная сторона титанизма» в упомянутой книге А. Ф. Лосев приводит множество примеров безнравственности, характерной для привилегированных классов в эпоху Возрождения, да и не только для них. Вот некоторые из его примеров «обратной стороны титанизма»: «Папа Александр VI и его сын Цезарь Борджиа собирают на свои оргии до 50 куртизанок. В Ферраре герцог Альфонс среди бела дня голым прогуливается по улицам. В Милане герцог Галеацио Сфорца услаждает себя за столом сценами содомии. В Италии той эпохи нет никакой разницы между честными женщинами и куртизанками, а также между законными детьми и незаконными. Незаконных детей имели все: гуманисты, духовные лица, папы, князья. У Поджо Браччолини – дюжина внебрачных детей, у Никколо д’Эсте – около 300. Папа Александр VI, будучи кардиналом, имел четырёх незаконных детей., а за год до вступления на папский престол, уже будучи 60 лет, вступил в сожительство с 17-летней Джулией Фарнезе, от которой вскоре имел дочь Лауру… Имели незаконных детей также и папа Пий II, и папа Иннокентий VIII, и папа Юлий II, и папа Павел III; все они – папы-гуманисты, известные покровители возрожденческих искусств и наук. Художники наперебой изображают Леду, Ганимеда, Приапа, вакханалии, соревнуясь друг с другом в откровенности и неприличии, причём порою эти картины выставляются в церквах рядом с изображением Христа и апостолов. Неаполитанский король Ферранте (1458–1494). сажал своих врагов в клетки, издевался над ними, откармливал их, а затем отрубал им головы и приказывал засаливать их тела. Он одевал мумии в самые дорогие наряды, рассаживал их вдоль стен погреба, устраивая у себя во дворце целую галерею, которую и посещал в добрые минуты. При одном воспоминании о своих жертвах он заливался смехом. Сигизмунд Малатеста был в такой степени не воздержан в разврате, что насиловал своих дочерей и своего зятя. В его глазах, брак никогда не был священным. Он осквернял монахинь, насиловал евреек. В жестокости он превзошел всех варваров. Он теснил бедных, отнимал у богатых их имущество, не щадил ни сирот, ни вдов, – словом, никто во время его правления не был уверен в своей безопасности. Из двух жен. одну он заколол кинжалом, другую отравил. При всем том этот Малатеста был большим любителем и знатоком наук, искусств и вообще гуманистической образованности» (указ. кн. – С. 123; 124; 128; 132).
«Широк человек, – говорит Митя Карамазов у Ф. М. Достоевского, – я бы сузил».
Понятно, почему Средние века просуществовали десять столетий, а эпоха Возрождения – два: в Средние века нравственность держалась на христианстве, а в эпоху Возрождения его сила была уже утрачена; подняться же до высокой нравственности без страха перед Богом – дело многотрудное.
В политической сфере эпоха Возрождения – эпоха зарождения буржуазных отношений в недрах феодализма. Первым теоретиком этих отношений был Николло Макиавелли (14691527). Он был убеждён, что самым могучим стимулом человеческой деятельности является собственнический интерес. В трактате «Государь» он писал: «Люди скорее простят смерть отца, чем потерю имущества» (Соколов В. В. Европейская философия XV–XVII веков. М.: Высшая школа, 1984. С. 74).
Автор этих слов приписывал человеку неискоренимый эгоизм и роль государства он видел в том, чтобы ограничивать его насильственно. Недаром в «абсолютном злодее» Цезаре Борджиа, отличившимся своим развратом и чудовищной жестокостью он видел образец государя. Политику он отделял он нравственности. Он писал: «…мудрый правитель государства обязан по возможности не удаляться от добра, но при надобности не чураться и зла» (там же. С. 79).
Ф. Ницше писал: «Итальянское Возрождение таило в себе все положительные силы, которым мы обязаны современной культурой, именно: освобождение мысли, презрение к авторитетам, победу образования над высокомерием родовой знати, восторженную любовь к науке и к научному прошлому людей, снятие оков с личности, пламя правдивости и отвращение к пустой внешности и эффекту. То был золотой век нашего тысячелетия, несмотря на все его пятна и пороки» (Ницше Ф. Соч. в 2-х томах, т. 1. М.: Мысль, 1990. С. 366).
3. 5. Культура Нового времени
Термин «Новое время» используется в разных смыслах – узком и широком. В узком смысле он употребляется только по отношению к XVII и XVIII векам, а в широком также и по отношению к XIX и даже ХХ векам. Мы будем иметь в виду под «Новым временем» XVII–XVIII вв., учитывая условный характер данного термина.
Если до сих пор у нас речь шла о «старом» времени – античности, Средних веках и эпохе Возрождения, то с XVII в. начинается отсчёт «нового» времени. Как пишет В. П. Яковлев «В европейском XVII в. мы легко узнаем человека нашего мира и нашей культуры» (Культурологии / Под ред Г. В. Драча. Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. С. 258). Эти слова можно понимать в том смысле, что XVII в. стал в Европе стартовой площадкой для современной культуры, как в своё время классическая античность – для эпохи Возрождения.
XVII в. называют «веком науки», но ещё в большей мере это относится к следующему, XVIII в. Недаром его принято называть веком Просвещения. «Просветителями» в первую очередь называют французских философов, что свидетельствует о том, что Италия в Новое время уступает своё лидирующее положение в европейской культуре Франции. Впрочем, к просвещению стало активно стремиться Новое время в целом. Если всё-таки употреблять термин «Просвещение» в традиционном смысле, то синонимом к термину «Новое время» может стать выражение «Век науки». Тем самым мы подчеркнём духовно-культурную доминанту этого времени – сциентизм, имея в виду, что на смену артоцентризму эпохи Возрождения в Западной Европе приходит наукоцентризм. Вот как об этой черте Нового времени писал тот же В. П. Яковлев: «Научное знание поднимало на качественно иной уровень систему общественного сознания в целом. Наука выступает как носитель и выразитель в духовном мире человека, в его культуре объективного, общезначимого содержания, равно обязательного для всех» (там же. С. 253).
С XVII в. начинается интенсивный процесс обособления науки от других сфер культуры, что приводит к её превращению в особый социальный институт. Д. А. Силичев пишет: «XVII столетие можно с полным правом назвать веком науки и научной революции. До этого времени наука развивалась в рамках и в тесном единстве с философией (она у него – не наука. – В. Д.), религией и искусством. Теперь она чётко обособляется, начинает существовать в чистом виде. В ней формируются фигуры учёных в их современном виде, которые раньше были исключениями. Например, в XVI веке таковым являлся Н. Коперник. Теперь они существуют во множестве. Среди них особого упоминания заслуживают такие имена, как Г. Галилей, И. Кеплер, И. Ньютон, У. Гарвей, Р. Бойль, Э. Мариотт, Э. Торричелли» (Силичев Д. А. Культурология. М.: ПРИОР, 1998. С. 181).
Особенно интенсивной у науки Нового времени была борьба за свою независимость от религии, хотя и в это время она всё ещё шла на компромиссы с религиозными представлениями (так, Б. Спиноза (1632–1677) исходил из пантеизма, отождествляющего Бога со всей природой, а Р. Декарт (1596–1650) – из деизма, допуская вмешательство Бога в первоначальную эволюцию природы). Влияние религии на науку не только в Новое время будет продолжаться в той или иной мере, но и в последующие времена, хотя оно и будет идти по нисходящей линии.
В XVII в. западноевропейская религия несколько оправилась после тех ударов, которые ей нанесла эпоха Возрождения. Чтобы выжить, она стала более осмотрительной. Она, например, уже не посмела сжечь на костре Г. Галилея, как в своё время Д. Бруно. Хотя её силы явно ослабли по сравнению с былыми временами, она продолжала сохранять за собой мощную консервативную силу и в Новое время. Всё ещё требовались со стороны науки новые удары, направленные на её непомерные амбиции. Удары сокрушительной силы на неё посыпались в XVIII в. со стороны французских просветителей.
Чтобы постичь всю масштабность борьбы французских просветителей с религией и её официальным проводником – церковью, я рекомендовал бы хрестоматию В. Н. Кузнецова, вышедшую в Москве в 1976 г. под названием «Да скроется тьма!». В ней даётся подборка из произведений французских просветителей, связанных с развенчанием религии по всем направлениям, – с научных позиций опровергаются теологические доказательства бытия Бога, доказываются химеричность и иррационализм религиозных догматов, показываются чудовищная роль религии в политической истории и её отрицательное влияние на мораль. Особенно ценной представляется борьба просветителей с теологией – первейшим врагом науки. В соответственном разделе приводятся отрывки из работ К. Гельвеция «О человеке» и П. Гольбаха «Система природы».
К. Гельвеций восклицал: «Учение, поведение попов – всё доказывает их любовь к власти. Что защищают они? Невежество. Почему? Потому, что невежда доверчив; потому, что он мало пользуется своим разумом, думает так, как другие; потому, что его легко обмануть и одурачить грубейшими софизмами. Что преследуют попы? Науку. Почему? Потому, что учёный не принимает ничего на веру без исследования; потому, что он хочет видеть своими глазами и его трудно обмануть…Попы всегда старались удалить истину от людского взора. Они ненавидят и всегда будут ненавидеть философов. Они всегда будут бояться, чтобы просвещённые люди не свергли власти, основанной на заблуждении и ослеплении» (указ. кн. С. 123).
В свою очередь П. Гольбах писал: «Попробуйте спросить у христианского философа: как произошёл мир? Он ответит вам, что вселенная создана богом. А что такое бог? Это никому неизвестно. А что значит создать? Этого тоже никто не знает. Что служит причиной эпидемий, недородов, войн, засух, наводнений, землетрясений? Божий гнев. Какие меры можно противопоставить этим бедствиям? Молитвы, жертвоприношения, религиозные процессии и церемонии. Почему же, однако, бог может гневаться? Потому, что люди злы. А почему люди злы? Потому, что природа их развращена и порочна. Почему же человеческая природа развратилась? Да потому., что первый мужчина, обольщённый первой женщиной, вкусил от яблока, к которому бог запретил прикасаться. Кто же побудил эту первую женщину совершить такую глупость? Дьявол. А кто же создал дьявола? Тот же бог. Зачем же бог создал дьявола, которому суждено было совратить род человеческий? Об этом ничего неизвестно» (там же. С. 126).
Разумеется, для церковников подобные слова – звон пустой. Религией они кормятся. Неслучайно против церкви Вольтеру (Франсуа Мари Аруэ) (1694–1778) представлялся самым действенным такой аргумент: «Раздавите гадину!». Грубо звучит?
Почитаем П. Гольбаха: «Знаменитый Торквемада, испанский инквизитор, хвалился, что истребил огнём и мечом более пятидесяти тысяч еретиков; это горячее рвение доставило ему мантию кардинала. Резня в Варфоломеевскую ночь погубила столько же людей в одном Париже. Массовые убийства в Ирландии стоили жизни ста пятидесяти тысячам протестантов… В крестовом походе против альбигойцев сжигали население ряда городов. Варварство доходило до того, что сажали на кол нагих девушек и в таком виде носили их по городу. Попы, как это ясно, самые дикие и свирепые люди в мире. С помощью казней они хотят заставить полюбить религию; впрочем, их девиз скорее слова тирана: “Пусть ненавидят, лишь бы боялись” (там же. С. 198). Очевидно, жертвы, раздавленные церковью, отпускали в её адрес обороты и похлеще вольтеровского.
В области частных наук в Новое время произошли события, связанные с законом всемирного тяготения И. Ньютона, биологической систематикой К. Линнея и космогонической гипотезой И. Канта.
В области философии к ним следует отнести универсальный эволюционизм эволюционизм Жульена Ламетри (17091751) и Иоганна Гердера (1744–1803), эмпиризм Фрэнсиса Бэкона (1561–1626), Томаса Гоббса (1588–1679) и Джона Локка (1632–1704); рационализм Рене Декарта (1596–1650) и французских энциклопедистов. Родина эмипиризма – Англия, родина рационализма – Франция.
Эмпиристы выдвинули на первый план чувственный опыт. «В «Новом органоне» (1620) Ф. Бэкон дал разработку индуктивного метода познания, отправляющегося от ощущений и продвигающегося к «общим аксиомам». Т. Гоббс в «Левиафане» (1651) также рассматривает в качестве отправного пункта познания ощущение. Он писал: «.нет ни одного понятия в человеческом уме, которое не было бы порождено первоначально, целиком или частично, в органах ощущения» (Антология мировой философии. Т. 2. М.: Мысль, 1970. С. 309).
Подобным образом рассуждал и Д. Локк в его «Опыте о человеческом разуме» (1690). Он считал, что все наши знания – результат приобретённого чувственного опыта, тем самым отрицая наличие в душе врождённых идей. «Когда я говорю, – утверждал он, – что чувства доставляют их (качества предметов, воздействующих на органы чувств. – В. Д.) уму, я хочу сказать, что от внешних предметов они доставляют уму то, что вызывает в нём эти восприятия. Этот богатый источник большинства наших идей, зависящих всецело от наших чувств и через них входящих в разум, я называю “ощущением”» (там же. С. 418).
Конечно, рационалисты не могли отрицать роль чувственного опыта в познании, но на первый план они выдвинули деятельность разума. Отправным пунктом рационализма стала знаменитая фраза Р. Декарта «Я мыслю, следовательно, существую». Эта фраза – образчик рационализма: существование выводится не из объективной действительности, а из мысли об её существовании. В своих «Началах философии» (1644) Р. Декарт изложил принципы рационалистического познания. Вот некоторые из них: «…для разыскания истины необходимо раз в жизни, насколько это возможно, поставить всё под сомнение; следует рассматривать не для какой цели бог создал каждую вещь, а лишь каким образом он пожелал её создать; у нас лишь два вида мыслей, а именно восприятие разумом и действие воли; нужно прежде всего освободиться он наших предрассудков.» (там же. С. 237–254).
Рационалистическая тенденция прослеживается у французских энциклопедистов. Этим словом историки философии называют авторов 35-томной «Энциклопдии» (1751–1780), редакторами которой были Дени Дидро (1713–1784) и Д’Аламбер (1717–1783). В этой «Энциклопедии» отражены взгляды лучших умов французского Просвещения – Жан-Жака Руссо (1712–1778), Вольтера (1694–1778), Клода Гельвеция (17151771), Поля Гольбаха (1723–1789), а также и редакторов этого словаря.
Мы можем ознакомиться со статьями, помещёнными в «Энциклопедии» Дидро и Д’Аламбера, на русском языке в кн.: Философия «Энциклопедии» Дидро и Д’Аламбера. М.: Наука, 1994. В ней приводятся такие статьи, как «Демократия», «Естественное равенство», «Искусства», «Основы наук», «Революция», «Свобода мысли», «Тирания», «Человек» и мн. др.
Вот что мы читаем в статье «Человек» в «Энциклопедии», о которой идёт речь: «Люди вырастают из детей. Поэтому надо беречь и охранять детей с помощью особой заботы об отцах, матерях и кормилицах. Пять тысяч детей, ежегодно подкидываемых в Париже, могу стать в будущем солдатами, матросами, земледельцами. Надо уменьшить число рабочих, занятых производством роскоши, и слуг… Поскольку земледельцы – те люди в государстве, которые трудятся больше всех, а накормлены хуже всех, они неизбежно испытывают отвращение к своему состоянию и гибнут от него. Говорить, что достаток заставит их бросить своё сословие, – это значит быть невеждой и жестоким человеком.» (указ. кн. С. 717). Демократическая позиция автора этих слов не вызывает сомнения.
А вот как в ней объясняется слово энциклопедия: «Это слово обозначает соединение наук… И действительно, цель любой энциклопедии – собрать знания, разбросанные по поверхности земного шара, представить общую систему знаний людям, живущим в наше время, и передать их тем, которые будут жить после нас, для того, чтобы наши потомки были не только образованнее, но и добродетельнее и счастливее нас, и чтобы мы не умерли, не заслужив признательности человечества» (там же. С. 628).
Энциклопедисты не только «соединяли науки», они верили, что их труд поможет людям построить в будущем такой строй жизни, который будет держаться на рациональных (научных) началах. Они были благородными детьми своего века – века Просвещения, века Науки.
Новое время – время не только учёных-просветителей, но и художников-просветителей. Образными средствами художники несли свет в широкие массы. Недаром Вольтер, Д. Дидро и Ж.-Ж. Руссо были не только учёными, но и художниками-писателями.
В искусстве Нового времени зародились и получили развитие новые художественные стили – барокко, рококо, сентиментализм, романтизм и реализм. Слово барокко в переводе с итальянского значит странный, причудливый. Для барокко характерно стремление к парадности и пышности, динамичность образов, сочетание иллюзии и реальности и повышенная эмоциональность. Самым ярким представителем барокко в живописи стал фламандский художник П. Рубенс (1577–1640). Его картины – «Венера и Адонис», «Вирсавия», «Похищение дочерей Левкиппа» и др. – воспевают чувственную красоту человеческого тела. Они полны динамики, лиризма, выразительности.
Рококо характеризуется манерностью, театральностью, условностью и декоративностью образов. Наиболее известным представителем этого стиля в живописи стал О. Фрагонар во Франции (1732–1806). Его «Купальщицы» предстают как бы бестелесными, воздушными, эфемерными, хотя и исполненные чувственной радости.
Сентиментализм выдвинул на первый план передачу чувств. Наиболее известным представителем сентиментализма в литературе стал Ж.-Ж. Руссо. В своих художественных произведениях («Юлия, или Новая Элоиза», «Исповедь» и др.) он передаёт различные оттенки чувств своих героев, часто прибегая к их идеализации.
Романтизм лишь зарождается в Новое время – в конце XVIII в. Он характеризуется возвышенными устремлениями его представителей, обращённостью к идеализированной действительности и игнорированием прозы жизни. Первым романтиком в музыке стал гениальный австрийский композитор Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791). В первую очередь он прославился своими операми – «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан» и др.
Реализм, как и романтизм, получит развитие в последующие времена, однако и в Новое время он в какой-то мере уже заявил о своём существовании. Он характеризуется отражением реального мира во всей его сложности и противоречивости. В живописи реалистическая тенденция была характерна для Ф. Гойи (1746–1828). Великий испанский живописец изображал не только членов королевских семей (напр., в «Портрете королевы Марии-Луизы»), но и простых людей (напр., в «Водоноске»).
Но самым характерным стилем Нового времени стал классицизм. Вот как охарактеризовывается этот стиль в словаре, помещённом во «Введении в культурологию» под ред. В. А. Сапрыкина: «Классицизм стремится к выражению возвышенных героических и нравственных идеалов, к строгой организованности логичных, ясных и гармоничных образов. Классицизм выдвигает такие эстетические нормы, как стойкость пред жестокостью судьбы и превратностями бытия, подчинение личного – общественному, страстей – долгу, разуму, верховным интересам общества» (там же. С. 186).
В живописи к типичным классицистам относят Ж.-Л. Давида (1748–1825). Наиболее известны такие его картины, как «Клятва Горациев», «Смерть Марата» и «Коронация Наполеона I». В литературе же к ярким классицистам относят великих французских драматургов – П. Корнеля (1606–1684), Ж. Расина (1639–1699) и Ж. Б. Мольера (1622–1676). Наибольшую известность приобрел Ж. Б. Мольер. Его пьесы «Мещанин во дворянстве», «Тартюф», «Скупой» идут в театрах по сей день.
Выделение художественных стилей во многом помогает упорядочивать наши представления об истории искусства, но надо помнить, что большие художники, как правило, не вмещаются в каноны того или иного стиля. Своим постижением жизненной правды они, вместе с тем оказываются ближе к реализму, хотя и не во всём могут ему соответствовать. Такими на рубеже Возрождения и Нового времени были два художественных гения – Мигель Сервантес (1547–1616) и Уильям Шекспир (1564–1616). В Новое время к художникам подобного типа можно отнести Даниеля Дефо (1660–1731), Джонатана Свифта (1667–1745), Иоганна Вольфганга Гете (1749–1832), Иоганна Фридриха Шиллера (1759–1805). Кроме собственно эстетических, их великие творения выполняли также и нравственные задачи.
В Новое время происходит обособление от религии не только науки и искусства, но также и нравственности. Неслучайно И. Кант вслед за Д. Юмом провозгласил мораль автономной по отношению к религии и поместил нравственный закон в душу самого человека. К подобной позиции стремились и другие деятели Нового времени.
В Новое время назрела необходимость на место религиозной морали поставить мораль атеистическую – основанную не на вере в Бога, а на вере в человека. В своих размышлениях о природе человека просветители исходили из убеждения о том, что человек – в идеале – самое совершенное существо, но реализовать добрые начала в нём мешают общественные условия, в которых он живёт, а также его невежественность. Они верили, что изменение общественных условий, в которых живут современные люди, и их просвещение неизбежно приведут к их освобождению от нравственных изъянов. Но на пути к их просвещению, по их представлениям, стояла церковь. Вот почему свои представления о нравственности они стремились противопоставить религиозным. Они искали источники нравственности в самом человеке, а не в Боге.
Не из веры в Бога, а из общественной природы человека они выводили способность человека к высоким нравственным поступкам. В статье «Общество (мораль)» в «Энциклопедии» Дидро и Д’Аламбера это поясняется на таких простых примерах: «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Если кто-то подходит к нам с радостным лицом, он возбуждает в нас чувство радости; нас трогают слезы незнакомца ещё прежде, чем мы узнали их причину, а крики человека заставляют нас – лишь потому что это человек – бежать к нему на помощь, повинуясь какому-то машинальному побуждению, предваряющему любое раздумье» (там же. С. 365). Выходит, чувство жалости или сострадания вытекают из нашего родства с другими людьми, а не ниспосылаются нам Богом.
Главный моральный принцип в упомянутой статье сформулирован следующим образом: «Я хочу быть счастливым, но я живу с другими людьми, которые, как и я, каждый со своей стороны хотят быть счастливыми; будем же искать средство обеспечить наше счастье, добывая тем самым счастье другим и уж во всяком случае никогда не вредя им. Этот принцип запечатлен в нашем сердце» (там же. С. 366).
Из главного морального принципа выводились следующие нравственные правила:
«1. Общее благо должно быть высшим правилом нашего поведения и мы никогда не должны искать нашей личной выгоды в ущерб общественной пользе.
2. Дух общительности должен быть всеобщим. Человеческое общество включает всех людей, с которыми можно общаться, поскольку оно зиждется на присущих всем природных и сословных отношениях.
3. Единство природы в людях является принципом, который мы никогда не должны терять из виду… От жизни до смерти один шаг, и смерть уравнивает самого высокого и блистательного человека с самым униженным и безвестным.
4. Поскольку общительность является взаимной обязанностью людей, те из них, кто по своей злобе или несправедливости разрывают общественные связи, не имеют разумных причин жаловаться на то, что те, кого они оскорбляют, более не относятся к ним по-дружески или даже принимают какие-то меры против них.» (там же. С. 367–368).
По существу в этих правилах идёт речь о трёх вещах – о приоритете общественного над личным, о необходимости общения и о единстве человеческой природы. Необходимости общения автор цитируемой статьи придавал фундаментальное нравственное значение. Он писал: «Уничтожьте общительность, и вы разрушите единство рода человеческого, от которого зависит сохранение жизни и всё её счастье» (там же. С. 365). Как тут не вспомнить, что слова общий, общение и общество одного корня!
Новое время – время становления в Западной Европе капитализма. Самым выдающимся событием в политической жизни в это время была великая французская революция 17891793 гг. Французские просветители косвенным образом готовили это событие. Знаменем политической борьбы в XVIII в. стали Вольтер и Руссо, хотя оба они умерли, не дожив до революции – в 1778 г. Первый из них прославился блестящей критикой феодализма, а другой – своими призывами жить по законам природы. Эти призывы ставили его на особое положение среди просветителей. Если большая часть из них возлагала надежды на науку и искусство, то Ж.-Ж. Руссо высказал идею о том, что по мере развития науки и искусства люди не становятся нравственно выше, а напротив, всё больше развращаются. Он писал: «Наши души развращались, по мере того как совершенствовались науки и искусства» (указ. том «Антологии мировой философии». С. 559). Возвышением нравственности над наукой и искусством Ж.-Ж. Руссо предвосхитил нравоцентризм культуры следующего, XIX века.
3. 6. культура XIX века
Европейское общество вступило в XIX в. в тревожном состоянии. Оно было вызвано в первую очередь неблагополучием в области нравственной жизни. С одной стороны, развитие капитализма вело к пренебрежительному отношению к сохранившимся нравственным ценностям, если они начинали выступать в качестве препятствий на их пути к обогащению. С другой стороны, эпоха Возрождения и Новое время основательно подорвали авторитет религии, а вместе с ним и нравственные устои, державшиеся на ней.
Даже некоторые энциклопедисты осознавали опасность, связанную с образующемся нравственным вакуумом. Автор статьи «Общество (мораль)» в «Энциклопедии» Дидро и Д’Аламбера писал: «Похоже, что без религии не существует достаточно прочной узды, которой можно было бы сдержать источники страстей, приступы воображения, самонадеянность ума, испорченность сердца, хитросплетения лицемерия… Это ясно доказывает, как необходимо для упрочения счастья общества объединение религии и морали. Уничтожьте разом религию, и вы поколеблете все здание моральных добродетелей – ему не на чем будет покоиться» (Философия «Энциклопедии» Дидро и Д’Аламбера. М.: Наука, 1994. С. 371).
Но дело было сделано – религия в XIX в. уже не могла крепко держать народ в нравственной узде. Моральный кризис, поразивший Новое время, необходимо было преодолевать силами науки, искусства, политики. Вот почему, несмотря на дальнейшее обособление разных сфер культуры в XIX в., с одной стороны, религия всё больше сужает свою сферу влияния главным образом до поддержания в обществе нравственности, а с другой стороны, нравственный вакуум этого времени начинает активно заполняться усилиями учёных, художников, политиков. В XIX в. религия, наука, искусство и политика подвергаются морализации, т. е. выполняют, кроме своих собственных задач, и нравственные функции.
Это означает, что религия, наука, искусство и политика активно ищут в XIX в. свои ответы на главный нравственный вопрос – как жить? Отсюда – нравоцентризм его культуры в Европе. Но его не следует абсолютизировать, поскольку каждая сфера культуры развивается в значительной мере по законам, присущим только ей, независимо от других сфер культуры.
Ещё в начале XVIII в., как известно, наш Петр I прорубил окно в Европу. К XIX в. Россия созрела, с одной стороны, для того, чтобы приобщиться к западноевропейской культуре, а с другой, противостоять ей, изыскивая свой, самобытный путь развития. Её духовная культура во многих отношениях выходит в XIX в. на передовые позиции в Европе (в особенности в области религиозно-философской мысли, искусства и нравственности). Недаром Д. А. Силичев называет этот век золотым веком русской культуры.
Многие русские мыслители воспринимали поражение христианской религии на Западе в её борьбе с просветителями в негативном плане. Так, Иван Васильевич Киреевский (18061856) во многом считал борьбу просветителей с религией причиной последующих революционных бурь, в которых он видел по преимуществу их кровавую сторону. В отличие от Петра Яковлевича Чаадаева (1794–1856), склонного объяснять отсталость России тем, что в своё время она не приняла «истинного христианства» – католицизма, И. В. Киреевский возложил надежды на православие. В дальнейшем на подобных позициях стояли Алексей Степанович Хомяков (1804–1860), Константин Николаевич Леонтьев (1831–1891) и др. (Сто русских философов. Биографический словарь / Под ред. А. Д. Сухова. М.: Мирта, 1995).
Владимир Сергеевич Соловьев (1853–1900) займет позднее примирительную позицию между католицизмом и православием, между Западом и Востоком. Под его влиянием окажутся Николай Александрович Бердяев (1874–1948), Сергей Николаевич Булгаков (1871–1944) и др., которые будут работать уже в ХХ в. Таким образом, Россия в XIX в., в отличие от Запада, пошла по пути обновления христианства, по пути поисков русского Христа, по пути объединения философии с богословием. В лице ее выдающихся мыслителей она выбрала этот путь по собственной воле.
Если на Западе философской и научной мысли в целом приходилось в течение многих веков вырываться из цепких тисков богословия, то И. В. Киреевский, А. С. Хомяков и др., напротив, видели спасение в объединении религии с наукой, веры с разумом. И. В. Киреевский писал: «Соответственное современному состоянию науки и сообразное требованиям и вопросам современного разума устранило бы болезненное противоречие между умом и верою, между внутренними убеждениями и внешнею жизнью» (ЛосскийН. О. История русской философии. М.:Высшая школа, 1991. С. 33). Это позволило бы, по его мнению, «согласить веру и разум, наполнить пустоту, которая раздвояет два мира, требующие соединения, утвердить в уме человека истину духовную, видимым её господством над истиною естественной, и возвысить истину естественную её правильным отношением к духовной, и связать наконец обе истины в одну живую мысль» (там же. С. 33).
На позициях двух истин – религиозной и научной – на Западе стояли У. Оккам и Р. Бэкон, но они жили в позднем средневековье. Кроме того, их позиция «двух истин» представляла собою завуалированную форму борьбы за освобождение науки от религиозного плена. И. В. Киреевский и А. С. Хомяков же стремились к соединению науки с религией (богословием), мечтая об их гармоническом сосуществовании. С помощью онаученного православия они рассчитывали на нравственное возрождение России.
Упования на чудодейственную нравственную силу православия сохранились у некоторой части нашей интеллигенции до сих пор – у В. Крупина, В. Распутина и др. Надеяться в наше время на то, что религия возвратит нам высокую нравственность, – анахронизм. Она это не смогла сделать и в те времена, когда её позиции в обществе были намного сильнее, чем теперь. Она, естественно, не сможет это сделать сейчас, поскольку современный европейский мир есть по преимуществу атеистический мир. Уверенности же в том, что он из безбожного состояния возвратится в божеское, нет никакой. И слава богу. Противоречия между религией и наукой непреодолимы.
Главным завоеванием науки в XIX в. стал эволюционизм. Он был подготовлен, естественно, предшествующим временем (в особенности – И. Гердером и Ж. Б. Ламарком). Но в XIX в. эволюционизм приобрёл небывалую масштабность. Этим он был обязан, по крайней мере, четырем научным направлениям – позитивизму, марксизму, дарвинизму и эволюционной школе в культурологии. Главными фигурами в них стали Г. Спенсер, К. Маркс, Ф. Энгельс, Ч. Дарвин, Л. Морган, Э. Тейлор. Становлению эволюционного мировоззрения в XIX в., бесспорно, способствовал Г. В. Ф. Гегель – своим учением о диалектике, которое стало завершением немецкой классической философии (И. Кант, И. Г. Фихте, Ф. В. Шеллинг).
XIX в. был на Западе философическим веком. В это время получают признание такие философские направления, как позитивизм (О. Конт, Д. С. Милль, Р. Авенариус, Э. Мах, А. Пункаре), философия жизни (Ф. Ницше, А. Бергсон), неокантианство (Г. Коген, П. Наторп), прагматизм (Ч. Пирс, У. Джемс) и др.
На примере философии XIX в. видно проявление нравоцен-тризма его культуры: чем дальше мы уходим от его начала, тем всё больше и больше обнаруживаем в философии этого времени тенденцию к потере подлинного объекта философии – мира в целом. Многие философы начинают уходить в этику.
Этот уход не всегда оказывался удачным. Приведу здесь только один пример – с Фридрихом Ницше (1844–1900).
Ф. Ницше изобразил свой нравственный идеал в образе сверхчеловека. Его отличает от человека прежде всего воля к власти, т. е. к превосходству над другими. В главе «О высшем человеке» в книге «Так говорил Заратустра» (см. русское изд.: М.: МГУ, 1990) он вкладывает в уста основателя зороастризма (авестизма, огнепоклонства) такие слова о сверхчеловеке: «Бог умер: теперь хотим мы, – чтобы жил сверхчеловек… Самые заботливые вопрошают теперь: “Как сохраниться человеку?”. Заратустра же спрашивает, единственный и первый: “Как превзойти человека?”. К сверхчеловеку лежит моё сердце, он для меня первое и единственное, – а не человек: не ближний, не самый бедный, не самый страждущий, не самый лучший. О братья мои, если что я могу любить в человеке, так это только то, что он есть переход и уничтожение. Превзойдите мне, о братья мои, – этих маленьких людей: они величайшая опасность для сверхчеловека! Превзойдите мне, о высшие люди, маленькие добродетели, маленькое благоразумие, боязливую осторожность, кишенье муравьев, жалкое довольство, «счастье большинства»!… “Человек зол” – так говорили мне в утешение все мудрецы. Ах, если бы это и сегодня было ещё правдой! Ибо зло есть лучшая сила человека. “Человек должен становиться всё лучше и злее” – так учу я. Самое злое нужно для блага сверхчеловека. “Для ближнего” – это добродетель только маленьких людей: у них говорят «один стоит другого» и «рука руку моет», у них нет ни права, ни силы для вашего эгоизма» (указ. соч. С. 249–252).
У них – т. е. у создателей христианской морали, где, как утверждал Ф. Ницше, в образе нищего, несчастного, бессильного, смиренного человека предстает нравственный идеал человека. Он же, Ф. Ницше, видит этот идеал в богатом, счастливом, сильном и гордом сверхчеловеке.
Сверхчеловек у Ф. Ницше двуличен. По отношению к себе подобным он снисходителен, сдержан, нежен, дружелюбен, но по отношению к «маленьким людям» он становится «немногим лучше необузданных зверей» (Буржуазная философия кануна и начала империализма. М.: Высшая школа, 1977. С. 181).
Сверхлюди, – утверждал Ф. Ницше, – «наслаждаются свободой от всякого социального принуждения… Они возвращаются к невинной совести хищного зверя, как торжествующего чудовища, которые идут с ужасной смены убийств, поджога, насилия, погрома с гордостью и душевным равновесием. уверенные, что поэты будут надолго иметь тему для творчества и прославления. В основе всех этих рас нельзя не увидеть хищного зверя, великолепную, жадно ищущую добычи и победы белокурую бестию» (указ. кн. С. 181). Надо полагать, А. Гитлер черпал из подобных пассажей из сочинений Ф. Ницше «поэтическое» вдохновение.
В качестве примеров сверхлюдей Ф. Ницше приводил Цезаря, Макиавелли, Цезаря Борджиа, Наполеона. В современном же обществе, к его огорчению, подобные сверхлюди вывелись. Вот почему их надо выращивать для будущего заново. В своей этикализации философии, таким образом, Ф. Ницше дошёл до провозглашения аморализма, до превознесения человека, стоящего по ту сторону добра и зла, человека, которому по отношению к «маленьким людям» всё дозволено. Зло, сделанное им, становится у него высшей добродетелью.
Освобожденные от религиозных пут, в XIX в. стали активно развиваться частные науки. В это время работали физики Д. Максвелл и Д. И. Менделеев, биологи Ч. Дарвин и Г. Мендель, психологи И. -Ф. Гербарт и И. М. Сеченов и т. д., и т. д. Развитие науки в этот период способствовало мощному техническому прогрессу – в железнодорожном транспорте, в использовании электричества, в освоении фотографии, телеграфа и телефона, в изобретении двигателя внутреннего сгорания и т. д.
Непревзойдённых высот в XIX в. достигает искусство. Особого расцвета в это время достигает художественная литература. На передовые позиции здесь выходят три страны – Россия, Франция и Англия.
Россия в это время дала миру А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева и А. А. Фета, А. В. Кольцова и Н. А. Некрасова, Н. В. Гоголя и М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева и А. П. Чехова. В области художественной литературы в XIX в. Россия превзошла все другие страны. На втором месте после неё стоит Франция. Она гордится творениями Ф. Стендаля, В. Гюго, О. де Бальзака, Г. Флобера, Ш. Бодлера, А. Дюма, Э. Золя, Ги де Мопассана. На третье место в этой области я бы поставил Англию, где создавали свои шедевры Д. Байрон, П. Шелли, Р. Стивенсон, В. Скотт, Ч. Диккенс, У. Теккерей, Т. Гарди, О. Уайльд.
Русские живописцы искали в XIX в. нравственную опору в образе Христа. Мы видим его на картинах А. А. Иванова («Явление Христа народу»), И. Н. Крамского («Христос в пустыне»), Н. Н. Ге («Что есть истина?»). Но русские живописцы в это время находили нравственную опору также и в образах реальной жизни.
Вполне светским было творчество таких гениев русской живописи, как П. А. Федотов («Сватовство майора»), А. К. Саврасов («Грачи прилетели»), И. И. Шишкин («Сосновый бор»), Ф. А. Васильев («Оттепель»), И. Е. Репин («Бурлаки на Волге»), В. И. Суриков («Утро стрелецкой казни») и др. В ХХ в. их шедевры не будут превзойдены. Как впрочем, не будут превзойдены А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Ф. М. Достоевский или Л. Н. Толстой. XIX век в русской культуре – её золотой век. Он был золотым не только в литературе, живописи, но и в музыке.
В это время создавали свои творения М. И. Глинка, А. А. Алябьев, П. П. Булахов, А. П. Бородин, М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков и П. И. Чайковский. Самыми крупными из них признают М. И. Глинку и П. П. Чайковского. П. И. Чайковский – наш А. С. Пушкин в музыке. Он автор опер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», балетов «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик», а также шести симфоний.
Охарактеризовывая нравственную атмосферу, царившую в XIX в. на буржуазном Западе, Т. С. Паниотова пишет: «Появляется новый буржуа, который в отличие от старого – бережливого и умеренного, не благоволившего к техническим новшествам, заботившегося о качестве товара, осуждавшего заманивание клиента рекламой и более низкими ценами, – маниакально поглощён предприятием и приносимыми им прибылями, мало озабочен качеством производимого товара. Бережливость и умеренность перестали цениться, чаще всего буржуа живёт в роскоши. В жестокой конкуренции для него все средства хороши – от рекламы до прямого подлога» (Культурология / Под ред. Г. В. Драча. Ростов-на-Дону: Феникс. С. 273). Как с нашего времени списано! А между тем, как писал ещё Ф. М. Достоевский, погоня за деньгами вовсе не приносит свободы их владельцам, поскольку они делают его своим рабом. А какая может быть свобода у раба?
Главным политическим событием XIX века стала Парижская коммуна 1871 г. С 18 марта по 28 мая в результате первой пролетарской революции Францией руководило правительство, защищающее интересы рабочего класса. Парижская коммуна потерпела поражение, но она была первой ласточкой в борьбе рабочих с буржуазией.
3. 7. культура ХХ века
Мы охарактеризовали античную культуру и средневековую как теоцентрические (мифоцентрические), эпохи Возрождения – как артоцентрическую, Нового времени – как наукоцентрическую (сциентистскую), XIX века – как нравоцентрическую. А какую доминанту мы можем выделить в духовной культуре ХХ в.?
На роль подобной доминанты в ХХ в. явно не тянут религия и нравственность. ХХ век оказался основательно опустошённым в области религии и нравственности. Он подвергся не только мощной атеизации, но и не менее мощной аморализации. Остаётся, таким образом, три претендента на центральное положение в духовной культуре ХХ в. – наука, искусство и политика.
Самые слабые позиции здесь оказались у искусства. Мы видим в этой области, конечно, и новые достижения (в ХХ веке, например, достигает своего расцвета киноискусство), но в целом искусство ХХ в. приобрело явные признаки упадка. Что же у нас осталось? Наука и политика.
Нет сомнения, что наука в ХХ в. оказалась достойной соперницей политики, но всё-таки господствовать над политикой она сможет лишь в будущем. Собственно говоря, в будущем политика должна стать научной, совпасть с наукой. Поэтому никакого насилия со стороны науки она не будет испытывать. В ХХ же веке в культуре правила бал политика.
В каком положении оказалась наша наука после революции 1917 г.? Как отнеслись к большевистской власти люди науки? К. Е. Тимирязев, например, принял её сразу и безоговорочно. Другая история была с И. П. Павловым. Только тогда, когда он на практике увидел поддержку, которую ему оказала новая власть, он стал её хвалить. Незадолго до смерти (он умер в 1936 г.) он произнёс такой тост: «Радостно сознавать себя гражданином страны, в которой наука занимает ведущее и почётнейшее место. Можно искренне гордиться родиной, где так заботливо и широко поощряют прогресс науки и культуры… Мне уже много лет, но я счастлив, что могу работать на благо моей любимой родины и для счастья всего человечества… Раньше наука была оторвана от жизни, была отчуждена от населения, а теперь я вижу иное: науку уважает и ценит весь народ. Я поднимаю бокал и пью за единственное правительство в мире, которое могло это осуществить, которое так ценит науку и горячо её поддерживает – за правительство моей страны!» (. ru/books/item/f00/s00/z0000054/st011. shtml).
Очень настороженно относился к большевикам В. И. Вернадский, но и он убедился, что они не разрушители, а созидатели. Он писал И. И. Петрункевичу в 1923 г.: «Научная работа в России не погибла, а наоборот, развивается… Научная работа в России спасена и живёт большой жизнью благодаря сознательному волевому акту» (Новый мир, 1989, № 12. С. 205). Да и как ему было обижаться на Советскую власть, если она создала условия для открытия огромного числа научных учреждений?
Ещё в 1922 г. В. И. Вернадский организовал Радиевый институт, руководителем которого он был по 1938 г. Его надежды на развитие научной работы в России, высказанные им в процитированном письме И. И. Петрункевичу из Парижа в 1923 г., оправдались вполне: при его участии были организованы в дальнейшем Институт минералогии и геохимии, Институт географии, Керамический и Оптический институты, Институт истории науки и техники, Совет по изучению производительных сил России, Метеоритный комитет, Комиссии по изучению вечной мерзлоты, по минеральным водам, по изотопам, по проблемам урана, по использованию и охране подземных вод, по определению геологического возраста пород, по тяжёлой воде, по истории знаний и др.
Несмотря на репрессии при И. В. Сталине, благодаря государственной поддержке наша страна в советское время стала могучей научной державой. Теперь от нашей науки остались в основном радостные воспоминания. Но и это подтверждает по-литикоцентризм нашей культуры.
Наша страна – не исключение. Под политическую дудку пляшут священники и моралисты, учёные и художники и в других странах. И в них она выступала в качестве ведущего фактора в культуре ХХ в. по отношению к религии, науке, искусству и нравственности. Всё дело только в том, чего в ней больше – созидания или разрушения?
Нет сомнения: культура ХХ в. перенасыщена политикой, т. е. политикоцентрична. Существенную роль здесь сыграла победа пролетарской революции в России, которая привела позднее к противостоянию лагеря социализма капиталистическому окружению. Это противостояние способствовало политизации современного этапа в развитии культуры – культуры ХХ века.
Политизации в ХХ в. подверглась философия. Так, пожалуй, самым крупным течением философской мысли в Западной Европе в первой половине ХХ в. стал экзистенциализм. Само его появление в это время и популярность в последующее во многом объясняется политическими условиями жизни, в которых оказались его творцы и их поклонники. Их «экзистенция» стала тем местом, куда они пытались укрыться от «настырной действительности» (выражение Г. Гессе).
Уход французского мыслителя Жана Поля Сартра (19051980) – главы французского экзистенциализма – от действительности подтверждается его «философией свободы». Он понимает под свободой абсолютную независимость человека от каких-либо ограничений. Речь идёт, таким образом, о той свободе, сущность которой лучше всего выразил один из персонажей А. Н. Островского: «Чего моя левая нога хочет?» Ж. П. Сартр выразил эту же мысль по-другому: «…все барьеры, все кордоны рушатся, уничтожаемые сознанием моей свободы» (Современная буржуазная философия. М.: Высшая школа, 1978. С. 366).
Автор приведённых слов мыслил себя продолжателем марксизма. Вот почему, по его мнению, марксизм со временем будет заменен его философией свободы. В книге «Проблема метода» (1957) он писал: «Когда по ту сторону производства жизни будет для всех существовать сфера подлинной (т. е. абсолютной. – В. Д.) свободы, марксизм изживёт себя; его место займет философия свободы» (Сартр Ж. П. Проблема метода. М.: Прогресс, 1994. С. 42). Кажется, слова Ж. П. Сартра в какой-то мере сбылись: марксизм у нас отменили, а на его место пришла «философия свободы». Для самых бессовестных.
ХХ век – это век великой научно-технической революции. Ей способствовал эволюционизм. Это вселяет в нас надежду на полное торжество эволюционного мировоззрения в будущем. Наши потомки с особым трепетом будут произносить имена выдающихся эволюционистов ХХ века – философа П. Тейяра де Шардена, физика Д. Гамова, биолога А. И. Опарина и психолога А. Н. Леонтьева.
На смену великим творениям живописцев XIX в. – И. Н. Крамского, Ф. А. Васильева, И. Е. Репина, Э. Делакруа, Э. Мане, О. Ренуара и многих других в XX в. приходят полотна М. Ф. Ларионова, К. С. Малевича, В. В. Кандинского, А. Матисса, П. Пикассо, С. Дали и т. п. авангардистов, творчество которых, несмотря на дифирамбы искусствоведов, никак не может претендовать на общенародное признание.
Экспериментаторские потуги мы видим не только у живописцев-авангардистов, но и поэтов-модернистов. Возьмём, например, Велимира Хлебникова (1885–1922). Он был весьма изящным эквилибристом в поэзии. Вот вам доказательство:
Заклятие смехом
О, рассмейтесь смехачи! О, засмейтесь, смехачи! Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно, О, засмейтесьусмеяльно! О, рассмешищ надсмеяльных – смех усмейных смехачей! О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей! Смейево, смейево, Усмей, осмей, смешики, смешики. Смеюнчики, смеюнчики. О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи!Очень талантливо! Но – бессмысленно. Или, по крайней мере, почти бессмысленно. Определённое содержание в этом стихотворении проклёвывается. В нём прослушивается призыв к смеху.
Однако ХХ век дал нам не только модернистов и постмодернистов в литературе, но и множество подлинно гениальных художников слова. Если ограничить себя цифрой четыре, то к самым выдающимся русским поэтам ХХ в., с моей точки зрения, следует отнести А. Блока, С. Есенина, Н. Заболоцкого и А. Твардовского, а к самым выдающимся прозаикам – И. Бунина, М. Горького, М. Шолохова и М. Зощенко. Среди же зарубежных писателей я бы выделил Д. Лондона, Г. Уэллса, Р. Роллана и Г. Гессе.
О глубоком нравственном кризисе в современном мире нам говорит так называемая массовая культура, созданная благодаря развитию техники, обеспечивающей массовую коммуникацию. Д. А. Силичев в своём учебнике по культурологии отнёс к основным жанрам этой культуры вестерн, мелодраму, фантастику, эротику, порнографию, мюзикл, мистику, ужасы, сатанизм, гангстеризм и т. п. (Силичев Д. А. Культурология. М.: ПРИОР, 1998. С. 295).
Главными политическими событиями в ХХ в. стали, с одной стороны, Октябрьская революция 1917 г. в России и образование лагеря социализма после второй мировой войны, а с другой стороны, реставрация капитализма во многих странах, входящих в этот лагерь, в последние десятилетия ХХ в.
О безнравственной природе капитализма доктор экономических наук Александр Исаев в статье «Капитализм как психопатология» написал так: «Правда о капитализме состоит в том, что капитализм – это не просто общественный строй, основанный на частной собственности на средства производства. Капитализм – это общественный строй, основанный на частной собственности на средства производства, которыми владеют нелюди, т. е. интеллектуально развитые животные… Нечеловеческая природа «нелюдя» проявляется, прежде всего, в его индивидуализме, стремлении к обособлению и главное в отсутствии сострадания к другим людям» (http://za. zubr. in. ua/2011/11/19/14051).
4. Шестеричным путь к очеловечению
Дурной человек есть неистинный человек, то есть человек, который ведёт себя несоответственно своему понятию или своему назначению.
Георг ГегельВ очеловечивающей функции материальной культуры никто не сомневается. Эта форма культуры, между тем, отдаляет нас от животных, как и от наших далёких предков, в значительно меньшей степени, чем духовная культура. Если первая направлена на удовлетворение телесных потребностей, которые нас во многом объединяют с животными, то вторая направлена на удовлетворение духовных потребностей, которые имеются у животных в мизерном количестве. Вот почему так важно изучение очеловечивающих функций различных продуктов духовной культуры и их базовых категорий – религии и веры, науки и истины, искусства и прекрасного, нравственности и добра, политики и справедливости, языка и единения.
4.1. От веры – к неверию
Что такое религия? Вера в Бога. Атеист в глазах неистово верующих – слуга дьявола. Напротив, верующий – слуга Бога. Атеистическое сознание представляет себе эволюцию как движение «вера → безверие», а релизиозное – как движение «дьявол → Бог». В последнем движении – религиозный смысл жизни.
Обратимся к нашим истокам – к русским пословицам. Могут ли они помочь людям найти смысл своей жизни в служении Богу?
Могут, но в ограниченной мере. Всё дело в том, что на Бога наш народ смотрит по преимуществу с прагматической точки зрения – с той точки зрения, которая предполагает божью помощь. В широкой народной массе (исключение составляют иноки) Бог выглядит как помощник.
Большинство русских людей верит в Бога не ради него самого, а в расчёте на его помощь. Служение ему в таком случае остаётся за пределами смысла жизни. Главный смысл их жизни состоит в выживании. Почему не брать в расчёт в осуществлении этого смысла и Бога? На этот случай в их распоряжении имеются пословицы, которые создали их предки. Такие, например: Кабы не Бог, кто бы нам помог?; Никто не может, так Бог поможет; Бог не как свой брат, скорее поможет; Ни отец до детей, как Бог до людей; Люди с лихостью, а Бог с милостью; Не по грехам нашим Господь милостив; Силен враг, да милостив Бог; С верой нигде не пропадёшь; Кто к Богу, к тому и Бог; Во времени подождать: у Бога есть что подать; Бог не даст – нигде не возьмёшь; Без Бога ни до порога; Коли Господь не построит дома, и человек не построит; Кто перекрестясь работает, тому божья помощь; Сей, рассевай, да на небо взирай.
Главный расчёт – на чудодейственное могущество Бога: Бог дунет – всё будет; Даст Бог с неба довольно хлеба; Даст Бог утро и день, даст и пищу; Даст Бог счастье – и слепому видение дарует, Даст Бог роток, даст и кусок; Даст Бог хлеб и воду: хлеб выкормит, вода вымоет и т. п.
Увы, далеко не всем и далеко не всегда Бог помогает. На этот случай у русского человека всегда под рукой ободряющая пословица: «На Бога надейся, а сам не плошай». Но у русских достаточно много пословиц, граничащих и с богоборчеством. Вот таких, например: За Богом пойдёшь, ничего не найдёшь; Бог Богом, а люди людьми; Паши не для Иисуса, а ради хлеба куса; Бог не велит хвостом шевелить, а только кончиком; Божбой прав не будешь; Святой Боже пахать не поможет; Деньга не только попа купит, но и Бога обманет; За деньги и Бога можно купить; У них денежка и на небеса путь открывает; Вольно Богу и рога приставить; Что Богу дали, то, считай, уже потеряли; Вот тебе, Боже, что нам негоже; Где страх, там и Бог; Бог и леса не сравнял, не только людей; Бог и перстов на руке, и листа на дереве не изровнял.
Сколько проклятий в адрес Всемогущего вырывается из уст страдальцев, которые не дождались от него помощи! Сколько несчастных, изверившихся в его способности не допустить очередную великую несправедливость! В отчаянии такие люди могут выдать и такое: «Взять бы Боженьку за ноженьку, да и об пол». Эта пословица попала в пословичный список М. Е. Салтыкова-Щедрина в таком виде: Взял боженьку за ноженьку, да и об пол (Ефимов А. И. Язык сатиры Салтыкова-Щедрина. М.: МГУ, 1953. С. 238).
Ради выживания иной русский человек готов взять в помощники и чёрта (дьявола), а ещё надёжнее – и Бога, и чёрта: Богу угождай, да и чёрту не перечь; Богу молися и чёрта не гневи; Богу молись, с чёртом не дерись; Богу молись, а чёрту не груби и т. п.
С прагматической точки зрения наш народ смотрел и на молитву. Но к молитве у него сложилось двойственное отношение – положительное и отрицательное.
С одной стороны: Молитва – кормля души, уму просвет; Молитва – полпути к спасению; Материнская молитва со дна моря вынимает; Не хлебом живи, а молитвою; Свет в храмине от свечи, а в душе от молитвы; Богу молиться – вперёд пригодится; Молись втайне – воздастся въяве.
А с другой стороны: Молитвой сыт не будешь; Молитвой квашню не замесишь; Молитвой не пашут, словами не жнут; Молился, молился, а гол, как родился.
Между этими крайностями мы обнаруживаем золотую середину: Богу молись, а в делах не плошись! Богу молись, а добра-ума держись; Богу молись, а к берегу гребись! Молитву твори, а муку в квашню клади; Молись, а злых дел берегись.
В последних пословицах мы находим по существу ту же позицию, что и в случае с компромиссной оценкой могущества Бога: «На Бога надейся, а сам не плошай». Она занимает положение смысловой доминанты в религиозном русском пословичном сознании. Если в этом сознании видеть, как это принято, лучшее выражение мировоззрения русского народа, то мы волей-неволей должны признать: русские пословицы – не самый надёжный путь к тому смыслу жизни, который ведёт к служению Богу.
Что есть бог? В «Википедии» читаем: «Бог (произносится [бох]) – название особой сущности в деистических и теистических учениях, которая может являться единственной в своём роде (монотеизм), или какой-либо одной конкретной из многих (политеизм). В религиях мира боги создают и устраивают мир, дают вещам, существам и лицам их бытие, меру, значение и закон».
В том же источнике читаем: «Русское слово «Бог» (<*bogъ) имеет общеславянское происхождение и родственно иранскому baga и санскритскому bhagas – «податель благ». С другой стороны, оно тесно связано с достаточно древней производной лексикой, обнаруживающей исходное значение «богатство» – *bogatъ, *ubogъ а через неё – с индоевропейской лексикой, обозначающей доля, делить, получать долю, наделять. Мнение о заимствовании славянского слова из иранских языков не является общепризнанным. В частности, Фасмер не считает гипотезу о заимствовании убедительной».
Бог, как правило, антропоморфен, т. е. похож на человека. Это свидетельствует только об одном: не бог создал человека по своему образу и подобию, а человек создал бога по своему образу и подобию.
У древних китайцев и индийцев антропоцентризм выразился в рассмотрении гигантского человека в качестве мирового первоначала. Таким чудо-человеком в древнекитайской мифологии стал Паньгу. Вышел Паньгу из космического яйца, родившегося чудесным образом из первобытного хаоса, и стал прародителем всего мироздания: из волос на его голове и усов возникли созвездия, из левого глаза – Солнце, из правого глаза – Луна, из вздоха – облака и ветер, из голоса – гром, из блеска глаз – молнии, из пота – дождь и роса, из плоти – почва, из зубов и костей – металлы и камни, из крови – реки, из жил – дороги, из кожи и волос на теле – деревья, травы и цветы, а животные и люди, между прочим, произошли из паразитов, которые ползали по его телу. По всему миру их разбросал ветер (Юань Кэ. Мифы Древнего Китая. М.: Наука, 1965. С. 13).
Нечто подобное мы видим и в древнеиндийской мифологии. В качестве гигантского первочеловека здесь выступает Пуруша. Из его разума появился месяц, из глаза – солнце, изо рта – огонь, из дыхания – ветер, из пупа – воздух, из головы – небо, из ног – земля. Но не только физиогенез обязан своим происхождением Пуруше. Ему обязан также биогенез и, в какой-то мере, культурогенез (в частности, стихотворные размеры и деление людей на касты. В «Гимне Пуруше» читаем: «Пуруша – это всё, что стало и станет… Стихотворные размеры возникли от него. От него возникли лошади и другие животные с верхними и нижними зубами. Коровы возникли от него, от него возникли козы и овцы. Брахманом стали его уста, руки – кшатрием, его бёдра стали вайшьей, из ног возник шудра» (Антология мировой философии в четырех томах. Т. 1. Ч. 1. М.: Мысль, 1969. С. 72–73).
В греческой мифологии мы обнаруживаем антропоморфное обожествление продуктов природы и культуры. В книге Вилла Дюранта «Жизнь Греции» читаем: «Высвобожденное местной независимостью, религиозное воображение Греции произвело на свет богатейшую мифологию и густонаселённый пантеон. Каждый земной и небесный объект или сила, каждое благо и каждый страх, каждое качество – даже пороки – человечества в результате олицетворения становились божеством, обычно в человеческом образе; ни одна другая религия не была столь антропоморфна, как греческая. Каждое ремесло, профессия, искусство имели своего бога, или, как следовало бы говорить, своего святого заступника; в дополнение к ним существовали демоны, гарпии, фурии, феи, горгоны, сирены, нимфы, не уступающие числом простым смертным» (Дюрант В. Жизнь Греции. М.: КРОН-ПРЕСС, 1997. С. 184).
Отождествление продуктов Вселенной с богами, похожими на людей, позволило творцам греческой мифологии представить унигенез как теогенез. Это значит, что рождение богов совпадает в ней с появлением тех или иных явлений природы.
Прародителем Вселенной стал великий, бесформенный и беспредельный Хаос. Поскольку он был один, ему ничего не оставалось, как породить Землю (богиню Гею) из самого себя. Из Хаоса произошли также любовь (Эрос), вечный мрак (Эреб) и ночь (Нюкта). В свою очередь Гея породила Тартар (будущее владение бога смерти Аида) и небо (Урана).
Физиогенез и теогенез (происхождение богов) в дальнейшем были обязаны своим продолжением различным бракам между титанами – братьями и сестрами. Так, от Гиппериона и Тейи родились солнце (Гелиос), луна (Силена), заря (Эос, или Аврора), от Астрея и Эос – звёзды и ветры (Борей – северный, Нот – южный, Зефир – западный и Эвр – восточный), от Океана и Федиты – реки и морские богини Океаниды.
Генетический аспект мифологической картины мира у греков, главным образом был направлен на физиогенез. Менее всего у них оказался представлен биогенез. На него намекают лишь те персонажи греческой мифологии, которых можно назвать полулюдьми-полуживотными. Это кентавры (полулюди-полулошади), сатиры (полулюди-полукозлы) и т. п. Очевидно, в этих персонажах можно усмотреть отголоски тех древних религиозных представлений, которые называют тотемистическим.
В древнегреческой мифологии биогенез представлен слабо, как и психогенез. Мы находим в ней лишь некоторые намеки на них. Так, с мифологическим биогенезом в ней связаны в какой-то мере богини Гея, Деметра и Артемида. От них во многом зависело плодородие земли, без которого не могут развиваться ни растения, ни животные, ни люди. В свою очередь с психогенезом связаны такие боги, как Мнемосина (богиня памяти), Гипнос (бог сна), Метис (богиня разума) и др. С ними связаны боги чувств – Деймос (бог ужаса), Фобос (бог страха) и т. п. В большей мере, чем биогенез и психогенез, у древних греков в их мифологии выписан культурогенез, хотя и он не отличается особой отчётливостью.
Происхождение культуры (а следовательно, и самих людей) у греков в их мифологии во много выглядит как дар божий: один бог научил людей тому-то, другой – тому-то и т. д. Но в силу полифункциональности многих богов, в конечном счёте, трудно воссоздать картину культурогенеза в греческой мифологии с достаточной отчётливостью. Самым ясным культурогеническим героем этой мифологии стал Прометей. Он создал людей из воды и земли. Более того, он сделал то, что и делает человека человеком: он дал ему культуру. Он стал богом культурогенеза. Свет от священного огня, который Прометей принёс людям, – это свет их культурной эволюции.
Антропоцентрична и библейская картина мира. Библейский творец мира – Яхве (Иегова) – похож на человека, которого он и создал по своему образу и подобию. Но здесь мы обнаруживаем и своеобразие библейского унигенеза. По «Библии», «в начале было слово» – слово Творца, за которым следовала реалия, которую оно обозначает. За словами, обозначающими на иврите «свет», «небо», «море», «сушу» и др., которые Яхве произносил в течение шести дней своего творения мира, появились свет, небо (твердь), море, суша и т. д. О том, что слово в библейском унигенезе предшествует реалии, свидетельствуют не только известные слова, с которых начинается «Евангелие» от Иоанна («В начале было слово…»), но и «Шестоднев». Но полной ясности здесь нет. С одной стороны, за словами Яхве появляются реалии, которые их обозначают, а с другой стороны, мы видим и противоположную последовательность: реалия – слово. Вот как это выглядит, например, со словами, обозначающими землю и море: «И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землёю, а собрание вод назвал морями..» (Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового завета. М., 1991. С. 5). Сначала – создал, а потом – назвал. Как бы то ни было, но библейский мир был создан не из мифического сверхчеловека, а стал творением Яхве. Между тем и библейский унигенез антропоцентричен, поскольку человекоподобен его творец.
Между библейским унигенезом и научным – дистанция огромного размера. Её сознают как богословы, так и учёные. К союзу же религии с наукой призывают, как правило, люди, далёкие как от богословия, так и от науки. Но при этом между библейским унигенезом и научным нельзя не увидеть и сходства: библейский унигенез в целом соответствует реальному ходу эволюции – от физиогенеза к культурогенезу. Человек в нём – заключительное творение Бога, но он и в научном унигенезе – венец природы.
Христианство – продолжение иудаизма, поскольку христианский Бог – сын иудейского Бога. При этом христиане признают как Бога-отца, так и Бога-сына, тогда как иудеи – только первого. Вот почему христиане почитают обе части «Библии» – как «Новый завет», так и «Ветхий завет», а иудеи – только «Ветхий завет». Строго говоря, иудаизм – монотеистическая религия, а христианство – битеистическая. Однако на первом месте у христиан – Иисус Христос, а не Иегова.
В борьбе с религией пострадало множество людей. Ярчайший пример – Джордано Бруно Ноланец (1548 – 1600).
О Д. Бруно написана прекрасная книга. Её автор – А. Э. Штекли. Вот как образно он описывает ситуацию выбора жизненного пути, в которой оказался юный Бруно: «Перед ним, как перед Парисом, три богини. Каждая прекрасна по-своему… Выбрать надо одну. Геру предпочтёт тот кто жаждет богатства и власти. Афину – тот, кто ценит познание и мудрость. Афродиту – кто больше всего на свете любит красоту и безмятежное наслаждение жизнью. Кому вручить золотое яблоко? Филиппо (светское имя Джордано. – В. П.) выбирает Афину. Он не боится её суровости и не ждёт лёгкой судьбы. Мудрость даётся человеку куда труднее, чем богатства и наслаждения» (Штекли А. Э. Джордано Бруно. М.: Молодая гвардия, 1964. С. 15). А на 17-й странице читаем: «Выбор он сделал. Выше всего на свете он ценит знания. Служить он будет науке».
Д. Бруно увидел смысл своей жизни в науке. Но почему в семнадцатилетнем возрасте (15 июня 1565 г.) он стал послушником, а через год монахом доминиканского монастыря в Неаполе? Таким было время. Чтобы стать учёным, молодым людям в это время всё ещё нередко приходилось облачаться в монашескую рясу. Отсюда не следует, что Д. Бруно горел желанием служить Богу. У А. Э. Штекли читаем: «Юноша носит доминиканскую сутану, но сердце его не принадлежит богу. Светские книги он читает куда с большей страстью, чем сочинения отцов церкви» (там же. С. 21).
Поиск смысла жизни дался Д. Бруно нелегко. Его одолевали мучительные сомнения в познаваемости мира, в способности человека постигать истину. Выручила история науки. Прекрасно эту ситуацию описал А. Э. Штекли: «Мысль человеческая, словно по лестнице, поднимается всё выше и выше в познании истины. Людям открываются всё новые и новые горизонты. А раз это так, то их стремления не направны! Вот в чём главная цель, красота и смысл жизни – в познании истины, в борьбе за её торжество! Джордано переживал необыкновенный подъём… Если в нём загорелся свет разума, то сколько мучений это стоило! Теперь единственная страсть всю жизнь будет владеть им – любовь к истине, страсть познания. Страсть познания не знает пресыщения. Неисчерпаемость абсолютной истины не пугает его. В самой этой неисчерпаемости бесконечный простор для непрестанного полёта мысли» (там же. С. 63–64).
В 28 лет, опасаясь суда инквизиции, Д. Бруно бежит из монастыря. Начинаются годы скитаний. Сначала он скрывается на севере Италии, а потом – в Швейцарии, Франции, Англии, Германии. Годы на чужбине, с одной стороны, принесли ему страдания (в Женеве, например, он оказался в тюрьме, а в Лондоне и Париже его травили перипатетики), а с другой, известность (так, во Франции он с блеском читал лекции в Сорбонне и даже давал уроки мнемоники самому королю Генриху III). В 1591 году Д. Бруно возвращается в Италию. В следующем году по доносу иуды Мочениго его заключают в тюрьму инквизиции. Ему 44 года. 17 февраля 1600 года инквизиторы сжигают его на костре. Он прожил 51 год.
В. И. Рутенбург включил в число титанов Возрождения Леонардо да Винчи, Альбрехта Дюрера, Мартина Лютера и Никколо Макьявелли (Рутенбург В. И. Титаны Возрождения. 2-е изд. СПб.: Наука, 1991), но в этом ряду несомненное место принадлежит и Джордано Бруно. Он был не меньшим энциклопедистом, чем Л. да Винчи.
В философии Д. Бруно влился в линию Демокрита-Эпикура-Лукреция, в физике он творчески объединил демокритовскую идею о множественности миров с коперниковским гелиоцентризмом, в психологии он достиг небывалых успехов в мнемонике, в культурологии он блестяще исследоваловал базовые категории духовной культуры – Бога, истины, красоты, добра, справедливости.
Д. Бруно был не только учёным-энциклопедистом, но и художником. Его комедия «Подсвечник», в частности, имела огромный успех на подмостках королевского театра в Париже. Её автор высмеивает в ней лженауку. Её жертва – Бартоломео. Этот герой настолько одержим идеей искусственного получения золота, что теряет сон и аппетит. Пока он возится с ретортами, его жена наставляет ему рога. Но его усилия тщетны. Дело кончается тем, что часть своих денег он спускает алхимику-шарлатану, а оставшуюся у него отнимают мошенники.
Д. Бруно жил в эпоху Возрождения – возрождения в Европе греко-римских культурных ценностей. Но на пути к их возрождению ещё очень крепко стояло невежество.
Люди, по Д. Бруно, всё время продвигаются в направлении от звериного состояния к человеческому. Своего прогресса они достигли благодаря их разуму. Именно он позволил им изобрести ремесла и искусства, создать науку и промышленность, глушить в себе низменные желания и страсти. Но люди при этом ещё очень далеки от времени, когда они всю свою жизнь подчинят разуму и сумеют построить подлинно справедливое общество.
Призывая к подчинению разуму, Д. Бруно вовсе не восхвалял образ мудреца, отрешённого от мира. Его идеалом был в конечном счёте не мудрец-отшельник, а человек-деятель, человек-борец, человек-энтузиаст, человек-герой. Этот идеал великий учёный и стремился реализовывать в собственной жизни. Он сумел приблизиться к нему максимально, ибо и жил как герой, и умер как герой, не изменив, как и Эпикур, своему высокому человеческому предназначению. Как и Эпикур, он нёс людям свет знания, свет науки, свет разума, свет истины. Почти восемь лет он просидел в тюрьме. Но инквизиторы не сломали его дух. Измене своим убеждениям он предпочёл костёр. До конца своих дней он остался верен лозунгу, сформулированному им в книге «О героическом энтузиазме»: «Лучше достойная и героическая смерть, чем недостойный и подлый триумф» (указ. соч. А. Э. Штекли. С. 218).
Вот как закончилась жизнь Джордано Бруно Ноланца: «Осуждённого прикрепили железной цепью к высокому столбу. Вплоть до последнего момента святые отцы разных орденов увещевали его покаяться. Однако ничто не поколебало непреклонности Ноланца. Язык в тисках, цепь вокруг тела, медленно разгорающийся хворост, книги, обречённые на сожжение. Но разве мысль человеческую этим остановишь? “Умственная сила никогда не успокоится, никогда не остановится на познанной истине, но всё время будет идти вперёд и дальше, к непознанной истине”. Он встретил смерть с редким мужеством. Умирающему в муках, ему протянули на длинном древке распятие – он сверкнул глазами и гневно отвернул лицо» (там же. С. 379–380).
Инквизиторы сожгли на костре своего злейшего врага. Но они не смогли сжечь все его книги. Критика религии, имеющаяся в них, и до сих пор поражают своей убийственной саркастичностью. Вот что, например, мы можем прочитать в его «Тайне Пегаса»: «Глупцы мира были творцами религии, обрядов, закона, веры, правил жизни. Величайшие ослы мира те, что, будучи лишены всякой мысли и знаний, далёкие от жизни и цивилизации, загнивают в вечном педантизме, реформируют по милости неба безрассудную и испорченную веру, лечат язвы прогнившей религии и, уничтожая злоупотребления предрассудков, снова заделывают прорехи в её одежде» (там же. С. 208).
Доставалось от Д. Бруно и прихожанам: «Молите же, молите господа, дорогие мои, чтобы он помог вам сделаться ослами, если вы ещё не ослы» (там же. С. 209).
Очень необычный путь к религиозному смыслу жизни совершил Пьер Тейяр де Шарден (1881–1955). Этот путь привёл его к трагедии. Ещё в детстве его постигло «разочарование в органическом» (Семёнова С. Г. Паломник в будущее. Пьер Тейяр де Шарден. СПб.: Русская христианская гуманитарная академия, 2009. С. 17). Разочарование состояло в осознании хрупкости и скоротечности жизни у любого существа. Вот почему «органическое», как думал юный Пьер, не может претендовать на положение твёрдой опоры – абсолюта. Вот почему он увидел этот абсолют в… камне. Камень – не хрупок и его существование не скоротечно.
В упомянутой книге С. Г. Семёновой читаем: «Пьер, кто не раз в классе на вопрос, о чём это он мечтает, отвечал: “О камнях”, – естественно тянулся к преподавателю физики, о. Декрибу. С ним в сопровождении нескольких товарищей он предавался своему любимому занятию: небольшим экспедициям по окрестным горам для наблюдения и изучения природы» (там же. С. 24).
Пьер родился в большой иезуитской семье (у него было 10 братьев и сестёр). С младенчества он впитал в себя естественность христианской веры. Вне этой веры он свою жизнь и не мог мыслить. Она вошла в него с молоком матери. Нет ничего удивительного в том, что, пройдя через несколько ступеней иезуитского образования, он принял в 30 лет священнический сан. Тем самым он принял для себя религиозный смысл жизни. Но пришёл он к нему далеко не сразу. Приблизительно до 30 лет он не знал, в чём именно должен состоять религиозный смысл его жизни. Он не знал, чего именно от него хочет Бог. Вступив в 20 лет в орден иезуитов «Общество Иисуса», созданный ещё в 1540 г. Игнатием Лойолой, он писал родителям: «Если бы вы знали, как я счастлив быть навсегда и целиком связанным с Орденом, особенно сейчас, когда его преследуют. Я сегодня молился за всех вас, и, конечно, Наш Господь не забудет всё, что вы сделали, чтобы облегчить реализацию моего призвания. Но помолитесь хорошенько за меня, чтобы я сумел быть на высоте того, что Бог хочет от меня» (там же. С. 31).
Прозрение пришло к тридцати годам, когда П. Тейяр де Шарден пришёл к идее эволюции. Вот как это прозрение описывает С. Г. Семёнова: «Внутренний метафизический сюжет П. Тейяра де Шардена как бы перевернулся: раньше хоть какое-то приближение к Абсолюту он видел в “физически неразрушимом”, “бесконечно простом”, теперь же – в том, что было для него всегда столь горестно хрупким – в органическом, но уже эволюционно развивающемся к крайней сложности и духовности. В ходе восходящей эволюции самое легко портящееся получало залог настоящей неразрушимости и вечности, а значит залог абсолюта. Это капитальное открытие у Пьера Тейяра произошло в 30 лет. Но впереди в течение ещё двадцати лет предстояло углублённое раскрытие и развитие этого нового видения: уточнение характера и цели направленной эволюции, её движущих сил и энергий, вникание в суть “феномена человеческого”, открытие ноосферы, “вселенского Христа”, “точки Омега”…» (там же. С. 39).
Эволюция раскрыла П. Тейяру де Шардену смысл его жизни. Этот смысл жизни он увидел в том, чтобы быть посредником между Богом и эволюционирующим универсумом. В работе «Священник» (1918) он писал: «Господи, я хотел бы быть, со своей смиренной стороны, апостолом и (осмелюсь сказать) евангелистом Вашего Христа в Универсуме» (там же. С. 41). Тут вот что необычно: речь идёт о посредничестве между Богом и всем миром (не только одними людьми). Но как это посредничество осуществить? Соединением религии и науки, их синтезом.
«Своими медитациями, – поясняет П. Тейяр де Шарден, – словом, практикой всей жизни я хотел бы открывать и проповедовать отношения непрерывности, которые делают из Космоса, в котором мы движемся, среду, обожествлённую Воплощением, обожествляющую причастием, призванную к обожествлению нашим деятельным сотрудником. Нести
Христа, в силу чисто органических сочленений, в самое сердце наиболее опасных, наиболее природных, наиболее языческих реальностей, – вот моё евангелие и моя миссия… Вот почему я возложил на себя свои обеты, своё священство (и в них моя сила и моё счастье) в духе принятия и обожествления сил и возможностей Земли» (там же).
Что же выходит? Обожествить весь мир, но в особенности – его природные реальности, которые меньше всего поддаются проникновению в них христианского смысла. Вселенская миссия! Только великий мыслитель мог отважиться на такое понимание релизиозного смысла своей жизни.
В другом месте П. Тейяр де Шарден формулирует свою миссию предельно лаконично: «Христианизировать эволюцию» (с. 52). Что это значит? Представить Христа как «универсальный Центр, общий прогрессу космоса и его постепенному освящению (соразвитие Христа в мире)» (там же). Эта миссия была принята руководителями ордена в штыки. В 1925 г. ему запретили читать лекции в парижском Католическом институте, а через год он был изгнан из Франции.
Целых двадцать лет П. Тейяр де Шарден был вынужден жить в Китае, а закончить свою жизнь в Америке. С молодости он жил изгнанником и умер изгнанником. Несмотря на то, что он много путешествовал и несколько раз навещал родину, до конца своих дней он жил с горьким чувством изгнанника. У С. С. Семёновой читаем: «Все двадцать лет огромной, преимущественно китайской, главы его жизни, среди путешествий, работы, открытий, общений, внутреннего религиозного сосредоточения, о. Тейяр не перестаёт переживать своё положение изгнанника» (там же. С. 149).
П. Тейяр де Шарден так и не увидел изданной главную книгу своей жизни – «Феномен человека» (точнее – «Человеческий феномен» – Le phenomene humain). Она появилась через пять месяцев после его смерти. Между тем закончена она была ещё 15 лет назад. Он писал её два года – с июля 1938 г. до июля 1940. В предисловии к этой книге уже покойного великого эволюциониста, как дошкольника, безвестный иезуит поучал проводить разницу между животным и человеком: «…автор недостаточно принимает во внимание различие между человеком и животным» (Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М.: Наука, 1987. С. 9).
Иезуитская власть мучила П. Тейяра де Шардена больше тридцати лет. О том, как тяжко ему жилось, свидельствуют, в частности, воспоминания его друга Пьера Леруа. Он писал: «Он терпеливо переносил испытание, которое могло бы ожесточить самое твёрдое сердце. Сколько раз в доверительных беседах с ним обнаруживалось, как он был удручён, почти обескуражен. Уже в 1939 г. (в самый разгар работы над «Феноменом человека». – В. Д.) он страдал приступами тоски, которые усилились через несколько лет, случалось, что он терял последнюю надежду: и тогда его сражали настоящие приступы слёз, и он походил на отчаявшуюся жертву» (там же. С. 160).
Между тем римско-католические власти были правы в том, что в концепции универсального эволюционизма П. Тейяра де Шардена видели ересь. Как эволюционист, её автор увидел эволюционное завершение Христа в таинственной точке Омега. Но он был не только эволюционистом, но и пантеистом. Его пантеизм имел особую форму – панхристианизма. Его Иисус-Омега очень далёк от новозаветного. Как пантеист, он растворил Христа в универсуме, тем самым превратив его в «универсального Бога», в «Бога Эволюции». В его представлении Бог приобрёл весьма абстрактный вид. В одной из проповедей он обрисовывал его так: «Для каждого из нас у Бога разное лицо, разная точность его восприятия. Но поскольку все мы люди, мы не можем отделаться от чувства и от идеи, что над нами и впереди нас существует высшая энергия, в которой мы должны признать – поскольку она выше нас – увеличенный эквивалент нашего разума и нашей воли» (там же. С. 119). Что же касается «Феномена человека», то в нём Иисус Христос даже теряет имя. Он становится мистической точкой Омега.
П. Тейяр де Шарден не мог порвать с церковью. Но он ясно сознавал, что никогда она не сможет принять его доктрины. Расхождения между римско-католической властью и им были мировоззренческими. В письме к другу он писал в 1933 г.: «Но, оставив в стороне этот капитальный пункт (о вере в Христа. – В. П.), мы различаемся, Рим и я, двумя представлениями Мира, которые не то что взаимоисключающи, но противоположны. Это по сути беспощадная борьба между статичным пессимизмом и прогрессивным оптимизмом» (там же. С. 155).
В лице П. Тейяра де Шардена блюстители ортодоксального христианства видели своего врага. На путь критики традиционного христианства он вступил ещё в 1916 г., когда написал свою первую теоретическую работу – «Космическая жизнь». Она оказалась программной. В её первой главе он писал: «Христианство… не даёт конкретного решения ни одной человеческой проблеме: оно подвешено в воздухе, пока ему не дадут основу в эволюционном становлении» (там же. С. 244). Эту основу французский мыслитель будет подводить под христианство всю жизнь.
Главное, чего не могут принять у П. Тейяра де Шардена ортодоксальные теологи, состоит в том, что научная сторона в его концепции явно преобладает над религиозной. Уже в «Космической жизни» на место креационизма он поставит научный эволюционизм. Уже в этой работе речь идёт о физиогенезе, биогенезе, психогенезе и культурогенезе. В «Феномене человека» они получат детальное освещение (подр. анализ концепции П. Тейяра де Шардена см. в конце нашей книги «Свет Прометея»). Но уже и в «Космической жизни» они приобретают первоначальные очертания. Так, по поводу двух первых ступеней эволюции он писал: «Жизнь обязана материи и нуждается в ней. Жизнь появилась и развивается в зависимости от всей Вселенной. Она вовлечена некоторым тайным образом в общее движение на материальной основе, которым является целостное становление Космоса. Через общую материю все живущие – уже одно. Итак, через их жизнь прежде всего они сплавлены между собой» (там же. С. 244).
Концепция П. Тейяра де Шардена открыта для её дальнейшей научной разработки. Уместно в связи с этим привести слова самого её автора, которыми он отреагировал в 1941 г. на книгу знаменитого английского биолога-эволюциониста и атеиста Джулиана Хаксли «Уникальность человека». Он писал: эта книга рассматривает человека «в манере столь параллельной моей (правда, не интегрируя Бога в конце серии), что я чувствую утешение и поддержку» (там же. С. 151).
Гонения римских властей на автора «Феномена человека» вполне естественны. Иначе и не могло быть. Он пытался осуществить невозможное – соединить веру и разум, религию и науку. До конца дней он верил, по его собственному выражению, в «естественное согласие между наукой и религиозной догмой» (там же. С. 119). Он был самым великим среди тех, кто пытался осуществить синтез религии и науки, но даже и ему это не удалось, поскольку это не может удасться никому.
Обращение к религиозному смыслу жизни естественно у священников. А как это выглядит у других людей. Уже много лет мы живём во времена поощрительного отношения власти к религии. Как к этому относиться? Как должен относиться к религии эволюционист? Эволюционистски, т. е. видеть в ней исторически объяснимый продукт духовной культуры, сыгравший огромную роль в культурогенезе. На протяжении многих веков она была главным путеводителем формирующегося человечества в мире.
В той мере, в какой религия оказывает помощь нравственности и в наше время, в той мере её следует принимать и сейчас. Но отсюда не следует, что мы должны радоваться распространяющейся клерикализации нашего общества. Радоваться здесь нечему. Всё дело в том, что она отвращает людей от научного мировоззрения и возвращает их в Средние века, где господствовал теоцентризм. Распространение религии в нашем обществе, таким образом, со временем может перерасти ту границу, которая отделяет показную религиозность от религиозного мракобесия, от которого наука освобождалась в течение долгих и мучительных столетий. Не буду здесь напоминать о судьбе Роджера Бэкона, Джордано Бруно, Галилео Галилея, Жульена де Ламетри, Вольтера и многих других выдающихся людей, пострадавших от церкви.
4. 2. От лжи – к истине
Что есть истина? Адекватная модель познаваемого объекта. «Всеобъемлющая» истина – адекватная модель универсума. Иначе её называют научной картиной мира.
Научная картина мира не должна быть достоянием одних учёных. Её постижение – вот цель массового научного образования. Наш народ это давно понял и выразил в своих пословицах. Таких, например: Наука (ученье) – свет, а безнаучность (неученье) – тьма; За одного учёного двух неучёных дают; Науки разум изощряют; Без науки умней не станешь; Человек неучёный что топор неточёный; Наука не бука, она не стращает, мрак не-знанья разгоняет; Ошибся не ошибся – вперёд наука.
Наш мудрый народ учит: Мир освещается солнцем, а человек – знанием; Знание – свет, указывающий путь в любом деле; В знании избытка не бывает; Наука любознательна, невежество любопытно; Наука хлеба не просит, а сама хлеб даёт, Наукой свет стоит, ученьем люди живут; Где высоко стоит наука, стоит высоко человек; Наука и труд дивные всходы дают; Учение и труд всё перетрут; Наука переменит природу; Наукой люди кормятся; Без науки как безрукий; Больше науки – умелее руки; Кто любит науку, тот и изобретает.
А тем, кто никак не может справиться с ненасытной жаждой обогащения, придётся вдалбливать всего-навсего две пословицы: Учение лучше богатства и Учение – вот лучшее богатство.
Но постижение науки даётся нелегко. Недаром говорится: Всякая наука – не без труда; Наука учит только умного; Наука – мука; Идти в науку – терпеть и муку; Наука не пиво – в рот не вольёшь; Всю науку не изучишь, а себя измучишь. Тем не менее не стыдно не знать – стыдно не учиться, Молодому наука что печать к воску; Сам не научишься – никто не научит; Худое без науки даётся.
Жажда познания – вот черта, отличающая подлинного учёного от мнимого. Яркое тому подтверждение – Михайло Ломоносов (1711–1765). Его жажда познания была мирообъемлющей.
М. В. Ломоносов обладал «мирообъемлющим умом» (выражение В. Г. Белинского о В. Шекспире). Е. Лебедев писал: «Несмотря на то, что в каждой отдельной области Ломоносову приходилось решать задачи весьма специальные, требующие основательных специальных же познаний, эта отличительная черта его творческой индивидуальности, эта органичная целостность взгляда на мир и человеческую культуру сопутствовали ему во всех его общих и частных просветительных начинаниях» (Лебедев Е. Михаил Васильевич Ломоносов. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. С. 158).
Жажда познания у М. В. Ломоносова была так велика, что в 20 лет он тайно ушёл из дома, чтобы хоть в какой-то мере её удовлетворить. В значительной мере это ему удалось. Он стал нашей национальной гордостью. Этот, по выражению Н. А. Некрасова, «архангельский мужик» стал кумиром не одного поколения юношей, которые следовали ему примеру. По его проекту при поддержке И. И. Шувалова в 1855 г. был открыт Московский университет, который состоял из трёх факультетов – философского, юридического и медицинского. «Он, лучше сказать, сам был нашим первым университетом» (А. С. Пушкин).
Родился М. В. Ломоносов в деревне Мишанинской Двинского уезда Архангелогородской губернии в семье крестьянина-помора Василия Дорофеевича Ломоносова, занимавшегося морским промыслом на собственных судах. В 1731 г. он ушёл с обозом учиться в Москву. С 1731 по 1735 год обучался в Московской славяно-греко-латинской академии. В январе 1736 г. был зачислен студентом в Петербургский университет при Академии наук, но уже в октябре этого же года был направлен учиться в Германию, где обучался в Марбургском университете и изучал горное дело. Выбраться из Германии, где он к тому же женился на немке, оказалось не так просто. В конце мая 1740 г., направляясь на родину, под Дюссельдорфом он «показался пруссакам годною рыбою на их уду» и обманом был «забрит» в рекруты, но в октябре этого же года бежал. Сначала прибыл чрез Арнгейм и Утрехт в Амстердам, а затем – в Гаагу. Только после возвращения в Амстердам он сумел отправиться морем в Россию. Он вернулся домой почти через шесть лет – летом 1741 г. Через четыре года, в 1745 г. (ему 34), он стал первым русским профессором, первым русским членом Академии наук. До него все российские академики были иностранцами. Впереди было лишь 20 лет.
Заслуги М. В. Ломоносова перед наукой, как и перед искусством (в первую очередь – поэтическим и мозаичным), невозможно переоценить. Он был первым русским энциклопедистом. За сравнительно немногие годы своей научной жизни он достиг успехов в самых разных областях науки – в химии, металлургии, астрономии, геологии, географии, метеорологии, приборостроении, истории культуры, языкознании, философии, математике.
Вот как об энциклопедичности М. В. Ломоносова писал С. И. Вавилов: «Ломоносову по необъятности его интересов принадлежит одно из самых видных мест в культурной истории человечества. Даже Леонардо да Винчи, Лейбниц, Франклин и Гёте более специальны и сосредоточенны. Замечательно при этом, что ни одно дело, начатое Ломоносовым, будь то физикохимические исследования или оды, составление грамматики и русской истории, или организация и управление фабрикой, географические проекты или политико-экономические вопросы, – всё это не делалось им против воли или даже безразлично. Ломоносов был всегда увлечён своим делом до вдохновения и самозабвения; об этом говорит каждая страница его литературного наследства» (указ. кн. Е. Лебедева. С. 632).
Даже от научных трудов М. В. Ломоносова веет вдохновением. Возьмём, например, его «Российскую грамматику» (1755). Она – краеугольный камень русского языкознания. Вот какие вдохновенные слова мы можем в ней прочитать: «Тупа оратория, косноязычна поэзия, неосновательна философия, неприятна история, сомнительна юриспруденция без грамматики». (Ломоносов М. Российская грамматика. Санкт-Петербург: Типография Императорской Академии Наук, 1755. С. 8).
Тем более вдохновенным М. В. Ломоносов был в поэзии. Вот какие строки о науке мы можем у него прочитать в «Оде на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны, Самодержицы Всероссийской, 1746 года» (ему 35 лет):
Дерзайте ныне ободренны Раченьем вашим показать, Что может собственных Платонов И быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать. Науки юношей питают, Отраду старым подают, В счастливой жизни украшают, В несчастной случай берегут; В домашних трудностях утеха И в дальних странствах не помеха. Науки пользуют везде, Среди народов и в пустыне, В градском шуму и наедине, В покое сладки и в труде.За месяц до смерти М. В. Ломоносов написал в своём плане разговора с Екатериной II: «Я не тужу о смерти: пожил, потерпел и знаю, что обо мне дети отечества пожалеют» (указ. кн. Е. Лебедева. С. 597). Но Я. Я. Штелингу он сказал: «Жалею токмо о том, что не мог я свершить всего того, что предпринял я для пользы отечества для приращения наук и для славы Академии и теперь при конце жизни моей должен видеть, что все мои полезные намерения исчезнут вместе со мной…» (там же. С. 592). Он прожил всего 54 года.
К жажде познания у молодого человека, решившего посвятить свою жизнь науке, нередко примешивается жажда славы. Таким был Чарлз Дарвин (1809–1882). Эти две жажды уживались в нём одновременно. В своих воспоминаиях он писал: «Насколько я в состоянии сам судить о себе, я работал во время путешествия (на «Бигле». – В. Д.) с величайшим напряжением моих сил просто оттого, что мне доставлял удовольствие процесс исследования, а также потому, что я страстно желал добавить несколько новых фактов к тому великому множеству их, которым владеет естествознание. Но кроме того у меня было и честолюбивое желание занять достойное место среди людей науки, – не берусь судить, был ли я честолюбив более или менее, чем большинство моих собратий по науке» (Дарвин Ч. Воспоминания о развития моего ума и характера: http://lib. rus. ec/b/192015/read).
Худо, если жажда славы начнёт преобладать над жаждой познания. С Ч. Дарвиным этого не произошло. Он писал: «К концу путешествия, когда мы были на острове Вознесения, я получил письмо от сестер, в котором они сообщали, что Седжвик посетил отца и сказал, что я займу место среди выдающихся людей науки. Тогда я не мог понять, каким образом ему удалось узнать что-либо о моих работах, однако я слыхал (но кажется, позже), что Генсло доложил некоторые из моих писем к нему в Кембриджском философском обществе и отпечатал их для распространения среди ограниченного круга лиц. Моя коллекция костей ископаемых животных, которая была переслана мною Генсло, также вызвала большой интерес у палеонтологов. Прочитав это письмо, я начал вприпрыжку взбираться по горам острова Вознесения, и вулканические скалы громко зазвучали под ударами моего геологического молотка! Все это показывает, до чего я был честолюбив, но я думаю, что не погрешу против истины, если скажу, что, хотя в позднейшие годы одобрение со стороны таких людей, как Ляйелл и Гукер, которые были моими друзьями, было для меня в высшей степени важным, мнение широкой публики не очень-то заботило меня. Не хочу этим сказать, что благоприятная рецензия или успешная продажа моих книг не доставляли мне большого удовольствия, но удовольствие это было мимолетным, и я уверен, что ради славы я никогда ни на один дюйм не отступил от принятого мною пути» (там же). Подробнее об этом пути вы можете узнать по книге: Стоун И. Происхождение. Роман-биография Чарлза Дарвина. М.: Издательство политической литературы, 1989.
Настоящему учёному одной жажды познания мало. Он хочет быть полезен обществу. Яркие примеры – Дмитрий Иванович Менделеев (1834–1907), Иван Петрович Павлов (1849–1936) и Владимир Иванович Вернадский (1863–1945).
Д. И. Менделееву было всего лишь 35 лет, когда он открыл свой Периодический закон. К этому времени он не дожил ещё и до середины своей жизни. Её большую часть он наполнил трудами, которые не имели отношения к химии. Он обладал исключительно практическим умом. По преимуществу прикладной направленностью характеризуются его многочисленные труды по метрологии, воздухоплаванию, гидродинамике, экономике, народному просвещению, народонаселению и др.
Г. Смирнов писал: «После этого (т. е. после открытия Периодического закона. – В. Д.) химия в его творчестве отходит на второй план, а его научные интересы смещаются в сторону промышленности, экономики, финансов, народного образования. К концу XIX века Дмитрий Иванович занял в русском обществе уникальное место универсального эксперта, консультирующего русское правительство по широкому кругу научных и народнохозяйственных проблем – воздухоплаванию, нефтяным делам, бездымным порохам, таможенному тарифу, реформе высшего образования, постановке метрологического дела в стране» (Смирнов Г. Как советские редакторы правили Д. И. Менделеева // Молодая Гвардия, 1999, № 5).
Перу Д. И. Менделеева принадлежит более 500 научных трудов. Это был величайший труженик. Он имел право на такие слова: «Желательно, чтобы русский народ, включая в него, конечно, и всю интеллигенцию страны, своё трудолюбие умножил для разработки природных запасов богатой своей страны, не вдаваясь в политиканство, завещанное латинством, его, как и евреев, сгубившее и в наше время подходящее лишь для народов, уже успевших скопить достатки, во много раз превосходящие средние скудные средства, скопленные русскими. Прочно и плодотворно только приобретённое своим трудом. Ему одному честь, поле действия и всё будущее» (Бояринцев В. И. Великий русский учёный Дмитрий Иванович Менделеев: . org/history/eng/est/mend).
Забота о практических проблемах страны вовсе не привела Д. И. Менделеева к недооценке фундаментальной науки. Нацеленность на практическую пользу, которую должна приносить наука, органично сочеталась у Д. И. Менделеева с поиском истины как таковой. «Истина, – писал он, – сама по себе имеет значение без каких-либо вопросов о прямой пользе» (там же).
Своим стремлением к истине Д. И. Менделеев заражал своих слушателей. Он был прекрасным оратором. Среди студентов Петербургского университета, слушающих его лекции, был В. И. Вернадский. Вот какой портрет Д. И. Менделеева он изобразил в своих воспоминаниях: «Ярко и красиво, образно и сильно рисовал он перед нами бесконечную область точного знания, его значение в жизни и в развитии человечества, ничтожность, ненужность и вред того гимназического образования, которое душило нас в течение долгих лет нашего детства и юности. На его лекциях мы как бы освобождались от тисков, входили в новый, чудный мир, и в переполненной аудитории Дмитрий Иванович, подымая нас и возбуждая глубочайшие стремления человеческой личности к знанию и к его активному приложению…» (Страницы автобиографии В. И. Вернадского. М.: Наука, 1981. С. 29).
И. П. Павлов был в науке не меньшим тружеником, чем Д. И. Менделеев. На протяжении всей своей долгой жизни он проводил эксперименты с животными не ради них самих, а ради человека. О человеке, о его физическом и духовном здоровье болела его душа. Он говорил: «Когда я приступаю к опыту, связанному с гибелью животного, я ипытываю тяжёлое чувство сожаления, что прерываю ликующую жизнь, что являюсь палачом живого существа. Когда я режу, разрушаю живое животное, я глушу в себе едкий упрёк, что грубой, невежественной рукой ломаю невыразимо художественный механизм. Но переношу это в интересах истины, для пользы людям. А меня, мою вивисекционную деятельность предлагают поставить под чей-то постоянный контроль. Вместе с тем истребление и, конечно, мучение животных только ради удовольствия и удовлетворения множества пустых прихотей остаются без должного внимания. Тогда в негодовании и с глубоким убеждением я говорю себе и позволяю сказать другим: нет, это – не высокое и благородное чувство жалости к страданиям всего живого и чувствующего; это – одно из плохо замаскированных проявлений вечной вражды и борьбы невежества против науки, тьмы против света» (http://ru. wikipedia. org/wiki/%D0%9F%D0%B0 %D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%98).
И. П. Павлов не боялся прослыть ретроградом, если, как ему казалось, наука чересчур далеко отодвигается от насущных человеческих забот. Показательно в связи с этим его отношение к зарождающейся космонавтике.
Во время посещения И. П. Павлова в 1926 г. А. Л. Чижевский сказал: «Видите ли, Иван Петрович, сейчас техники и у нас, и на Западе заняты проблемой межпланетных перелетов с помощью огромных ракет. Конечно, ещё понадобится лет сорок-пятьдесят для решения всех технических вопросов, но появились и физиологические вопросы: как влияет на организм ускорение, – ведь ракета должна будет развивать скорость от 11 до 16 км в секунду, – и затем явление невесомости. Циолковский считает, что эти явления пора уже изучать, чтобы физиологи могли дать ответ: вредны ли человеку эти явления, тогда техника разработает меры предупреждения. Циолковский просил меня узнать у вас, что вы об этом думаете…» (Вестник РАН, 1995, № 11).
Ответ И. П. Павлова был резким: «Ровно ничего. Не думал и не могу думать, ибо этими вопросами я не интересовался… Не очень ли спешит Циолковский с полетами на другие планеты?. Хочется задать ему встречный вопрос: надо ли это человеку вообще? Не плохо ли ему живется на Земле, что он думает о небе. Допустим, что и я не доволен своей жизнью, но я не мечтаю улететь с Земли, ибо не жду в небе особых благ… Возможно, что это будет интересно, даже увлекательно, но не обязательно. Надо, по моему разумению, стремиться к улучшению человеческих отношений на Земле. Вот что является первейшей задачей любого человека» (там же).
В этой же беседе с А. Л. Чижевским И. П. Павлов сказал: «Просветительская деятельность сейчас является обязательной для каждого русского интеллигента и особенно для каждого учёного. Я, несмотря на свой возраст, несу бремя науки – и не только для науки, – но и для того, чтобы прославить Россию, хотя бы и большевистскую, чтобы нас признали во всём мире, а не считали дикарями, поправшими всё свойственное до сих пор человеку» (там же).
Перед самой смертью И. П. Павлов изложил свой завет молодым учёным: «Что бы я хотел пожелать молодежи моей родины, посвятившей себя науке?
Прежде всего – последовательности. Об этом важнейшем условии плодотворной научной работы я никогда не смогу говорить без волнения. Последовательность, последовательность и последовательность. С самого начала своей работы приучить себя к строгой последовательности в накоплении знаний.
Изучите азы науки прежде, чем пытаться взойти на её вершины. Никогда не беритесь за последующее, не усвоив предыдущеего. Никогда не пытайтесь прикрыть недостаток своих знаний хотя бы и самыми смелыми догадками и гипотезами. Как бы ни тешил ваш взор своими переливами мыльный пузырь, – он неизбежно лопнет, и ничего, кроме конфуза, у вас не останется.
Приучите себя к сдержанности и терпению. Научитесь делать чёрную работу в науке. Изучайте, сопоставляйте, накопляйте факты. Как ни совершенно крыло птицы, оно никогда не смогло бы поднять её в высь, не опираясь на воздух. Факты – это воздух учёного. Без них вы никогда не сможете взлететь. Без них ваши «теории» – пустые потуги.
Но изучая, экспериментируя, наблюдая, старайтесь не оставаться у поверхности фактов. Пытайтесь проникнуть в тайну их возникновения. Настойчиво ищите законы, ими управляющие.
Второе – это скромность. Никогда не думайте, что вы уже всё знаете. И как бы высоко ни оценивали вас, всегда имейте мужество сказать себе: я невежда.
Не давайте гордыне овладеть вами. Из-за неё вы будете упорствовать там, где нужно согласиться, из-за неё вы откажетесь от полезного совета и дружеской помощи, из-за неё утратите меру объективности.
В том коллективе, которым мне приходится руководить, всё делает атмосфера. Мы все впряжены в одно общее дело, и каждый двигает его по мере своих сил и возможностей. У нас зачастую и не разберёшь – что “моё”, а что “твоё”, но от этого наше общее дело только выигрывает.
Третье – это страсть. Помните, что наука требует от человека всей его жизни. И если у вас было бы две жизни, то и их бы не хватило вам. Большого напряжения и великой страсти требует наука от человека. Будьте страстны в вашей работе и в ваших исканиях!» (там же).
Девятнадцатилетний В. И. Вернадский (1863–1945) писал: «Моя цель – познание всего, что возможно человеку в настоящее время» (Страницы автобиографии В. И. Вернадского. М.: Наука, 1981. С. 33). Но тут же уточнял: «…сообразно его силам (и специально моим) и времени» (там же). Но уже в это время он ориентировал своё познание на практику. Он видел практическое применение знаний – в улучшении человека: «Я хочу, однако, увеличить хоть отчасти запас сведений, улучшить хоть немного состояние человека» (там же).
Между тем надо хорошо сознавать, что ориентир знания на практику не следует абсолютизировать, поскольку знание самоценно. Оно открывает человеку глаза на этот мир. Вот почему процесс его постижения приносит наслаждение. В том же 1882 г. В. И. Вернадский писал в своём дневнике (он начал его писать в 13 лет): «Прежде я не понимал того наслаждения, какое чувствует человек в настоящее время, искать объяснения того, что из сущего, из природы воспроизводится его чувствами, не из книг, а из неё самой. Какое наслаждение “вопрошать природу”, “пытать её”! Какой рой вопросов, мыслей, соображений! Сколько причин для удивления, сколько ощущений приятного при попытке обнять своим умом, воспроизвести в себе ту работу, какая длилась века в бесконечных областях! И тут он [человек] подымается из праха, из грязненьких животных отношений, он яснее сознаёт те стремления, какие создались у него самого под влиянием этой самой природы в течение тысячелетий» (там же. С. 34).
Через два года молодой В. И. Вернадский приходит к пониманию общей цели своей жизни. Он видит её в развитии человечества. Но развитие человечества есть его эволюция, т. е. гоминизация (очеловечение). Он писал в своём дневнике: «Ставя целью развитие человечества, мы видим, что оно достигается разными средствами и одно из них – наука» (там же. С. 40).
Наука только тогда может служить развитию человечества, когда в ней видят не только удовольствие и пользу, но и путь к приобретению такого обширного взгляда, которым охватывается весь мир. Если она не замыкается в рамках узкой специальности, она открывает путь к целостной картине мира, к мировоззрению. «Наука, – писал в своём дневнике В. И. Вернадский, – доставляет такое обширное удовольствие, она приносит такую пользу, что можно было, казалось, остаться деятелем одной чистой науки. Это было бы приятнее. Но так оно было бы, если бы можно было заставить себя не вдумываться за пределы узкого круга специальности; тогда теряется мировоззрение…» (там же). Иными словами, чтобы иметь подлинное мировоззрение нужно быть энциклопедистом. Только энциклопедист и эволюционист в состоянии видеть мир в целом.
В. И. Вернадский был сциентистом, хотя и понимал, что без государственной поддержки наука не в состоянии спасти мир. В работе «Научная мысль как планетное явление» (1938) специальную главу он отвёл «Положению науки в современном государственном строе». Вот что мы читаем в её начале: «Наука не отвечает в своём современном социальном и государственном месте в жизни человечества тому значению, которое она имеет в ней уже сейчас, реально. Это сказывается и на положении людей науки в обществе, в котором они живут, и в их влиянии на государственные мероприятия человечества, в их участии в государственной власти, а, главным образом, в оценке господствующими группами и сознательными гражданами – “общественным мнением” страны – реальной силы науки и особого значения в жизни её утверждений и достижений» (Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста. М.: Наука, 1988. С. 90).
Чтобы пробить брешь в человеческом невежестве, В. И. Вернадский подчёркивал «непреложность и обязательность правильно выведенных научных истин для всякой человеческой личности, для всякой философии и для всякой религии», считая, что подобные особенности в первую очередь отличают науку от других областей культуры. Он писал: «Не только такой общеобязательности и бесспорности утверждений нет во всех других духовных построениях человечества – в философии, в религии, в художественном творчестве, в социально бытовой среде здравого смысла и в вековой традиции. Но больше того, мы не имеем никакой возможности решить, насколько верны и правильны утверждения самых основных религиозных и философских представлений о человеке и об его реальном мире. Не говоря уже о поэтических и социальных пониманиях, в которых произвольность и индивидуальность утверждений не возбуждает никакого сомнения во всем их многовековом выявлении» (там же. С. 100).
Как человек, исходящий из наукоцентрической, сциентистской точки зрения на культуру, В. И. Вернадский указывал: «Такое положение науки в социальной структуре человечества ставит науку, научную мысль и работу совершенно в особое положение и определяет её особое значение в среде проявления разума – ноосфере… ибо она является главным, основным источником народного богатства, основой силы государства. Борьба с ней – болезненное явление в государственном строе» (там же. С. 102–103). В наше время эти слова звучат ещё более актуально, чем тогда, когда они писались.
Сциентизм В. И. Вернадский понимал как власть науки в жизни. В письме И. И. Петрункевичу он объяснял её следующим образом: «Прикладной характер научной работы меня привлекает. Я вижу в нём великое будущее. Я уверен, что этим путём наука получит ту власть в жизни, которая сейчас необходима» («Я верю в силу свободной мысли…». Письма В. И. Вернадского И. И. Петрункевичу // Новый мир, 1989, № 12. С. 206).
Нам досталось время, когда инволюционные процессы всё больше и больше набирают силу. Всё больше и больше у нас распространяется, в частности, лженаука. Но всё проходит. Пройдёт и тот лженаучный шабаш, который разыгрывается на просторах нашего отечества. Придёт время, когда всё больше и больше молодых людей будут рваться не в бизнес, а в реставрированную науку. Их смыслом жизни станет не обогащение, а научный поиск, невозможный без жажды познания.
Кто может сомневаться в культурогенической, очеловечивающей силе науки? Подлинный эволюционист относится к науке с благоговением. Он видит в ней главную движущую силу культурогенеза. Каждому ясно, что наука не всесильна, но стало ли научное сознание массовым – вот в чём вопрос. До тех пор, пока в массовом сознании будет господствовать обыденная, а не научная картина мира, человечество будет пребывать в младенческом состоянии.
Построению научной картины мира препятствуют две тенденции – к чрезмерной дифференциации науки и к её чрезмерной интеграции. Выход из этого затруднения только один – эволюционизм. Подлинная научная картина мира не может не опираться на эволюционизм. Если наш мир эволюционировал в направлении «физиогенез – биогенез – психогенез – культурогенез», то, стало быть, в научной картине мире должны присутствовать четыре частных науки – физика, биология, психология и культурология. Если в объекте любой науки имеется нечто общее (время/пространство, часть/целое, качество/количество и т. д.), то над частными науками должна возвышаться общая наука – философия.
4. 3. От безобразного – к прекрасному
Смысл жизни может разгадать лишь художник.
НовалисЧто красота есть необходимое условие искусства, что без красоты нет и не может быть искусства – это аксиома.
В. Г. БелинскийЧто такое искусство? В «Википедии» читаем: «Искусство (от церк. – слав. искусьство (лат. experimentum – опыт, проба); ст. – слав. Искоусъ – опыт, реже истязание, пытка) – образное осмысление действительности; процесс или итог выражения внутреннего или внешнего мира творца в (художественном) образе; творчество, направленное таким образом, что оно отражает интересующее не только самого автора, но и других людей. Искусство (наряду с наукой) – один из способов познания, как в естественнонаучной, так и в религиозной картине восприятия мира».
Наука, опираясь на ум, ищет истину, а искусство, опираясь не только на ум, но и на чувство, ищет красоту.
Русские пословицы славят ум (разум), оставляя красоту в его тени. Единодушно их авторы отдают предпочтение разуму перед красотой: Красота без разума пуста; Красота разума не придаст; Красота завянет, а ум не обманет; Красота и глупость часто бывают купно; Красота до венца, а ум до конца и т. д.
Легко увидеть, что в этих пословицах имеется в виду не красота вообще, а внешняя человеческая красота (по преимуществу – женская). Но это не означает, что эта красота не имеет отношения к искусству. Искусство берёт красоту из жизни.
Что есть красота (прекрасное)? В «Википедии» читаем: «Красота – эстетическая (неутилитарная, непрактическая) категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение. Красота является важнейшей категорией культуры. В своём эстетическом восприятии понятие красоты близко к понятию прекрасного, с той разницей, что последнее является высшей (абсолютной) степенью красоты».
Гармония – основа прекрасного. Хаос, напротив, – основа безобразного. В том же источнике обнаруживаем подтверждение: «Безобразное – категория из области эстетики, противопоставляемая прекрасному. Также является соотносительной с категорией “прекрасное”. Безобразное определяется как проявляемое внешне нарушение определенной внутренней меры бытия. Само по себе слово “безобразное” означает “отсутствие образа”, то есть нечто хаотичное, бесформенное».
Слово «красота» всеохватно. Оно употребляется как по отношению к природным явлениям, так и по отношению к психическим и культурным. Об универсальной природе красоты, между прочим, свидетельствует тот факт, что слово ϰοϛμοϛ в древнегреческом языке означает не только универсум, вселенную, мироздание, космос, но и прекрасное, красоту, украшение (отсюда косметика), хотя имелось в этом языке и особое слово для красоты (прекрасного): ϰαλοϛ.
Источником красоты для греческих философов был в первую очередь космос. Красотой космоса восхищались, например, Фалес и Гераклит. Они пытались, вместе с тем, найти первооснову прекрасного. Пифагорейцы искали её в числовой упорядоченности его носителей, Платон – в соответствии вещи её идее (идеальному образцу), Диоген – в мере и т. д.
Демокрит, с одной стороны, истолковывал красоту как универсальную категорию, приписывая её носителю гармонию составляющих его частей, а с другой стороны, в своём сочинении «О красоте слов» в какой-то мере придал категории прекрасного эстетическую значимость, поскольку стал применять её к литературным произведениям – в первую очередь к поэмам Гомера. По свидетельству М. Т. Цицерона, Демокрит говорил так: «Гомер, получив в удел божественный талант, возвёл великолепное здание разнообразных стихов, так как, не обладая божественной и сверхъестественной природой, невозможно сочинить столь прекрасные и мудрые стихи» (Памятники мировой эстетической мысли. Т. 1. Античность, Средние века, Возрождение / Под ред. В. П. Шестакова. М.: Академия художеств СССР, 1962. С. 87).
Платон и Аристотель соединили красоту с добром. Вышла калокагатия (прекрасно-доброе). Это понятие имеет отношение как к эстетике, так и к этике. Но они, вместе с тем, искали определение и красоты как таковой. Так, Аристотель, по уже сложившейся традиции, связывал красоту с порядком. Он писал: «Главные формы прекрасного – это порядок (в пространстве), соразмерность и определённость» (там же. С. 24), а в «Поэтике» он добавляет к этим признакам красоты ещё ограниченность и единство многообразия.
Свою главную задачу в истолковании категории красоты в Средние века христианские богословы видели в том, чтобы осуществить её теологизацию. Так, Августин Блаженный вслед за Плотином объявил: «Мир прекрасен потому, что его сотворил Бог; Бог есть сверхчувственная, вечная и абсолютная красота; искусство даёт не реальные образы этой красоты, а лишь её субстанциальные формы, поэтому нравится не само произведение искусства, а та божественная идея, которая заключена в нём» (там же. С. 37).
В эпоху Возрождения категория красоты вырывается из-под опеки теологии. Её направляют в эстетическое русло. Более того, мыслители и художники этого времени были убеждены, что только искусство способно передать подлинную красоту. А источник этой красоты они видели в природе, т. е. в объективном мире. В этом мире поэты видели по преимуществу женскую красоту.
Франческо Петрарка (1304–1374) обессмертил своё имя сонетами о мадонне Лауре. Она была для него эталоном красоты. На других красавиц он смотрел сквозь призму этого эталона:
Когда в её (Лауры. – В. Д.) обличии проходит Сама Любовь меж сверстниц молодых, Растёт мой жар, – чем ярче жён других Она красой победной превосходит.Поэзия Ф. Петрарки породила целую плеяду подражателей (петраркистов), многие из которых пошли по пути эротизации отношений между мужчиной и женщиной. Джордано Бруно вовсе не был пуританином, но его возмущала односторонность поэтов, смакующих своё любование женскими прелестями. С присущим ему пылом он писал: «Поистине только низкий, грубый и грязный ум может постоянно занимать себя и направлять свою любознательную мысль вокруг да около красоты женского тела. Боже милостивый! Могут ли глаза, наделённые чистым чувством, видеть что-либо более презренное и недостойное, чем погружённый в раздумья, угнетённый, мучимый, опечаленный, меланхоличный человек, готовый стать то холодным, то горячим, то лихорадящим, то трепещущим, то бледным, то красным, то со смущённым лицом, то с решительными жестами, – человек, который тратит лучшее время и самые изысканные плоды своей жизни, изводя эликсир мозга лишь на то, чтобы обдумывать, описывать и запечатлевать в публикуемых произведениях те беспрерывные муки, те тяжкие страдания, те размышления, те томительные мысли и горчайшие усилия, которые отдаются в тиранию недостойному, глупому, безумному и гадкому свинству?» (Штекли А. Э. Джордано Бруно. М.: Молодая гвардия, 1964. С. 220).
Александр Готлиб Баумгартен (1714–1762) ввёл в науку термин «эстетика». Он поделил красоту на природную и художественную. Во втором случае она выступает как эстетическая категория. А. Г. Баумгартен писал: «Цель эстетики – совершенство чувственного познания как такового и это есть красота. Притом следует остерегаться его несовершенства как такового, которое есть безобразность» (Памятники мировой эстетической мысли. Т. 2. Эстетические учения XVII–XVIII веков / Под ред. В. П. Шестакова. М.: Академия художеств СССР, 1964. С. 455).
Вслед за античными философами мыслители Нового времени пытались найти основные признаки красоты. У Ш. Бато это мера, ритм и порядок; у У. Хогарта – совершенные пропорции и синусоида и т. д. Но вопрос о том, что такое красота, до сих пор остаётся открытым.
Уже в XIX веке появляется мнение, что прекрасное не может претендовать на положение базовой категории в искусстве. Более того, великий писатель земли русской Лев Толстой в своём трактате «Что такое искусство?» заявил: «Красота, или то, что нам нравится, никак не может служить основанием определения искусства, и ряд предметов, доставляющих нам удовольствие, никак не может быть образцом того, чем должно быть искусство. Видеть цель и назначение искусства в получаемом нами от него наслаждении – всё равно, что приписывать, как это делают люди, стоящие на самой низшей степени нравственного развития (дикие, например), цель и значение пищи в наслаждении, получаемом от принятия её» (Толстой Л. Н. Собрание сочинений. Т. 15. Статьи об искусстве и литературе. М.: Художественная литература, 1964. С. 81–82).
Отвергнув красоту в качестве идеала, к которому стремится искусство, Л. Н. Толстой пришёл к собственному пониманию искусства: «Вызвать в себе раз испытанное чувство и, вызвав его в себе, посредством движений, линий, красок, звуков, образов, выраженных словами, передать это чувство так, чтобы другие испытали то же чувство, – в этом состоит деятельность искусства. Искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек сознательно известными внешними знаками передаёт другим испытываемые им чувства, а другие люди заражаются этими чувствами и переживают их» (там же. С. 87).
Выходит, что автор этих слов в «Войне и мире», например, передавал одни чувства, а как быть с его мыслями? О противоестественности войны, например?
Несмотря на, казалось бы, убийственные аргументы, которые Л. Н. Толстой приводит в своём трактате против понимания искусства как такого рода деятельности, которая держится на красоте, мы оставляем категорию красоты в качестве базовой для художника.
Перед художником – бездна задач. В конечном счёте он создаёт свою, художественную, картину мира. Другой вопрос: как это ему удаётся? Но о чём бы он ни писал, что бы он ни изображал, какими бы звуками он ни выражал свои чувства и мысли, – в любом виде искусства, никогда он не должен терять из виду прекрасное. Пусть оно будет недостижимым идеалом. Но оно всегда должно маячить в его сознании. Для чего? Чтобы вести читателя, зрителя, слушателя не назад, к животным предкам, а вперёд – к жизни, какой она может и должна быть.
Это прекрасно сознавали чеховские герои, мечтающие о будущей жизни. Это прекрасно сознавал их автор. Никогда настоящий художник не должен забывать о том прекрасном, что есть в жизни. Его высшая цель, высший смысл его жизни – приближать жизнь, в которой будет править бал красота, а не её отвратительная противоположность. Искусство – великая сила в нашем очеловечении.
Разные люди в разной мере становятся людьми. Многие из них, например, в области религии и до сих пор живут в далёком прошлом. Но есть люди, которые в своём очеловечении ушли намного дальше других. В сфере культурной эволюции они принадлежат не прошлому, а будущему. В своём духовно-культурном развитии они опережают многих других на несколько столетий. Таким, например, был Антон Павлович Чехов.
С каким же чувством смотрят на окружающих люди, подобные А. П. Чехову? С чувством тоски по преимуществу. Они живут с тоской по настоящим людям – людям, способным иметь в своей душе высокие идеалы – истины, прекрасного, добра, справедливости и т. п. категории. Такую тоску можно обозначить как категориальную.
Категориальная тоска – весьма характерная черта русских писателей. Её можно найти у А. С. Пушкина и Ф. И. Тютчева, М. Е. Салтыкова-Щедрина и Л. Н. Толстого и т. д. Но А. П. Чехов выделяется даже и среди них: категориальную тоску он переживал, пожалуй, мучительнее всех других наших классиков. Её следствие – сознание одиночества. И. А. Бунин выписал из записной книжки А. П. Чехова такую горькую строчку: «Как я буду лежать в могиле один, так, в сущности, я и живу один» (Бунин И. А. Собрание сочинений. Т. 9. М., 1967. С. 221).
Доказывать культурогеническую роль искусства в человеческой эволюции – значит ломиться в открытую дверь. Каждый понимает, что приобщение человека к искусству есть не что иное, как один способов инкультурации, под которой понимают «процесс приобщения индивида к культуре, усвоения им существующих привычек, норм и паттернов поведения, свойственных данной культуре» (http://www. examen. ru/ ExamineBase. nsf/Display?OpenAgent&Pagename=defacto. html).
Вот как объяснял очеловечивающую функцию искусства в древности М. С. Каган: «Для первобытного человека первоначальные формы художественной деятельности – создание мифов, песен, танцев, изображение зверей на стенах пещер, украшение орудий труда, оружия, одежды, самого человеческого тела – имели огромное значение, так как способствовали сплочению коллективов людей, развивали их духовно, помогали им осознавать их социальную природу, их отличие от животных, т. е. служили великому историческому делу очеловечения человека» (http://www. rubricon. ru/default. asp).
Функцию гоминизации (очеловечения) искусство будет выполнять всегда, но нет ли у неё и совсем противоположной функции – функции анимализации человека, т. е. превращения его в животное? Так называемая массовое искусство, рассчитананное не на эволюцию, а на инволюцию человека, по существу превращает искусство в свою противоположность – антиискусство. Но – как суррогат художественной культуры – оно делает в обществе своё разрушительное дело. Как же отличить искусство от лжеискусства с эволюционистской точки зрения? Теоретически очень просто: первое ведет к Человеку (с большой буквы), а другое – к дикарю, к животному. Первое рождает стремление к истине, красоте, справедливости, добру, любви, состраданию, единению с другими людьми и т. п., а второе – стремление к лжи, безобразному, несправедливости, злу, ненависти, равнодушию, насилию, разобщённости, эгоизму, культу денег и легкой наживы и т. п. Но на практике лжеискусство часто маскируется под искусство (как и антикультура вообще – под культуру). Вот почему воспитание тонкого художественного вкуса следует строить на приобщении людей к классике – произведениям, выдержавшим проверку временем. В искусстве, как и всюду, нужен строгий эволюционистский отбор.
Люди, ищущие смысл своей жизни в искусстве, рано или поздно оказываются перед вопросом о назначении искусства. Они решают его по-разному. Одни из них, эстеты, преувеличивают самоценность искусства («искусство для искусства»), другие (утилитаристы), напротив, его недооценивают, выводя его цели за пределы искусства как такового – в науку (искусство – особая форма познания), в нравственность (искусство – одна из форм нравственного воспитания), в политику (искусство – одна из форм политической борьбы) и т. д.
До крайних пределов довели свой эстетизм русские футуристы в поэзии. Особенно отличился среди них Алексей Кручёных. Он довёл «самовитое» (т. е. самоценное) слово в своих стихах до зауми. Например, такой:
Оязычи меня щедро ЛЯПАЧ – ты покровитель своего загона чтоб я зычно трепещал и дальш не знал беляжьего звона! — ОТПУСТИ ЛОМИЛИЦУ МНЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ Оязычи ляма щад Трыпр ВЫВОВ ПИКАР Сов за ЦБЫЧ! ЩАРЕТ! ЛЯМАШа… узаль БЯ узвО ло тимлицИ Зод зод дров!. фью кем гести Хость Павиан Терпкий полотёр Половинный ПОЛОВИНАХ киян.Крайним утилитаристом в некоторых своих стихах был поздний В. В. Маяковский. У него мы можем прочитать:
Я всю свою звонкую силу поэта Тебе отдаю, атакующий класс.Между эстетами и утилитаристами живут диалектики, одни из которых тяготеют к эстетам (А. А. Фет), а другие – к утилитаристам (Н. А. Некрасов). Последний стремился посвятить свою лиру народу своему, его освобождению от угнетателей. Вот как он обрисовал свою лиру:
Вчерашний день, часу в шестом, Зашел я на Сенную; Там били женщину кнутом, Крестьянку молодую. Ни звука из её груди, Лишь бич свистал, играя… И Музе я сказал: «Гляди! Сестра твоя родная!»Служение народу поэт ставил превыше всего. В своей «Элегии» он писал:
Я лиру посвятил народу своему. Быть может, я умру неведомый ему, Но я ему служил – и сердцем я спокоен… Пускай наносит вред врагу не каждый воин, Но каждый в бой иди! А бой решит судьба… Я видел красный день: в России нет раба! И слёзы сладкие я пролил в умиленье… «Довольно ликовать в наивном увлеченье, — Шепнула Муза мне. – Пора идти вперёд: Народ освобождён, но счастлив ли народ?».Спор между эстетами и утилитаристами есть спор о соотношении в искусстве формы и содержания. Первые отдают предпочтение форме, а другие – содержанию. Великие художники отдают предпочтение содержанию перед формой. Но отсюда не следует с их стороны пренебрежение формой. Точки над и здесь гениально расставил А. С. Пушкин.
Ещё в пятнадцать лет А. С. Пушкин заявил князю А. М. Горчакову: «Набором громозвучных слов я петь пустого не умею» (Пушкин А. С. Собрание сочинений в десяти томах Т. 1. Стихотворения 1813–1824 (Юг). М.: Правда, 1981. С. 38).
На первое место в любом речевом произведении А. С. Пушкин ставил его содержание. Его недостатком и чрезмерным вниманием к форме он объяснял, в частности, забвение поэзии Франсуа Малерба (1555–1628) и Пьера де Ронсара (1524–1585). В статье «О ничтожестве литературы русской» (1834) А. С. Пушкин писал: «Малерб ныне забыт подобно Ронсару, сии два таланта, истощившие силы свои в усовершенствовании стиха. . Такова участь, ожидающая писателей, которые пекутся более о наружных формах слова, нежели о мысли, истинной жизни его, не зависящей от употребления!» (указ. собр соч. Т. 6. С. 208).
Забота о мысли в художественном произведении вовсе не приводила А. С. Пушкина к пренебрежению формой их языкового выражения. Особое значение в прозе он придавал двум её особенностям – точности и краткости. Он писал: «Точность и краткость – вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей – без них блестящие выражения ни к чему не служат» (там же. С. 10–11).
Вот как писал двадцатитрёхлетний поэт в только что процитированной статье «О прозе» о людях, не научившихся изъясняться точно и кратко: «Эти люди никогда не скажут дружба, не прибавя: сие священное чувство, коего благородный пламень и пр. Должно бы сказать: рано поутру – а они пишут: едва первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба – ах, как это всё ново и свежо, разве оно лучше потому только, что длиннее. Читаю отчёт какого-нибудь любителя театра: сия юная питомица Талии и Мельпомены, щедро одаренная Апол… боже мой, да поставь: эта молодая хорошая актриса – и продолжай – будь уверен, что никто не заметит твоих выражений, никто спасибо не скажет. Презренный зоил, коего неусыпная зависть изливает усыпительный свой яд на лавры русского Парнаса, коего утомительная тупость может только сравниться с неутомимой злостию… боже мой, зачем просто не сказать лошадь?» (там же).
А. С. Пушкин – это праздник. Всякое прикосновение к его жизни для нас драгоценно. Попробуем здесь прикоснуться к его письмам к П. А. Вяземскому. Сквозь призму этих писем мы видим нравственный лик поэта.
Письма А. С. Пушкина к П. А. Вяземскому
Первое письмо А. С. Пушкина к П. А. Вяземскому датируется 27 марта 1816 года. Ему ещё нет семнадцати! До окончания Царскосельского лицея ещё целый год! Между тем уже в этом письме мы обнаруживаем тот шутливый тон, которому А. С. Пушкин будет верен в письмах к П. А. Вяземскому всю жизнь. Вот как лицеист А. П. Пушкин обращается к бывшему офицеру, участнику войны 1812 г., который старше его на семь лет: «…Так и быть; уж не пеняйте, если письмо моё заставит зевать ваше пиитическое сиятельство; сами виноваты; зачем дразнить было несчастного царскосельского пустынника, которого уж и без того дёргает бешеный демон бумагомарания» (Пушкин А. С. Собрание сочинений в десяти томах. Т. 9. – М.: Правда, 1981. С. 66).
Уже со следующего, 1817 года, автор этого письма перейдёт с адресатом на уверенное «ты». Нечего говорить о том, что в письмах 20 гг. А. С. Пушкин будет обращаться с П. А. Вяземским на равных. В эти годы он станет баловнем славы. Его литературные друзья (А. Дельвиг, В. Жуковский, К. Рылеев, А. Бестужев-Марлинский и др.) станут вполне сознавать величие его поэтического гения. Вот что, например, 12 февраля 1825 г. писал А. С. Пушкину незадолго до казни поэт-декабрист
Кондратий Рылеев: «Ты всегда останешься моим учителем… Гений… Сирена. Чародей. Ты идёшь шагами великана и радуешь истинно русские сердца.» (Тыркова-Вильямс А. Жизнь Пушкина. Т. 2. 1824–1837. М.: Молодая гвардия, 2006. С. 104).
В числе вполне сознающих цену А. С. Пушкину был и П. А. Вяземский, хотя далеко не всегда последний пел дифирамбы первому. Мы узнаём об этом, например, по письму А. С. Пушкина П. А. Вяземскому от 1 сентября 1822 г.: «Ты говоришь, что стихи мои никуда не годятся. Знаю.» (указ. собр. соч. А. С. Пушкина. Т. 9. С. 96). Но вот что характерно: несмотря на свою славу, в общении с друзьями А. С. Пушкин оставался прежним. По-прежнему в шутливом тоне, который задал юный А. С. Пушкин, отвечал на письма вполне зрелого поэта и П. А. Вяземский. В одном из писем (от 6 сентября 1824 г., уже написаны первые главы «Евгения Онегина») он писал А. С. Пушкину: «Спасибо тебе, мой милый виртуоз. Пожалуйста, почаще брянчи, чтобы я не вовсе рассохся. Письмо Тани прелесть и мастерство» (указ. кн. А. Вильямс-Тырковой. С. 105).
Главным предметом переписки А. С. Пушкина с П. А. Вяземским была литература. С лёгкостью необыкновенной наш первый поэт охарактеризовывал творчество своих собратьев. В его суждениях о писателях мы обнаруживаем как хвалебные суждения, так и уничижительные. Начнём с первых.
Вот что он писал князю 2 января 1822 г. о ЕвгенииАбрамовиче Баратынском (1800 – 1844): «Но каков Баратынский? Признайся, что он превзойдет и Парни и Батюшкова – если впредь зашагает, как шагал до сих пор – ведь 23 года счастливцу (как и автору этого письма. – В. Д.)! Оставим всё ему эротическое поприще и кинемся каждый в свою сторону, а то спасенья нет» (указ. собр. соч. А. С. Пушкина. Т. 9. С. 89).
Очень остроумно А. С. Пушкин оценил Вольтера: «Вольтер первый пошёл по новой дороге – и внёс светильник философии в тёмные архивы истории» (5 июля 1824. Там же. С. 141).
Даже о великих поэтах А. С. Пушкин высказывался порой неоднозначно. Таковы, например, были его высказывания о
Ч. Байроне и А. С. Грибоедове. О первом он, в частности, писал: «Гений Байрона бледнел с его молодости» (24–25 июня 1824. Там же. С. 139). А вот какую любопытную оценку он дал грибое-довскому «Горю от ума»: «Читал я Чацкого – много ума и смешного в стихах, но во всей комедии ни плана, ни мысли главной, ни истины. Чацкий совсем не умный человек, но Грибоедов очень умён» (28 января 1825. Там же. С. 163).
Но были и такие литераторы, которым А. С. Пушкин давал убийственные характеристики. Приведу только два примера – с И. И. Дмитриевым и Ф. В. Булгариным.
Об Иване Ивановиче Дмитриеве (1760–1837) – русском сентименталисте в поэзии – А. С. Пушкин писал: «И что такое Дмитриев? Все его басни не стоят одной хорошей басни Крылова; все его сатиры – одного из твоих посланий, а всё прочее первого стихотворения Жуковского» (8 марта 1824. Там же. С. 132).
О ненавистном Фаддее Булгарине и иже с ним А. С. Пушкину говорить долго не пристало: «Каков Булгарин и вся братья! Это не соловьи-разбойники, а грачи-разбойники» (начало апреля 1824. Там же. С. 134).
У А. С. Пушкина был широкий круг интересов. Его заботило состояние русской цензуры. Его заботило состояние русской критики. Его заботило состояние языка художественной литературы. И многое другое.
О литературной критике в письме П. А. Вяземскому от 7 июня 1824 г. из Одессы у А. С. Пушкина читаем: «Критики у нас, чувашей, не существует, палки как-то неприличны; о поединке и смех и грех было бы думать: то ли дело цып-цып или цыц-цыц» (там же. С. 137).
А. С. Пушкин отстаивал самобытность русского языка: «Я не люблю видеть в первобытном нашем языке следы европейского жеманства и французской утончённости. Грубость и простота более ему пристали» (1–8 декабря 1823. Там же. С. 126).
Разумеется, А. С. Пушкин не мог не сообщать П. А. Вяземскому о своих поэтических делах. Например, таких: «Я барахтаюсь в грязи молдавской, чёрт знает, когда выкарабкаюсь. Ты – барахтайся в грязи отечественной и думай:
Отечества и грязь сладка нам и приятна.Сверчок (арзамасское прозвище А. С. Пушкина. – В. Д.).
Вот тебе несколько пакостей:Христос воскрес
Христос воскрес, моя Ревекка! Сегодня следуя душой Закону бога-человека, С тобой целуясь, ангел мой. А завтра к вере Моисея За поцелуй я не робея Готов, еврейка, приступить — И даже то тебе вручить, Чем можно верного еврея От православных отличить.<…>
Иной имел мою Аглаю За свой мундир и чёрный ус, Другой за деньги – понимаю, Другой за то, что был француз, Клеон – умом её стращая, Дамис – за то, что нежно пел, Скажи теперь, мой друг Аглая, За что твой муж тебя имел?»(Март 1823.Из Кишенёва в Петербург.
Там же. С. 109–110).
О себе как литераторе А. С. Пушкин писал так: «Я пишу для себя, а печатаю для денег, а ничуть для улыбки прекрасного пола» (8 марта 1824. Там же. С. 132). Его письма к П. А. Вяземскому большей частью имеют деловую направленность. Одно время князь издавал его произведения. Вот почему А. С. Пушкин в своих письмах часто давал ему советы, как это сделать с меньшими потерями. По поводу цензуры, в частности, он писал: «…не уступай этой суке цензуре, отгрызывайся за каждый стих и загрызи её, если возможно, в моё воспоминание» (4 ноября 1823. Там же. С. 120).
Начиная с лета1823 г. А. С. Пушкин начинает допускать большую свободу в выборе обращений к П. А. Вяземскому. Вот какие обращения мы обнаруживаем, например, в письме от 19 августа 1823 г.: «Мне скучно, милый Асмодей, я болен, писать хочется – да сам не свой… Ещё одна просьба: если возьмёшься за издание – не лукавь со мною, возьми с меня, что оно будет стоить – не дари меня – я для того только до сих пор и не хотел иметь с тобою дела, милый мой аристократ… Прощай, моя прелесть…» (там же. С. 115). В дальнейшем А. С. Пушкин расширил диапазон обращений к П. А. Вяземскому: аггел Асмодей, душа моя Асмодей, преосвященный владыко Асмодей, милый, мой милый, милый европеец, бессовестный и т. п.
Со временем отношения между А. С. Пушкиным и П. А. Вяземским стали суховатыми (из них исчезли, в частности, былые изощрённые обращения), но до самой смерти А. С. Пушкина они оставались деловыми и дружескими.
4. 4. От зла – к добру
Нравственность – совокупность норм, определяющих правильное (образцовое) отношение человека к миру – природе, душе, культуре. Безнравственность – антипод нравственности.
Если в основе нравственности лежит категория добра, то в основе безнравственности – категория зла. Под первую из них подводятся все добродетели (любовь, трудолюбие, умеренность, смелость, щедрость, честность и т. п.), а под вторую – все пороки (ненависть, лень, неумеренность, трусость, жадность, нечестность и т. п.). Эволюция нравственности протекает в направлении «зло → добро», а её инволюция – в обратном направлении «добро → зло».
Пословиц, способствующих переходу «зло → добро», русский народ создал неизмеримо больше, чем пословиц, способствующих переходу «добро → зло». Вот почему человеку, нашедшему смысл своей жизни в нравственном совершенствовании, в первую очередь нужно учиться на пословицах.
Приоритет добра над злом в русских пословицах бесспорен. Сердце радуется, когда читаешь пословицы, восхваляющие добро и, наоборот, порицающие зло. Вот лишь некоторые пословицы, в которых добро выступает как абсолютная ценность: Добро-то и скот понимает; Добро и во сне хорошо; Добро не горит, не тонет; Добро твори, сколько можешь, вовек не занеможешь; Добро делать спешить надобно; Худо жить тому, кто не делает добра никому; Кто добру учится, добром и живёт; Доброта лучше красоты; Добро-то не в селе, а в себе; Доброму человеку весь мир – свой дом; Добрый человек придёт – словно свету принесёт; Доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой; Не тот богат, у кого много добра, а тот, у кого жена добра; Русский человек добро помнит.
Добро должно быть бескорыстным: Добро творя, не жди платы; За добро – Бог плательщик; Добро не лихо, бродит по миру тихо. Неожиданном диссонансом на фоне этих пословиц звучит такая: Добро тогда будет добром, когда люди похвалят.
Но есть у нас пословицы, в которых абсолютная ценность добра подвергается сомнению. Такие пословицы в конечном счёте возвышают зло над добром, а стало быть, ведут к нравственной инволюции: За добро не жди добра; Не делай добро – не получишь зло; За добро добром не платят; Никакое добро без вреда не бывает; И добро худом бывает; Там добро, где нас нет; Сколько добра ни делай, благодаренья мало; Сколько добра ни делай – ни в честь, ни в спасибо; Знай, кому добро делаешь; За моё же добро мне переломали ребро.
Подобные пословицы не делают погоды. Русский человек даже и из зла умудряется извлечь добро: Нет худа без добра. А для очень осторожных сказано: Надейся на добро, а жди худа.
На бесспорное превосходство добра над злом указывают такие наши пословицы: Добро превышает зло; Добро не умрёт, а зло пропадёт; Против зла твори добро; Зло побеждай добром; Добро вспомнится, а зло не забудется; Добро помни, а зло забывай; Зла за зло не воздавай; Кто зла отлучился, тот никого не боится; Всякое зло терпеньем одолеть можно; Человек жалью живёт.
К перечисленным пословицам примыкают и такие: Зло в хату, любовь из хаты; Зло злом и губится; Тому тяжко, кто зло помнит; Порочный человек – калека; Беспорядочный человек не проживёт в добре век; В ком добра нет, в том и правды мало; За доброе жди добра, за худо – худа; Добра ищут, а худо само придёт; Добро делаем – добро и снится, а худо делаем – худо и снится.
О злом человеке русские говорят: Как на лес взглянет, так и лес вянет; Где ногой ступит – трава не растёт; Дурной человек не любит никого, кроме себя; Злой доброго не любит; Злой плачет от зависти, а добрый от радости; Доброму – добро, а худому переломят ребро.
Категории, производные от добра и зла, многочисленны, но достаточно обратиться лишь к некоторым из них, чтобы увидеть, что добродетелям в русских пословицах поются дифирамбы, а пороки подвергаются остракизму.
Любовь/ненависть. «Любовь развязывает все узлы», – любил повторять Л. Н. Толстой. В великой силе человеческой любви нас уверяют и русские пословицы: Любовь всё побеждает; Без любви как без солнца; Братская любовь крепче каменной стены; Любовь горами качает; Любовь покрывает множество грехов; Любовь правдой крепка; Любовь любит единость (единство); Любовь лучше вражды и т. п.
Не столь однозначно обстоит дело с ненавистью. С одной стороны, она бескомпромиссно осуждается, поскольку от ненависти вражда рождается и слепая ненависть – плохой советчик, а с другой стороны: Без ненависти никто не живёт; Ненависть во всех есть;Лучше в ненависти, нежели в беде и т. д. Но подобные пословицы – капля в море, они тонут в море любви, в русских пословицах воспеваемой.
Трудолюбие/лень. Русскому народу часто приписывают лень. Это козни русофобов. За деревьями они не видят леса. Не знакомы они и с такими русскими пословицами: Труд всё превозможет; Где труд, там и счастье; Приложишь труд – будет и рыбка, и пруд; Без труда и в саду нет плода; Кто любит труд, долго спать не будет; Труд излегчается рвением и т. п.
Зато лени русские пословицы выносят суровый приговор: Лень к добру не приставит; От лени мхом обрастают; Забрось лень через плетень; Ленивому и лениться лень; Лени лень и за ложку взяться, да не лень лени обедать; Ленивой лошади и хвост в тягость; Лень себя бережёт; Лень хуже хвори; Ленивому всегда нездоровится; Ленивый ложится с курами, а встаёт со свиньями; Кто ленивый, тот и сонливый; Ленивый смекалист на отговорки; У лентяя Федорки всегда отговорки и т. д.
Умеренность/неумеренность. О нравственной силе меры русские узнали не от Аристотеля. Они до неё дошли своим умом. Они сами поняли, что без меры и лапти не сошьёшь, что мера – не поповский карман: дно имеет, что мера не солжёт, что во всём надо знать меру, что выше меры и конь не скачет, что еда без меры – та же беда. Людям, теряющим меру, уместно сказать: Не мудри без меры – перемудришь.
Смелость/трусость. Наша история – лучшее доказательство былой смелости русского народа. Мы с детства помним: Смелость города берёт. Есть в русском пословичном запаснике ещё и такое: Смелости учись у разведчика, осторожности у сапёра – никогда не ошибёшься; Кто смел, тот и цел; Быть смелым – не быть битым; Кто смел да стоек, тот семерых стоит; Важна смелость, да нужна и умелость; Смелый там найдёт, где робкий потеряет и т. п.
Зато сколько презрения и насмешек мы обнаруживаем в русских пословицах о трусости! Вот в таких, например: Трус и таракана принимает за великана; Для труса и заяц – волк; У труса глаза мышиные – жить бы ему только в подполье; На трусливого человека много собак; Трус своей тени боится; Робкому смелости не вобьёшь и т. п.
«Трижды человек дивен бывает: родится, женится, умирает», – гласит русская пословица. Какими же пословицами наш народ осветил эти «дивные» события – рождение, женитьбу и смерть?
Рождение
Дети – благодать Божья. Даётся эта благодать их матерям с мучительными болями. Но русские пословицы их не преувеличивают: Живот болит, а детей родит; Горьки родины, да забывчивы.
Самое подходящее число детей в семье – трое: Сталась двоечка, так будет и троечка; Один сын – не сын, два – не кормильцы; Первый сын богу, второй царю, третий себе на пропитание; Один сын – не сын, два сына – полсына, три сына – сын. С дочерьми – плохо дело: Дочь – чужое сокровище. Холь да корми, учи да стереги, да в люди отдай.
В числе детей и меру знать надо: На рать сена не накосишься, на смерть детей не нарожаешься; Не устанешь детей рожаючи, устанешь на место сажаючи. А чего стоит их на ноги поставить? Детушек воспитать – не курочек пересчитать; Детки – радость, детки ж и горе; У кого детки, у того и бедки. Более того: Маленьки детки – маленькие бедки; а вырастут велики – большие будут; Детки маленьки – поесть не дадут, детки велики – пожить не дадут; Малые соткать, а большие износить не дадут; Малые дети не дают спать, большие не дают дышать.
Но «бедки» от детей могут быть и поконкретнее: Дети крадут, отец прячет. Дети воруют, мать горюет; Блудный сын – могила отцу; На старости две радости: один сын – вор, другой – пьяница; В глупом сыне и отец не волен; Глупому сыну и родной отец ума не пришьёт; Глупому сыну не в помощь наследство; Умный сын – отцу замена, глупый – не помощь.
Но не рожать – нельзя: С детьми горе, а без них вдвое; Бабёнка не без ребёнка; Не по-холосту живём: Бог велел; У кого детей нет – во грехе живёт; Не умела родить ребёнка, корми серого котёнка.
Не всем родителям с детьми не везёт: У доброго батьки добры и дитятки; Работные дети – отцу хлебы; Корми сына до поры: придёт пора – сын тебя накормит; Добрый сын всему свету завидище.
Но даже если и непутёвые выросли, всё равно: Свой дурак дороже чужого умника; Дитя худенько, а отцу, матери миленько; Всякому своё дитя милее; Который палец ни укуси – всё одно: все больно; Каков ни будь сын, а всё своих черевурывочек.
Мать русским дороже отца: Без отца – полсироты, а без Атери и вся сирота; Отцов много, а мать одна (т. е. отца легче заменить); Нет такого дружка, как родная матушка; Птица радуется весне, а младенец – матери; Слепой щенок и тот к матери ползёт; Пчёлки без матки – пропащие детки; При солнце тепло, а при матери добро; Матерни побои не болят; Мать и бия не бьёт.
Женитьба
Молодость – золотая пора. Но и у неё есть свои проблемы. Одна из них: жениться или не жениться, выходить замуж или не выходить? Русские пословицы дают на эти вопросы противоположные ответы – отрицательные и положительные.
Отрицательные ответы: Холостой много думает, а женатый больше того; Холостой охает, женатый ахает; Холостому: ох-ох, а женатому: ай-ай; Холостой лёг – свернулся, встал – встряхнулся; Женишься раз, а плачешься век; Женитьба есть, а разженитьбы нет; Молодому жениться рано, а старому поздно; Девка красна до замужества; Все девушки хороши, а отколь берутся злые жёны? В девках сижено – плакано; замуж хожено – выто.
Положительные ответы: Холостой что бешеный; Холостой – полчеловека; Бобыль бобылём: ни роду ни племени; Что гусь без воды, то мужик без жены; Живёшь – не с кем покалякать; помрёшь – некому поплакать; Жить-то прохладно, да спать не повадно; На что мягко стлать, коли не с кем спать; И в раю тошно жить одному; Одному и топиться идти скучно; Бездетный умрёт, и собака не взвоет.
Видно, положительные ответы пересиливают отрицательные, раз большинство людей женится. Но женитьба – дело серьёзное. С нею нужно быть предельно осторожным: Жениться – не лапоть надеть; Не птицу сватать, а девицу; На резвом коне жениться не езди! Женился на скорую руку да на долгую муку; Жениться – не напасть, да как бы женатому не пропасть.
Чтобы не ошибиться в выборе невесты, хорошо бы заглянуть в сборник русских пословиц. Они предупреждают: Богатую взять – станет попрекать; Знатную взять – не сумеет к работе пристать; Умную взять – не даст слова сказать; Худую взять – стыдно в люди показать; Убогую взять – нечем содержать; Старую взять – часто с нею хлопотать; Слепую взять – всё потерять.
Как ни осторожничай, но надо на ком-то и остановиться, а иначе: Много невест разбирать, так век женатому не бывать. Но жёны из невест выходят разные – добрые и злые.
Добрые жёны: Добрая жёнушка как яичко всмятку; Добрую жену взять – ни скуки, ни горя не знать; Добрая жена да жирные щи – другого добра не ищи! С доброй женой горе – полгоря, а радость вдвойне; Доброй жене домоседство – не мука; Добрая жена дом сбережёт, а плохая рукавом растрясёт; Добрая жена – веселье, а худая – злое зелье; От плохой жены состаре-ешься, от хорошей помолодеешь.
Злые жёны: Всех злее злых злая жена; Злая жена сведёт мужа с ума; Злая жена – мирской мятеж! Злая жена – та же змея; Лучше камень долбить, нежели злую жену учить; Железо уваришь, а злую жену не уговоришь; Злая жена – битая бесится, укрощаемая высится, в богатстве зазнаётся, в убожестве других осуждает; От злой жены не уйдёшь; От злой жены одна смерть спасает да пострижение.
Смерть
Русские пословицы учат невозможному – не бояться смерти: Смерти бояться – на свете не жить; Живой живое и думает; Не бойся смерти, бойся грехов; Не бойся смерти, если собираешься долго жить; Не боюсь смерти, боюсь худой жизни; Не надобно смерти бояться, надобно злых дел опасаться; Бойся жить, а умирать не бойся! Жить страшнее, чем умирать.
Но подобные пословицы соседствуют с другими: Всякий живой боится смерти; Видимая смерть страшна; В очью смерть проберёт; Нет справедливой смерти; Жить тяжко, да и умирать нелегко; Как жить ни тошно, а умирать тошней.
Но всё-таки жить хочется: Лучше век терпеть, чем вдруг умереть; Жить – мучиться, а умирать не хочется; Горько, горько, а ещё бы столько.
Между тем смерть неизбежна: Смерть дорогу сыщет; От смерти не спрячешься; От смерти не посторонишься; От смерти не увильнёшь; От смерти и на тройке не ускачешь; От смерти и под камнем не укроешься; От смерти нет зелья; От смерти не отлечишься; От смерти нет лекарства.
Вот почему: Жить надейся, а умирать готовься; Живи, да не заживайся! Жить живи, да и честь знай: чужого века не заедай! Не умел жить, так хоть сумей умереть! Живи, живи, да и помирать собирайся; Сколько ни живи, а умирать надо. Почему? Если бы люди не мёрли – земле бы всех не сносить.
За категорией добра кроются добродетели, а за категорией зла – пороки. В трактате «О добродетелях» Аристотель представил классификацию восьми добродетелей и восьми пороков. Те и другие он вывел из трёх отдельных частей души и души в целом. Вот как выглядит эта классификация: «Если принять вслед за Платоном деление души на три части, то добродетель разумной части есть рассудительность, гневливой – кротость и мужество, вожделеющей – благоразумие и воздержанность, а добродетель души в целом – это справедливость, щедрость и величавость. Порок же разумной части души – это безрассудство, гневливой – гневливость и трусость, вожделеющей – распущенность и невоздержанность, а порок души в целом – это несправедливость, скупость и малодушие» (Гусейнов А. А, Иррлиц Г. Краткая история этики. М., 1987. С. 527).
Возникли такие пары: рассудительность – безрассудство, кротость – гневливость, мужество – трусость, благоразумие – распущенность, воздержанность – невоздержанность, справедливость – несправедливость, щедрость – скупость, величавость – малодушие. Каждая из этих пар поясняется.
Так, под рассудительностью Аристотель понимает добродетель, «прокладывающую путь к счастью», а под безрассудством – порок, в котором кроется «причина порочной жизни». В свою очередь величавость – это «добродетель души, которая даёт возможность переносить счастье и несчастье, честь и бесчестье», а малодушие – «порок души, при котором люди не способны вынести ни счастья, ни несчастья, ни чести, ни бесчестья» (там же. С. 528).
Прекрасно, но почему же перипатетики (приверженцы Аристотеля) в XVI веке стали злейшими врагами Джордано Бруно? Потому что Аристотель стал кумиром христианских теологов. Он был настолько ими почитаем, что впору его записать в отцы христианской церкви. Прикрываясь авторитетом Аристотеля, перипатетики тормозили проникновение в науку новых идей. Прежде всего – гелиоцентризма, бесконечности вселенной и множественности миров. Вот почему Д. Бруно посвятил много своих дней критике Аристотеля.
Августин Блаженный, один из подлинных отцов христианской церкви, провозгласил семь добродетелей: веру, надежду, милосердие (любовь), справедливость, мужество, умеренность и благоразумие. Три первых из них, с его точки зрения, даются человеку Богом, а четыре остальных являются приобретёнными.
Несмотря на то, что между добродетелями, выделенными Аристотелем и Августином, мы видим сходство, их интерпретация у них существенно разнится. Если у Аристотеля они истолковываются безотносительно к Богу, то у Августина в конечном счёте каждая из них выводилась из любви к Богу. Вот почему этика Августина имеет подчёркнуто теоцентрическую направленность. Теоцентризм стал главной чертой и всей христианской нравственности.
Аристотель назвал счастье высшим благом, а Фома Аквинский стал называть его блаженством. Высшее блаженство, по Ф. Аквинскому, – непосредственное созерцание Бога, но оно возможно лишь в раю. Святой Фома, таким образом, отправил счастье на тот свет.
Мыслители Ренессанса опустили счастье на землю (Л. Валла, Д. Пико делла Мирандола, П. Помпонаццы и др.). Но некоторые из них зашли в своём стремлении к земному раю чересчур далеко. В особенности это относится к Лоренцо Валла, который провозгласил культ наслаждения. Он оказался плохим учеником Эпикура. Греческий мудрец вовсе не раздувал удовольствие до необъятных размеров.
Вот как защищал Эпикура от гедонистов И. Кант: «У Эпикура, таким образом, высшим благом было счастье, или, как он это называл, наслаждение, т. е. внутренняя удовлетворённость и радостное сердце. Человек должен быть застрахован от упрёков как со стороны самого себя, так и со стороны других. Это вовсе не философия наслаждения, как её неправильно понимали. Существует его письмо, в котором он приглашает к себе кого-то, но при этом ничего другого не обещает ему, кроме сердечной радости и ячменной каши, т. е. плохой эпикурейской еды. Таково, таким образом, было наслаждение мудреца. Он признавал, следовательно, ценность добродетели, рассматривая нравственность как средство достижения счастья» (Гусейнов А. А., Иррлиц Г. Краткая история этики. М., 1987. С. 572).
Каждый из нас знает, что нехорошо – лениться, нехорошо – обманывать, нехорошо – лицемерить, нехорошо – завидовать, грубить, впадать в отчаяние или гордыню и т. д., и т. д. Но, несмотря на то, что мы с детства усваиваем, что такое хорошо и что такое плохо, мы сплошь и рядом ленимся, обманываем, лицемерим, завидуем и т. д., и т. д. В чём тут дело?
Мало – знать, надо ещё и уметь делать! Между теорией и практикой в нравственности мы порой имеем дело с «дистанцией огромного размера». Эта дистанция преодолевается нашей волей. Выходит, чтобы быть нравственным человеком не только в теории, но и на практике, необходимы, по крайней мере, три вещи: 1) иметь нравственные принципы и нормы; 2) иметь волю для их осуществления; 3) совершать нравственные поступки. В этой триаде (норма → воля → поступок) волевое усилие занимает промежуточное положение между духовными представлениями о нравственности и их практическим воплощением.
Были ли и есть ли люди, которым всегда с лёгкостью удавалось или удаётся осуществлять нравственную триаду, о которой идёт речь? Таких, нравственно совершенных, людей не существовало и не существует. Но всё дело в том, что разные люди в разной мере приближаются к нравственному идеалу, который, как и любой другой идеал, вместе с тем, всегда впереди.
Чтобы иметь перед собой живые образцы нравственного поведения, люди слагают легенды о тех, кто, по их мнению, приблизился к нравственному идеалу. Таких людей они могут со временем даже обожествить – как Будду или Христа, а могут найти и другие формы преклонения перед ними. К нерелигиозной форме преклонения перед людьми высокой нравственности европейцы пришли по отношению к знаменитому греческому мудрецу Сократу (470–399 до н. э.).
Конечно, у живого Сократа, как и любого другого человека, были свои нравственные проступки, но, в отличие от миллионов других людей, он достиг большого успеха на пути, ведущем к нравственному совершенству, нравственной чистоте, тем самым обессмертив своё имя. О нём стали складывать легенды. Одна из них гласит о том, почему ему удалось прожить свою жизнь в соответствии с высокими нравственными требованиями, которые он сам себе предъявлял. В этой легенде повествуется о том, что в связи с рождением Сократа его отец – скульптор Софроникс – обратился к оракулу с вопросом, как ему воспитывать сына. Оракул ответил: «Пусть сын делает то, что ему заблагорассудится; отец не должен его к чему-то вынуждать и от чего-то удерживать. Отцу лишь следует молиться Зевсу и Музам о благом исходе дела, предоставив сына свободному проявлению своих склонностей и влечений. В иных заботах его сын не нуждается, так как он уже имеет внутри себя на всю жизнь руководителя, который лучше тысячи учителей и воспитанников» (Нерсесянц В. С. Сократ. М.: Наука, 1984. С. 5).
В качестве внутреннего руководителя у взрослого Сократа, по его собственному признанию, выступал его личный бог – даймоний (демон, гений), который и предостерегал его всю жизнь от дурных поступков. На суде, где его приговорили в семидесятилетнем возрасте к смертной казни за развращение молодежи, он вспоминал, по свидетельству его ученика Платона: «Со мной приключается нечто божественное или чудесное… Началось у меня это с детства: возникает какой-то голос, который всякий раз отклоняет меня от того, что я бываю намерен делать, а склонять к чему-нибудь никогда не склоняет. Вот этот голос и возбраняет мне заниматься государственными делами» (там же).
Задолго до Л. Н. Толстого Сократ увидел главный смысл человеческой жизни в нравственном самосовершенствовании. Он был первым среди европейских мыслителей, кто стал рассматривать культуру с нравоцентрической точки зрения, т. е. считать, что нравственный прогресс определяет развитие культуры в целом. Не следует, однако, модернизировать нравоцен-тризм Сократа. Он был сыном своего, мифологического, времени. Вот почему его нравоцентризм имеет явно мифологизированную форму.
В связи с тем, что Сократ не оставил после себя письменных произведений, мы узнаем о его мировоззрении по высказываниям о нём других философов – в первую очередь по платоновским диалогам. Дело в том, что Платон в своих диалогах говорил устами Сократа. Вот почему провести границу между взглядами Сократа и Платона не представляется возможным. Историки науки, тем не менее, относительную границу между ними проводят, подчёркивая при этом, что Платон был учеником Сократа, что объясняет сходство между ними.
Сократ был верующим человеком. Среди богов, особенно почитаемых им, был Аполлон, под знаком которого он появился на свет. С именем Аполлона связано высказывание, приписываемое Филону: «Познай самого себя». Оно было написано на храме Аполлона в Дельфах, где, по преданию, Сократ побывал ещё в молодости. Предполагают, что это высказывание сыграло решающую роль в жизни молодого Сократа, оставившего занятия скульптурой и посвятившего свою жизнь философии.
Предполагают также, что к занятиям философией Сократа склонили два его современника – Архелай и Анаксагор. Сократ, по словам Платона, рассказывал: «…однажды мне кто-то рассказал, как он вычитал в книге Анаксагора, что всему в мире сообщает порядок и всему служит причиной Ум; и эта причина мне пришлась по душе.» (там же. С. 14). Анаксагор способствовал появлению интереса у Сократа к физике. Сократу приписывают, в частности, слова о шаровидности Земли. «Земля, – говорил он, – если взглянуть на неё сверху, похожа на мяч, сшитый из двенадцати кусков кожи и пестро расписанной разными цветами. Краски, которыми пользуются наши живописцы, могут служить образчиками этих цветов, но там вся Земля играет такими красками и даже куда более яркими и чистыми» (там же. С. 17–18). Сократ здесь, если верить Платону, предвосхищает далекое от него время, когда на Землю стало возможным смотреть из окна космического корабля.
Кроме физики, Сократ занимался также и теорией познания. Более того, он был первым, кто стал рассматривать процесс познания в качестве предмета исследования. С его точки зрения, как и Платона, процесс познания должен быть направлен на постижение понятий. Сами по себе эти понятия локализуются в божественном разуме (нусе – по-гречески), а на земле мы видим лишь их проявления в конкретных предметах. Так, понятие красоты (прекрасного) проявляется в красоте лошади, женщины или книги, но объективно оно существует лишь на небе, где обитает божественный разум.
Человек, по Сократу, никогда не может достигнуть божественной мудрости. Даже лучшие из людей – мудрецы – и то лишь прикасаются к ней. Ограниченность человеческих знаний о мире Сократ сформулировал в предельно крайней форме: «Я знаю, что ничего не знаю».
Сократ, несмотря на его увлечения гносеологией и физикой, не признавал самоценности знания. Ценность знаний он видел лишь в том, чтобы они помогали человеку в его жизни. «…весь космос, – писал в связи с этим В. С. Нерсесянц, – телеологически приноровлен к целям сократовской этики… Сократовское обращение к вопросам о целесообразности мира, космической гармонии, божественно предопределённой связи явлений и т. п. проследовало прежде всего этические интересы и было нацелено на выяснение направлений и границ целесообразной траты человеком своих познавательных усилий. Истинное познание, как его понимал Сократ, призвано дать человеку ориентиры для его повседневной жизни. Поэтому ценность всякого познания. в том, чтобы научиться разумно вести человеческие дела» (там же. С. 18).
Главный вопрос, занимавший Сократа, был вопрос о том, как должно жить. В самом общем виде он отвечал на него так: жить должно в соответствии с божественной мудростью, которая открывается людям лишь в незначительной мере. Больше всего она, эта мудрость, открывается философам. Вот почему он и призывал всех других людей следовать за их мудрыми советами. Истинные мудрецы – носители высокого разума, сближающего их с богами. Вот почему их устами как бы вещают сами боги. Почтение к философам в таком случае оказывалось и почтением к богам.
Мудрецам по Сократу, доступно знание, а добродетель – это такое качество человека, которое ему присуще в силу знания, пороки же, с его точки зрения, происходят от незнания, невежества. Если очень коротко сформулировать эту мысль, то она будет звучать приблизительно так: знание ведет к добру, а невежество – к злу. Вот почему истина и добро, по Сократу, находятся в гармонии, в соответствии друг с другом. Следовательно, нравственные ценности есть не что иное, как продолжение познавательных ценностей. Более того, последние, с точки зрения Сократа, служат первым, поскольку именно знания подсказывают нам, как нам поступать в той или иной ситуации. Если мы совершаем свой поступок в соответствии со знанием (истиной), то, стало быть, этот поступок будет добродетельным (нравственным), если же наши дела не согласуются с разумом, то они, напротив, порочны (безнравственны). Сократ, таким образом, направлял этику по научному пути. Этот путь предполагает, что только увеличение знаний ведет людей к росту добра в мире. Правда, как верующий, Сократ видел первоисточник знаний не в мире как таковом, а в божественном разуме, к которому люди лишь приобщаются в той или иной мере. Мы можем, таким образом, построить следующую цепочку понятий, намеченных в сократовском учении: вера (религия) – истина (наука) – добро (нравственность).
Сократ, подобно Будде, верил в переселение душ. Он верил, что души праведников, а к ним он относил в первую очередь души философов, после смерти переселяются в космос – место обитания богов, где они и находят вечное успокоение. Смерть для них, таким образом, представляет собою избавление от земных мук. Души же грешников проходят иной путь. Сократ, по свидетельству Платона, говорил: «Когда человек умрёт, его гений который достался ему на долю ещё при жизни, уводит умершего в особое место, где все, пройдя суд, должны собраться, чтобы отправиться в Аид с тем вожатым, какому поручено доставить их отсюда туда. Встретивши там участь, какую и должно, и пробывши срок, какой должны они пробыть, они возвращаются сюда под водительством другого вожатого, и так повторяется вновь и вновь через долгие промежутки времени» (там же. С. 25). Иными словами, души грешников будут болтаться между земною жизнью и адом, переселяясь из одного тела в другое, до тех пор, пока они не станут такими же совершенными, такими же чистыми, как души философов, которые одни достойны окончательной смерти на небе, где они и обретают вечный покой. Будда называл этот покой нирваной. Отсюда, между прочим, вытекает обязательный характер нравственного самосовершенствования у Сократа: чтобы попасть на небо, душа, как писал Н. А. Заболоцкий, обязана трудиться, чтобы её обладатель стал по-настоящему добродетелен.
Какие же добродетели Сократ ставил превыше всего? Он относил к ним истину, справедливость, свободу, мужество и воздержанность. Что же касается телесных удовольствий, то Сократ их расценивал под знаком минус. Люди, стремящиеся к ним, обречены на вечно переселение их душ от одного тела к другому. Их души, как и души других грешников, обречены на бессмертие, а следовательно, и на бесконечные муки.
Сократ не боялся смерти: ведь в его теле жила душа настоящего философа. Вера, что его душа обретёт блаженное успокоение на небе, помогла Сократу принять свой смертный приговор с небывалым мужеством. Этот приговор, очевидно, и не последовал бы, если бы у Сократа не было врагов прежде всего со стороны власть имущих.
Сократ не проводил границу между нравственностью и политикой. Политические ценности у него ставились в один ряд с нравственными. Высшей политической добродетелью он считал искусство управлять полисом (государством). В качестве основы этого искусства он рассматривал справедливость. На справедливости, с его точки зрения, и должны строиться законы, действующие в государстве. Эти законы, если они справедливы, должны выполняться, по его мнению, неукоснительно. В противном случае государство потерпит рано или поздно фиаско.
Но кто же эти люди, способные постичь справедливость? Философы. А между тем законы в государстве составляются не философами, а политиками. А политиков Сократ ставил значительно ниже философов, считая, что первым, даже лучшим из них (напр., Периклу), подлинная божественная мудрость не доступна.
Доставалось от Сократа и простым смертным. Он обвинял афинян в жадности, страсти к обогащению, тяге с плотским наслаждениям, пренебрежении к разуму и добру. В желании казнить Сократа, таким образом, соединились интересы не одних власть имущих.
Как полагал В. Дюрант в его книге «Жизнь Греции» (М.: КРОН-ПРЕСС, 1997. С. 457), для вынесения смертного приговора Сократу решающее значение имел тот факт, что Анит обвинил Сократа в том, что его сын стал под дурным влиянием Сократа пьяницей. Общий же смысл его обвинений в адрес философа сводился к тому, что он оказал на молодежь тлетворное, дурное, разлагающее влияние.
Очевидно, если бы Сократ покаялся в своих грехах перед судом, то его могли бы оправдать, но это означало для него моральную смерть, а следовательно, перечеркнуло бы всю его жизнь – жизнь философа-просветителя и моралиста. «Даже если бы вы меня отпустили, – говорил Сократ на суде, – и при этом сказали мне: на этот раз, Сократ, мы не согласимся с Анитом и отпустим тебя с тем, однако, чтобы ты больше не занимался этим исследованием и оставил философию… то я бы вам сказал: “Желать вам всякого добра – я желаю, о мужи-афиняне, и люблю вас, а слушаться буду скорее бога, чем вас, и, пока есть во мне дыхание и способность, не перестану философствовать, уговаривать и убеждать всякого из вас, кого только встречу, говоря то самое, что обыкновенно говорю: о лучший из мужей, гражданин города Афин. не стыдно ли тебе, что ты заботишься о деньгах, чтобы их у тебя было как можно больше, о славе и почестях, а о разумности, об истине и о душе своей, чтобы она была как можно лучше не заботишься и не помышляешь?”» (указ. соч. С. 459).
С мужеством, достойным боготворения, Сократ продолжал: «Будьте уверены, что если вы меня такого, как я есть, убьёте, то вы больше повредите себе, нежели мне. Вам нелегко будет найти ещё такого человека, который, смешно сказать, приставлен, как овод к лошади, большой и благородной, но обленившейся от тучности и нуждающейся в том, чтобы её подгоняли» (с. 459).
Цикута, оборвавшая жизнь Сократа, вовсе не уничтожила память о великом философе-моралисте. Он остался в сознании потомков как непревзойденный мастер-диалектик – как человек, умеющий разрешать спор.
Суть его диалектики сводилась к сталкиванию противоположных мнений и отыскивании истины. В. С. Нерсесянц писал: «.о чём только он ни говорил: о богах и людях, полисе и законах, уме и глупости, знании и незнании, добре и зле, благе и справедливости, свободе и долге, добродетелях и пороках, богатстве и бедности, дружбе и взаимопомощи, самопознании и образовании, душе и теле, жизни и смерти. Собеседники и темы бесед менялись, но суть оставалась одна: во всеоружии разумного слова Сократ был в философской “разведке боем” – постоянном поиске и битве за истину, справедливость и нравственность, за должное в человеческих делах» (там же. С. 49).
4. 5. От несправедливости – к справедливости
В самом общем виде политику можно определить как род деятельности, направленный на защиту интере-со в тех или иных социальных групп. Существовал ли такой общественный строй, в котором эти интересы были бы приведены в гармонию? Увы, о таком строе приходится лишь мечтать. Вот почему категория социальной справедливости была и остаётся недостижимым идеалом. К достижению этого идеала, тем не менее, испокон веков стремились лучшие представители рода человеческого.
Что может быть самоотверженнее, чем служить справедливости и, не жалея себя, бороться против несправедливости? Людей, способных видеть в борьбе за социальную справедливость смысл своей жизни, мы должны на руках носить. Их высшая цель – построение общества, лишённого тех вопиющих противоречий, свидетелями которых нам довелось быть.
О построении справедливого общества мечтали не только авторы политических утопий, но и анонимные авторы русских пословиц. Справедливость в них выступает как правда.
Дух захватывает, когда читаешь пословицы о правде. Такие, например: Правда – свет разума; Правдой мир держится; Правда дороже золота; Правда краше солнца; Правда чище ясна месяца; Правда в воде не тонет и в огне не горит; Правда и в море не утонет; Правда что шило: в мешке не утаишь; Правда что масло: всегда наверху; Без правды не житьё, а вытьё; Всё минётся, одна правда останется; Правду не спрячешь; Правда с кривдой не уживутся; Правда всегда кривду переспорит и т. д.
Далеко не всегда в реальной жизни правда побеждает кривду. Недаром русские пословицы свидетельствуют: Была когда-то правда, а ныне стала кривда; Была правда, да в лес ушла; Была правда когда-то, да извелась; Была правда, да по мелочам, в разновеску ушла; Была, сказывают, и правда на свете, да не за нашу память; Будет и наша правда, да нас тогда не будет; Правде нигде нет места и т. п.
Если с правдой-справедливостью дело обстоит именно так, как в только что приведённых пословицах, то напрашиваются такие выводы: Нет правды на свете; Не плачь по правде, обживайся с кривдой; По правде тужим, а кривдой живём; Про правду слышали, а кривду видели; Правдой век не проживёшь; На правде недалеко уедешь; Правдой ни молотить, ни веять; Правдой сыт не будешь; Правдой не обуешься; Правдой жить – ничего не нажить; Правдой богат не будешь; Торгуй правдою больше, товар наживёшь толще; Торгуй правдою – больше барыша и т. п.
Пословицы, где правда возносится до небес, ведут к политической эволюции. В последних пословицах, напротив, мы видим в конечном счёте политическую инволюцию. В её основе – в лучшем случае – стремление к выживанию, а в худшем – стремление к барышу.
Русский народ осуждает богатство: Богатство – скорый путь ко злу; Богатство счастья не составит; Не родись богатым, а родись кудрявым; От богатства брюхо пучит, а душу плющит; Богатством в рай не взойдёшь; Богатому сладко естся, да плохо спится; Богатство от смерит не избавит; Богатый никого не помнит, кроме себя; Неправедное богатство прахом пойдёт; Богатому красть, а старому лгать; Краденое богатство исчезает – как лёд тает; Не сбирай богатства неправого; Богатство родителей – кара детям; Богатый бедного не разумеет; Богатый пузатеет, а бедный тощает; Богатство с деньгами, голь – с весельем; Лишние деньги – лишняя забота и т. д.
Но приведённые пословицы – только одна сторона медали. Есть и другая: Богатому завсё праздник; Богатому везде дом; Сила и слава богатству послушны; От трудов праведных не построишь палат каменных; После Бога – деньги первые; Денежка не Бог, а полбога есть; Денежка не Бог, а бережёт; Всему голова – деньги; Деньга деньгу наживает; Деньга и камень долбит; Тому живётся, у кого денежка ведётся; Наличные денежки – колдунчики; Рубль есть – и ум есть; нет рубля – нет и ума; Рубль – ум, а два рубля – два ума; Что милей ста рублей? Двести; За ватагу нищих одного богача не выменяешь.
Ни одна пословица не свалилась к нам с неба. У каждой был автор. А автор этот, в частности, имел свои классовые пристрастия. Отсюда явные противоречия в русских пословицах о правде и кривде, о богатстве и бедности. Подобные противоречия характерны для русских пословиц и в отношении к власти.
В большинстве старых пословиц царь выглядит настолько безупречным, что источники всех несчастий они перекладывают на его служивых: Бог на небе, царь на земле; Нельзя быть земле Русской без государя; Народ тело, царь – голова; Государь – батька, земля – матка; Воля царя – закон; Не Москва государю указ, а государь Москве; Не от царей угнетение, а от любимцев царских; Царские милости в боярское решето сеются.
О политической благонадёжности русских можно судить в какой-то мере по их пословицам о законах и судьях. Более благонадёжные воспринимают законы как основу государства, а их нарушение объясняют недобросовестностью судей: Законы святы, да судьи супостаты; Не бойся закона, бойся судьи; Законы – миротворцы, да законники крючкотворцы. Но есть у нас пословицы, авторы которых отваживаются видеть корень зла в самих законах: Где закон, там и преступление; Где закон, там и обида; Не будь закона, не стало б и греха; Строгий закон виноватых творит; По закону так, а по житейскому инак. Но чаще всего несправедливость исходит как от несовершенства законов, так и от продажных судей: Что мне законы, коли судьи знакомы; Закон что дышло: куда повернул, туда и вышло; Закон как паутина: шмель проскочет, а муха увязнет.
А как обстоит дело в русских пословицах с законопослушностью? Чего в них больше – послушания (кротости) или бунтарства?
Пословицы, призывающие к послушанию: Закон – не игрушка; Повиновение начальству – повиновение Богу; Голова от поклонов не болит; Где посадят, там и сиди; Хвост голове не указка; Взялся за гуж, не говори, что не дюж; Назвался груздем – полезай в кузов; Смирный в артели – клад; Кто живёт тихо, тот не увидит лиха; Молча – легче; Тихо не лихо, а смирнее прибыльнее; Живи смирнее, будет прибыльнее.
Но были у нас и борцы. Это они говорили: Сердитого проклянут, а смирного проглотят; Кто живёт тихо, тому жить лихо; Силён как бык, а смирен как корова; Смирная овца волку по зубам; Смирную собаку и кочет бьёт; Бойкий скачет, а смирный плачет. Так чего же в русском народе больше – бунтарства или послушания? Это зависит от ситуации.
Что есть справедливость и несправедливость в политике?
Под справедливостью Демокрит (ок. 460–370 до н. э.) имел в виду гармонию интересов в государстве. Напротив, несправедливыми он считал поступки, которые протииворечат этой гармонии. Чтобы и им препятствовать, государством необходимо управлять: «Ибо хорошо управляемое государство есть величайший оплот: в нём всё заключается и, когда оно сохраняется, всё цело, а погибает оно, с ним вместе и всё гибнет» (История политических и правовых учений / Под ред. В. С. Нерсесянца. Изд. 4-е, перераб. и доп. М.: Юридическая литература, 2004. С. 49).
Категории социальной справедливости отводили большое место в своих работах Платон (427–347 до н. э.) и Аристотель (384–322 до н. э.).
Платон, несмотря на своё аристократическое происхождение, главным источником несправедливости в государстве считал частную собственность. «Прежде всего никто не должен обладать никакой частной собственностью, если в том нет крайней необходимости» (там же. С. 59). Частная собственность, по Платону, есть главная причина, которая увеличивает пропасть между богатыми и бедными. Она делит людей на группы, вражда между которыми – величайшее зло для государства. «Имеем ли мы какое-либо большее для государства зло, – спрашивал Платон, – чем то, которое разъединяет его?» (Асмус В. Ф. Античная философия. М. Просвещение, 1976. С. 251).
По вопросу о частной собственности Аристотель расходился со своим учителем. В стремлении к частной собственности он видел одно из природных качеств человека. Выходит по Аристотелю, что деление людей на богатых и бедных неизбежно, поскольку разным людям в разной мере удаётся реализовать это стремление. Стало быть, люди должны найти такую форму государственного устройства, при которой противоречия между богатыми и бедными сводятся к минимуму. Такую форму он видел в политии. Что она собой представляет? Власть в ней принадлежит людям среднего достатка. Это-то и позволяет им быть вершителями наибольшей справедливости: они ограничивают, с одной стороны, алчность богатых, а с другой, притязания бедных на чужую собственность.
Если античные философы искали источники справедливости на земле, то средневековые богословы нашли их на небе. Верховным вершителем справедливости они провозгласили Бога. Задача состояла лишь в том, чтобы его именем карать людей за их грехи. Самым тяжким грехом они считали вероотступничество, ересь. Фома Аквинский (1225–1274) писал: «Извращать религию, от которой зависит жизнь вечная, гораздо более тяжкое преступление, чем подделывать монету, которая служит для удовлетворения потребностей временной жизни. Следовательно, если фальшивомонетчиков, как и других злодеев, светские государи справедливо наказывают смертью, ещё справедливее казнить еретиков, коль скоро они уличены в ереси» (там же. С. 124–125).
Неизлечимую рану в Новое время нанесли богословам французские просветители – Дени Дидро (1713–1784), Поль Гольбах (1723–1789), Клод Гельвеций (1715–1771) и др. Они опустили категории справедливости и несправедливости на землю. В частности, Д. Дидро видел причину социальной несправедливости в сословном неравенстве. Он писал: «В природе все виды животных пожирают друг друга; в обществе сословия друг друга пожирают» (История политических и правовых учений / Под ред. В. С. Нерсесянца. М.: Юридическая литература, 1983. С. 226).
Герберт Спенсер (1820–1903) пытался вписать категории справедливости и несправедливости в контекст политической эволюции. Эта эволюция, с его точки зрения, идёт от архаических форм общественного строя ко всё более цивилизованным. Она позволила низшим сословиям стать в какой-то мере свободными от угнетателей. Но их свобода нередко оборачивается асоциальным поведением и даже преступностью. Вот почему современный этап в эволюции человечества не может обойтись без насилия. Оно состоит в деятельности, которая направлена на усмирение людей, тормозящих политическую эволюцию.
Люди, занимающиеся политикой, – делятся на две категории – власть имущие (Перикл, Цезарь, Пётр I, Наполеон и т. п.) и власть неимущие. К последним относятся социалисты-утописты (Т. Мор, Т. Кампанелла, А. де Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн и др.). Они создавали проекты справедливого общественного строя. Их теперь замалчивают. Да и кто? Люди, которые им в подмётки не годятся. Но были времена, когда одни их превозносили (марксисты), а другие – осуждали. К последним относится Семён Людвигович Франк (1877–1950).
Любую деятельность, направленную на изменение общественного порядка, поздний С. Л. Франк расценивал как утопизм. Он писал: «Под утопизмом мы разумеем не общую мечту об осуществлении совершенной жизни на земле, свободной от зла и страдания, а более специфический замысел, согласно которому совершенство жизни может – а потому и должно быть – как бы автоматически обеспечено неким общественным порядком или организационным устройством» (Т. Мор. Оуэн. Дидро. Д'Аламбер. Кондорсе. Биографические повествования. Челябинск: Урал LTD, 1998. С. 474). Почему «как бы автоматически»?
Я привёл эту цитату из статьи С. Л. Франка с выразительным названием – «Ересь утопизма». Она была написана уже после Второй мировой войны. Но, как бы забыв о том, какой век на дворе, её автор объявил утопистов еретиками. Как новоявленный служитель суда инквизиции, он писал: «Ересь утопизма можно, таким образом, ближайшим образом определить как искажение христианской идеи спасения мира» (там же. С. 480). Между тем в юности автор этих слов был активным социал-демократом. Как Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков и др., он, слава богу, вовремя одумался и порвал с марксизмом, став религиозным философом (см. подр. вст. статью к кн.: Франк С. Л. Сочинения. М.: Правда, 1990).
Перечеркнуть великую роль социалистических учений в истории европейской культуры (включая русскую) не представляется возможным. Их ещё ждёт праздник возрождения. Но и сейчас мы должны о них помнить. Но и сейчас мы должны у них учиться – в первую очередь – стремлению к справедливости. Их жизнь – вдохновляющий пример для тех, кто отважится бороться за справедливость. Остановимся здесь на жизни только двух социалистов-утопистов – Т. Мора и Р. Оуэна.
Томас Мор (1478–1535) собирался стать священником. Но по настоянию отца он стал юристом. Он закончил Оксфордский университет. Любовь к науке он сохранил на всю жизнь. Любопытен такой факт: в его доме было много животных, но держал он их не для праздного любования, а для наблюдений за их умственными способностями. Т. Мор писал в молодые годы стихи и комедии. Несколько лет он служил адвокатом в Лондоне Его заметил король Генрих VIII и приблизил ко двору. Он был членом и спикером парламента. Через несколько лет король назначил его вторым человеком в государстве – лорд-канцлером Англии. В его руках была государственная печать.
Король очень дорожил мнением Т. Мора. Он стал любимцем Генриха. Но Т. Мора любил и простой народ. Он отличался небывалой демократичностью. Его друг Эразм говорил: «Можно сказать, что Мор – главный покровитель всех бедняков в государстве. Он радуется, как будто заключил невесть какую выгодную сделку, когда ему удаётся помочь угнетённому или стеснённому человеку и дать ему возможность выйти из затруднительного положения» (Т. Мор. Оуэн. Дидро. Д’Аламбер.
Кондорсе. Биографические повествования. Челябинск: Урал LTD, 1998. С. 25).
Мировую славу Т. Мор приобрёл своей «Утопией» (1516). В ней две основные идеи – об отмене частной собственности и демократии. О частной собственности он писал: «Повсюду, где есть частная собственность, где всё измеряют деньгами, там едва ли когда-нибудь будет возможно, чтобы государство управлялось справедливо или счастливо. Разве ты сочтёшь справедливым, когда всё самое лучшее достаётся самым плохим людям, или посчитаешь удачным, когда всё распределяется между совсем немногими, да и они живут отнюдь не благополучно, а прочие же совсем несчастны. Поэтому я полностью убеждён, что распределить всё поровну и по справедливости, а также счастливо управлять делами человеческими невозможно иначе, как вовсе уничтожить собственность. Если же она останется, то у наибольшей и самой лучшей части людей навсегда останется страх, а также неизбежное бремя нищеты и забот. Я признаю, что его можно несколько облегчить, однако настаиваю, что полностью этот страх устранить невозможно» (Утопический социализм. Хрестоматия / Под ред. А. И. Володина. М.: Плитиздат, 1982. С. 57–58).
Должностные лица у утопийцев в большинстве своём выборные. В Утопии только «должность правителя постоянна в течение всей его жизни» (с. 62). От идеи полного правового равенства Т. Мор отказался. В его Утопии сохранено рабство. Рабы выполняют там самую грязную работу. Но при этом важно помнить, что в рабов обращают у Т. Мора лишь преступников.
Своею жизнью Т. Мор поплатился не за «Утопию», а за несговорчивость. Генрих объявил себя главой новой, самостоятельной англиканской церкви. Он это сделал вовсе не из теологических соображений. Всё дело заключалось в том, что Рим запретил ему развод с королевой, с которой он прожил двадцать лет. А развод ему нужен был потому, что он горел желанием жениться на красавице Анне Болейн, чтобы иметь от неё сыновей. Главенство над англиканской церковью развязало Генриху руки. Он получил и развод, и вторичный брак, который просуществовал недолго: Генрих приказал отрубить голову Анне Болейн за мнимые измены. Он женится ещё четыре раза и казнит ещё одну жену – молоденькую Кэтрин – на реальную измену. У Генриха VIII, этого кровавого изверга рода человеческого, было хобби – отрубать головы своим соотечественникам. Вот с каким королём Т. Мору выпало «счастье» жить!
Генрихом владела одна, но пламенная страсть – как можно больше иметь сыновей. Он обещал своему отцу, что его преемником будет сын. По иронии судьбы его единственный сын (от Джейн, умершей после родов) король Эдуард умрёт в пятнадцатилетнем возрасте, а через несколько лет в Англии воцарится чуть ли не на полстолетия королева Елизавета – дочь Генриха и Анны Болейн. Но возвратимся в ситуацию, в которой оказался Т. Мор.
Трусливые приспешники короля угодливо подписали присягу на верность главе новой церкви. Только Т. Мор отказался её подписать. Он не мог поступиться своей католической совестью. Его посадили в Тауэр. Через год с редким мужеством он выслушал обвинительный приговор в государственной измене. Он звучал так: «Шерифу Вильяму Бингстону предписывается отвести преступника обратно в Тауэр, а оттуда провести через Сити до Тиберна, где и повесить; когда это будет сделано, снять его полумёртвого, разорвать на части, благородные члены отрезать, живот распороть, внутренности сжечь; конечности выставить на четырёх воротах Сити, а голову – на Лондонском мосту» (Т. Мор. Оуэн. Дидро. Д'Аламбер. Кондорсе. Биографические повествования. Челябинск: Урал LTD, 1998. С. 98).
Король смягчил приговор, заменив его на отсечение головы на плахе. Т. Мор отреагировал на его милость такими словами: «Да избавит Бог моих друзей от сострадания короля и всё моё потомство от его милостей!» (там же).
Вот как закончилась жизнь Томаса Мора: «Палач попросил у него прощения. Мор, обнявши его, сказал:
– …Исполняй же без страха свою обязанность. Моя шея коротка; направь верно свой удар, не осрамись.
Затем один взмах – и благородная голова отделилась от туловища» (там же. С. 100).
В. И. Яковенко, автор очерка о Т. Море в цитируемой книге, сравнил его с Сократом: «Так погиб этот великий человек, отстаивая до последнего момента дело своей совести… И в этом отношении Томаса Мора можно по всей справедливости поста-ивть подле Сократа. Оба они своим примером учат, как должен умирать человек за свои убеждения» (там же. С. 101).
Детство и юность у Роберта Оуэна (1771–1858) были не самыми радужными. В школе он, сын мелкого лавочника, проучился лишь два года, потом мотался по Англии в поисках средств существования. Был на побегушках у хозяев магазинов Стэмфорда, Лондона, Манчестера.
В Манчестере Р. Оуэн занял денег у брата и открыл с одним компаньоном небольшую мастерскую по ремонту прядильных машин, которые тогда были в ходу, а потом дело дошло и до собственного предприятия по изготовлению таких машин. Но особенно успешно его дела пошли, когда в двадцать лет он стал управляющим, а затем и совладельцем хлопковой мануфактуры.
Р. Оуэн был очень успешным предпринимателем, но его предприимчивость была уникальной: полученные деньги он тратил не столько на себя, сколько на других. Он стал устраивать социальные эксперименты. Их цель состояла в том, чтобы облегчить жизнь рабочих. Этому способствовала его женитьба на богатой невесте Каролине Дейл – дочери Дэвида Дейла – владельца текстильной фабрики в поселке Нью-Ланарк близ Глазго. Он стал управляющим этой фабрики и в довольно короткие сроки привёл её к процветающему состоянию. Высоким благосостоянием рабочих на этой фабрике восхищался не кто-нибудь, а будущий император Николай Павлович, который пригласил Р. Оуэна в Россию, но тот отказался.
К 1817 году у Р. Оуэна (ему уже 46 лет) созрела идея создания коммунистических посёлков для бедняков, напоминающих фаланги у Ш. Фурье. Британское правительство эту идею не поддержало. Р. Оуэн не смиряется. В 1817–1824 годах он пишет множество статей и произносит множество речей в разных городах Англии, чтобы убедить людей в перспективности задуманных им общественных преобразований. Но – тщетно: его родное правительство осталось глухим. Остались безуспешными и его попытки изменить фабричное законодательство через парламент.
Р. Оуэн так говорил о политических вождях: «Они запутаны в интригах партий, которые затемняют их рассудок и часто заставляют приносить в жертву своим мнимым личным выгодам истинное благосостояние общества и своё собственное благо» (Т. Мор. Оуэн. Дидро. Д'Аламбер. Кондорсе. Биографические повествования. Челябинск: Урал LTD, 1998. С. 152).
Р. Оуэн не сдаётся. В 1825 году он покупает в Америке 30 тысяч акров земли и принимается за строительство коммунизма в отдельно взятом штате – в штате Индиана. Результатом его усилий стала коммунистическая колония с красивым названием – «Новая гармония». Главной чертой жизни в этой колонии стала отмена частной собственности. Её жизнь основывалась на принципах равенства, всеобщности труда и имущества, вознаграждения за труд продуктами. Но построить коммунизм в «Новой гармонии» Р. Оуэну в конечном счёте не удалось.
В 1828 году Р. Оуэн вынужден был отказаться от руководства «Новой гармонией». На митинге он сказал: «Этот опыт доказал, что семейства, воспитанные при старой системе индивидуализма, основанной на суеверии, не могут проникнуться той терпимостью и братским милосердием друг к другу, без которых немыслимо согласие и доверие между членами колонии и без которых не может существовать никакое подобное общество» (там же. С. 182).
Опыт оказался преждевременным. Отсюда не следует, что жизнь Р. Оуэна оказалась неудачной. Напротив, его жизнь – вдохновляющий пример для людей, которые не на словах, а на деле делают всё возможное для того, чтобы прорваться к обществу, где люди живут не по закону джунглей, а по закону справедливости. Всю жизнь он стремился к осуществлению такого закона. До конца дней он служил этому закону. Ему было уже 87 лет, когда осенью 1858 года на трибуне митинга в Ливерпуле он почувствовал себя плохо. Через несколько дней этот великий человек скончался в своём родном городе Ньютаун.
Вот как описал смерть Р. Оуэна его сын: «17 ноября 1858 г. Всё кончено. Мой дорогой отец умер сегодня утром, без четверти в семь часов, так тихо и спокойно, как будто заснул… Его последние слова были: “Настал покой.”» (там же. С. 211–212).
Вот главный вывод, к которому Р. Оуэн пришёл в своей жизни: «Частная собственность была и есть причина бесчисленных преступлений и бедствий, испытываемых человеком, и он должен приветствовать наступление эры, когда научные успехи и знакомство со способами формирования у всех людей совершенного характера сделают продолжение борьбы за личное обогащение не только излишним, но и весьма вредным для всех; она причиняет неисчислимый вред низшим, средним и высшим классам. Владение частной собственностью ведёт к тому, что её владельцы становятся невежественно эгоистичными, причем этот эгоизм обычно пропорционален в своих размерах величине собственности. Собственники так эгоистичны, что многие из них, имея ежегодно намного больше, чем требуется для удовлетворения разумных потребностей, спокойно читают или слышат о тысячах собратьев, ежедневно гибнущих вследствие недостатка работы, которую богатые им не дают.» (Утопический социализм. Хрестоматия / Под ред. А. И. Володина. М.: Политиздат, 1982. С. 329).
Р. Оуэн на своей шкуре испытал, что значит быть изгоем среди предпринимателей. Он писал о них: «Эти дети торговли смолоду привыкли изощрять свои способности на то, как бы купить подешевле, а продать подороже. Поэтому люди, более успевающие в этом замысловатом и благородном искусстве, признаются в коммерческом мире умами предусмотрительными, одарёнными высшими способностями; напротив, людей, которые стараются о материальном и нравственном преуспеянии рабочих, называют сумасбродными фантазёроми» (там же. С. 152).
В представлении «Книги нового нравственного мира» (1836), адресованном королеве Виктории, Р. Оуэн охарактеризовал себя вовсе не как сумасбродного фантазёра, а как человека, «который более полувека искал приобретения редкой между людьми мудрости с одной цулью – приложить её к облегчению бедствий несчастных» (там же. С. 205).
А. В. Каменский так закончил своё повествование о жизни Р. Оуэна: «Многие считают Роберта Оуэна утопистом, растратившим своё состояние в безумных филантропических предприятиях. Между тем мы видим теперь, что большая часть его жизни прошла в борьбе с тем ближайшим злом и в изыскании практических средств помощи окружающим в тех бедствиях, которые происходили у него на глазах… Но как ни велики перед людьми заслуги Роберта Оуэна с этой стороны, личность его прежде всего поражает гармоническим сочетанием в ней самой высокой любви к людям, правде и безграничной вере в человека с непрестанным самоотверженным трудом для достижения всеобщего человеческого счастья. Это была в полном смысле слова прекрасная, цельная человеческая жизнь. Говоря словами его английского биографа, “всю свою жизнь он работал для народа, умер за этой работой, и последняя его мысль была – о счастье народном”» (там же. С. 212–213).
Лучше всех о Р. Оуэне написал Александр Иванович Герцен (1812–1870) в девятой главе шестой части «Былого и дум». Его первая встреча с Р. Оуном произошла в 1852 г. на 82-ом году его жизни.
А. И. Герцен так описал своё первое впечатление о Р. Оуэне: «В гостиной был маленький, тщедушный старичок, седой как лунь, с необычайно добродушным лицом, с чистым, светлым, кротким взглядом, – с тем голубым детским взглядом, который остаётся у людей до глубокой старости, как отсвет великой доброты…
– Robert Owen, – сказал, добродушно улыбаясь, старик, – очень, очень рад.
Я сжал его руку с чувством сыновнего уважения; если б я был моложе, я бы стал, может, на колени и просил бы старика возложить на меня руки… Обращение Оуэна было очень просто; но и в нём, как в Гарибальди, середь добродушия просвечивала сила и сознание, что он – власть имущий. В его снисходительности было чувство собственного превосходства; оно, может, было следствием постоянных сношений с жалкой средой» (Герцен А. И. Сочинения в 4 т. Т. 3. М.: Правда, 1988. 188–189).
В этой среде всё дело. Эта среда и отвергла Р. Оуэна. Почему? Уровень «очеловлённости» не тот. «Очеловлённая часть общества, – пишет А. И. Герцен, – была бы за него» (там же. С. 196). А где её взять?
«Развитие мозга, – пишет в связи с этим А. И. Герцен, – требует своего времени. В природе нет торопливости; она могла тысячи и тысячи лет лежать в каменном обмороке и другие тысячи чирикать птицами, рыскать зверями по лесу или плавать рыбой по морю» (там же. С. 211).
Так что нам, людям, очень повезло, что природа оказалась по отношению к нам милостливее, чем к птицам и рыбам. Благодаря проснувшемуся уму, мы вступили на путь «очелов-ления». Но ум, как говорил А. И. Герцен, «медленно мужает» (там же. С. 198).
Во вполне эволюционном духе великий мыслитель писал: «В дочеловеческой, в околочеловеческой природе нет ни ума, ни глупости, а необходимость условий, отношений и последствий. Ум мутно глядит в первый раз молочным взглядом животного, он медленно мужает, вырастает из своего ребячества, проходя стадной и семейной жизнию рода человеческого. Стремление пробиться к уму из инстинкта – постоянно является вслед за сытостью и безопасностью; так что в какую бы минуту мы ни остановили людское сожитие, мы поймаем его на этих усилиях достигнуть ума – из-под власти безумия. Пути вперёд не назначено, его надобно прокладывать; история, как поэма Ариоста, несётся зря, двадцатью эпизодами; бросаясь туда, сюда, с тем тревожным беспокойством, которое уже бесцельно волнует обезьяну и которого почти совсем нет у низших зверей, этих довольных животного царства» (там же. С. 198).
Выходит, современное человечество находится на низком уровне своего «очеловления» потому, что оно ещё не насытилось и не чувствует себя в безопасности. Как точно подмечено! Вот с таким человечеством и приходится жить по преимуществу.
Р. Оуэн, добрейшей души человек, писал о типичном человеке своего времени: «Нелепости изуверства сделали из человека слабого, одурелого зверя, безумного фанатика, ханжу и лицемера. С существующими религиозными понятиями не только не устроишь предполагаемых им общинных деревень, но с ними и рай не долго устоял бы раем» (там же. С. 194).
Вот и наш народ легко упустил птицу своего счастья в 90-е годы ушедшего века по собственной одурелости. Чтобы поймать её снова, понадобиться ещё много оуэнов. Но наши потомки её поймают наверняка. Какие в этом могут быть сомнения?
Всякий эволюционист понимает, что любой общественный строй есть не что иное, как одно из звеньев политической эволюции. Не признавать это – вслед за Ф. Фукуямой – может лишь тот, кто хорошо устроился в этом мире. Как бы ни тщились Карл Поппер доказать отсутствие законов общественного развития, а Фрэнсис Фукуяма провозглашать глобализационный капитализм верхом общественного совершенства, крот истории роет. Придёт время, когда в яму, которую он выроет, попадут и все те теории, которые не способны постичь эволюционизм. Принимать мир, в котором одни с жиру бесятся, а другие не могут свести концы с концами, может только безнравственный человек.
4. 6. От разобщения – к единению
Блаженство рода человеческого коль много от слова зависит, всяк довольно усмотреть может. Собраться рассеянным народам в общежития, созидать грады, строить храмы и корабли, ополчаться против неприятеля и другие нужные, союзных сил требующие дела производить как бы возможно было, если бы они способа не имели сообщать свои мысли друг другу?
М. В. ЛомоносовКак мы можем определить язык? Язык – это особый – биофизический и психический – продукт культуры, представляющий собою наиважнейшую систему знаков, которая выполняет три основных функции – коммуникативную (общения), когнитивную (познания) и прагматическую (практического воздействия на мир).
Когнитивная функция языка
В реальной речевой практике мы сплошь и рядом видим между людьми или недопонимание, или полное непонимание. Вот какие объяснения на этот счёт можно найти в русских пословицах:
1) многословие: Много наговорено, да мало переварено; Недолгая речь хороша, а долгая – поволока; Наговорил с три короба; Умному – немного слов; На его спросы ответов не напасёшься; Язык без костей – мелет; Язык без костей – намелет на семь волостей; Бабий язык – чёртово помело; Язык ворочается – говорить хочется.
2) бессодержательность речи: Мелет день до вечера, а послушать нечего; Красно говорит, а слушать нечего; Хорошо говоришь, да было бы что слушать; Долго не говорит – ум копит, а вымолвит – слушать нечего; Язык – балаболка; Долго думал, да хорошо соврал; Со вранья пошлин не берут; Пустая мельница и без ветру мелет; Мелева много, да помолу нет.
3) непродуманность: Язык лепечет, а голова не ведает; Язык болтает, а голова не знает; Язык наперёд ума рыщет; Что знает, всё скажет, и чего не знает, и то скажет; Что на уме, то и на языке;
4) дефекты речи: Говорит, что родит (т. е. медленно); Говорит, что плетень плетёт; Говорит, как клещами на лошадь хомут тащит; У него слово слову костыль подаёт; Слово за словом на тараканьих ножках ползёт; Слово по слову, что на лопате подаёт; Слово вымолвит, ровно жвачку пережуёт.
Когнитивная функция языка
Язык – не только средство общения, но и средство познания. Язык разум открывает – вот какую оценку роли языка в познании даёт одна из русских пословиц. Прекрасно сказано! Вот почему нужно уметь слушать умных людей: Я тебе говорю, а ты на ум бери; С умным разговаривать – ума набраться; Слово – знакума; Язык языку весть подаёт; Хорошо того учить, кто перенимает; Слово ищет ушей, чтоб гнездо свить; Добро того учить, кто слушает.
Но мало уметь слушать, надо ещё и уметь вступить с говорящим в диалог. Тогда голова лучше смекает: Язык языку ответ даёт, а голова смекает.
К сожалению, не всякий способен учиться: Глупого учить – что мёртвого лечить; Словами жернова не повернёшь, а глупого (глухого) не научишь; Хуже всякого глухого, кто не хочет слышать. К счастью, народ наш не ставит крест на глупости. Границу между умным и дураком он считает относительной: Умный не без глупости, а дурак не без разума.
Прагматическая функция языка
Сущность прагматической функции языка состоит в переходе слова в дело. Если этот переход происходит, то язык становится созидательной или разрушительной силой. В первом случае мы имеем дело с такими, например, пословицами: Мал язык, а горами качает; Язык – стяг, дружину водит; На великое дело – великое слово; Доброе слово железные ворота отопрёт; Язык до Киева доведёт; Сладкий язык и змею из норы вытащит.
Но слово может и разрушать: Язык – опасное оружие; От одного слова да навек ссора; Язык голубит, язык и губит; От слова спасенье, от слова и погибель; Слово не обух, а от него люди гибнут; Слово не пуля, а ранит; Слово не стрела, а пуще разит; Язык мой – враг мой; Язык иглы острее; Слово жжёт хуже огня.
Далеко не всегда слово переходит в дело, поскольку от слов до дела – целая верста. В этом случае язык прагматической функции не выполняет: Языком и лаптя не сплетёшь; Языком капусты не шинкуют; Из слов блинов не напечёшь и полушубка не сошьёшь; Из слов щей не сваришь – нужны капуста и мясо; Словом голодного не накормишь; От слов мошна не будет полна; Не спеши языком, спеши делом; Где много слов, там мало дел; Из-за пустых слов пропал как пёс; Пустые слова что орехи без ядра; На словах орёл, а на деле – мокрая курица.
Выполнению прагматической функции языка препятствуют ложные обещания. Возьмите, например, политиков. Горы золотые они сулят своим избирателям, когда срок подходит. Ох уж это сладкое слово «власть»! Его сладостный смысл доводится постичь лишь редким счастливцам. От кубка власти их может оторвать только грубая внешняя сила. Какие они становятся перед выборами сладкоречивыми, сердобольными, многообещающими! А электорат? Он такой незлопамятный, такой доверчивый, такой стеснительный, такой милосердный, что готов в ответ про все свои обиды тут же забыть и вместе со сладкоголосыми спровадить свою страну в пропасть. С лёгкостью необыкновенной забывают о своих предвыборных обещаниях и власть имущие. Что слово? Звук пустой! Они не из той компании, чтобы постигать смысл, например, таких пословиц, как: Не бросай слова на ветер, Не давши слова, крепись, а давши – держись; От слова не отрекайся.
В реальной жизни коммуникативная, когнитивная и прагматическая функции языка тесно переплетены: общение ведёт к познанию, а познание – к действию. Чтобы язык эффективнее выполнял свои функции, надо учиться культуре речи. Некоторые культурно-речевые правила нашли отражение в русских пословицах. Выделю здесь лишь четыре группы таких правил:
1. Ищи добрые слова: Доброе слово дороже золота; Доброе слово лучше мягкого пирога; Доброе слово человеку что дождь в засуху; Доброе слово что весенний день; От доброго слова язык не усохнет; Ласковое слово и буйную голову смиряет; Ласковое слово что великий день; Ласковое слово и кошке любо; Ласковое слово лечит; Ласковое слово слаще мёду.
2. Остерегайся злых слов: Недоброе слово больше огня жжёт; Дурное слово что смола: пристанет – не отлепишься; Дурной язык без привязи как бешеный пёс; Худого слова и бархатным мёдом не запьёшь; От обидного слова – навек ссора; Злой язык злобою все злости естества превосходит.
3. Избегай пустословия: Во многословии не без пустословия; Язык болтуна работает, как жернова; Язык до добра не доведёт; Язык блудлив как кошка; Слова хороши, если они коротки.
4. Лучше молчать, чем говорить: Молчание – золото; Сказанное словцо – серебряное, не сказанное – золотое; Молч анкой никого не обидишь; На молчок не разевай роток! Меньше говори, да больше делай; С коротким языком жизнь длиннее; Кто мало говорит, тот больше делает; Язычок введёт в грешок; Свой язычок – первый супостат; Не спеши языком, торопись делом; Держи язык на привязи; Лишнее говорить – себе вредить; Не всё сказывай, что помнится; Прикуси язык! Набери в рот воды! Заткни рот рукавицей! Вот тебе сахарный кусок, заткни себе роток! Зажми рот, да не говори с год! Ври, да знай же меру!
Вдохновляющий образец жизни, посвящённой изучению языка, – жизнь Вильгельма фон Гумбольдта. Он родился в 1767 году в Потсдаме. В школе он, как и его младший брат Александр, будущий путешественник и энциклопедист, не учился, но его домашнее образование оказалось настолько успешным, что оно позволило ему в двадцатилетнем возрасте поступить в университет во Франкфурте-на-Одере. Через год он перевёлся в Геттинген, где учился философии, естествознанию и филологии. Но и в Геттингене он ненадолго задержался: по рекомендации известного натуралиста и будущего якобинца Георга Форстера он перевёлся в Дюссельдорф, где и закончил своё университетское образование.
Летом 1789 года молодой В. Гумбольдт отправляется за границу – во Францию и Швейцарию. В Париже он оказался три недели спустя после штурма Бастилии, прозошедшего, как известно, 14 июля. Он имел возможность воочию наблюдать Великую Французскую революцию. Его отношение к ней было сдержанным, в отличие от Кампе – бывшего домашнего учителя и спутника по путешествию.
По возвращении в Германию В. Гумбольдт поступает в 1790 году на службу в Берлине в качестве судебного чиновника. В 1791 году он женится на богатой невесте – Каролине фон Дахереден и в этом же году публикует свою первую научную статью «Идеи о государственном устройстве, вызванные новой французской конституцией». В научную жизнь, стало быть, он вступил как политолог.
Вплоть до 1820 года свою научную деятельность В. Гумбольдт совмещал с государственной службой. Особыми заслугами отмечена его дипломатическая служба. С 1802 г. по 1808 он был послом Пруссии в Риме, а позднее – в Вене и Лондоне. В 1818 г. он становится в правительстве прусского канцлера Гарденберга министром по сословным делам, однако в конце 1819 г. он подаёт в отставку в знак протеста против усиливающегося в стране полицейского режима.
С 1820 г. В. Гумбольдт целиком отдаётся научной работе. С этого времени главным предметом его занятий становится язык. Он обладал колоссальной языковой эрудицией. По свидетельству современников, он свободно владел следующими иностранными языками – французским, английским, испанским, латинским, греческим, бакским, провансальским, венгерским, чешским и литовским. Кроме того, с присущим ему тщанием он изучал санскрит, древнеегипетский, китайский и японский. Но и это ещё не всё. Он изучал также туземные языки Северной и
Южной Америки, Индонезии и Полинезии. Прибавьте сюда его обширные знания не только в области языкознания, но также и в области философии и культурологии и вы наверняка воскликнете: «Поистине этот человек был гениален!».
Язык – великая культуросозидательная сила. Нет сферы культуры, которая обходилась бы без языка. Он как цемент, связывающий культуру, но его возможности небеспредельны, если в культуре в целом господствуют силы, не объединяющие людей, а разъединяющие. Таково состояние современной культуры в России. А. С. Панарин писал: «Культура связывает людей – нашим “реформаторам” необходимо их последовательное разъединение: и по временной вертикали – как разъединение поколений, и по горизонтали – как разъединение людей, превращённых в самодостаточные социальные атомы» (Панарин А. С. Искушение глобализмом. М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. С. 316).
Эволюционист видит в языке фундаментальный человекообразующий фактор. В. Гумбольдт считал, что без языка не было бы человека, как без человека не было бы языка. Он писал: «Человек является человеком только благодаря языку, а для того, чтобы создать язык, он уже должен быть человеком» (Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1984. С. 314). Словом, их не было бы друг без друга. Выходит, антропогенез и глоттогенез – ровесники. В. Гумбольдт был первым среди тех, кто прокладывал путь к эволюционному подходу к изучению языка.
«Истинное определение языка, – писал ученый, – может быть только генетическим» (там же. С. 70). В этом лозунге А. А. Потебня видел самую суть учения В. Гумбольдта о языке. Но что он означает?
Лозунг о генетическом определении языка для В. Гумбольдта означал, что при рассмотрении языка вообще, языкового типа или отдельного языка в частности он не останавливался лишь на их синхроническом описании, но обращался к вопросу об их генезисе, происхождении. На синхроническое состояние языка в этом случае смотрят с генетической точки зрения. За определённым состоянием языка эта точка зрения ищет его истоки, его первоначальные корни.
Генетическая точка зрения (в гумбольдтовском понимании этого термина) должна расцениваться как одна из форм эволюционного мировоззрения. Её особенность состоит в том, что в центр своего внимания в этом случае исследователь ставит не весь эволюционный путь изучаемого объекта, а лишь его происхождение.
Подобным образом подходил к изучению языка В. Гумбольдт. Его эволюционизм, таким образом, может быть определён как генетический. Однако данное определение его мировоззрения является недостаточным: его эволюционизм был не только генетическим, но и культурным. Это значит, что с генетической точки зрения он смотрел не только на языковую эволюцию, но и на культуру в целом. Вот почему в конечном счете мы можем определить мировоззрение В. Гумбольдта как культурно-генетический эволюционизм.
Об эволюции каких бы сфер духовной культуры В. Гумбольдт ни писал – науки, искусства, нравственности, политики или языка – повсюду его мысль обращалась к их генезису, к «творящей силе, породившей их» (там же. С. 53). В возникновении каждой сферы культуры он стремился видеть созидательный фактор – фактор, благодаря которому и происходило очеловечение наших предков. Так, по поводу возникновения нравственности он писал: «С появлением человека закладываются и ростки нравственности, развивающиеся вместе с развитием его бытия. Это очеловечение, как мы замечаем, происходит с нарастающим успехом» (там же. С. 49).
На протяжении всего XIX века языковеды будут биться над вопросом о месте лингвистики среди других наук. Её будут сближать то с естествознанием (Ф. Бопп, А. Шляйхер), то с психологией (Г. Штайнталь, А. А. Потебня, И. А. Бодуэн де Куртенэ), а то и – по традиции – с логикой (К. Беккер, Ф. И. Буслаев). А Ф. де Соссюр станет рассматривать лингвистику как одну из семиотических дисциплин. Между тем ещё в начале XIX века В. Гумбольдт – благодаря своему эволюционному мировоззрению – указал на истинное место языкознания среди других наук – среди наук о культуре, или, как тогда было принято говорить, среди наук о духе. Под духом же В. Гумбольдт понимал тот род деятельности, который является творческим, культуросозидающим, очеловечивающим. Среди культурологических наук языкознание занимает место на полном основании, поскольку язык – наиважнейший продукт культуры.
Язык для В. Гумбольдта был не просто одним из продуктов духовной культуры. Он выделил его среди других как главный и исторически первичный. Именно с глоттогенеза он начинал генезиз культуры. «Язык, – писал он, – тесно переплетается с духовным развитием человечества и сопутствует ему на каждой ступени его локального прогресса или регресса, отражая в себе каждую стадию культуры. Но есть такая древность, в которой мы не видим на месте культуры ничего, кроме языка, и вместо того, чтобы просто сопутствовать духовному развитию, он замещает его» (там же. С. 48–49).
Зачаточный язык был представлен уже у наших животных предков. Как только психическое развитие человекообразных обезьян достигло такой степени, что они сумели творчески подойти к своему языковому эмбриону, они перестали быть животными. Они стали усовершенствовать свой язык и тем самым становились всё более человечными. Подобным образом обстояло дело и с другими продуктами культуры – благодаря творческому, преобразующему отношению к миру наши предки превращали грубые камни в удобные орудия труда, естественные деревья в обработанный материал для искусственных жилищ и т. д.
Переход человекообразных обезьян к человеческим существам произошёл благодаря тому, что наши предки, их мышление поднялось до творческого, усовершенствующего, улучшающего отношения к миру. Это отношение и является собственно человеческим: чем более активен человек как творец, тем более он человек. В той мере, в какой язык принадлежит к культуре, это имеет отношение и к языку: чем лучше человек владеет родным языком и чем больше он знает иностранных языков, тем дальше он ушёл от животного. Грузины говорят: сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек.
Язык – главное средство к единению людей. Разве не может оно составить смысл человеческой жизни? Разве самореализация не предусматривает единения с людьми? Но язык может служить не только единению людей, но и их разобщению.
Коммуникация – общение. Слово «общение» произведено от «общий». Выходит, общение делать общими те знания, которые говорящий передаёт слушающему. Выходит, общение призвано вести людей к единению, а не к разобщению.
Что такое единение? Взаимопонимание. Взаимопонимание между говорящим и слушающим. Вкратце механизмы этого взаимопонимания выглядят следующим образом.
Говорящий: внеязыковое содержание → языковая форма/ языковая система → речь. Говорящий исходит в своей деятельности из некоторого внеязыкового содержания и переводит это содержание в языковую форму; при этом та или иная языковая форма выбирается говорящим из находящейся в его распоряжении языковой системы и преобразуется им из системноязыкового состояния в речевое.
Слушающий: речь → языковая система/языковая форма → внеязыковое содержание. Слушающий исходит в своей деятельности из речи, на материале которой в его сознании формируется языковая система. Используя эту систему, он понимает языковую форму, передаваемую ему говорящим, т. е. соотносит её с тем или иным внеязыковым содержанием.
Механизмы общения, обрисованные в таком абстрактном виде, дают нам лишь общее представление о процессе общения. В конкретной речевой ситуации этот процесс приобретает конкретный вид. Увы, сплошь и рядом мы имеем дело с ситуациями непонимания.
Всем живым существам присуще стремление к единению с себе подобными. Но особенно развито это стремление у людей. Вот почему очень часто они воспринимают непонимание с душевной болью. В особенности это характерно для людей творческих. На 62-ом году жизни, ещё до получения нобелевской премии, И. А. Бунин говорил Г. Н. Кузнецовой: «Как обидно умирать, когда всё, что душа несла, выполняла – никем не понято, не оценено по-настоящему» (Бабореко А. К. Бунин: жизнеописание. М. Молодая гвардия, 2004. С. 221).
Желание быть понятым и оценённым живёт в человеческой крови. Столь свойственное молодости стремление открыть душу другому, пожаловаться, поделиться сокровенным, наболевшим, обидным по мере старения всё больше и больше гаснет. Всё больше и больше зреет убеждение, что разделяющие нас пропасти непреодолимы. Вот почему трудно найти человека, умирающего без груза накопившихся обид. По числу обиженных наша страна, вне всякого сомнения, лидирует. Особенно гадко сознавать, что среди этих обиженных, не понятых, не оценённых по достоинству, оставшихся в тени предприимчивых сплошь и рядом оказываются её лучшие представители.
Очень легко объяснить непонимание между людьми отсутствием сходства между их картинами мира. Легко вывести степень взаимопонимания между людьми из их мировоззренческой близости. Но вся беда в том, что непонимание всё равно остаётся.
Свою отъединённость от бесчувственной толпы очень болезненно переживал Ф. И. Тютчев. В известном стихотворении Silentium! он обосновывал её неизбежность. Он выступает в нём как критик языка. Он отказывает языку в его выразительных возможностях. Вот почему он призывает:
Молчи, скрывайся и таи И чувства и мечты свои — Пускай в душевной глубине Встают и заходят оне Безмолвно, как звёзды в ночи, — Любуйся ими – и молчи. Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живёшь? Мысль изреченная есть ложь — Взрывая, возмутишь ключи, — Питайся ими – и молчи… Лишь жить в себе самом умей — Есть целый мир в душе твоей Таинственно-волшебных дум — Их оглушит наружный шум, Дневные разгонят лучи, — Внимай их пенью – и молчи!.. (Не позднее 1830 г.)До таких сокрушительных масштабов в критике языка не доходил ни один деконструктивист! Если «мысль изреченная есть ложь», то мы очень легко можем обернуть это изречение против его автора, заявив, что мысль, изреченная в Silentium! а заодно и в других его стихах, есть ложь. Но автор этого изречения, я предполагаю, со свойственным ему изяществом легко парировал бы подобное обвинение. Он, очевидно, согласился бы с тем, что в Silentium! есть преувеличение, но вряд ли бы он отказался от сути самой критики языка, направленной на его ограниченные возможности. В таком случае вышло бы приблизительно следующее: любой язык не в состоянии передать всех нюансов мысли и чувства его носителя. Дело здесь не в том, что человек может плохо владеть языком, а в самом языке, в его неспособности быть надёжным средством для выражения, по крайней мере, внутреннего мира человека. Вот почему лучше молчать – даже если ты прекрасно владеешь, как Ф. И. Тютчев, несколькими языками.
Слава богу, автор приведённого стихотворения в своей жизни не следовал призыву, содержащемуся в нём. Если бы это произошло, он лишил бы своих потомков множества поэтических шедевров, к которым принадлежит и это стихотворение. Уже его одного достаточно, чтобы убедиться, вопреки его смыслу, в неиссякаемых выразительных возможностях языка.
Но есть ли в Silentium! рациональное зерно? Строго говоря, в этом стихотворении не одно, а, по крайне мере, два рациональных зерна.
Первое. Язык – только средство для оформления некоторого содержания, которое говорящий с помощью речи передаёт слушающему. Один человек не может передать то или иное содержание другому человеку, так сказать, в чистом виде. Он может это сделать только с помощью знаков. Языковые знаки – самые совершенные среди других. Но и они – всё-таки знаки, служащие для передачи определённого содержания, но не само это содержание. Язык – величайшее творение культуро-созидательной деятельности человека, но он не может заменить собою внеязыковое содержание как таковое – содержание, которое он призван лишь выражать. Адекватность выражаемого содержания волей-неволей вынуждена по этой причине теряться в какой-то мере в языковой форме.
Второе. Слушающему приходится воссоздавать содержание, передаваемое ему говорящим, опираясь на собственный душевный багаж. Он уже потому не может его воспроизвести в своей душе в полном соответствии с содержанием, из которого исходил говорящий, что его внутренний мир всегда индивидуален, всегда своеобразен, всегда специфичен. Адекватность передаваемого содержания по этой причине теряется в какой-то мере в интерпретации.
Отсюда следует: полного взаимопонимания между людьми быть не может. Ему препятствует знаковая и интерпретационная природа языка. Что же остаётся? Молчать. Чтобы сохранить свой внутренний мир во внеязыковой чистоте.
Молчание – золото. Но без общения человек жить не может. Место внешней речи всегда готова занять внутренняя. Последняя в нашей жизни явно преобладает над первой. Но даже и внутреннюю речь мы, как правило, ориентируем на предполагаемого слушающего или читающего. Отсюда изнуряющие внутренние диалоги и муки творчества.
Стремление к социализации, к единению с себе подобными – сущностный признак человека. Сплошь и рядом он натыкается на непонимание, но даже и схимнику не удаётся стать полным молчальником. Он общается с Богом – в расчёте на Его понимание.
Полное взаимопонимание между людьми невозможно. Таков наш удел. Но отсюда не следует, что мы, люди, в состоянии отказаться от самой идеи о единении друг с другом через общение. Мы не можем, в частности, отказаться от стремления к построению единой научной картины мира.
Построение единой научной картины мира невозможно, если общение в области науки не будет иметь успеха, если оно не будет приводить учёных к единению. Назову здесь пять факторов, которые как чума, угрожают научной коммуникации.
Первая чума науки – отсутствие единого мировоззрения, в качестве которого может и должен выступать только универсальный эволюционизм.
Вторая чума науки – устрашающая мизерность учёных, сумевших сказать своё слово в науке, сумевших создать собственную, оригинальную концепцию. В сознании же большинства – концептуальная пустота, хаотически заполняемая чужими идеями преимущественно иностранного происхождения.
Третья чума науки – полное отсутствие интереса к работам ближнего своего. Даришь книгу и понимаешь, что её чтение закончится на дарственной надписи и оглавлении. Поставят её на полку и похоронят в ней, горемычной, все твои муки творчества, все твои бессонные ночи, все твои изящные формулировки и прозрения. Никто их не заметит и спасибо не скажет. Исключения – не в счёт. Между тем в каждом из нас – неиссякаемая жажда признания. Как горько звучат слова Николая Михайловича Амосова, нашего великого хирурга и учёного, которые он написал в конце своей долгой жизни: «Одно только нужно воспитать в себе: не притязать на признание. Ценить мышление само по себе»! (Амосов Н. М. Энциклопедия Амосова. Алгоритм здоровья. Донецк: Сталкер, 2002. С. 578).
Четвёртая чума науки – наукообразие. Им страдает сейчас чуть ли не каждая диссертация. Лучший способ создать иллюзию научности – навставлять в диссертацию как можно больше терминов. Например, вот так: «Научная картина мира в интериоризованном, объективированном виде подвержена влиянию формирующего её языка. Принцип языковой относительности обусловливает организацию научных описаний, поэтому “объективность” научной картины мира в современном научном дискурсе должна интерпретироваться как относительный параметр». Почему об этом же не сказать проще и понятнее?
Пятая чума науки – невежественный отзыв. Особенно вредоносен он для молодых учёных. Одно дело – доброжелательный отзыв, написанный настоящим учёным, но совсем другое – написанный лжеучёным, симулякром от науки, который прикрывается при этом научной степенью. Чтобы лишний раз самоутвердиться, такой рецензент самоуверенно изрекает поучения, рекомендации, наставления, советы; с учёным видом знатока указывает вам, что целесообразно и что нецелесообразно, какую работу ещё следовало бы привлечь… Да и где ему набраться научной этики, если кругом деградация – скрытая или явная злоба, скрытая или явная зависть etc., а главное – скрытое или явное невежество – не только в науке, но и в искусстве, в политике – повсюду? Где ему, если он к тому же – си-мулякр? Поистине прав был Карел Чапек: «Одно из величайших бедствий цивилизации – учёный дурак».
Немного в моей жизни было отрицательных отзывов, но время от времени они мелькали в моём воспалённом сознании. Особенно памятен отзыв о моей первой серьёзной статье – о Вилеме Матезиусе. Её послали одной учёной даме из Иркутска в Томск. Письменного отзыва мы от неё не получили, но по телефону она сказала запоминающиеся слова: «Если автор уже не молод, пусть уходит на пенсию. Если он молод, пусть уходит из науки». Через некоторое время эта статья без каких-либо изменений появилась в Москве в «Филологических науках» (1986, № 1). Отзыв о ней написал Юрий Сергеевич Маслов – заведующий кафедрой общего языкознания ЛГУ.
Но большая часть омерзительных отзывов о моих статьях и книгах были анонимными. Отсутствие фамилии под ними, надо полагать, действовало на их тайных авторов вдохновляюще. Одно дело – самому написать книгу, но другое – покочевряжиться над чужой. К. Чапек на этот счёт сказал следующее: «Если не можешь сделать сам – по крайней мере, помешай другому».
Ни о каком взаимопонимании между людьми науки мечтать не приходится, если её представители сплошь и рядом говорят на разных языках. Язык рассыпается на множество научных диалектов. Он теряет своё единство, а стало быть, служит разобщению, а не единению.
Заключение
Итак, под эволюционной этикой автор этой книги понимает науку об эволюционном смысле человеческой жизни. Этот смысл заключается в максимальном участии человека в развитии культуры. Вот почему эволюционный смысл жизни можно назвать также культурогеническим (очеловечивающим).
Наибольшим очеловечивающим потенциалом обладает духовная культура. Она имеет свои идеалы. К ним относятся – безверие (религия), истина (наука), красота (искусство), добро (нравственность), справедливость (политика) и единение (язык). Движение к ним – шестеричный путь к очеловечению. Он состоит в атеизации, сциентизации, эстетизации, морализации, политизации и лингвизации.
Эволюционные идеалы ведут к Человеку, а инволюционные (вера, ложь, безобразное, зло, несправедливость, разобщение) – к животному. Инволюционисты анимализируют человека, т. е. превращают его в животное. Они подменяет культурное начало в человеке (человечность) на его биологическое начало (животность). Иначе говоря, в определении сущности человека они отдают предпочтение биологизму перед культурологизмом.
Е. Н. Трубецкой писал о биологизме: «Здесь биологизм сознательно возводится в принцип, утверждается как то, что должно господствовать в мире. Это – неслыханное от начала мира порабощение духа – озверение, возведённое в принцип и в систему, отречение от всего того человечного, что доселе было и есть в человеческой культуре. Окончательное торжество этого начала может повести к поголовному истреблению целых народов, потому что другим народам понадобятся их земли» (http:// www. i-u. ru/biblio/archive/trubeckoy_umosrenie).
Быть человеком – вовсе не прекраснодушный лозунг, а насущная общественная необходимость. Чем бы ни занимался человек, повсюду он должен руководствоваться высшим смыслом человеческой жизни, который заключается в максимальном участии человека в развитии культуры.
Высшее назначение человека – вливаться в общий поток культурной эволюции, поскольку именно она всё больше и больше отдаляет нас от наших животных предков, делает нас всё более и более человечными, всё больше и больше приближает нас к идеалу человека – ЧЕЛОВЕКУ. Стремиться БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ везде и всегда – категорический императив эволюционной этики.
Культурогенический (очеловечивающий) смысл жизни в идеале превращает каждого человека в сосуд, через который проходит эволюция. В отличие от животного, человек может и должен ею управлять. Он может и должен управлять своим очеловечением осмысленно. В этом ему призвана помогать эволюционная этика.
Назначение эволюционной этики состоит в том, чтобы помогать людям в осуществлении их многотрудной эволюционной миссии – всё больше и больше превращаться в Людей. Она может и нравственно обязана вносить свой вклад в ускорение нашего эволюционного движения от животного – к Человеку.
Книги автора
1. Эволюция в духовной культуре: свет Прометея (в соавторстве с Л. В. Даниленко). М.: КРАСАНД, 2012. 640 с.
2. Инволюция в духовной культуре: ящик Пандоры. М.: КРАСАНД, 2012. 576 с.
3. Смысл жизни. М.: Флинта: Наука, 2012. 296 с.
4. Универсальный эволюционизм – путь к человечности. СПб.: Алетейя, 2013. 496 с.
5. Мысли из дневника. СПб.: Алетейя, 2013. 370 с.
6. Культурно-эволюционный подход в филологии. СПб.: Алетейя, 2013. 480 с.
7. От тьмы – к свету. Введение в эволюционное науковедение. СПб.: Алетейя, 2015. 370 с.
8. От животного – к Человеку. Введение в эволюционную этику. СПб.: Алетейя, 2015. 390 с.
9. От предъязыка – к языку. Введение в эволюционную лингвистику. СПб.: Алетейя, 2015. 340 с.
10. Дисциплинарно-методологический подход в лингвистике. СПб.: Алетейя, 2013. 440 с.
11. Функциональная грамматика Вилема Матезиуса. Методологические особенности концепции. М.: ЛИБРОКОМ, 2010. 208 с.
12. Ономасиологическое направление в грамматике. Изд. 3-е, испр. М.: ЛИБРОКОМ, 2009. 344 с.
13. Вильгельм фон Гумбольдт и неогумбольдтианство. М.: ЛИБРОКОМ, 2010. 216 с.
14. Введение в языкознание. Курс лекций (с грифом УМО Министерства образования и науки РФ). М.: Флинта: Наука, 2010. 288 с.
15. Общее языкознание и история языкознания. Курс лекций (с грифом УМО Министерства образования РФ). М.: Флинта: Наука, 2009. 272 с.
16. Методы лингвистического анализа. Курс лекций. М.: Флинта: Наука, 2011. 280 с.
17. История русского языкознания. Курс лекций (с грифом УМО Министерства образования РФ). М.: Флинта: Наука, 2009. 320 с.
Примечания
1
Г. Гегель придал термину метафизика второе значение. Под метафизикой он имел в виду антидиалектику.
(обратно)2
Культурология делится на внутренюю и внешнюю. Первая изучает культуру как таковую, а вторая исследует ее в связи с физической природой, живой природой и психикой. Отсюда три раздела внешней культурологии – физическая культурология, биологическая и психологическая.
(обратно)
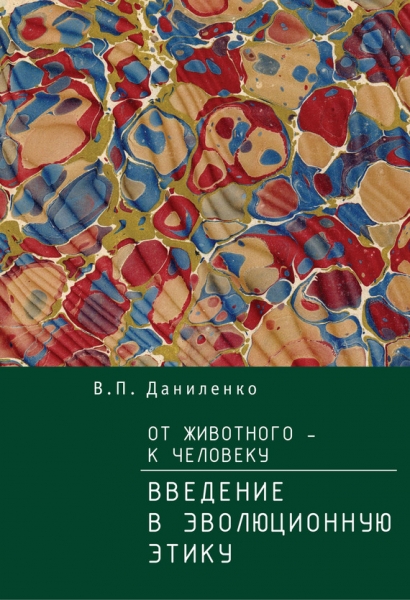


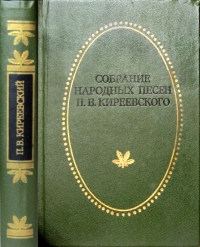

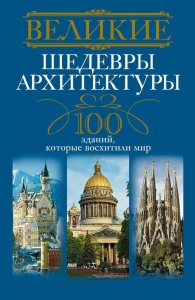
Комментарии к книге «От животного – к Человеку. Ведение в эволюционную этику», Валерий Петрович Даниленко
Всего 0 комментариев