…Когда я открываю пожелтевшие страницы своих дневников или отыскиваю тетради, на листах которых стоят архивные номера, а ниже — выписки из документов, то невольно думаю, что работа моя затянулась на годы и годы, многое личное переплелось в ней.
Сколько же лет назад я поразился первому факту? Двадцать? Двадцать пять? Пожалуй, не меньше.
Конечно, Пушкин был всегда, с раннего детства. Сначала, как у всех, в сказках. Пряли под окном три девицы, старик ловил неводом рыбу, жил поп — толоконный лоб. Что касается «сватьи бабы Бабарихи», то это было нечто особенное, вроде бабы Яги, один ряд.
И все же главным оставалось солнечное ощущение, шедшее от его стихов, «чистый цвет». Море, у которого жили старик со старухой, могло быть только ярко-синим, и из этой синевы выплывала золотая рыбка. Полутонов не было. Рисовать море можно было одним карандашом. Позднее, когда настоящее море встретило меня серой мутью, я все же сохранял для него синий карандаш собственного детства.
Были и другие встречи с Пушкиным, с его поэзией. Но особо запомнилось тоже давнее, студенческое, встреча с ним, с живым.
Необычайно нервный, с вибрирующим, высоким, словно бы ввинчивающимся в душу голосом, тот Пушкин мгновенно овладевал зрительным залом. Это было театральное событие, зрительский шок.
Первая секунда: не он!
Невысокое стремительное существо, мечущийся человек в камер-юнкерском мундире, рыжие бакенбарды, черные вьющиеся волосы, то хохочущий, то едва сдерживающий слезы, но всегда наступающий: реплика — выпад, шаг — укол, ответ — удар, наотмашь, наповал, навсегда.
Он, он! И уже не отвлекают меня рыжие бакенбарды, все ладно и гармонично, все гениально в нем.
Через несколько лет я увидел в Москве, в музее портрет юного Пушкина, бесценный дар артисту Якуту от потрясенного зрителя.
Какую же благодарность должен был испытать человек, чтобы снять со стены семейную реликвию?! И отдать не в хранилище, не в мемориальную квартиру, а частному лицу, артисту. Это уже позднее от Якута — в музей.
Театральное оцепенение длилось и длилось. И в трамвае, и дома все еще звучал крик умирающего Пушкина:
— Выше!.. Выше!..
И измученное лицо вставало в глазах. И желание подняться — напряжение ослабевшей руки. И слезы Жуковского.
Как же у Цветаевой? «Этой пулей нас всех в живот ранило».



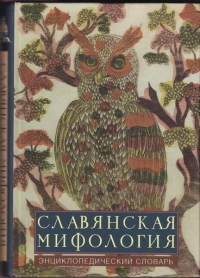


Комментарии к книге «Вокруг дуэли», Семен Борисович Ласкин
Всего 0 комментариев