“... Другое дело если б, например, он встретился с Либихом, не зная, что это вот Либих, хоть в вагоне железной дороги. И если б только завязался разговор о химии и нашему господину удалось бы к разговору примазаться, то, сомнения нет, он мог бы выдержать самый полный учёный спор, зная из химии всего только одно слово “химия”. Он удивил бы, конечно, Либиха, но — кто знает — в глазах слушателей остался бы, может быть, победителем. Ибо в русском человеке дерзости его учёного языка — почти нет пределов.”
Ф. М. Достоевский
Данное интересное обсуждение развивается экстатически. Начав с проблемы кризиса славистики, дискуссия плавно спланировала на обсуждение академического дискурса в гуманитарном знании, затем перебросилась к сюжету о Судьбах России и окончилась темой почтения к предкам (этакий неожиданный китайский конец, видимо, — провидческое будущее русского вопроса). Кажется, что связанность замещена пафосом, особенно явным в репликах А. Иванова. Однако, в развитии обсуждения есть своя собственная экстатическая когерентность, которую интересно выявить.
Констатируем сразу до боли русский взгляд на славистику, походя, между делом, отождествлённую с русистикой. Если Драган, вероятно, просто не заметил такого агрессивного отождествления, то для его русских собеседников тождество славистики и русистики представляется, видимо, чем-то само собой разумеющимся. Между тем, русский язык и литература, и даже русская история и культура — лишь узкая специализация внутри существенно более широкой дисциплины, имеющей дело с более чем десятью славянскими языками и соответствующими культурами. Можно было бы предположить, что отождествление славистики и русистики — просто недоразумение словоупотребления. Однако дальнейшие претензии, которые предъявляет славистике А. Иванов, показывают, что отождествление славистики и русистики — вовсе не ошибка словоупотребления. Ибо славистика превращается в его представлении в Универсальную Науку, изучающую — а точнее конструирующую — Россию как таковую. Более того, Славистика превращается в его постепенно разворачивающей экстатику по направлению к воскресению Отцов речи в теургическое знание, ответственное за создание в умах западных обывателей образа Небесной России.
Только ли энтузиазм ответственен за такое разгорание речи прямо-таки до пламени Валгаллы, сквозь которое проступают контуры Вотана с лицом то ли Путина, то ли Гаспарова, то ли Сорокина — то мне не ведомо. Но возводить в ранг такого теургического знания славистику, на мой взгляд, немного нелепо. А. Белый ждал того, чего ожидает А. Иванов от славистики, от антропософии. И имел на то куда больше оснований — хотя и они уже выглядели комично.
Славистика, в своём узком толковании университетской секции, всего-навсего отрасль филологии (лучше подошло бы французское Lettres, которое шире “филологии” и включает и историю, и философию), занимающаяся славянскими языками. Русским языком занимается уже мелкая специализация внутри славистики — “русистика”, и отождествление русистики и славистики уже чрезвычайно русский, славянофильский, великодержавно-имперский ход.
Разумеется, русистика — не просто мелкая специализация. Слава Толстому и Достоевскому. А также фильму “Доктор Живаго” и лично башмаку Никиты Сергеевича. “Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог”. Кстати, знаете, что китайцы, когда им объяснили, что это ирония над старшим родственником, заявили, что поэзия, в которой не уважают предков, им не нужна и переводить её они не будут? Это про уважение к отцам, о котором так проникновенно под конец дискуссии поведал нам А. Иванов.
На проценты с вышеперечисленного русистика может ещё долго безбедно существовать, иногда даже выступая синонимом славистики. Меня, между тем, всё время страшно томит один проклятый вопрос: почему на кафедрах славистских языков и литератур чаще изучают в качестве профильного предмета русский язык и литературу? Ну понятно, Толстой там, Достоевский. Крупский на худой конец. (“Я русский бы выучил только за то…”) Но ведь тут-то всё и кончилось. Чем, собственно, отличилась русская литература после 17 года? Не Пильняком же с Паустовским! Чем таким в области литературы родина Крупского после 17-го года превосходит родину Дзержинского, к примеру? Или столь любимую Якобсоном Чехословакию? Разумеется, есть в России Крупского несколько очень крупных фигур, непереводимых на иностранные языки — Платонов, Мандельштам, Хлебников. Но как раз их профессора славистики стараются обходить, ибо в подлиннике редкий студент долетит до середины первой страницы. А в переводе их чтение бессмысленно. А Паустовских, Пильняков, Соколовых и Шаламовых — на родине Дзержинского пруд пруди. Есть и получше. Бродский как-то заметил, что в 21 век Россия рискует войти без хотя бы одного крупного писателя. Рискнула. Теперь лавры крупнейшего неутомимо оспаривают приверженцы Маканина и Пелевина. Чума на оба ваши дома.
Но вернёмся к университетской славистике. В известной мне университетской системе русская литература — средство изучения русского языка. Среди трёх дисциплин своего факультета, которые обязан изучать студент, славистика редко бывает главной. А значит — и количество инвестируемых сил не может быть максимальным. Избирать же славистику в качестве главной специализации — задача рискованная до безумия, шанс найти работу по такой специальности — минимален по сравнению даже с изучением любого другого из современных языков, преподаваемых в университетах.
Желающие изучать Деррида или Бердяева не будут избирать для этого такой окольный путь, как освоение русского языка и, на его основе — русской литературы. Они запишутся непосредственно на философию (хотя в США ситуация, кажется, более запутанная, там под философией понимается аналитика, а всё остальное — где именуется риторикой, где вообще непонятно как). Если профессор начнёт пичкать своих студентов, читая курс по Толстому или Паустовскому, Деррида и Фуко, то студенты, скорее всего, разбегутся. Или, если нет другой возможности, просто не будут реагировать на заумную часть его лекций. Радикальное же разделение учебного процесса и исследовательской работы “для себя” возможно в весьма незначительной степени (это скорее свойственно русско-советской ситуации преподавателя, поставленного в не вполне нормальное положение. Норма, всё-таки, когда предмет исследования становится и предметом читаемых курсов). Для меня остаётся несколько загадочным, из каких реальных (т. е. не упакованных в коллективном советском бессознательном) предпосылок можно вывести тот статус Суперзнания о Другом, какой придаёт славистике А. Иванов. То, что собеседники данной дискуссии отождествили славистику с русистикой, — весьма показательный факт. Ибо само существование русистики вне гигантского мерцающего объекта Имперская Россия — СССР — вопрос проблематичный. А объект этот не локализуем геополитически, его основная черта — бесконечное виртуальное саморазрастание за пределы географического воображаемого, и отождествление этого объекта с совокупностью славян — ещё не самый опасный поворот дела. Именно этот объект, не поддающийся интенциональному конституированию в качестве референтной модели для академически-вменяемой речи, и породил все те толпы людей, которые с одной стороны стола вещают о великой русской литературе и истории, а с другой стороны того же стола — почтительно внимают этим экспертам, героически освоившим таблицу спряжений русских глаголов и успешно воплотившим свои знания в чтение подлинников Tolstogo i Dostoevskogo. То, что российскую федерацию вычли из СССР, — ничего не изменило, а даже и усугубило виртуальные свойства объекта, ибо и сегодня русский язык и литература составляют на этой территории лишь часть её коммуникационных кодов, и то, что программы ОРТ более или менее понимает 90 процентов населения, — мало что меняет в главном: Россия как местодействие этнически не верифицируемого конгломерата людей серьёзным образом расходится со своей моделью моноэтнического культурного империализма, созданной в центральных губерниях России и подхваченной русистикой — как университетской, так и самодумной, вроде русистики нынешнего местоблюстителя. У этого объекта нет и не может быть позиции “другого” — и знание о нём не может — в силу экстатических принципов его конституирования — создать из него образ “другого”. В качестве “другого” виртуально-экстатический объект “Россия” сразу рассыпается на тысячи локальных местодействий, переполненных конкретными народами и народцами, говорами и традициями.
Собственно, способов принять этот объект к рассмотрению каким-либо другим образом, как в рамках моноэтнического империализма, у академической западной науки и не существует. Сама академическая модель функционирования знания о Lettres, как она сложилась в Европе королей и империй, во Франции прежде всего, предполагает моноэтнический имперский взгляд на способы порождения этого знания. Язык тождественен государству, литература на этом языке — достояние и выражение гения нации, объединённой в Империю, и аборигены новых территорий имеют возможность стать людьми, только приобщившись к национальному гению Империи, воплощённому в её великом языке и не менее великой литературе. Российская ассимиляционная культурная политика следовала более или менее этому лекалу, структура воспроизводства знания скопировала французские образцы — и с тех пор особых изменений не произошло. Как не произошли эти изменения, строго говоря, и в системе европейских институтов воспроизводства знания, остающегося в области “гуманитарных” наук моноэтническим империализмом. Университет — символ такой модели, и европейская славистика, и русистика в частности, — лишь элементарный элемент этой гигантской системы. И не просто элементарный. Сами проекты “языка” и “литературы” — сердцевина моноэтнического культурного империализма.
Те технические аппараты знания, посредством которых некоторый массив коммуникационных практик обособляется в “русский” или “английский” язык, а некоторая совокупность письменного закрепления этих коммуникационных практик наделяется статусом “литературы” — приводной ремень Аппарата Захвата, посредством которого осуществляет свою колонизационную деятельность система этнокультурного империализма. Строго говоря, легче скрестить жабу со страусом, чем инкорпорировать методы людей, подобных Фуко и Деррида, в дискурс преподавания языка и литературы (русского — в частности). Ибо и фукианская генеалогия, и дерридианская деконструкция по природе своей противостоят проектам “языка” и “литературы”. Именно в противовес этим проектам создавали свои техники Фуко, Деррида, а в Штатах — люди, подобные Саиду и Де Ману. Славистика, осуществляемая по рецептам деконструкции, — это уже славистика вне проекта не только “великих русского языка и литературы”, но и вообще вне проекта “национальной идентичности” государственно-территориальных образований. Строго говоря, непонятно, почему это должно именоваться славистикой, если само выделение славян — процедура из дискурса, противоположного тому, который так нравится собеседникам (и мне тоже). Саша хочет совсем новой славистики, которая занималась бы “феноменологическим” подвешиванием объекта “Россия” и исследованием разнообразных способов конституирования этого объекта тем или иным писателем. Но славистика, занимающаяся даже и такой продвинутой задачей, всё же остаётся старой доброй “реакционной” славистикой. Ей не надо менять для этого своих оснований кастового знания. Ибо само выделение писателя в качестве “субъекта”, конституирующего в акте своей интенциональной направленности объект “Россия”, уже процедура, осуществив которую, поздно оглядываться. Удостоверение очевидности на основе идентификации эго через субъект, а с ним и Проект Языка и Литературы уже распространили свой смрадный дух. Гаспаров, Лотман и Жирмунский уже захватили тем самым всё возможное пространство, в котором Саша только собирается поразмыслить о феноменологии России у Пелевина. И они сделают эту работу, о которой мечтает Саша, куда основательней и интересней, чем люди, цитирующие через предложение Лакана, Деррида и Фуко. Подвесил ли ты при этом объект “Россия” в рамке или за яйца — уже ничего не изменит. Чтобы соотноситься с тем интеллектуальным климатом, в котором функционируют современные проекты мысли, необходимо мыслить вне проектов “язык” и “литература”. Вне проекта “славистика” и объекта “Россия”.Современный кризис европейского университета, а в более широком плане — самих принципов этнической государственности приобрёл особый размах вместе с попытками образовать надэтническую единую Европу. И сказать, что видны какие-то решения этой проблемы, ещё пока никак нельзя. Даже образование подразделений сравнительного литературоведения (первый шаг в сторону от проектов “языка” и “литературы”) — мечта почти несбыточная в современном европейском университете.
Большой Культурный Империализм имеет две стороны. Кроме отождествления языка, литературы, народа и государства в одно нерасторжимое целое, он выражается ещё и в секционно-дисциплинарном построении системы воспроизводства знания. Египтологи или русисты — это замкнутая в себе каста специалистов, определяемых строго установленным набором знаний (знанием языка первоисточников и т. д. и т. п.), в свою очередь подразделяемых на мелкие касточки специалистов, к примеру, по древнерусской литературе, по 18 веку, по советской литературе 30-х — 50-х гг. и т.п. Не дай Бог специалисту из другой касточки, не говоря уж о другой большой касте, забрести на эту территорию. Накинутся, как бультерьеры, и загрызут. Фуко и Деррида, нарушившие в Европе эти конвенции, превратились в enfants terribles академического европейского знания, и злобное мнение “специалистов” (т. е. членов каст) об их работах — не редкость и сегодня. И оно, это мнение, строго говоря, совершенно оправдано. Человек, путешествующий в своём вопрошании поперёк каст, несомненно наделает множество ошибок, непростительных для узкого кастового профессионализма. Так уж устроена имперская академическая модель, что сама структура знания базируется на знании мельчайших деталей, вполне усвояемых только членами касты. Немыслимо “налётчику” со стороны усвоить эти детали мимоходом. А именно знание этих деталей и составляет для членов касты самоценность. Знание существует для самого себя, наращивание его массива — суть и смысл академической системы. И сколько ни обсуждай модную сегодня в европейских университетах тему “междисциплинарных исследований”, дело не сдвинется ни на шаг, ибо сама система знания устроена на основе моноэтнического империализма.
Этой модели отчасти противостоит другая, американская модель, в которой знание носит прагматический характер. Драган говорит об этой модели как об “инертной”. Достаточно сравнить американскую университетскую “инертность” с европейской, чтобы увидеть весьма существенные различия. Для американской модели в её основе важны, как мне кажется, не детали, важно решение, важна продуктивная собранность фрагментов знания из разнообразных дисциплин для какой-то практической цели. Этому соответствует подвижная структура организации подразделений внутри частных (т. е. не зависящих от государства, в отличии от Европы) университетов, где соединение специалистов из разных дисциплин и образование новых, невиданных наук (вроде gender studies) — норма жизни. Открытость учёных, знающих разное и о разном, друг другу — беспрецедентна для Европы. Фуко чувствовал себя в американских университетах куда уютней, чем среди “коллег” в Париже.
Разумеется, сама модель Университета, придуманная в Европе для совсем других целей, изо всех сил сопротивляется такому своему использованию, и следование американских русистов и славистов своим европейским собратьям по пути моноэтнического империализма — тому пример. Но и здесь можно заметить, что структура славистских штудий в США куда более мобильна и открыта осмыслению практических изменений, происходящих в Восточном Блоке, по сравнению с европейскими секциями славистики.
В этой системе инкорпорирование осколков дискурса Деррида, Фуко и им подобных не выглядит в такой степени одиозно, как в Европе. Лишь бы студенту, от которого профессор серьёзным образом зависит (в отличие от Европы), всё это дело понравилось и стало понятно. Как следствие — карнавализация всех этих сюжетов, вроде деконструкции, неизбежная, когда очень большие идеи нужно вложить в очень маленькие головы, конкурируя при этом с усвояемостью чипсов и попкорна. Когда эта карнавализация доберётся до славистики (а процесс уже пошёл) — не думаю, что Саша с Драганом обретут счастье.
У обеих систем есть свои достоинства и недостатки. Академическая система даёт высококлассных специалистов узкого профиля, не смеющих и не желающих соваться на территории чужих каст. Прагматическая система даёт подвижный ум, способный чутко реагировать на новое и необычное, но часто — весьма поверхностное знание о том или ином предмете, который специалист обязан знать по роду своих занятий. Американские книжки по славистике часто смешны для европейцев (и русских в том числе) своей поспешностью в обобщениях и слабостью в знании фактов. Но воспринимать их, вероятно, необходимо в более широкой перспективе, в которой весит уже не подготовка отдельной касты, а мобильная организация знания в целом, мелкой частичкой которой служат “славистские исследования”. Нельзя, однако, не заметить известную зависимость смены моды в “междисциплинарных исследованиях” в американских университетах от того нового, что придумывают в Европе — пусть и вопреки европейской академической системе (сравнительное наукознание, деконструкция — примеры хрестоматийные). Хотя, кажется, ситуация сегодня начинает немного меняться.
Не вполне понятен тезис об ответственности славистики (русистики) за формирование образа России на Западе. Этот образ формируется средствами массовой информации и людьми, зачастую вообще никогда в России не бывавшими и русского языка не знающими. Участие славистов в средствах массовой информации — минимально, и даже если какой-нибудь профессор Принстона или Йеля выступит по CNN со своим экспертным мнением (или профессор Сорбонны по TF1) по какой-нибудь текущей проблеме, то уж никак не это определит формирование общественного мнения. То ничтожное количество студентов, которое записывается на секции славистики, опять же никак не может определять образ России на Западе.
Российская академическая система находится, с этой точки зрения, “в хвосте” европейской системы, соединяя в себе весьма своеобразно недостатки обеих моделей: строгую кастовую мораль и дисциплину здесь умудряются соединять с самым восхитительным в своей провинциальности невежеством. Причём новый имперский стиль, который начинает насаждать столь полюбившийся Саше Иванову новый местоблюститель, рискует усугубить концентрацию этой гремучей смеси. Однако эта точка зрения мне кажется помещающей российскую академическую систему в совершенно ложную перспективу>. Например, когда М. Гаспаров говорит “ерунда” о книге Фуко по античной сексуальности, то в этой реакции следует выделять, как мне кажется, два различных аспекта. Первый аспект — это реакция кастового учёного на внекастовое вопрошание к массиву знания, который он привык считать своей собственностью. Фуко разрушает конвенции, создавая соединение массивов знания, которое для сегодня действующего кастового специалиста представляет угрозу самому его существованию в качестве узкого профессионала, получившего в колониальное безраздельное пользование свои маленькие 6 соток. Для кастового специалиста Фуко — половой гангстер, заставляющий противоестественным способом совокупляться несовокупимое. Однако, не являясь специалистом, в малейшей степени сопоставимым с М. Гаспаровым в области латино-греческих штудий (а равно и в какой-нибудь другой), я позволю себе заметить, что исследование истории позднеантичной сексуальности, предпринятое Фуко, — единственная его книга, удостоившаяся положительной рецензии в одном из самых уважаемых кастовых мировых журналов (в данном случае — целиком специализирующегося на античной истории). И — здесь я перехожу ко второму аспекту реакции Гаспарова на книгу Фуку — данный факт заставляет меня задуматься о квалификации самого Михаила Леоновича. Прочтя книжный вариант его “Записей и выписок”, я серьёзным образом изменил своё мнение и о нём, и о всём его поколении. Книга стала одной из моих любимейших, и в её свете я смог взглянуть совсем иначе на его учёные и комментаторские труды. Я открыл для себя человека с большим приколом и прекрасно сознающего ограниченность собственных знаний. В антиковедении прежде всего. Я увидел человека русской науки, расположенной на такой периферии европейского кастового знания, что сама квалификация Михаила Леоновича как кастового специалиста представляется мне — и ему самому прежде всего — весьма сомнительной. Зато прикола у него и духа “деконструкции” (если понимать её в широком александрийском смысле) поболее, чем у Подороги и Рыклина (интеллектуальных героев данной дискуссии), вместе взятых. Скорее мы с Вадимом Рудневым старые пердуны, чем автор “Записей и выписок”. Поймите меня правильно: я вовсе не пытаюсь “срезать” М. Гаспарова и доказать его некомпетентность в антиковедении. Багаж его образованности огромен, и я очарован той свободой, с какой он умеет своими знаниями оперировать. Но его знание с большим сомнением можно отнести к европейской модели кастового дисциплинарного знания, и его претензии к Фуко, если бы он смог их формализовать, оказались бы совсем иными, чем у академического учёного.
Прежде чем перевести это индивидуальное впечатление в план концепта, поделюсь своими рабочими впечатлениями от книг соратника Михаила Леоновича, поминаемого в дискуссии — С. Аверинцева. В бытность мою студентом я, подобно Саше, восхищался учёностью и глубиной его “Поэтики ранневизантийской литературы” и статей, усердно разыскиваемых в разных академических изданиях. Прошло много времени, и я профессионально заинтересовался риторикой и средневековой философией. Посмотрел современные западные книги, полистал тексты и комментарии к ним. А затем вспомнил про статьи и книгу С. Аверинцева — тем более что византийская традиция остаётся вне охвата современными исследованиями риторики и средневековой философии. И выяснилось, что книги и статьи Аверинцева — совершенно непригодны для действительной научной (т. е. кастовой) работы с текстом. Дело не только в том, что написаны эти тексты так, как если бы кроме Аверинцева и объекта его интересов больше ничего не существовало, никаких иных исследователей и каких-то других комментаторов. Что количество ссылок на какие-то конкретные тексты византийской традиции так же минимально. Дело прежде всего в характере и пафосе обобщений, которыми оперирует Аверинцев. Никогда не опускаясь до доказательств, между делом, в придаточном предложении сообщая нечто, что требует как минимум серьёзного объяснения, С. Аверинцев возвышенно, в бешеном, никак не допустимом нормами цехового знания темпе, заставляющем вспомнить полёт Валькирий, скачет по верхушкам своей византологии, не опускаясь до унижающих русского человека частностей (разве что, чтобы оттенить блеск своей эрудиции, вдруг упомянёт что-нибудь вроде погоды и цвета сандалий у какого-нибудь древнего автора в день, когда ему пришла в голову самая гениальная мысль — впрочем, проверить это никак невозможно, ссылки отсутствуют). Его том статей по риторике (недавно собранных издательством “Языки русской культуры” под одной обложкой), как я с большим удивлением обнаружил, оказался совершенно непригодным для исследований по собственно риторике. Сама риторика как предмет выглядит крайне смутной в этих статьях, и уж не может быть и речи о соотнесении с исследованиями риторики, проводимыми в Европе для европейской традиции. И я понял, что работа Аверинцева — отнюдь не цеховая, что он из того же разряда эссеистов, что и Бердяев с Вяч. Ивановым, и что скорость его перемещения поперёк цеховых барьеров ничуть не меньшая, чем у Фуко. Прочтение “Записей и выписок” в их полном виде довершило осознание мной того факта, что люди, подобные Гаспарову, Аверинцеву и Лотману (и, кстати, Лосеву, если вспомнить этот музейный осколок былых времён) оперируют молотом ничуть не менее размашисто, чем Ницше или Фуко, и что вся их “позитивность научного факта” — блеф, проходящий только на фоне общего уровня невежества в России, где человек, просто умеющий разбирать буквы в греческом и латыни, уже превращался тем самым в энциклопедиста и непревзойдённого знатока “позитивных фактов”. Что половой интеллектуальный гангстеризм их — не менее (а может — и более) хваткий, чем у Фуко и Деррида, хотя и со своей — российской — спецификой возвышенного “блефа”, маскируемого “абсолютной научностью” (Фуко тоже любил играть в это сверхзнание).Гаспаров, Аверинцев, Лотман и их соратники продолжают специфически русскую университетскую традицию особого рода дилетантизма, практиковавшегося, начиная с 19 века, русскими барами, пошедшими в науку (“гуманитарную” прежде всего) “делать себя”. В этой традиции особого рода прагматизма, радикально отличающегося от современного американского знания — средство индивидуального и, в ещё большей степени, коллективного спасения, переформулировка античной “паресии” в горизонте православия. Реакция Лотмана на тему “Бахтин и Деррида”, как её передаёт Драган — в высшей степени характерна. Бахтин, с точки зрения Лотмана, как я могу её себе реконструировать, интересовался не смехом, а Христом в той мере, в какой смех редуцируется в объект европейской университетской традиции и её деконструкции Дерридой. И здесь он, на мой взгляд, совершенно прав. Бахтин Тодорова и Эмерсона — это один Бахтин, а Бахтин как субъект мысли в традиции русского знания — совсем другой Бахтин, имеющий совсем другие цели и установки. (Я с большим интересом прочёл переводы Тодоровым работ Волошина и Медведева на французский язык: это были совсем иные, абсолютно неузнаваемые книги, по сравнению со своими русскими оригиналами, вписанными в советскую культуру). Точно так же и о семиотиках Тартуской школы можно сказать, что они интересовались не знаками, а Христом: внутренняя когерентность производимой ими работы радикально отличается от той Традиции, в которой строят свой дискурс Барт, Эко или Марин, тартуские семиотики куда ближе к античным идеалам знания как средства выработки этически верного поведения, чем их европейские “коллеги”. Но и античную модель нельзя однозначно соотнести с моделью русского знания, ибо даже и у тартуских семиотиков отчётливо различима “теургическая нота”: знание должно сотворить при помощи Богов мир заново, из самого себя, заместив толщу небытия под ногами.
Однако парадокс русской традиции знания не в этой специфике, а в осознании своей работы согласно матрицам европейского кастового академизма. Нет особого русского университета, но есть тот Университет, который создали в России импортированные немецкие профессора. И эта власть институций находится в непримиримом конфликте с экстатической дискурсией русского теургического знания. В попытке обрести форму это знание не имеет иных средств, кроме симуляции своей кастовой академической нормальности. Так Фрейденберг, Лосев и Гаспаров оказываются античниками, Аверинцев — византологом, а Шкловский — литературоведом. Более того, русские учёные вынуждены, вопреки своему радикальному новаторству, бороться за свой статус специалиста профессорской науки. “Половой гангстеризм” — порождающее основание русского знания, и люди вроде Марра и Лысенко — отнюдь не аномалия, но символ этой топологии знания. Впрочем, почему “половой гангстеризм”? Есть прекрасное русское выражение, значительно лучше соответствующее описываемой ситуации: ёбарь-налетчик. Половой гангстер — за этим ощущается сила организации, мощь технических средств, стойкость традиций. За ёбарем-налетчиком нет ничего, кроме энергии напора и быстроты реакции. Кустарь-одиночка с анальным мотором. Именно таков и есть русский учёный — от Потебни с Соловьёвым до наших дней. Налететь на пастбища цеховой науки, ухватить нечто движущееся — и затем совокупить его в укромном уголке, обратив в ещё один трофей своей учёной доблести. И в новый поход, за свежим трофеем. Поэтому чего же удивляться странному подбору трофеев в коллекциях русских учёных (эти коллекции стыдливо принято именовать “дискурсом”) — что словили, то и попользовали. Но свое состояние “ёбаря-налётчика” традиционный русский учёный переживает как родовую травму, на вытеснение последствий которой уходит львиная доля его сил. Этим русский “ёбарь-налетчик” решительно отличается от “полового гангстера” вроде фукианца. Фуко не претендует на свою цеховую нормальность кастового специалиста и отслеживает методологию своей непохожести. Тогда как российский “ёбарь-налётчик” симулирует свою учёную нормальность “настоящего специалиста”.Забавно видеть, как современные “ёбари-налётчики”, вроде Славы Курицына, также изо всех своих хилых силёнок тянутся “делать науку” (аутентичное выражение Курицына), симулировать свою учёность “не хуже, чем на Западе”. В этом смысле “постмодернизм” — находка для современных интеллектуальных ёбарей-налётчиков, у которых уже нет времени изучать древние и современные языки, а симулировать свою цивилизованную нормальность — по-прежнему очень хочется. Между тем, продолжая одно глубокое замечание Фуко по поводу способа мысли Деррида, можно сказать, что постмодернизм — это как раз освоение Университетом в попытке выжить практик, в корне отрицающих само его право быть. Приведение этих практик в ручное состояние мешанины из фрагментов академического дискурса, относительно которой можно затем сказать: “вот видите”. Более того, в форме “постмодернизма” практики философствования молотом делаются полностью зависимыми от “западного” академического дискурса, опускаются до состояния клопов, тихо сосущих кровь “настоящих учёных”. На русских “постмодернистах” это ещё более заметно, чем на американских. Без малейшей попытки что-нибудь продумать они оперируют готовыми фрагментами академического знания, смешивая их в “шизофреническом” (отнюдь не в смысле Делёза) порядке. Так Слава Курицын смешивает фрагменты и фрагментики академического литературоведения, горделиво ощущая себя — “Постмодернистом”. Поколение Гаспарова делало вещи необычные и оригинальные, но пыталось замаскировать их под Нормальную Науку. Тогда как современные “постмодернисты” пытаются совокупить осколки обычного, готового секционного знания, с большой помпой объявляя их чем-то революционным. Возмущение людей поколения Гаспарова мне, с этой точки зрения, весьма понятно и близко. Но необходимо отдавать себе отчёт: русский “постмодернизм” полностью наследует тем структурам симулятивной академической нормальности, которые бытуют в России с середины 19 века и с особым блеском были разработаны поколением Лотмана и Гаспарова. Просто теперь в моде симуляция этой нормальности иными способами. Беда (или счастье?) в том, что “постмодернизм” снимает с русского ёбаря-налётчика ощущение “нечистой совести”, ощущение своей неполноценности перед лицом Великой Западной Традиции. Раз постмодернизм объявил смерть Традиции, смерть Большого Нарратива — так лепи всё до кучи, поимей всё, что движется — и тем докажешь свою гиперинтеллектуальность, свою космополитическую “современность”. В этой перспективе суждение Фуко о методе Деррида как о самой утончённой из всех попыток утвердить торжество дискурса академической науки обретает особую актуальность. В русском исполнении, ещё более чем в американском, деконструкция легитимировала замену мысли — скоростью перемещения в топологиях готового знания, созданного академической наукой. Деконструировать в современном российском исполнении — это значит понакидать обрывков учёных фраз в свою речь и письмо, минуя при этом все процессы, связанные с деятельностью головного мозга. А точнее — понакидать эти обрывки поверх куч, из которых состоит итог деятельности непроизвольного мыслеиспускания. Деконструкция, причудливо смешанная с постмодернизмом, стала не букетом в руках русского интеллектуала, а венком на его могилу. Может, и пора его похоронить с тем, чтобы начать новую русскую науку на пустом месте? То мне, старому пердуну, неведомо. Саше виднее пути в Небесные Нью-Васюки, населённыe, по всей видимости, Болматами, Сорокиными и Куликами. Но если именно о такой деконструкции славистики мечтают Саша с Драганом — то, пожалуй, я предпочту и дальше читать Гаспарова и Лотмана и вести диалог со своей нечистой совестью несостоятельного академического учёного.
Я бы предложил перевести на русский и слово “постмодернизм” как “разруха”, а затем попытаться продумать сугубо русскую топологическую философию этого состояния “разрухи”, отличную от философии американской, где разруха носит формы совсем иные. Разумеется, продумывать эту разруху надо в позитивном плане, хотя и с использованием таких традиционных категорий, как мимо-писание и разрытость бытия. Как состояние, роднящее способ мысли М. Гаспарова и В. Курицына. Как хроноландшафт. А русский “ёбарь-налётчик” предстанет тогда как частичный субъект, собираемый скоростным перемещением через мусор вдрызг раскрошенных нарративов, неизвестно кем и когда наложенных там и тут в виде окаменевших или совсем свежих куч. Ну да это уже тема иного текста.
Так или иначе, но разница между М. Гаспаровым и В. Курицыным (к сожалению для меня) — скорее количественная, чем качественная, или, лучше сказать, — это два разных состояния одной и той же субстанции. Кому что нравится: кому лёд в бокале, а кому — вода в стакане. В этом свете разделение между мыслью и знанием, которое проводит полемически Саша Иванов (помещая, если немного спрямить его высказывание, знание на стороне Гаспарова, а мысль — на стороне Фуко) — мне кажется весьма надуманным, обусловленным скрытым комплексом неполноценности. Есть скорее разные аппараты знания: один — кастово-академический, опирающийся на картезианские идеалы самодостоверного знания и вытекающего из этой самодостоверности критерия позитивности факта. И другой — прагматически — трансверсальный, синтетический, анти-академический в смысле отрицания кастовых перегородок между сегментами знания. Но знать нужно в этом втором случае никак не меньше, а существенно больше. Курциус и Ауэрбах, пионеры сравнительного литературоведения, создавшие основы его в США, были прежде всего учёными фундаментального энциклопедизма в области европейских литератур. Или более свежие примеры: революционизирование подходов к средневековой философии у Алена де Либера и к риторике у Марка Фумароли. Либера сумел разбить перегородки, разделяющие арабскую, европейскую и еврейскую средневековые философии. Подход весьма интересный, взрывающий академические аксиомы, создающий массу интересных последствий не только для истории средневековой мысли. Но перемена точки зрения у Либера была бы невозможна без наличия серьёзной школы за спиной и без фундамента весьма широкой учёности и начитанности. Точно так же и с исследованиями риторики 16-17 веков у Фумароли. Работа эрудита, прочитавшего такое количество текстов, какое, к примеру, Гаспарову и Лотману вместе взятым не снилось. Но эта кропотливая работа привела к таким последствиям для всего корпуса “филологических” наук, что последствия уничтожения самых своих аксиом литературоведы ещё толком и осознать-то не сумели. Работа философа, скачущего по верхушкам, вроде приводимых Сашей “Лекций по философии религии” Гегеля — весьма сомнительный образец “мысли”, они интересны нам скорее потому, что это лекции Гегеля. Уж во всяком случае не они у истоков современной “философии религии” и не ими знаменит Гегель. За книгами Фуко стоят годы кропотливой работы в библиотеках над гигантскими массивами материала. За столь высокомерно отвергнутой (на основании, видимо, его собственного опыта знакомства с сонником Артемидора) М. Гаспаровым “Историей сексуальности”, к примеру, 10 лет труда. Оценка Гаспарова говорит скорее о нём самом, чем о Фуко, и вряд ли Гаспаров осмелится изложить своё мнение письменно. Но всё-таки пример Фуко показывает, что быстрое движение сказывается на качествах работы, и мысль Фуко часто тонет в тех ошибках, которые он совершает, скажем, в поспешности обобщений “Слов и вещей”. Фуко как бы открывает интересный горизонт, но действительная работа по микродеструкции власти академического дискурса может произойти, только когда его интуиция будет поддержана работой знания, причём знания, превышающего средние академические стандарты. Во всех своих проектах Фуко опирался на такие революционные работы, и без них его мысль просто бы не состоялась в данной форме. В этом противопоставлении абстрактного знания абстрактной мысли я вижу комплекс неполноценности философа, утерявшего своё властное положение “царя царей”, владеющего магическими ключами “науки наук”. Положение утерял, а все навыки — особенно у советского философа, воспитанного целиком и полностью в архаичной парадигме “науки наук” — остались. Вот он и ходит со своей “мыслью”, не зная куда приткнуться и в какое знание её облечь. Особенно если эта “мысль” — из области “деконструкции”. Один мой знакомый физик рассказывал, как к ним на кафедру теоретической физики прибежал философ с воспалёнными глазами и стал умолять их самого продвинутого теоретика, чтобы тот научил его тензорному анализу. Мол, идеи у него уже есть, ему бы ещё тензорный анализ — и он единую теорию поля создаст… Эта антитеза знания и мысли — в большей мере внутренняя антитеза самой философии, особенно философии академической, пытающейся заново самоопределиться в мире, где больше никто не считает, что он ей что-то должен.
Хотя проблема, безусловно, существует. Например, “Тысяча плато”. Книга, весьма продуктивная своей провокативностью, но серьёзно страдающая от вполне понятных недостатков у Делёза и Гваттари конкретного современного знания в каждом из затрагиваемых “плато”. Книга будит мысль у специалистов, создавая смутное шевеление неудовлетворенности цеховыми уставами. Но реализация этой мысли происходит путями, которые даже и намечены в “Тысяче плато” быть не могут. Можно ли говорить, что “Тысяча плато” изобилие мысли и недостаток знания? Сомневаюсь. Мысль Делёза свершается не здесь, не в этом труде, пародирующем статус философии эпохи “науки наук”. Но здесь эта мысль воплощается в некоторую популярную литературную форму, доступную неспециалистам, которые никогда не будут читать серьёзные книги Делёза. В “Тысяче плато” нет мысли, если угодно, но есть форма высказывания, разрушающая академические предпосылки соединения высказываний во вменяемую речь. Иными словами, некоторое колебание условий онтологической безопасности академического знания. Или эта постановка онтологических условий мыслимого под вопрос и есть, собственно, философская мысль, о которой Декарт говорил, что ей нужно уделять несколько минут в год?Т. е., по всей видимости, в антитезе мысли и знания скрыто содержится два различных модуса проявления той интенсивности, которая обозначается словом “мысль”. Один модус — это мысль как фигура, собирающая высказывания в новой конфигурации и открывающая тем самым возможность новых форм и практик высказывания. Другой модус — мысль как постановка под вопрос самих условий предвместимости мыслимого, мысль как опрокидывание онтологических условий достоверности знания. Если воспользоваться тем объектом, которой постоянно мелькает в данной дискуссии — концептом “Россия”, то первый модус будет проявляться как разные способы конституирования объекта “Россия”, тогда как второй будет заключаться в постановке под вопрос самих оснований мыслимости некоторого местодействия как самодостоверности имени “Россия”, в опрокидывании условий онтологической достоверности объективации такой агрессивной “метафоры”. Второй модус осуществления мысли будет, вероятно, собственно философским, тогда как первый практикуется любым приличным (“умным”) секционным или антисекционным учёным. Беда философов в том, что они часто путают эти два модуса мысли, и, не имея возможности непрерывно ставить под вопрос онтологические условия мыслимости (что не может происходить, само собой понятно, часто, и несколько минут в год — уже необычная частота), вылезают со своими “мыслями” в хаосмос непрерывно переформулируемых массивов высказываний в бесконечных архивах знания (в науке, искусстве, политике…). Здесь их “мысль” — предлагаемый новый фигурезис высказываний, или, если воспользоваться образом Делёза — новая форма складки между “видимым” и “говоримым” — вынуждена на равных конкурировать с теми формами складки, которые предлагают профессионалы в данной области (в физике, лингвистике, истории, кино, живописи…) — и часто оказывается менее оригинальной, чем мысль профессионалов в данном модусе (как это и получилось, к примеру, с конституированием понятия “религия” у Гегеля).Ну и в заключение — несколько слов о почитании предков (речь идёт, разумеется, о почитании в пространстве мысли, а не в общественном транспорте). Мне не очень понятно это высказывание в устах философа, если он не китаец (да простят мне китайцы это высказывание моноэтнического империалиста, я употребляю здесь слово “китаец” только как концепт, почерпнутый у Ницше (“этот великий китаец Кант…”)). Представьте себе Аристотеля, который вместо разбора способа мысли Протагора или Платона распространяется о сыновней почтительности, которую он к ним питает как младший и ученик. Почтение может быть оказано только мысли — если она есть, причём в форме вопрошания о её условиях, в форме собеседования с этой мыслью как другой. Если в России есть явления, которые ты, как философ, можешь осмыслить как другое — то тогда ты находишься с ними в состоянии “почтительности”, т.е. уважения к их инаковости. Но в российской истории есть множество “священных коров”, совершенно дутых величин, о которых невозможно беседовать как о формах мысли. И среди этих “священных коров” не последнее место занимает миф об академизме людей, подобных Гаспарову, Аверинцеву и Лотману. Полностью искажая суть и природу того, что сделали они для советского гуманитарного знания, этот миф пытается легитимировать русское теургическое знание через очень респектабельный, но совершенно симулятивный исток в европейской университетской традиции. Тем самым мы и к самим этим учёным относимся без должного интеллектуального почтения, и русской форме “гуманитарного” знания отказываем в собственных порождающих источниках.
Подобные симулякры продолжают плавать в пространстве культуры на правах родителей, и если не отнестись к ним как к говну только в силу китайских правил почтительности — то они так и будут плавать и вонять, отравляя всю атмосферу. Сегодня, вместе с терапией нового имперского стиля, пытающегося лечить глубоко уязвлённое чувство ressentiment людей, относящих себя к “русским”, всплыло много таких предков, про которых если философ не начнёт немедля объяснять, какое они говно, — то грош ему цена. И пусть тогда Конфуций надаёт нам по пяткам бамбуковой палкой.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


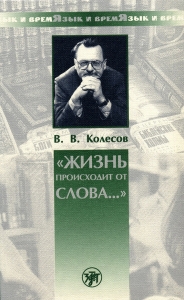
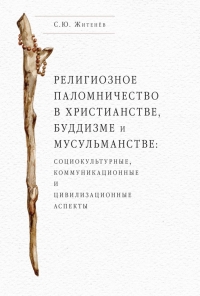
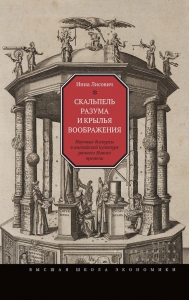

Комментарии к книге «Паниковский и симулякр», Эдуард Вадимович Надточий
Всего 0 комментариев